Ханс Фаллада Кошмар в Берлине
Hans Fallada
DER ALPDRUCK
© Издание на русском языке, перевод на русский язык. Издательство «Синдбад», 2018.
Часть I Крушение
Глава 1 Одно заблуждение
В эти ночи грандиозной катастрофы доктору Доллю редко удавалось заснуть по-настоящему, и в снах его преследовал один и тот же кошмар. Вообще спать они стали очень мало, терзаемые неизбывным страхом за свое тело и душу. Иной раз стемнеет, кончится очередной мучительный день, а они все сидят у окна и глазеют на лужайку, кусты, узкую бетонную дорожку, высматривают, не идет ли враг, — пока в глазах не появится резь и все не сольется в одно расплывчатое пятно.
Тогда один из них спрашивал другого:
— Может, пойдем спать?
Но вопрос, как правило, оставался без ответа. Они продолжали сидеть, смотреть и бояться. До тех пор, пока сон не наваливался на доктора Долля, подобно разбойнику, зажимающему рот и нос жертвы широкой ладонью. Или подобно густой паутине, которая вместе с воздухом забивается в глотку и обволакивает сознание. Не сон, а удушье…
Засыпать подобным образом — само по себе мерзко, но за этим отвратным засыпанием тут же начинался кошмар, всегда один и тот же. И вот что Долль видел.
Он лежит на дне чудовищной воронки, которую оставила бомба, — в размокшей желтой глине, на спине, вытянув руки по швам. Даже не поднимая головы, он мог видеть, как над воронкой нависают деревья и дома с пустыми глазницами окон. Тогда Доллю становилось страшно, что все это сползет вглубь воронки и раздавит его; но ни одна из грозных руин не двигалась с места.
Терзало его и другое опасение: что хлынут в воронку тысячи подземных ручейков и родников и забьют ему рот желтой глиняной жижей. И спасения не будет: Долль знал, что без посторонней помощи никогда наверх не выберется. Но этот страх тоже был безоснователен: он никогда не слышал, чтобы рядом журчали родники или бурлила вода, — в гигантской воронке царила мертвая тишина.
Имелось и третье пугающее обстоятельство — тоже вымышленное: над воронкой постоянно проносились стаи воронья, и он ужасно боялся, что они заприметят жертву, корчащуюся в грязи. Но нет, тишина оставалась мертвой: все эти кошмарные сонмы птиц существовали только в воображении Долля, он даже карканья не слышал.
Однако два факта вовсе не были плодом его воображения — это Долль знал наверняка. Во-первых, наконец наступил мир. Бомбы больше не рассекали с визгом воздух, не падали снаряды; наступил мир, наступила тишина. Последний чудовищный взрыв швырнул его на дно воронки. И во-вторых, не он один низвергся в эту пропасть. Хотя он не видел и не слышал своих товарищей по несчастью, он был уверен: рядом с ним лежат все его близкие, и весь немецкий народ, и вообще все народы Европы — такие же беспомощные и беззащитные, как он сам, и терзаемые точно такими же страхами.
В этих бесконечных тягостных снах, в которых доктор Долль, днем такой деятельный и энергичный, растворялся, превращаясь в сплошной страх, в эти убийственные дремотные минуты он всегда видел кое-что еще. И вот что он видел.
На краю воронки молча восседает «Большая тройка». Даже во сне он называл этих троих прозвищем, которое война впечатала ему в мозг. Где-то в памяти болтались фамилии Черчилль, Рузвельт и Сталин, хотя иногда его грызло подозрение, будто бы что-то в этом ряду не так давно поменялось.
Все трое сидели рядом или, во всяком случае, неподалеку друг от друга. Они пришли из разных частей света, чтобы с немой скорбью вглядываться в чудовищную воронку, на дне которой, беззащитные, валялись в грязи Долль и его семья, и немецкий народ, и все народы Европы. Они сидели и смотрели, молча и печально, и Долль подспудно понимал, что «Большая тройка» напряженно размышляет, как бы ему, Доллю, а с ним и всем остальным помочь подняться, как из их поруганного мира вновь выстроить счастливый. Да, они напряженно размышляли, эти трое, а воронье летело над успокоившейся землей, возвращаясь с полей сражений в старые гнезда, и родники неслышно журчали, и желтая глиняная жижа клокотала у самого рта.
Увы, Долль ничего не мог поделать: руки были вытянуты по швам, и оставалось только лежать и ждать, когда наконец «Большая тройка» очнется от печальных дум и вынесет какое-нибудь решение. Наверное, во всем этом кошмаре не было ничего мучительнее: опасности грозили со всех сторон, а он ничего не мог сделать, только лежал и ждал — без конца и без краю! Безжизненные фасады вот-вот рухнут на него, голодное до трупов воронье обнаружит беззащитных жертв, желтая грязь забьет им рты; а он ничего не мог сделать, мог только ждать. И кто знает — возможно, пока он и его близкие, которых он так любит, ждут, станет слишком поздно… Вдруг они уже погибли, погибли безвозвратно!
Прошло очень много времени, прежде чем ошметки этого удушающего кошмара наконец оставили Долля в покое; полностью освободился он от них лишь тогда, когда новый поворот жизни заставил его покончить с рефлексией и снова сделаться человеком дела. Но еще дольше Долль не мог поверить, что этот кошмар, порожденный его внутренними демонами, просто дурачил его и обманывал. Каким бы ужасным ни был этот сон, Долль верил, что в нем сокрыта истина.
Ему понадобилось очень много времени, чтобы понять: никто в мире не поможет ему выбраться из грязи, в которой он завяз. Ни одну живую душу, даже «Большую тройку», не говоря уж о соотечественниках, не интересует доктор Долль. Захлебнется он в глинистой жиже — ну и что, кому какое дело! Никто о нем не пожалеет. Если он всерьез намерен снова работать и творить, это целиком и полностью его дело — преодолеть апатию, встать, отряхнуться от грязи и приняться за работу.
Но от этого вывода Долль в то время был еще очень далек. После того как наконец-то кончилась война, он долго мнил, что весь мир только и ждет, как бы протянуть ему руку помощи.
Глава 2 Другое заблуждение
Утром того самого 26 апреля 1945 года Долль впервые за долгое время проснулся в хорошем настроении. После многих недель и месяцев, когда они смиренно ждали конца войны, миг освобождения казался как никогда близок. Город Пренцлау уже взят, русские вот-вот придут; в последние дни над городом все кружат самолеты, и самолеты отнюдь не немецкие!
Но самое приятное известие Долль услышал поздно вечером: СС отступают, фольксштурм распущен, маленький город никто не собирается защищать от наступающих русских! У него камень с души свалился: вот уже несколько недель он из дому и носа высунуть не смел, опасаясь привлечь лишнее внимание. Он твердо решил, что в фольксштурм сражаться не пойдет.
Теперь, после этой обнадеживающей новости, он наконец отважился переступить порог дома, не опасаясь, что о нем скажут дорогие соседушки — из них по крайней мере трое могли видеть его участок из-за заборов и изгородей. Прекрасным весенним днем он вместе с молодой женой вышел на крыльцо. Пригревало солнышко, испуская приятное тепло — особенно здесь, в низине у воды. Юная зелень еще играла тысячами легких веселых оттенков, а земля, казалось, набухла и ходуном ходила под ногами от плодородия.
Долль стоял с женой на крыльце и наслаждался погодой, как вдруг его взгляд упал на две длинные клумбы с многолетними цветами, которые тянулись справа и слева от узкой бетонной дорожки, ведущей к дому. На клумбах все тоже зеленело, а кое-что уже и зацветало: гиацинты, примулы, анемоны. Но это отрадное зрелище портили мотки драной проволоки, насаженной на мерзкие колышки и оскорблявшей своим уродством молодую поросль. Острые концы проволоки коварно топорщились, так что ходить по дорожке было небезопасно.
Едва взглянув на это безобразие, Долль воскликнул:
— Ну вот, сегодня мне есть чем заняться! Эта проволока меня давно раздражает!
Он принес клещи и тяпку и с воодушевлением принялся за работу, которую сам себе назначил.
Возясь на солнце, он поглядывал на соседские участки. Там царила необычная суета. Соседи, что ближние, что дальние, бегали туда-сюда, таскали чемоданы и мебель из сарая в дом и обратно, некоторые без видимой цели бродили с лопатой, наудачу втыкая ее в землю то тут, то там.
Один сосед торопливо выбежал на причал и остановился, сунув руки в карманы, словно у него внезапно выдалась свободная минутка. Затем что-то плюхнулось в воду, и сосед как будто бы невзначай, но ужасно воровато огляделся, проверяя, не наблюдают ли за ним (Долль тут же схватился за тяпку), а потом пошагал, широко расставляя ноги, словно погрузившись в глубокую задумчивость, назад к дому, где тут же развернул какую-то новую активную деятельность.
Время от времени суета стихала. Соседи собирались кучками у сетчатых заборов, возбужденно шушукались. Через сетку летели большие свертки, а потом все снова разбегались, настороженно озираясь, и опять начиналась какая-то малопонятная колготня.
Долль, всего несколько месяцев живший в этом доме, принадлежавшем его второй жене, был исключен из общей суеты как «чужак», что не могло его не радовать. Вся эта таинственность, которую разводили в основном женщины да старики, была шита белыми нитками, и он презирал этот «бабий шабаш».
Однако долго наслаждаться уединением ему не пришлось: к нему на участок пожаловали две дамы, заклятые подруги жены. Эти особы, которых он на дух не переносил, остановились возле него, чтобы выразить свое удивление: дескать, в такой день вы находите время заниматься такой ерундой. Русские на пороге!..
Улыбаясь несколько насмешливо, доктор Долль, к которому вскоре присоединилась жена, объяснил, что расчищает дорогу именно для этих долгожданных гостей. В изумлении дамы осведомились: неужели он намерен дожидаться врага здесь? Едва ли это благоразумно — с двумя-то детьми, молодой женой и старенькой бабушкой! Здесь, на выселках маленького городишки, все уже решено: как только наступят сумерки, жители на лодках переправятся на другой берег озера и укроются в лесной чаще, а там уже посмотрят, как будут развиваться события.
За Долля подругам ответила жена:
— Мы ничего подобного делать не собираемся. Никуда не уйдем и прятать ничего не будем. Мы с мужем встретим долгожданных освободителей на пороге собственного дома!
Дамы принялись горячо возражать, но чем больше они горячились, тем сильнее колебались сами, тем крепче сомневались в том, что в чаще леса действительно безопасно. Когда они наконец ушли, Долль с улыбкой сказал жене:
— Вот увидишь, ничего они не сделают. Еще пару часов покудахчут, как куры перед грозой, еще что-то припрячут, а что-то переложат. Но в итоге устанут, сядут где-нибудь в уголке и будут делать то, что мы все делаем уже не первую неделю: ждать спасителя.
Что касалось подруг, фрау Альма была совершенно солидарна с мужем; что же касалось ее самой, в ней бурлила энергия, и на месте ей не сиделось. После обеда она сказала Доллю, который, устав от непривычной работы, собрался прилечь, что быстренько съездит на велосипеде в город, пополнит свои запасы лекарств от желчных колик — а то в ближайшие дни такой возможности, быть может, уже не представится.
Долль засомневался: русские могли появиться в любой момент, и лучше все-таки дожидаться их вместе. Но по опыту он знал: если жена что-то задумала, то как ее ни запугивай — отговорить не удастся. Под градом бомб в пылающем Берлине, под обстрелом с воздуха она неоднократно доказывала ему, что не ведает страха. Поэтому он промолвил с легким вздохом:
— Как знаешь! Счастливо, милая!
А когда она вскочила на велосипед и поехала прочь, проводил ее взглядом, с улыбкой опустился на кушетку и заснул.
Тем временем фрау Альма резво крутила педали, то в горку, то под горку, приближаясь к городку. Ее маршрут пролегал сначала по безлюдным тропам, вдали от человеческого жилья, затем по аллее, по обеим сторонам которой высились особняки. Тут она осознала, что на улицах ни души; а особняки — вероятно, потому, что все окна до единого закрыты ставнями, — казались нежилыми, будто все жители враз вымерли. Наверное, все уже убрались в лес, подумала фрау Долль и почувствовала, как в ней нарастает жажда деятельности.
Выехав на первую настоящую городскую улицу, фрау Долль наконец-то обнаружила хоть какие-то признаки жизни. У тротуара стоял большой вермахтовский грузовик, и несколько эсэсовцев помогали девушкам и девочкам взбираться в кузов.
— Девушка, скорее! — крикнул один из эсэсовцев фрау Долль. Тон у него был почти приказной. — Это последняя армейская машина! Больше из города никто не уедет!
Как и ее муж, фрау Долль была рада, что город сдают без боя. Но это не помешало ей ответить:
— Как же это на вас, говнюков, похоже — драпать, когда русские на подходе! Вы вели себя тут, будто хозяева города, ели и пили за наш счет, а едва запахло жареным — тут же даете деру!
Еще недавно, заговори она в подобном тоне с эсэсовцем, это плохо кончилось бы и для нее, и для ее семьи. Но похоже, за последние двадцать четыре часа положение в корне поменялось, так как эсэсовец ответил довольно мирно:
— Хватит молоть вздор — полезайте в машину! Передовой отряд русских танков уже в городе!
— Тем лучше! — выкрикнула фрау Долль. — Поеду им навстречу и скажу: добро пожаловать!
Налегла на педали и покатила в город, оставив позади, вероятно, последнюю вермахтовскую машину, которую видела в жизни.
И снова ей показалось, что она едет по заброшенному городу — может, и вправду все уже сбежали, а последними уедут те женщины, толпившиеся у вермахтовского грузовика. На улицах — ни людей, ни даже кошек или собак. Все окна закрыты, все двери словно забаррикадированы. И все же, когда она проезжала по улицам, приближаясь к центру города, ее не покидало чувство, будто это многосотголовое существо просто затаило дыхание, будто сейчас за ее спиной, где-то совсем рядом испустит оно ужасный вопль мучительного ожидания и страха! Будто за всеми этими слепыми окошками прячутся люди, которые исступленно боятся того, что на них надвигается, и так же исступленно надеются, что жестокая война действительно кончится.
Это чувство усилилось при виде белых тряпок — судя по размеру, полотенец, — которые висели над некоторыми дверьми. И в этой потусторонней атмосфере, в которую фрау Долль погрузилась с минуты, когда въехала в город, она мигом поняла, что белые полотнища означают безоговорочную капитуляцию. Впервые за двенадцать лет она видела на домах какие-то еще знамена, кроме алых со свастикой. Поневоле она налегла на педали.
Но стоило ей завернуть за угол, как этот неопределенный, суеверный страх враз отпустил ее: она невольно заулыбалась. По ухабистой улочке маленького городка в хаотичном порядке двигались восемь или десять танков. По форме и головным уборам мужчин, стоявших в открытых люках, фрау Долль тут же определила, что танки не немецкие, что это тот самый передовой отряд русских танков, от которого ее предостерегали!
Но разве здесь нужны предостережения? В том, как эти танки катились в сиянии весеннего солнца — без труда въезжая на бордюр, с трудом протискиваясь мимо лип и возвращаясь на проезжую часть, — не было ничего грозного. Наоборот: происходящее казалось легкой, веселой игрой. Она не испытывала ни тени страха. Лавируя среди танков на своем велосипеде, она спрыгнула там, где и собиралась, — у аптеки. В упоении от внезапно нахлынувшего чувства свободы, она даже не обратила внимания на то, что и на этой улице все дома трусливо заперты и забаррикадированы, а она единственная немка среди русских, из которых несколько человек вооружены автоматами.
Действо на улице было настолько диковинное, что фрау Долль с трудом оторвала от него взгляд и повернулась к аптеке, которая, как и другие дома, была надежно забаррикадирована и заперта. Ни на стук, ни на крик никто не отозвался. Секунду помешкав, она подскочила к стоявшему неподалеку русскому с пистолетом.
— Послушай, Ваня, — сказала она ему с улыбкой и за рукав потянула к аптеке, — открой мне, пожалуйста, магазин!
Русский равнодушным взглядом скользнул по ее улыбающемуся лицу, на миг ей даже стало как-то неуютно, словно на нее посмотрели как на стену или на зверюшку. Но это ощущение исчезло так же быстро, как возникло: русский не сопротивлялся, послушно подошел к аптеке и, мигом поняв ее намерение, пару раз громко стукнул прикладом автомата в филенку. В стеклянном окошечке над дверью показалась львиная голова аптекаря, старика за семьдесят: он испуганно высматривал, кто это колотит в дверь. Его лицо обычно жизнерадостного винно-багрового цвета было землисто-серым.
Фрау Долль покивала старику — дескать, смелее, открывай! — и сказала русскому:
— Вот хорошо, спасибо большое! Ну, иди, иди.
Ничто не дрогнуло в лице солдата: не удостоив ее взглядом, он шагнул обратно на дорогу. Тем временем в замке повернулся ключ, и фрау Долль впустили в аптеку, где, кроме семидесятилетнего старика, находились также его жена, существенно моложе, и их младший ребенок лет двух-трех. Едва фрау Долль переступила порог, дверь за ней тут же заперли.
Хотя день, когда пришли русские, фрау Долль запомнила очень живо, в мельчайших подробностях, разговор в аптеке лишь смутно отложился в ее памяти. Да, лекарство ей аккуратно отмеряли, и она точно помнила, что от денег поначалу отказались, а потом взяли — уступив ее настояниям с какой-то неясной усмешкой, словно капризу неразумного дитяти. Но потом пошел какой-то вздор: дескать, ей ни в коем случае нельзя ехать домой — дорога неблизкая, кругом русские, пусть лучше останется в аптеке. А в следующее мгновение хозяева сами же выражали сомнение, насколько безопасно оставаться дома — может, лучше спрятаться в лесу. И вот уже они принимались сетовать, что не уехали на запад раньше… Словом, фрау Долль столкнулась здесь с теми же жалкими, бестолковыми бреднями изнуренных бесконечным, невыносимым ожиданием людей, которые слышались в те дни чуть ли не в каждом немецком доме.
Но здесь, в аптеке, под окнами которой катились танки, это было особенно бессмысленно; уже поздно принимать решения — все решено, ожидание позади! К тому же фрау Долль пришла с улицы, с весеннего солнца, она проехала между танками, решительно схватила русского за рукав, и остатки суеверного страха покинули ее — она просто не могла больше слушать эту чепуху. Сухо попросив отпереть дверь, она вышла на улицу, обратно на свет, оседлала велосипед и поехала дальше в город, петляя между танками, которых становилось все больше.
Вероятно, фрау Долль последней видела аптекаря и его семейство в живых: через пару часов он дал яд жене и ребенку и отравился сам, безо всякой ясной цели и причины — в последний момент сдали истрепанные нервы. Сколько они вынесли за эти годы — и теперь, когда наконец-то появилась надежда на лучшее или, во всяком случае, уже точно не стоило опасаться худшего, они не выдержали неопределенности даже самого краткого ожидания.
Но та же самая аптекарская рука, которая так точно отвесила фрау Долль ее обезболивающее, подвела хозяина, когда он отмерял яд для себя и своей семьи: умерли только старик и малыш. Женщина после долгих страданий все-таки поправилась и — хотя и лишилась семьи — больше попыток самоубийства не предпринимала.
Альма Долль отъехала не очень далеко, когда ее внимание привлекла другая картина, заставившая ее вновь остановиться: перед самой большой в городе гостиницей толпилось около дюжины детей — мальчиков и девочек лет десяти-двенадцати. Они смотрели, как едут танки, кричали и хохотали, а русские солдаты, казалось, их вообще не замечали.
Эта необузданная распущенность детей, обычно по-деревенски смирных, объяснялась просто: в руках они держали бутылки с вином. Как раз когда фрау Долль спрыгнула с велосипеда, из ворот гостиницы выскользнул мальчишка с непочатыми бутылками наперевес. Дети приветствовали своего товарища ликующими возгласами, напоминавшими вой волчьей стаи. Они небрежно побросали бутылки, которые держали в руках, на брусчатку, не обращая внимания, сколько в них осталось вина — доверху, до половины или на донышке, — и набросились на новые: лихо отбивая горлышки о каменные ступени гостиничной лестницы, они приникали к пойлу своими детскими устами.
Это зрелище привело фрау Долль в бешенство. И не только потому, что ей как матери противен был вид пьяных детей, — еще больше ее рассердило, что эти недоросли ведут себя по-свински в знаменательный день, когда в город вошла Красная армия. Почти бегом она кинулась к детям, повырывала из их ручонок бутылки и так щедро осыпала всю честную компанию оплеухами и тумаками, что через мгновение малолетних пьянчужек и след простыл.
Фрау Долль остановилась перевести дух. Вспышка бешенства прошла, и вот она уже почти радостно разглядывала покинутую жителями улицу, на которой, кроме нее самой, были только танки и одинокие русские солдаты с автоматами. Затем она вспомнила, что пора бы выдвигаться домой, вздохнула легко и счастливо и направилась обратно к велосипеду. Но не успела она до него добраться, как дорогу ей преградил русский солдат: указывая на ее руку, он извлек из кармана сверток, который тут же и вскрыл.
Она посмотрела на свою ладонь и только теперь заметила, что порезалась, отнимая у детей бутылки: с пальцев капала кровь. Пока заботливый русский перевязывал ей руку, она дружелюбно улыбалась, а потом в знак благодарности похлопала его по плечу — он посмотрел отстраненно, даже не на нее, а сквозь, — села на велосипед и покатила домой, теперь уже без приключений. На том самом месте, где час назад стояла вермахтовская машина, уже были русские танки. Успела ли машина уехать? Наверное, фрау Долль этого никогда не узнает.
Когда она привезла мужу все эти новости, он, выслушав ее, лишь утвердился в своем решении встречать победителей и освободителей на пороге собственного дома. Но поскольку на их окраину русские могли прибыть в любой момент, Долль оборвал разговор с женой на полуслове и с непостижимым в столь судьбоносный час упрямством вернулся к прополке клумб, намереваясь снять и аккуратно свернуть остатки проволоки и выдернуть последние уродливые колышки.
Ни отъезд молодой женщины, ни ее возвращение не укрылись от обитателей ближайших участков. Скоро к Доллю потянулись соседи — разумеется, у каждого находился уважительный повод, например, одолжить какой-нибудь инструмент. Глядя, как Долль работает, они пытались обиняками выспросить, зачем фрау Долль ездила в город и что там видела?.. На прямой вопрос, в таких обстоятельствах совершенно естественный, Долль тут же дал бы ответ, но это вкрадчивое, кошачье хождение вокруг да около было ему ненавистно — поэтому он даже не думал удовлетворять их плохо скрываемое любопытство.
Так бы и ушли соседи ни с чем, если бы не подоспела сама фрау Альма. Как женщине молодой ей не терпелось поделиться впечатлениями, тем более что впечатления эти внушали радость и надежду.
Ее рассказ произвел переворот в умонастроениях соседей: идея бежать в лес была отброшена. Все, как и Долли, решили сидеть дома и дожидаться освободителей. Кое-кто даже прямо заговорил о том, что хорошо бы водворить все спрятанное и закопанное на прежние места, дабы не оскорблять победителей недоверием. Но таких отступников тут же раздраженно обрывали родственники: «Ты не посмеешь, Ольга!» — «Что бы ты ни говорила, Элизабет, береженого бог бережет!» Или даже: «А мы ничего и не прятали, Минни, не выдумывай!»
Пуще всех разошлись двое стариков, которым уже перевалило за семьдесят: рассказ о детской попойке перед гостиницей разбередил их воображение. Сперва они пришли в неописуемую ярость. Много недель и месяцев они ходили на поклон к хозяину гостиницы, чье заведение посещали с незапамятных времен, — и этот плут, этот мошенник, этот предатель собственного народа неизменно отвечал отказом на все просьбы уделить им бутылочку, да хотя бы бокал вина, уверяя, что у него самого ничего не осталось — дескать, все выглушили СС! А теперь выясняется, что вино у него таки было, и, похоже, немало, целый погреб, да поди не один — а от них эти припасы жульническим образом утаили, и теперь дети выливают вино на тротуар!
И старики стояли друг напротив друга, их лица, еще недавно серые от забот, до самых седых косм залил нежно-розовый румянец, словно отблеск того самого вымечтанного вина. Они хлопали друг друга по обвисшим за последние годы животам, на которых больше не трещали от натуги штаны, и выкрикивали названия своих любимых сортов. Один, маленький, всегда в зеленом охотничьем костюме, истово почитал мозельвейн; другой, длинный, вечно без пиджака, благоволил французским винам. При виде того, как они приплясывают, хлопают друг друга по животам и горланят, казалось, что они уже пьяны от вина, которого даже не пригубили. Полная неопределенность жизни, война, которая только-только заканчивалась, опасность, которая, возможно, всем им грозила, — все это было забыто, всякое воспоминание о прежних горестях вытеснила надежда разжиться выпивкой. Когда они, распалив друг друга, решили немедленно отправиться в город с тележками и наложить лапу на незаконно сокрытое от них вино, они изрядно напомнили Доллю персонажей, которые прилаживались плясать на извергающемся Везувии.
Слава богу, у обоих имелись жены, и эти самые жены позаботились о том, чтобы запланированная экспедиция не состоялась — тем более что грохот тяжелых машин, отчетливо доносившийся из города через озеро, постоянно нарастал.
— Естественно, — сказал Долль, возвращаясь к своей проволоке, — если все повернется не так, как мы ожидаем, мы навсегда останемся виноваты в том, что они не ушли в лес. Впрочем, мы будем виноваты в любом случае, что бы ни произошло…
— Но я их не отговаривала и не уговаривала, — возразила его молодая жена.
— Какая разница, — отозвался Долль, тяпкой срывая с колышка проволочную петлю. — Главное, что наши дорогие соседи теперь нашли козлов отпущения на случай, если что-нибудь — что угодно — пойдет не так. — Он смотал проволоку. — Они нам ничего не спустят, будь уверена! Они и раньше во всех своих бедах винили окружающих, а не самих себя — вряд ли они вдруг изменят своим привычкам!
— Ну что же, от нас не убудет, — ответила молодая женщина с язвительной усмешкой. — Нас в этом городишке всегда не любили — а уж чуть больше или чуть меньше, какая разница?
Она кивнула мужу и ушла в дом.
Время до вечера тянулось мучительно долго. Снова они томились в ужасном ожидании, которое, как они надеялись, осталось позади — и как часто в грядущие дни и месяцы им еще предстояло ждать, ждать, ждать! Иногда Долль делал перерыв в работе и шел на берег озера, один или с женой: за гладью воды просматривался кусочек городской улицы. Они видели пустые, мертвые дома, без признаков человеческой жизни, и только доносился до их ушей непрекращающийся гул незримого обоза, который с жутким гудением, громыханием и воем катился через город на запад.
Наконец — уже начинало смеркаться — молодая женщина позвала всех в дом ужинать. Долль, который в последний час не столько работал, сколько притворялся, что работает, собрал инструменты, отнес их в сарай и умылся на летней кухне. Вся семья уселась за круглый стол, стоявший в углу: старенькая бабушка, Долль, его молодка и двое детей. Разговаривали за ужином только старушка и ее дочь. Дряхлая матрона, которая передвигалась с большим трудом и почти не вставала с кресла, жаждала узнать новости, а дочь в этот вечер охотно удовлетворяла ее любопытство (далеко не всегда она была в настроении это делать). Старушка выспрашивала подробности, требовала, чтобы одно и то же повторяли раза три, и засыпала дочь вопросами вроде:
— А она что сказала? А ты что на это? А она что ответила?
Обычно Долль прислушивался к прихотливому журчанию женских разговоров: его развлекало, как при каждом новом пересказе одна и та же история преломляется в старенькой бабушкиной голове. Но за день от его хорошего настроения не осталось и следа, и он едва сдерживался, чтобы не оборвать этот «трындеж». Он знал, что это было бы несправедливо, но ведь и в несправедливости иной раз находишь удовлетворение.
И вдруг мальчик воскликнул вполголоса:
— Русские!..
С крыльца послышался шорох. Замолкнув, все смотрели, как открывается дверь и в комнату входят трое русских.
— Всем сидеть! — тихо приказал Долль и направился к гостям, вскинув левый кулак в знак приветствия.
Вслед за ним двинулась жена, которая приказ сидеть на месте не отнесла на свой счет. Долль наконец-то снова смог улыбнуться, напряжение и яростное нетерпение улетучились, ожидание кончилось, в книге судеб открылась совершенно новая страница… Он сказал с улыбкой:
— Товарищ! — и протянул гостям правую руку.
В его память навсегда впечаталось, как выглядели и вели себя первые трое русских, вошедших в его дом. Впереди держался стройный молодой человек с черной повязкой на левом глазу. Он двигался легко и проворно, от него исходило что-то светлое. Одет он был в синий китель, на голове — шапка из овчины.
По сравнению с его упругим, изящным станом тот, кто шел за ним следом, смотрелся великаном — казалось, он вот-вот заденет головой стропила. У него было широкое землистое крестьянское лицо с густыми черными усами, в которых уже серебрилось множество седых прядей. Примечательнее всего в этом великане был короткий кривой кинжал в черных кожаных ножнах, висевших поперек серого кителя. Позади стоял третий — совсем еще юный, простодушного вида солдатик, с лицом, которое только начинало определяться. Под мышкой он сжимал автомат с изогнутой обоймой.
Таковы были эти трое русских — долгожданные гости, навстречу которым Долль шагнул, вскинув левый кулак и протянув правую руку, со словом «товарищ» на устах.
Но когда он это сделал, когда остановился перед гостями в этой позе, произошло нечто странное. Левый кулак опустился, правая рука Долля уползла в карман, и с его губ не слетело вновь слово, с помощью которого он пытался дать понять пришлецам, что им здесь рады. Улыбка растаяла, на лице отразилась мрачная задумчивость. Он опустил взгляд, устремленный на троих русских, и уставился себе под ноги.
Как долго эта сцена длилась — две, три минуты, а может, считаные секунды, — Долль впоследствии сказать не мог. Внезапно синий мундир протиснулся между ним и его женой и потопал вглубь дома; остальные двое последовали за ним. Ни герр, ни фрау Долль не двинулись с места: стояли молча, избегая встречаться глазами. А потом мальчик крикнул:
— Смотрите, опять они!
И правда, трое русских уже были на заднем дворе. Они прошли через летнюю кухню, стремительно миновав всего каких-то четыре комнаты дома. Не задерживаясь и не оглядываясь, словно точно зная, куда идут, они миновали сарай, ступили на причал, забрались в лодку, отвязали ее и вскоре исчезли за прибрежными зарослями.
— Уплыли! — снова сообщил мальчик.
— Придут и другие! — заявила молодая женщина. — Это, наверное, первая проверка: в каком доме кто живет. — Она бросила быстрый взгляд на мужа, который по-прежнему стоял, засунув руки в карманы и погрузившись в мрачные раздумья. — Идем! — сказала она. — Надо скорее поесть, а то суп остынет. После ужина сразу уложим детей и бабушку спать. А сами еще немножко посидим. Чувствую я, сегодня вечером или ночью придут и другие.
— Наверняка, — согласился Долль и вслед за женой вернулся за стол. При этом он подумал, что даже голос у нее совершенно переменился: исчезла живость, с которой она рассказывала о своих дневных приключениях. Она тоже что-то заметила, подумал он. Но точно так же, как и он, не хочет об этом говорить. Вот и славно.
А потом он стал тешить себя мыслью, что жена, может, вовсе ничего и не заметила, а голос у нее зазвучал иначе потому, что им опять предстояло ждать — ждать следующих русских гостей. Ничего хуже ожидания не было сейчас для немцев, но именно оно им было уготовано — на дни, месяцы, а то и годы вперед…
Между бабушкой и детьми завязался оживленный разговор, в котором участвовала и молодая женщина. Естественно, речь шла в основном о трех визитерах, имевших столь пеструю наружность, какой они не привыкли видеть у своих, немецких солдат (или привыкли так давно, что уже не обращали внимания). И всех занимал вопрос: получат ли они назад лодку, вернут ли ее русские?..
Долль в этих разговорах не участвовал: за весь вечер он вообще не проронил ни слова. Слишком сильная буря бушевала в его душе. Лишь раз он спросил у жены:
— Ты обратила внимание, как они на меня посмотрели?
На что Альма — так же тихо и очень поспешно — ответила:
— Да брось ты! Тот русский у аптеки сегодня посмотрел на меня точно так же: будто я стена или животное.
Долль коротко кивнул, и больше супруги об этом не говорили — ни в тот день, ни после.
Но Доллю все представлялось, как он стоит перед этой троицей, на лице улыбка, на устах слово «Товарищ!», кулак вскинут, правая рука протянута для рукопожатия — как все это было фальшиво, как стыдно! Теперь он бы все сделал иначе — начиная с самого утра, когда он встал такой радостный и принялся копаться в саду, чтобы «расчистить» путь освободителям. Как он заблуждался!
И он еще пыжился перед соседями: дескать, я встречу русских на пороге своего дома и поприветствую их как освободителей. Вместо того чтобы задуматься о том, что поведала жена, и сделать для себя кое-какие выводы, он лишь укрепился в своей нелепой, глупой позе. Вот уж правда, ничему он за эти двенадцать лет не научился — как бы ни верил в обратное, погрузившись в свои переживания!
Русские имели полное право смотреть на него как на мелкое, злобное, презренное животное — на этого нелепого типа с его неуклюжими попытками подольститься. Как будто приветливой улыбкой и плохо понятым русским словом можно враз перечеркнуть все то, что натворили немцы по всему миру за последние двенадцать лет!
Он, Долль, тоже немец, и он понимал, по крайней мере в теории, что с тех пор, как нацисты пришли к власти, с тех пор, как они стали преследовать евреев, слово «немец», изрядно замаранное еще в Первую мировую войну, с каждой неделей, с каждым месяцем теряло звучание и престиж! Как часто он говорил сам себе: «Никогда нам этого не простят!» Или: «За все за это нам рано или поздно придется расплачиваться!»
И хотя он отлично все это знал, знал, что слово «немец» во всем мире давно стало ругательством, — он сделал то, что сделал, в нелепой надежде, что русские гости поймут: существуют и «приличные немцы».
Все, на что он уповал, ожидая окончания войны, — все рассыпалось в жалкий прах под взглядами трех русских солдат! Он немец, а значит, принадлежит к самому ненавистному, самому презренному народу на всем земном шаре! Этот народ стоит ниже, чем самое примитивное племя из африканской глуши, — ведь оно не принесло на этот самый земной шар столько разрушений, крови, слез и горя, сколько принес немецкий народ. Долль смирился с тем, что, вероятно, не доживет до того дня, когда слово «немцы» очистится от скверны в глазах остального мира, что, возможно, его детям и внукам еще придется влачить бремя бесчестия отцов. Иллюзия, что хватит одного слова, одного взгляда — и другие народы сразу поймут, что не все немцы одинаково повинны в произошедшем, — эта иллюзия тоже развеялась.
И это чувство беспомощного стыда, которое часто сменялось затяжными приступами тяжелой апатии, не ослабевало с течением месяцев — нет, оно только усиливалось, и этому способствовали сотни разных мелочей. Позже, когда в Нюрнберге начался процесс против военных преступников, когда были обнародованы тысячи ужасающих подробностей и стал ясен чудовищный размах немецких преступлений, — все его существо противилось узнанному: он не желал больше ничего знать, не желал увязать еще глубже в этой трясине. Нет! — одергивал он сам себя. Этого я не знал! Что все настолько ужасно, не подозревал! Моей вины тут нет!
Но потом он опоминался. Он не желал снова поддаваться трусливому самообману, не желал снова стыдливо переминаться с ноги на ногу в собственном доме — хозяин, по праву презираемый гостями. Врешь! — говорил он сам себе. Я видел, как начинались гонения на евреев. Впоследствии мне часто приходилось слышать, как обращаются с русскими военнопленными. Может, в глубине души я и негодовал, но я палец о палец не ударил, чтобы этому помешать. И если бы все, что я сегодня знаю о немецких зверствах, я знал и тогда — вполне вероятно, что я бы все равно сидел сложа руки, бурля беззубой ненавистью…
Доллю пришлось проделать большую внутреннюю работу, чтобы признать: он тоже грешен, тоже виновен и, будучи немцем, не имеет больше права на равенство с другими народами. Его будут презирать, и он это презрение заслужил. А ведь он всегда собой гордился, назаводил четверых детей, и им еще расти и расти, учиться самостоятельно думать, но они уже многого ждут от жизни — и на какую жизнь обречены!..
О, как хорошо Долль понимал своих соотечественников, когда снова и снова слышал или читал, что немалая часть немецкого народа впала в полнейшую апатию. Наверняка многие чувствовали себя так же, как и он. И себе, и им он желал сил вынести все то, на что они отныне осуждены.
Глава 3 Покинутый дом
Внешне жизнь Доллей существенно изменилась уже в первые дни после прихода победоносной Красной армии. Они, как и все остальные, привыкли сидеть дома и заниматься своими делами, а теперь русские объявили всеобщую рабочую повинность, и волей-неволей пришлось подчиниться, чтобы заработать свой кусок хлеба — и поначалу это был очень маленький кусок. Не было еще семи, когда супруги выходили из дому и тащились в город на сборный пункт. По пути к ним часто присоединялись соседи, но чаще всего им удавалось избавиться от спутников и остаться вдвоем, к чему они так привыкли за годы брака.
Так они и шагали сквозь свежее майское утро: Долль был погружен в свои мысли и вполуха слушал болтовню жены, время от времени роняя «да-да» или «так-так» — этого вполне хватало. За способность тараторить без умолку Долль некогда окрестил жену «мой прибойчик». Ее лопотание напоминало ему о давних прогулках по побережью, когда море постоянно шумело рядом.
Но едва они приходили на сборный пункт, которым служил школьный двор, привычному уединению приходил конец, и «прибойчик» затихал: мальчиков и девочек строили, пересчитывали и переписывали отдельно, после чего посылали на разные работы. Если повезет, при отправке удастся крикнуть друг другу, кого куда назначили, кто чем будет занят весь этот длинный день, который предстоит провести в разлуке. «Я иду убираться!» — крикнет она. А он в ответ: «Мешки ворочать!» Позже всех распределили на постоянные работы: он сделался пастухом, а она — носильщицей.
Часто бывало, что встречались они только поздно вечером: оба были измучены непривычной работой, но оба старались, чтобы супруг этого не заметил. Он с иронией рассказывал о трудностях своей пастушьей жизни: коров в стаде больше тысячи, все они из разных коровников и единым стадом себя не чувствуют, а потому все время норовят разбрестись кто куда или поживиться посевами зерновых. Вообще-то пастухов было восемь человек, но его коллеги предпочитали торчать на одном месте и чесать языками. Они вели настоящие мужские разговоры: неужели так и дальше пойдет, а ведь выдаваемого хлеба и одному человеку мало, не говоря уж о целой семье, да уж, иначе мы представляли себе мирное время, да еще нацисты опять стараются занять местечки потеплее — совершенно бессмысленный треп, безмерно Долля раздражавший.
Тем временем стадо разбредалось, перебиралось из зарослей мышиного горошка в посевы ржи, и Долль носился как угорелый за всей этой тысячей коров, швырял в них камни, охаживал дубинкой и в конце концов, выбившись из сил и совершенно измучившись, садился на камень отдышаться, огорченный, возмущенный и отчаявшийся. Тут как раз и появлялся русский верховой, чтобы проверить пастьбу. Остальных пастухов, которые с умом выбирали себе место точить лясы и издалека видели верхового, проверяющий заставал за работой, а измотанного Долля сурово отчитывал за леность. Но тот не мог заставить себя поступать так же, как другие. Манеру работать только для отвода глаз, а на самом деле ничего не делать, он считал отвратительной — как это типично для солдатского взгляда на жизнь, где даже «тепленькое местечко» снискивает уважение!
Хорошего в этих пастушеских буднях было немного — разве что, загнав вечером скот, пастухи, даром что целый день чесали языками, имели право явиться к украинским молочникам с бидоном любой величины, который те до краев наполняли молоком. Поэтому дома у Долля по вечерам ели суп, который и стару и младу шел на пользу.
Впрочем, что касалось добычи съестного, вклад фрау Альмы в прокорм семьи был гораздо больше, а ее сноровка явно превосходила сноровку мужа. Ей — а также еще трем-четырем десяткам женщин и девушек — было поручено перетаскать продовольственные запасы из части, которую прежде занимали СС, в большой амбар при железной дороге. Путь был неблизкий, и мешки часто бывали набиты всякими тяжестями, так что женщины надрывались под непосильной ношей.
Но наибольшее негодование вызывало то обстоятельство, что все эти мясные консервы, жестянки с маслом, сыром, молоком и сардинами, банки молотого кофе, бруски спрессованного листового чая, коробки с шоколадным порошком (а также батареи винных и коньячных бутылок и бесчисленные пачки курева) — да, женщин-носильщиц возмущало до крайности, что все это продуктовое изобилие много лет утаивалось от бедствующих женщин и голодающих детей — детей, из которых многие ни разу в жизни не пробовали шоколад. И ради чего? Чтобы запихать все это в ненасытные глотки наглых, властных молодцев из СС, которым Германия была обязана изрядной долей своих несчастий.
С тех пор как дети хлестали вино из бутылок, стоя перед самой крупной гостиницей города, большая часть населения усвоила новое представление о собственности: люди считали, что все эти продукты причитаются им по праву. Сколько времени корыстолюбивые, жадные торговцы их обделяли — теперь они имеют полное право взять то, что само просится в руки! Дорога от эсэсовской части была длинная, непосильная ноша давила на спину: то и дело какая-нибудь женщина скрывалась в зарослях у дороги, а когда вновь появлялась и вместо головы растянутой колонны, где шагала раньше, пристраивалась в ее хвост, мешок был полон уже на три четверти, зато в кустах был припасен ужин для целой семьи.
Фрау Альма была не щепетильнее своих товарок: ее, как и большинство других, дома ждали дети, которые давно изголодались по жирной пище и тоже были не прочь узнать, каков на вкус шоколад с молоком. Как и другие женщины, она делала тайники в кустах, а когда заметила, что либо ее товарки, либо те, кто наблюдал за ними издалека, еще до конца рабочего дня успевают в эти тайники запустить лапу, стала еще смелее. Спрятавшись в кустах, она пропускала всю колонну. Как только хвост колонны скрывался из виду, она спешила к знакомым, жившим неподалеку, и там оставляла весь мешок — его содержимое потом делилось между двумя семьями. А когда колонна возвращалась назад, она уже поджидала в кустах и потихоньку затесывалась в толпу женщин с пустым мешком в руках.
Разумеется, товарки не могли не заметить ее отсутствия — они подначивали и подкалывали Альму; но, поскольку все занимались примерно одним и тем же, ей все сходило с рук. Что же до русского конвоя, шагавшего в голове и в хвосте колонны, они происходящего то ли не замечали, то ли не желали замечать. Вероятнее все же второе: все они наверняка знали, что такое точащий голод, и проявляли великодушие — пусть даже по отношению к ненавистному им народу, который их собственных жен и детей морил голодом безо всякой жалости.
А вечерами Альма сидела с мужем и, пока на самодельной печке варился «его» молочный суп, она при свечах — электричества больше не было — хвасталась своей добычей. На первое теперь всегда были бутерброды с сардинами, а на второе молочный суп, в который добавляли шоколадный порошок. Они не ели, а жрали, до отказа набивая животы, — все, от пятилетней Петты до старенькой бабушки, которая еле ходила. Они не думали ни о последствиях переедания, ни о беспокойном сне, который и без того не приносил отдохновения, — не думали ни о завтрашнем дне, ни о том, что неплохо бы что-нибудь припасти на будущее. От мыслей подобного рода их отучили годы бомбардировок. Они вновь стали детьми, которые живут сегодняшним днем, не думая о том, что будет завтра, — вот только детскую невинность они давно утратили. Эти двое, пастух и носильщица, были выкорчеваны из привычной почвы: прошлое ускользало от них, а будущее было слишком туманно, чтобы отягощать себя думами о нем. Безо всякой цели они дрейфовали туда, куда нес их поток жизни, — а зачем люди вообще живут?
Шел ли Долль рано утром с женой на работу, спешил ли вечером домой с пастбища, путь его всегда пролегал мимо большого серого дома с вечно закрытыми ставнями, который производил отталкивающее и мрачное впечатление. На двери висела латунная табличка: она давно поблекла от старости, во вмятинах скопилась зелень. На табличке значилось: «Доктор Вильгельм, ветеринар».
Когда Долль с женой впервые после великого перелома проходили мимо этого угрюмого дома, Альма сказала:
— Он, кстати, тоже покончил с собой — ты слышал?
— Да… — пробормотал Долль, и по его тону было ясно, что он не хочет это обсуждать.
— А вот я, — гневно воскликнула Альма, — а вот я рада, что этот старый хрен сдох! Ух, как я его ненавидела — до сих пор вспомнить тошно…
— Ну ладно, ладно, — перебил ее Долль. — Он умер, пора о нем забыть. Не будем больше об этом.
И они действительно больше об этом не говорили, а когда проходили мимо заброшенного дома, доктор Долль демонстративно отворачивался, в то время как его жена окидывала жилище ветеринара сердитым или насмешливым взглядом. Их поведение красноречиво говорило о том, что забвением тут и не пахнет; да они и сами прекрасно знали — хоть и молчали, — что забыть не смогут и не захотят. Слишком уж много огорчений причинил им ныне покойный ветеринар доктор Вильгельм.
На табличке он гордо именовал себя ветеринаром, а на деле был таким трусом, что едва ли хоть раз отважился подойти к больной лошади или корове. Для крестьян это не было тайной, поэтому звали его разве что свиней от рожи привить — так и прилепилось к нему прозвище «Виллем-порось». Это был крупный, тяжеловесный мужчина за шестьдесят, с землистым лицом, на котором застыла гримаса омерзения, будто он все время ощущал на языке привкус желчи.
Этот самый ветеринар был совершеннейшей посредственностью, но один-единственный талант у него все же имелся — тончайший вкус к винам. Шнапс и пиво он тоже пил, но только ради алкогольной составляющей, так как давно превратился в так называемого «выпивоху»: потреблял умеренно, но регулярно. Однако к вину он питал настоящую страсть, и чем лучше был сорт, тем больше радости он приносил доктору Вильгельму. Даже желчные складки на его лице разглаживались, и появлялась улыбка. Для человека с его доходом это было весьма дорогостоящее увлечение, но он ловко ухитрялся раздобыть желаемое.
После пяти вечера ничто не могло удержать его дома: даже самый экстренный вызов не заставил бы его пойти к больному животному. Он брал трость, надевал тирольскую шляпу с кисточкой и штаны три четверти и торжественно шествовал по улице, широко расставляя ноги.
Первым делом доктор Вильгельм — Виллем-порось — заходил в расположенный неподалеку трактир, с которого исправно собирал винный оброк, пока жив был хозяин, сам большой любитель выпить. После его смерти заправлять трактиром стала вдова, но постепенно дело взяла в свои руки младшая дочь, девушка весьма своенравная и никогда не церемонившаяся с теми, кто ей не нравился, — а ветеринара доктора Вильгельма она сильно недолюбливала.
Эта самая дочь, к превеликому огорчению ветеринара, все чаще вместо заказанной бутылки приносила лишь бокал, в то время как на другие столики бутылки очень даже подавала. А если он начинал возмущаться, кривя желчно-горький, щелкунчиковый рот и выговаривая слова, по своему обыкновению, длинно и врастяжку, она тут же срезала его своим быстрым, острым язычком и заявляла: «Вы требуете вина каждый день, а другие время от времени — вот и вся разница! Еще не хватало, чтобы вы в одну глотку выглушили все наши запасы!»
Или вообще ничего не отвечала. Или говорила, хватаясь за бокал: «Ну, раз бокал вам не нужен, я его, пожалуй, унесу. Выпивать его вы вовсе не обязаны!» Одним словом, она изо дня в день ясно давала ему понять, что он со своей страстью к выпивке целиком и полностью зависит от ее настроений. Но как бы она ни бранилась и как бы мало ни наливала, он лишь горько вздыхал и на следующий день являлся снова: он давно потерял и стыд, и чувство собственного достоинства.
Потом ветеринар, так же величественно ступая широко расставленными ногами, через полгорода следовал из трактира к местному вокзальчику и без нескольких минут шесть вступал в зал ожидания второго класса. Там ему часто везло: среди завсегдатаев, в число которых входил и он сам, нередко удавалось встретить местного богатого зерноторговца, который охотно угощал его вином. И даже если тот сидел за отдельным столиком с одним или несколькими гостями, ветеринар и тогда к нему подходил, осведомлялся серьезно: «Разрешите?» — и чаще всего его приглашали присоединиться к компании. Тут доктор Вильгельм пускал в ход другое свое умение: у него имелся изрядный репертуар грубых деревенских шуточек и баек, которые он рассказывал на настоящем, исконно-посконном нижненемецком. Эти анекдоты вызывали целые взрывы хохота, в то время как его желчная физиономия оставалась каменной, что усиливало комический эффект и поднимало клиентам зерноторговца настроение.
В общем и целом в вокзальном буфете ветеринару всегда удавалось чем-нибудь да поживиться. Он захаживал туда уже не один десяток лет. Не один десяток лет с шести до восьми он сидел за одним и тем же столиком, в первое время с женой, после ее смерти — один. Буфетчик Курц тоже его не очень-то жаловал, но все же у него не поднималась рука совсем не угостить старого знакомого.
Когда наступал час ужина, зал ожидания стремительно пустел, и доктор Вильгельм отправлялся дальше. Каков будет улов в главной гостинице города, предсказать было невозможно: иной раз ему перепадало немало, иной раз почти ничего. Хотя вино в этом заведении разливали пока еще щедро, но хозяин очень уж любил деньги и считал, что чем их больше, тем лучше. Даже когда от денег не стало никакого проку, потому что на них все равно ничего нельзя было купить, хозяин продолжал взвинчивать цены, так что даже одна-единственная бутылка стала не по карману прививателю свиней, чей дневной заработок зачастую не дотягивал и до пяти марок.
Так что доктору Вильгельму оставалось лишь уповать на удачу; бывало, он часами просиживал над кружкой разбавленного пива — дань военному времени, — и ревниво поглядывал на офицеров СС, которые хлестали бутылку за бутылкой. Они никогда не приглашали его за свой стол — СС вообще всегда держались на расстоянии от простого народа. И когда командир местного гитлерюгенда, которому не исполнилось еще и двадцати, дегустировал со своей девчонкой десертные вина — здесь тоже не было спроса на старого врача с его анекдотами.
Для старого алкоголика, для которого выпивка давно стала жизненной необходимостью, это были тяжелые часы. Когда время шло, наступала ночь, гости орали все более пьяными голосами, и седовласый хозяин с увещевающей улыбкой напоминал о полицейском часе… Когда он вынужден был смириться, что этим вечером ему уже точно ничего не обломится — а ведь многие на его глазах так славно наклюкались… Когда, заплатив за пиво, он пересчитывал жалкие гроши и купюрки, завалявшиеся в кармане — может, хоть на рюмашку шнапса хватит, — и знал заранее, что не хватит… Когда он наконец с тяжелым, злым вздохом брал палку и шляпу и во тьме брел домой… И когда он думал о предстоящей ночи: без дурацких таблеток опять не заснешь — а ведь какие божественные, полные восхитительных грез сны дарит алкоголь… Тогда его кожистое лицо делалось еще желтее, его терзала зависть ко всему миру: да гори он синим пламенем, если ему за это перепадет хоть одна бутылка вина!
Но бывали в жизни старого ветеринара и более счастливые часы. В гостинице вдруг появлялись люди, приехавшие в этот почти не тронутый войной край отдохнуть или порыбачить, — и они с удовольствием слушали его байки. Или какой-нибудь фермер видел пригорюнившегося старика, внезапно вспоминал, как давно не звал его к своим свинкам, и, мучимый совестью, приглашал Виллема-порося за свой стол, толковал с ним о том о сем и наливал понемножку — ведь его слабость всем была известна.
Но лучше всего, когда в гостинице затевались большие посиделки завсегдатаев. Случалось это, к сожалению, один, самое большее два раза в месяц — когда господин участковый судья приезжал из районного центра, чтобы разобрать дела, накопившиеся в маленьком городишке. Хозяин гостиницы тут же бросался к телефону и звонил местному землевладельцу, зубному врачу, поставщику сельхозпродукции и господину доктору Доллю. Звать ветеринара нужды не было — он и так каждый вечер приходил.
Как Долль затесался в эту пеструю компанию, он и сам не мог объяснить. По первости — много лет назад, еще во времена его первого брака, когда он хозяйствовал на небольшой ферме неподалеку от города, — так вот, по первости в нем будили любопытство эти разношерстные собутыльники, а особенно — их рассказы: на этом поприще более всего блистал старый судья, значительно превосходивший ветеринара, чьи шуточки часто бывали грубоваты, а то и вовсе вульгарны. Но очень скоро Долль понял, что все это люди совершенно заурядные. Уже на второй вечер старый судья начинал повторяться: у него этих баек-то было всего штук десять или двенадцать, зато пересказывать их он готов был до умопомрачения. К тому же чем дальше, тем отчетливее проявлялась его страсть поесть на дармовщинку и обсчитать обслугу. Зубной врач говорил только о женщинах, работа была для него лишь поводом поприставать к лежащим в зубоврачебном кресле клиенткам, — ну а ветеринар был просто старый пьяница, становившийся все жаднее и тупее с каждым днем.
Вот такая собиралась компания. Плоский, пошлый сброд — да еще хитрый как лиса хозяин гостиницы, который только о деньгах и думал. Нет, Долль являлся далеко не всякий раз, когда ему звонили, — и тем не менее являлся часто: иной раз хотелось пропустить стаканчик-другой, к тому же он тоже любил хорошее вино, а его деревенское окружение было еще более ограниченным, чем эта компания. Он приходил, и пил, и разыгрывал великодушного хозяина, так как в те времена деньги у него водились, и угощал всех, от жадного ветеринара до осторожного судьи. В особо удачные вечера толстый, седовласый хозяин залезал в самый потаенный угол своего погребка и приносил бутылку бургундского, покрытую толстым слоем пыли, или шампанское «Mumm extra dry». К красному вину он подавал великолепный сыр — безо всяких талонов! — и они прямо руками таскали с тарелки тортообразные куски. В эти часы старый ветеринар блаженствовал, и его дружба с Доллем казалась нерушимой.
Но все изменилось в одночасье, и рухнула мужская дружба, как водится, из-за женщины. Где старый судья познакомился с этой юной хохотушкой, осталось покрыто мраком; так или иначе, однажды вечером, когда доктор Долль с некоторым опозданием явился на веселую пирушку, за столом сидела жена берлинского фабриканта, который на берегу одного из здешних озер поставил сруб, чтобы приезжать на рыбалку по выходным.
Но в тот вечер фабрикант остался в Берлине, и его молоденькая жена оказалась за столом одна среди мужчин: потряхивала светло-рыжими кудряшками и к каждому, кто начинал что-нибудь рассказывать, обращала свое чуть продолговатое лицо, а главное, свой алый ротик — казалось, будто этот ротик тоже внимательно смотрит на людей. Затем она запрокидывала голову, и ее маленький белый кадычок танцевал от смеха — силы небесные, как же она смеялась, боже, как же она была юна! Оттеснив старого ветеринара, Долль подсел поближе к этой невероятной молодости, так что девушка оказалась на длинном угловом диванчике между Доллем и старым судьей.
Как она была юна, какая жизнь бурлила в этом создании, как заразительно она хохотала над дурацкими россказнями судьи! Долль тоже принялся травить байки: уж что-что, а рассказывать он умел. Это был не готовый, затверженный репертуар, как у судьи и ветеринара, нет — истории из разных периодов жизни всплывали в памяти Долля, и он вновь переживал их словно в первый раз. Он говорил все быстрее, перебивал сам себя, никому слова не давал сказать — и все требовал еще вина, вина, вина!
Вечер удался на славу. Мужчине на излете пятого десятка всегда приятно, когда двадцатилетняя красавица дает ему понять, что он ей интересен. Однако, несмотря на присутствие столь заинтересованной слушательницы, Долль не утратил своей обычной наблюдательности и не мог не заметить, что старый ветеринар, пользуясь тем, что Долль сидит к нему спиной и погружен в оживленную беседу, не теряет времени даром. Ветеринару давно уже стали безразличны и байки, и женщины — его интересовал только алкоголь. Алкоголя на столе было предостаточно, но Виллему-поросю казалось, что пьется он как-то слишком медленно. Убедившись, что все взоры обращены на молодую женщину, ветеринар схватился за бутылку. Торопливо наполнил бокал, опустошил его и снова наполнил…
— Опля! — воскликнул Долль, который вроде бы сидел отвернувшись — но тем не менее все видел. — Ну-ка, не так быстро! Раз уж я угощаю, то я и темп задаю!
И он отобрал у Вильгельма бутылку — впрочем, вполне вежливо.
Разумеется, остальные мужчины тут же обрушились на старого халявщика и выпивоху с насмешками. Они сыпали колкостями, припоминали всякие позорные истории с его участием, бросали ему в лицо обвинения во всевозможных низостях. Но его все это мало трогало: стыда он не ведал. Он привык платить за дармовую выпивку унижениями. И платил так давно и так часто, что от его чувства собственного достоинства уже ничего не осталось. Конечно, он всех их презирал, и умри они все в эту минуту у него на глазах — он бы и бровью не повел: его волновал только алкоголь. Пусть насмехаются и издеваются сколько хотят — он их даже не слушал. Его толстая рука в старческих родимых пятнах обнимала ножку бокала, и он думал: я выпил на два бокала больше, чем вы! А если снова подвернется возможность, я постараюсь урвать еще!
Долго дожидаться возможности ему не пришлось. За столом сидела молодая, красивая, цветущая женщина, и мужчины флиртовали напропалую: Виллема-порося они видели каждый день, а такая бабенка когда еще подвернется. На ветеринара никто не обращал внимания. Долль всем корпусом повернулся к собеседнице. Ветеринар уже три раза тянулся к бутылке, но отдергивал руку. На четвертый он все-таки цапнул ее и плеснул вина себе в бокал…
И тут же Долль бросил через плечо, уже без тени любезности:
— Если скорость, с которой пьют за этим столом, вас не устраивает, может, пересядете? Свободных столов предостаточно.
Ветеринар уставился на него с сомнением, с недоумением, почти с мольбой — и Долль повысил голос:
— Вы меня не поняли? Покиньте наш стол! Я сыт по горло вашими выходками!!!
Старик медленно поднялся. И медленно побрел в противоположный конец зала. (Время было позднее, полицейский час давно миновал, и других посетителей не осталось.) Помешкав, он все же прихватил бокал, из-за которого столько потерял, и осторожно, как святыню, понес перед собой. Ведь больше ему, по-видимому, не на что было рассчитывать в этот злополучный вечер, который так замечательно начинался. За его спиной недавние собутыльники изгалялись в насмешках — как они еще не лопнули от злорадства, эти жирные, окосевшие филистеры! Только Долль молчал: он не собирался добивать побежденного, может быть, даже сожалел о словах, вырвавшихся в гневе, — в конце концов, пожилой человек, можно было и помягче… Но стоило ему раскаяться, как угрызениям совести положила конец молодая женщина:
— Вот и правильно, герр Долль, он такой противный, этот старый подлипала!
Застолье продолжилось, снова полилась оживленная беседа — даром что все участники пьянели на ходу. Про старого ветеринара тут же забыли. А он все сидел один за столиком, стискивая ножку бокала, который давно уже опустошил. Сидел, и смотрел, и слушал, и считал. Он считал бутылки, которые приносили шумной компании, считал бокалы, которые выпивал каждый из присутствующих, и о каждом выпитом бокале думал: и мне бы хоть глоточек!
Доктор Вильгельм дождался, пока они накуролесятся и соберутся платить. Тогда он потихоньку покинул зал и притаился во тьме перед гостиницей.
Ждал он долго, но наконец на улицу вышла парочка — каждый вел за руль свой велосипед. Платье женщины ярко белело в темноте, она вела велосипед прямо, а вот мужчину заносило, он часто останавливался. Потом снова разгонялся, но, врезавшись в велосипед своей спутницы, ронял свой. Тогда он разражался пьяным хохотом и, чтобы сохранить равновесие, цеплялся за женщину. Доктор Вильгельм установил, что на углу, где эти двое должны были разойтись, они и не подумали расстаться. Долль взялся провожать молодую женщину до дома — спотыкаясь, падая, ругаясь, смеясь. Кивая головой и кривя свою кожистую физиономию, словно желчи наелся, ветеринар пошагал домой, медленно и величественно, широко расставляя ноги.
На следующее утро слухи об «оргии», устроенной в лучшем отеле города, полетели по улицам и переулкам и вслед за молочным фургоном перекочевали в деревню. Доллю в отчаянии позвонила молодая женщина: оказывается, жена хозяина гостиницы, та еще ханжа, заявила, что «ввиду ее безнравственного поведения» больше никогда не пустит ее в ресторан. Молодая женщина была расстроена и возмущена до крайности: впервые в жизни она столкнулась со скорым на расправу провинциальным судом, который выносит приговоры, даже не заслушав обвиняемого, — и потом их ни обжалуешь, ни отменишь.
— И ведь нам не в чем себя упрекнуть! Ничего не было — мы даже не целовались! А эта свинья, этот ветеринар рассказывает, что якобы я весь вечер сидела у вас на коленях и позвала вас к себе ночевать! И ведь в гостинице все знают, что ночевали вы там!
Это была чистая правда: когда стало ясно, что Долль не в состоянии ни идти пешком, ни ехать на велосипеде, она отвела его обратно в гостиницу, где он и снял номер.
— Послушайте, герр Долль, вы просто обязаны поговорить с хозяином! Пусть отменят этот безобразный запрет и прекратят распространять эти отвратительные слухи! Помогите мне, Долль, я так несчастна! Как все это подло! Местные готовы возненавидеть женщину только за то, что она красива и любит посмеяться. Будь моя воля, я бы продала этот дом, и ноги бы моей здесь больше не было!
В глазах молодой женщины стояли слезы, и Долль пообещал сделать все, о чем она просила. Да и не в слезах дело — его самого переполняли ярость и ненависть. Но он очень быстро понял, что подобные слухи легче распустить, чем пресечь. Живущий под каблуком у лицемерки жены отельер крутился как уж на сковородке; наконец, когда спор пошел на повышенных тонах, он под шумок слинял — и никто его в этот день больше не видел. В качестве свидетеля защиты привлекли судью, но тот, по-видимому, завидовал Доллю как более молодому и удачливому сопернику, а потому дал весьма расплывчатые показания: в ресторане, дескать, ничего предосудительного не происходило. А уж что там было ночью на улице — кто его знает. Он свечку не держал!..
Долль возмущенно воскликнул:
— А что, по-вашему, мы могли делать на улице? Все знают, что ночевал я в гостинице.
Потупившись, хозяйка гостиницы мягко напомнила: между их уходом и возвращением герра Долля прошло больше часа!
— Ну это уже перебор! — заорал Долль. — Минут пятнадцать, от силы — полчаса!
Хозяйка гостиницы и судья заулыбались, и престарелая святоша заявила, что полчаса — это тоже долго, за полчаса многое может произойти.
Тут судья тоже предпочел убраться, и гневный вопль Долля — как им не стыдно безо всякого основания обвинять двух ничем не запятнавших себя людей в том, что за полчаса, проведенных наедине, они наверняка сотворили что-нибудь непристойное? — услышал уже из коридора. Но задерживаться не стал: дело могло кончиться судебным разбирательством, а выступать на таком разбирательстве свидетелем он не желал.
Поначалу Долль был настроен воинственно, но его пыл быстро истощился в споре с лицемерной бабой, которая на все его возражения и требования лишь слегка улыбалась и отвечала двусмысленно и уклончиво. Даже на прямой вопрос, действительно ли она намерена не пускать молодую женщину в ресторан, она не сказала ни да ни нет.
В конце концов Долль расхохотался — и ушел. С чем он, собственно, боролся?.. Да у Дон Кихота было больше шансов победить ветряные мельницы, чем у него — переубедить эту женщину, которая наверняка всегда голосует за своего обожаемого фюрера. Нет, если что-то тут и можно сделать, то начинать следовало с человека, который распустил все эти слухи, — с ветеринара, любителя сплетен и дармовой выпивки. Долль ему отплатит сполна! Захлестнутый новой волной гнева, он отправился на поиски доктора Вильгельма. Но только зря потратил время: ветеринара не обнаружилось ни дома, ни в городе, ни в пивной. Долль заподозрил, что старик, испугавшись, залег на дно — и, вероятно, так оно и было!
Поэтому Доллю ничего не оставалось, кроме как пойти к адвокату: пусть напишет ветеринару и хозяевам гостиницы. От адвоката Долль узнал, что в военное время иски о защите чести и достоинства от частных лиц не принимаются. Впрочем, остальные этого, скорее всего, не знали, поэтому они с адвокатом все-таки разослали письма, в которых угрожали именно таким иском. Но адресаты, возможно, тоже посоветовались с юристами или просто что-то откуда-то знали — так или иначе, ответа не последовало. Слухи между тем расползались все шире и шире.
Он очень переживал из-за всей этой вакханалии, а особенно — из-за отъезда молодой женщины: она буквально сбежала из городка, спасаясь от пересудов. Ему казалось, будто он ломится в стену из перьев и ваты: как ни бейся, стене ничего не делается. Письма адвоката казались ему слишком мягкими и дипломатичными; он сам сел за стол и написал доктору Вильгельму письмо, уведомив своего обидчика, что при первой же встрече намерен дать ему пощечину как клеветнику.
Отослав письмо, он пожалел о своей горячности. Это было ниже его достоинства — вместо того чтобы молча презирать своих противников, он вставал с ними на одну доску. Но пришла минута, когда он пожалел об этом письме еще сильнее! Утром Долль зашел в вокзальный буфет — и увидел на диване Виллема-порося, а перед ним — бутылку вина!
Будь его воля, Долль бы тут же развернулся и ушел — и, наверное, именно так ему и следовало поступить, если он хотел сохранить душевный покой. Но в зале ожидания, кроме множества незнакомых людей, были и местные жители, которые с любопытством переводили взгляд с него на ветеринара. Долль понимал, что Вильгельм, как старая кляузница, наверняка показал письмо собутыльникам и вообще половине города, и все в курсе, что обиженный доктор Долль грозил надавать ветеринару пощечин. Если Долль сейчас отступит, то ветеринар выйдет из этой истории победителем и поднимется новая волна кривотолков.
Поэтому Долль вошел и сел напротив своего обидчика. Буфетчик, обычно весьма словоохотливый, молча принес ему заказанную бутылку. Местные ждали, когда чужаки покинут зал ожидания — поезд отправлялся через четверть часа. Тем временем Долль, сжимая ножку бокала, спорил сам с собой. Ветеринар этого не стоит, говорил ему внутренний голос. Он всего-навсего старый сплетник. При чем тут твоя честь?! Но он поглядывал на остальных, которые так же, как и он, молча сидели с бокалами в руках: ведь они все сочтут меня трусом, все, и этот мерзавец в первую очередь, если я не сдержу слово. Я должен показать этим бюргерам, что не позволю безнаказанно марать мое имя! Нет, отступать нельзя!
Чужаки покинули зал, осталось человек пять-шесть местных. В помещении воцарилась тишина. Тогда буфетчик Курц, натиравший бокалы за стойкой и пристально следивший за происходящим, во весь голос завел беспредметный разговор с маляром.
— Им там в Берлине ни дня покою не дают, — услышал Долль: над городком как раз прогудели вражеские эскадрильи…
Тут он поднялся и встал перед своим «врагом». Обеими руками опершись на столешницу и приблизив свое лицо к ненавистному, желтому, желчному лицу ветеринара, он шепотом осведомился:
— Не хотите ли сию секунду, на этом самом месте публично опровергнуть вашу клевету?
Буфетчик сказал просительно и в то же время сердито:
— Бросьте вы это, доктор Долль! Еще мне тут драк не хватало! Выйдите за дверь, раз уж…
Не обращая на него внимания, Долль тихо продолжал: — Или вы предпочитаете, чтобы я у всех на глазах ударил вас по лицу? Наказал вас, как малолетнего врунишку?
Грузный старик сидел на диване не шелохнувшись. Желтизна его физиономии под грозным взглядом Долля постепенно превращалась в бледную серость, но рыбьи глаза смотрели не мигая, без определенного выражения. Когда Долль замолк, показалось, что ветеринар вот-вот что-то скажет: губы шевельнулись, высунулся кончик языка, словно он хотел облизнуться, — но ни звука не слетело с его уст.
— Идите, идите, доктор Долль! — с нажимом произнес буфетчик. — Вы же видите, господин доктор Вильгельм очень сожалеет…
Тут вдруг ветеринар из какого-то непостижимого упрямства затряс головой, подобно китайскому болванчику.
— Тссс! Тссс! — зашикал хозяин, словно кур унимал. — Не надо, Виллем!
Долль постоял секунду, глядя, как этот карикатурный болванчик качает головой, потом поднял руку и влепил клеветнику оплеуху.
Среди зрителей прокатилось грудное «Ах!».
— Да что ж вы тут!.. — гаркнул хозяин, впрочем, не без облегчения: он явно был рад, что удар не сильный и сдачи ветеринар давать не собирается.
Мгновение Долль смотрел обидчику в лицо с угрозой и в то же время с облегчением. Чувства, раздиравшие и щемившие его грудь, улеглись, он враз избавился от ненависти и гнева. Но тут произошло нечто ужасное и совершенно непредвиденное: на ничего не выражавших глазах старика выступили две больших прозрачных слезы. Секунду они дрожали на краю век, а потом медленно покатились по щекам. А в глазах снова копились слезы, и вот они уже ручьями лились по кожистому лицу престарелого Щелкунчика, блестевшему от влаги. Кадык у него заходил ходуном:
— Ох!.. Ох!.. Ох!.. — всхлипывал ветеринар. — Боже мой, он меня ударил! Ударил по лицу! Что мне теперь делать? Ох!.. Ох!.. Ох!.. Как теперь смотреть людям в лицо? Мне придется умереть! Ох!.. Ох!.. Ох!..
Когда Долль нанес удар, симпатии публики, без сомнения, были на его стороне, что и подтвердило дружное «Ах!», вырвавшееся у зрителей. Но слезы старого врача враз все переменили. Долль не сомневался, что это крокодиловы слезы, с помощью которых хитрый старик рассчитывает отвлечь всех от собственного позора и перетянуть общественность на свою сторону.
— Ох!.. Ох!.. Ох!.. — плакал доктор Вильгельм. — Он меня ударил — а ведь у меня сегодня день рождения, мне исполняется шестьдесят три, да-да! Я же ничего ему не сделал. Я всегда заступался за него, когда люди говорили о нем дурно. А сколько раз он угощал меня вином — я был ему так благодарен!..
На последней фразе гнев и ненависть вновь захлестнули Долля. Перед его глазами живо встала сцена в ресторане, когда он изгнал ветеринара из-за стола за его бесцеремонное самоуправство с бутылкой. Что-то никакая «благодарность» не помешала старому лицемеру оклеветать Долля, стоило хоть раз отказать ему в угощении.
— Хватит! — рявкнул Долль. — Вы старый сплетник и трепло — за это я вас и ударил. И если вы будете дальше лгать, я ударю вас еще раз, несмотря на ваши притворные слезы! — и он угрожающе занес руку.
Однако Долль не учел, что зрители настроены против него. За много лет они хорошо изучили своего Виллема-порося, знали его как облупленного и считали ничтожеством. Но эти слезы и стенания отбили у них способность здраво мыслить и оценивать происходящее. Плачущий старик — зрелище душераздирающее, и они, с буфетчиком во главе, напустились на Долля:
— Вот уж действительно, хватит! Вы не посмеете снова ударить пожилого человека! Уходите подобру-поздорову, и бутылку свою заберите!
В одно мгновение Долля оттеснили от его врага, кто-то сунул ему в руки шляпу, буфетчик запихнул в его портфель наспех закупоренную бутылку вина — и Долль вмиг очутился на привокзальной площади. Буфетчик печально посмотрел на него глазами, которые испещряли красные прожилки, и сказал:
— Не следовало вам это делать, доктор Долль, весь город теперь ополчится против вас! Воспитанные люди так не поступают — кулаками размахивать, еще чего! Ну, авось еще все наладится…
Но, увы, ничего не наладилось. Буфетчик был прав: Долль растерял остатки симпатии, которую к нему еще испытывали местные жители, и навсегда сделался изгоем.
А доктор Вильгельм действовал с дьявольской хитростью, следуя подсказкам своего желчного умишка. После ухода Долля он продолжал плакать и, всхлипывая, уверял, что не переживет такого позора. Он покончит с собой, сегодня же, в день своего рождения…
Ему налили вина, чтобы он успокоился, — много вина, — а потом проводили до дома. Однако весть о нанесенном ему оскорблении молниеносно разнеслась по городу и пробудила сочувствие к ветеринару даже в тех сердцах, где его сроду не водилось. Не зря старый проныра все время поминал свой день рождения: еще не один день после происшествия он получал подарки — продукты, вино, шнапс — от людей, которые, если бы не сцена на вокзале, никогда бы и не вспомнили про день рождения какого-то пьянчужки.
А война продолжалась — год, другой. У людей появились более насущные заботы, чем Долль и его порочный образ жизни.
Доллю тоже было не до того: распался его брак. Он с головой погрузился в свои проблемы, и тем обиднее ему было, что при встрече с ветеринаром ненависть, которую, как ему казалось, он уже изжил, вспыхивала с прежней силой, ничуть не притупленная временем, — все тот же застарелый стыд…
Потом, после долгого отсутствия, вновь появилась в городе та самая молодая женщина. Теперь она носила черное. Долль узнал, что какое-то время назад она овдовела. Но когда при этом известии люди с любопытством вглядывались в его лицо, они читали на нем лишь безразличие. И Доллю правда было все равно. Если два года назад он и испытывал к этой женщине иные, более пылкие чувства, то сейчас все было давно и прочно забыто…
Но жизнь в маленьком городке течет по своим собственным законам. В большом городе люди пересекаются только раз, чтобы больше никогда не встретиться. А здесь был изгой Долль, человек, который хоть и имел деньги, но своей высокомерной манерой держаться возбуждал лишь неприязнь. И была молодая женщина, вдова, от роду лет двадцати трех, не больше, хотя уже имела пятилетнего ребенка, — и она, несмотря на траур, ходила с накрашенными ногтями и бордовой помадой на губах. Жители городка имели твердое суждение на ее счет, равно как и на счет его (Долля)!
Они оказались вдвоем против всех, выброшенные на обочину жизни: оболганные, оклеветанные, подозреваемые во всех смертных грехах. Неудивительно, что в конце концов судьба свела их вместе.
— Добрый день! — помявшись, поздоровался Долль. — Сколько лет, сколько зим…
— Да уж, — отозвалась она. — Сколько всего изменилось с тех пор!
— И не говорите! — Он вспомнил о ее вдовстве и оглядел молодую женщину. В траурной одежде она показалась ему еще красивее. — Вы потеряли мужа…
— Да, — подтвердила она. — Мне пришлось нелегко. Муж болел больше года, и я ухаживала за ним совершенно одна. Во время воздушных тревог приходилось спускать больного в подвал, квартира наполовину выгорела…
— Ох и намучились вы! — посочувствовал он и сердито засмеялся: с таким жгучим любопытством зыркнула на них проходившая мимо «капитан-лейтенантша». — А в нашем болоте ничего не изменилось: нынче вечером только и разговоров будет, что о нас с вами.
— Не сомневаюсь! — воскликнула она. — Проводите меня немножко? Раз уж они все равно судачат, пусть хоть судачат по делу! Хотите сегодня у меня пообедать? Мне из деревни как раз прислали курицу, — она улыбнулась, — не по талонам…
— Хорошо! — согласился он. — С радостью. Отчитываться мне больше не перед кем…
— Я знаю, — обронила она.
Так все началось — и так дальше и пошло. Их свело упрямство, чувство протеста, одиночество, в конце концов. Хоть один человек, с которым можно поговорить по душам, который не предаст. Позже пришли и другие чувства: искренняя симпатия, даже любовь. Весь городишко самозабвенно перемывал им кости, но они не обращали на это внимания. Они стали жить вместе в доме молодой женщины — ух, как возмущались местные жители таким бесстыдством! И пусть ветеринар всюду твердил: вот видите, каждое мое слово тогда, пару лет назад, было чистейшей правдой. Доллю было совершенно все равно, что его враг торжествовал.
Но когда они поженились, и не в этом тухлом болоте, а в большом городе, в Берлине, когда они сидели рядышком на кухне почти полностью выгоревшей квартиры и писали на конвертах адреса, чтобы разослать извещения о браке, — тут она снова подняла голову, эта застарелая ненависть; они не забыли своих врагов. Каждый получил извещение, и в первую очередь — Виллем-порось и лицемерные хозяева гостиницы! Какого эффекта новоиспеченные супруги ожидали от этих извещений, они и сами себе как следует объяснить не могли. Они чувствовали себя победителями: поженившись всем сплетникам назло, они нанесли сокрушительный удар по ханжеству!
В городке они теперь бывали лишь наездами. И подолгу не вспоминали об этом провинциальном болоте в хаосе большого города, в котором сгущался мрак, рассеиваемый лишь зловеще трепещущим пламенем пожаров, выжигавших целые улицы. Прячась от бомб в затхлых подвалах, они слушали приближающийся рев самолетов и взрывы, от которых вздрагивало все внутри… Вот и в очередной раз они сидели обнявшись, и молодая женщина уже сказала успокаивающе: «Слава богу, улетели!» И вдруг — оглушительный треск и грохот, свет желто вспыхнул и потух… На языке — привкус известки, словно они отведали собственной смерти.
А когда они выбрались из Берлина по руинам вокзалов и ошметкам рельсов, когда поезд увез их глубоко в леса, где не было ни следа разрушений, когда они вечером, перед последним отрезком пути, зашли в вокзальный буфет пропустить по стаканчику, — там все оказалось по-прежнему. Разве что буфетчик стал еще прижимистее, а его обхождение с посетителями — еще наглее; но на диване, на своем привычном месте, все так же сидел кожистый ветеринар.
Едва Долль увидел этого человека, старая ненависть вспыхнула с новой силой. Она захлестнула его, как стихия, и лишь вдогонку всплыли воспоминания о том, какое зло причинил им этот человек — впрочем, в запоздалых обоснованиях не было никакой нужды. Долль сам не понимал этой ненависти: сколько тягот им пришлось вынести в последнее время, а после той роковой бомбежки он и вовсе чувствовал себя так, будто заново родился. Он не понимал этой низменной ненависти, и все же с ней приходилось считаться. Он сам пустил ее в свою душу, сам дал ей там угнездиться — теперь придется ее терпеть, быть может, до конца жизни.
Да, до конца жизни — но не своей, а своего недруга! Потому что теперь, когда Долль с молодой женой шагал на работу мимо запертого, угрюмого дома старого ветеринара, когда вечером, в одиночестве возвращаясь домой, проходил под выцветшей табличкой, испещренной вмятинами и изъеденной зелеными пятнами, — он избегал смотреть на дом вовсе не потому, что продолжал ненавидеть покойного. Нет, с его уходом ушла и ненависть, а на ее месте осталась будто бы какая-то пустота, смутное воспоминание о чувстве, которого надлежало стыдиться. В это время великого перелома чувства вообще не жили долго: ненависть прошла, остались пустота, тоска, безразличие, все люди вокруг казались чужими. Никто никогда раньше не ведал такого одиночества. Ни один человек. Лишь молодая женщина была рядом. Но и ей он дал понять:
— Ну ладно, ладно. Давай о нем больше не будем. Он ушел навсегда.
Нет, когда Долль отводил взгляд от этого мертвого дома, на то была другая причина. Он снова и снова думал об одном и том же: я же видел, как он сидел в вокзальном буфете, слезы ручьями лились по щекам, и он выл, что ему придется наложить на себя руки, чтобы смыть позор. Но никаких рук он никуда не наложил — да и чего ждать от тряпки! — а позор без зазрения совести обернул к собственной выгоде! Всегда, всю свою жизнь, этот доктор Вильгельм был трусом: он боялся, что его ударит копытом конь, или проденет рогами корова, или укусит собака, он только и мог, что прививать мирных хрюшек, старых и малых, — Виллем-порось! Он по праву носил это язвительное прозвище и не возражал, если те, кто угощал его вином, так к нему и обращались, — он никогда не обладал ни достоинством, ни мужеством…
И тем не менее, размышлял Долль, у этого самого доктора Вильгельма все же хватило мужества сделать то, на что у меня мужества не хватает — хотя от моего достоинства, самоуважения, стыда, веры и надежды скоро не останется камня на камне. Я не могу решиться на последний шаг, хотя всегда считал себя смелым человеком. А вот он, трус, смог. У него, у труса, которому я дал по морде, мужества хватило, — а у меня нет.
Вот с какими мыслями проходил Долль мимо этого дома, вечно терзаемый тягостной рефлексией, которой любой ценой хотел избежать — и избежать не мог, как бы ни отводил глаза. Он пытался представить себе комнату, в которой ветеринар провел последний час жизни, в которой сделал «это». Долль знал, что под конец у старого пьяницы только и осталось, что кровать, стол да стул — все прочее он пропил. Пытался представить себе, как старик сидит на этом единственном стуле, пистолет лежит перед ним на столе — может, и в эту минуту бежали по его лицу слезы, может, он опять стенал: «Ох!.. Ох!.. Ох!..»
Долль встряхивал головой, пытаясь отогнать непрошеное видение, которое причиняло ему такие страдания.
Ясно было одно: старик с кожистым лицом ушел, а Долль остался — опустошенный, погрязший в сомнениях и самобичевании. В эти дни поколебалось многое, что прежде казалось незыблемым — вот и Долля покинула застарелая ненависть к ветеринару, а заодно и вера в то, что он сам — человек смелый. Может, он просто ничтожество, дырка от бублика; раньше он питался иллюзиями, а теперь иллюзии рассеялись! И ничего от Долля не осталось.
Будь его воля, он бы вообще мимо этого запертого дома не ходил. Но город, расположенный на полуострове, был построен так, что обходного пути не было. А значит, не было и спасения от мучительных мыслей. Дом словно вымогал у него признание, что он пустое место, и всегда пустым местом был, и в будущем, сколько ему еще этого будущего отпущено, так и останется — полным ничтожеством! Всю оставшуюся жизнь — ничтожеством!
Поэтому он почитал за лучшее сказать жене:
— Да ладно, не тревожь покойника. Пора о нем забыть. Не будем о нем больше!
Все это была ложь. И ладно не выходило, и забыть не удавалось. Ну и пусть ложь — какое это сейчас имеет значение?! Пускай жена думает, что он по-прежнему ненавидит старика. Ненавидеть он уже никого не мог, а вот лгать пока получалось. Слабые люди лгут хорошо.
Глава 4 Господа нацисты
Коров Долль пас недолго: цепь случайностей привела к тому, что русский комендант назначил его бургомистром, дав ему власть не только над самим городом, но и над прилегающими деревнями. Вот как изменились времена: человеку, которого в городе больше всех ненавидели, пришлось опекать своих сограждан.
А началась цепь случайностей с того, что однажды ночью через забор доллевского участка перебросили рюкзак. Рюкзак был армейский, и внутри лежала форма высокого эсэсовского чина. Дорогие соседушки, которые подбросили это кукушкино яичко в доллевское гнездо, побоялись держать форму дома ввиду постоянных обысков, которые к тому же проводились все тщательнее. Почему они не напихали в рюкзак камней и не утопили в озере, до которого было рукой подать, — вопрос особый: этот поступок красноречиво говорил и о порядочности соседей, и об их любви к Доллю.
Тот, естественно, не подозревал, какой сюрприз его ждет. Он долго не ложился спать, но потом все-таки забылся уже привычной тревожной дремой. От этой дремы его ни свет ни заря пробудил русский патруль, настроенный весьма враждебно. Поначалу он даже не понял, чего от него хотят, и лишь через пятнадцать муторных минут до него дошло, чем для него чреваты этот рюкзак и эсэсовская форма: Доллей заподозрили в том, что они укрывают офицера СС! Весь дом, пол, сарай перевернули вверх дном, и, хотя не нашли ни следа беглеца (которого никогда и не было), Долля посадили на пароконную коляску и под конвоем двух солдат с автоматами повезли в город, в комендатуру! Эту картину наблюдали местные жители — и наверняка не испытывали ни тени сочувствия: во-первых, у самих забот по горло, а во-вторых, доктор Долль — он и есть доктор Долль. Уж скорее желали ему всех мыслимых и немыслимых неприятностей!
Но в комендатуре обошлось без неприятностей: допрос вел офицер, которому переводчик в гражданском переводил показания Долля. Раз уж ему подло подбросили этот рюкзак, Долль не постеснялся обратить внимание русских на один из соседских домов, где жила жена эсэсовского командира. Поступила эта особа, конечно, не только гнусно, но и глупо — ведь догадаться, откуда взялась форма, было, прямо скажем, нетрудно.
Через четверть часа Долля отпустили домой, где его с трепетом поджидала вся семья.
Следующий день был «День Победы», а значит, выходной. Местному населению велено было собраться на площади перед комендатурой — слушать торжественную речь русского коменданта. Там Долль с женой повстречали того самого офицера, который допрашивал его накануне, с тем же самым переводчиком. Долль вежливо поздоровался, те посмотрели озабоченно, но на приветствие ответили, — и тут же зашептались между собой. Затем жестом подозвали Долля, и переводчик от имени офицера спросил, сможет ли он выступить и рассказать согражданам о значении этого Дня Победы.
Долль ответил, что прежде ему не доводилось произносить публичных речей, но он уверен, что справится не хуже любого другого. Тогда его повели в комендатуру — жена осталась на площади — и усадили в одной из комнат верхнего этажа. Сквозь стеклянную дверь он видел, как комендант вещает с балкона; переводчик тем временем шептал Доллю на ухо, какие ключевые моменты нужно затронуть. После краткого инструктажа в комнате повисла тишина — лишь снаружи все еще говорил комендант. Это был маленький человек с бледным, смуглым, красивым лицом — настоящая статуэтка. Сняв белые перчатки, которые обычно носил, он время от времени взмахивал ими, подчеркивая важные фразы. Комендант ораторствовал минуты две-три, а потом делал паузу, чтобы переводчик воспроизвел его слова на немецком. Но тот говорил от силы минуту — признак никуда не годного перевода. Иногда из невидимой глуби доносились крики «браво».
Ну погодите! — сердито думал Долль. И трех недель не прошло, как вы кричали «Хайль Гитлер!», лебезили перед СС и выбивали себе местечко потеплее в фольксштурме, — уж я выскажу все, что думаю о вашем теперешнем «браво»!
Ему сделалось жарко. Конечно, на дворе прекрасное майское утро, но времени всего десять часов — а у него весь лоб в испарине. Наклонившись к нему, переводчик спросил: герр Долль волнуется? Может, воды?..
Тот с улыбкой ответил, что предпочел бы шнапс. Его тут же отвели в офицерскую столовую и налили целый стакан очень крепкой водки.
Пять минут спустя он стоял у балконного парапета, а за его спиной — комендант и переводчик, который теперь переводил доллевскую речь. Кроме того, на балконе толпилось множество офицеров — офицеров, которых Доллю в ближайшие недели предстояло узнать гораздо ближе. Но в эту минуту он их не видел — он видел только людей внизу, толпу своих сограждан, которые, подняв головы, выжидающе смотрели на него.
Сперва их лица расплылись в один сплошной серовато-белый мазок над широкой темной лентой одежды. Затем, уже произнося первые фразы, Долль стал различать отдельных людей. С некоторой тревогой прислушиваясь к собственному голосу, который никогда не отличался силой, но, похоже, все-таки разносился над площадью достаточно звучно, он внезапно обнаружил почти у себя под ногами собственную жену. Она стояла, со свойственной ей беззаботностью дымя сигареткой, и вокруг нее зияла пустота, хотя площадь была забита до отказа. Сознательно или невольно, окружающие расступились, и это еще раз доказывало: Доллей здесь никогда не жаловали, а уж тем более теперь, когда он распинался с балкона комендатуры.
Не прерывая речи, он кивнул так, чтобы заметила только она, — она в ответ улыбнулась и подняла руку с сигаретой, приветствуя его. Его взгляд скользнул дальше и задержался на седой бороде одного из национал-социалистических отцов города, архитектора, человека в общем мирного, но ловко использовавшего свое положение в партии для того, чтобы уничтожать конкурентов. Неподалеку от него топтался другой тип, маленького роста, с продувной и жестокой рожей: он собирал партийные взносы и доносил на всех подряд местным бонзам — тем самым бонзам, которые теперь дружно бежали в западную зону…
Но сошек помельче осталось предостаточно: вон стоит секретарь почтового отделения, разыгрывавший из себя вояку в фольксштурме, вон учитель — доносчик, которого все боялись, вон вокзальный буфетчик Курц, самодур и, как недавно выяснилось, тоже стукач, а вон — глаза Долля вспыхнули — стоят рядышком, делано усмехаясь, как бездарные комедиантки, две женщины — жена и дочь того самого эсэсовского чина, чья форма вчера утром чуть его не погубила.
Долль подался вперед, он говорил все быстрее, громче: о том, какое сложное нынче время, о прямых виновниках, о попутчиках, о пройдохах, которые норовят половить рыбку в мутной воде. И пока он говорил, пока они упорно, словно к ним его слова не относились, выкрикивали то «Браво!», то «Верно!», он подумал, что все-таки выглядеть его сограждане стали иначе. И дело было не только в бледных лицах, на которых оставили печать страхи, заботы, тревоги и ночные бдения, не только в вылинявшей, истрепанной одежде тех, кто, не желая сталкиваться с первой волной советских войск, схоронились в лесу. У всех в наружности появилось что-то от нищих оборванцев, словно они враз скатились на много ступенек вниз по социальной лестнице, по каким-то причинам отказались от положения, на которое всю жизнь претендовали, и без стыда встали в один ряд с другими бесстыжими — вот так они выглядели; так они выглядели и раньше, но только наедине с самими собой, а теперь это было видно каждому. Им уже нечего было стесняться — этому народу, который нес бремя поражения без какого бы то ни было достоинства, без тени величия.
Маячил в толпе и хозяин отеля — лицо у него обычно было красное от вина, лоснящееся, с неизменной улыбкой, а теперь поблекло, потемнело из-за многодневной щетины. А рядом — его ханжа жена, бережливая хозяйка, которая готова была слупить с бедняка последний пфенниг и охотно бы перевзвешивала каждый кулек съестного; она всегда ходила в мешковатых черных или серых платьях, а теперь еще и обвязала голову некогда белым платком на манер персонажей Вильгельма Буша,[1] у которых болели зубы. На ее тощем теле красовался теперь синий фартук, какой носили прачки, а руки были обернуты грязной марлей.
Сам себя сдал — и пропал этот народ, подумал Долль. В пылу речи у него не было времени подумать о себе самом — а ведь он находился в точно таком же положении. Он славил 7 мая, Красную армию и генералиссимуса Сталина, он видел, как они кричат и ликуют (ведь наряду со справедливостью и свободой им были обещаны хлеб и мясо) и выбрасывают вверх правые руки — отработанным за много лет движением.
Коменданту и его офицерам, похоже, речь тоже пришлась по душе. Долля с женой пригласили в офицерскую столовую — выпить по стаканчику. Стаканчики, казалось, стали еще больше, водка еще ядреней — и одним стаканчиком дело не ограничилось. Когда Долль с женой брели домой по залитым солнцем улицам, обоих пошатывало — его сильнее. Слава богу, местные жители как раз обедали: сидя за столом, они клеймили проходящего под их окнами Долля за сегодняшнюю речь перебежчиком и предателем и мечтали оказаться на его месте!
Уже на изрядном удалении от города, где и домов-то почти не было, на дороге, бежавшей через тощую рощицу и носившей название «Коровский проспект», Долль споткнулся. Водка сделала свое дело: он не удержал равновесие, рухнул наземь и остался лежать. Попросту заснул. Фрау Долль уговаривала его встать, но он беспробудно дрых, а наклониться и поднять его самостоятельно она не решалась. Ее ноги тоже едва держали. Она пнула его в бок, но в результате сама чуть не упала, а спящего так и не разбудила.
Положение было трудное. До дома шлепать еще добрых десять минут, и ей по силам было одолеть этот путь — но не могла же она оставить мужа валяться на дороге и дать местным жителям такой замечательный повод для новых кривотолков. К счастью для обоих Доллей, появились двое русских солдат. Фрау Альма подозвала их и с помощью красноречивой пантомимы объяснила, что произошло и что может произойти дальше. Поняли ее русские или нет, но перед ними спал пьяный человек — чего тут не понять? Они взвалили его на себя и потащили домой. И, смеясь, распрощались с молодой женщиной…
Но если она думала, что пересудов в этом провинциальном болоте удастся избежать, она глубоко ошибалась. В таком крошечном городишке у всего есть глаза, даже у «Коровского проспекта», где «и домов-то почти нет», а если кто-то чего-то недоглядел, то всегда можно домыслить. И вот от дома к дому полетела весть, которую пересказывали ехидно и торжествующе: «Этот Долль, ну, тот самый тип, который толкнул речь, чтобы подлизаться к русским, — ну и досталось ему на орехи! Вы уже слышали?.. Как, вы еще не слышали?! Ну так слушайте: его речь так не понравилась русским, что они его поколотили — мама не горюй! Так отделали, что он идти не мог: двое русских солдат доволокли до дома! Теперь, поди, долго будет отлеживаться — и поделом!»
Этот рассказ передавался из уст в уста, и, как обычно бывает в маленьких городках, ему все верили — даже те, кто около полудня собственными глазами видел герра и фрау Долль, бредущих по улице. Местные обыватели торжествовали — и тем больнее оказался следующий удар: не прошло и недели, как русский комендант назначил этого самого поколоченного Долля бургомистром.
И местные тут же заговорили иначе: выяснилось, что все недруги Долля всегда были о нем высокого мнения и желали ему только добра. Повторив это с полдюжины раз, люди и сами начинали в это верить и назвали бы лгуном и клеветником всякого, кто напомнил бы им, как они еще недавно проходились на доллевский счет.
Сам Долль занял должность бургомистра без энтузиазма — но ничего не поделаешь, приказ есть приказ. Он никогда не тяготел к общественной жизни и чиновником всяко не был, и тот факт, что однажды, распаленный водкой, он произнес пламенную речь, вовсе не означал, что отныне он хочет заделаться оратором на постоянной основе. К тому же в ту пору он переживал, как уже было сказано, тяжелый внутренний кризис. Его мучили сомнения, неверие в себя и в окружающий мир; глубокое уныние подрывало его силы, а малодушная апатия подтачивала интерес к происходящему вокруг. Кроме того, внутреннее чутье подсказывало ему, что этот пост, который позволит ему распоряжаться счастьем и несчастьем своих сограждан, ему самому принесет лишь множество хлопот, треволнений — и гору работы. Жена говорила ему: «Если ты станешь бургомистром, я утоплюсь в озере!» Но когда по приказу русских он бургомистром таки стал, она, конечно, не утопилась, а осталась с ним, жила лишь для него и старалась как могла скрасить те немногие часы, которые он проводил дома. Но их прежняя дружная жизнь осталась в прошлом.
Долль не ошибался, когда предполагал, что бургомистерский пост принесет ему мало радости, а куда больше — забот и неприятностей. На него обрушилась лавина работы, с которой он едва справлялся, и, хотя не так уж и велик был вверенный ему округ, состоявший из городка и примерно тридцати деревенских общин, трудился он с утра до поздней ночи — не меньше какого-нибудь столичного обер-бургомистра. Столько всего нужно было решить, уладить, построить и обустроить — а помощи ждать не приходилось: нацисты и СС разграбили и уничтожили абсолютно все, включая хоть какое-то желание сотрудничать со стороны населения. Люди были озлобленные, мелочные и пеклись только о своем «я»; приходилось приказывать, заставлять, а нередко и наказывать. За его спиной они изгалялись как могли, лишь бы навредить общему делу и извлечь выгоду для себя. А иногда пакостили просто по злобе, безо всяких корыстных целей.
Но все эти осложнения Долль предвидел, поэтому они не стали для него неожиданностью; и когда местные жители бесились и упирались, это только подстегивало его, тем более что он всегда находил поддержку у офицеров Красной армии. Русские думали не только о сегодняшнем дне — они планировали и работали на далекую перспективу. Но вот чего Долль предвидеть не мог, так это очередного удара по самоощущению: деятельность на посту бургомистра тоже не дала ему внутренней опоры. Увы, приходилось это признать — и даже теперь, когда он с головой ушел в работу, чувство, словно Долля (и, наверное, еще многих немцев) лишили даже душевного суверенитета, усиливалось с каждым днем. Сирым и голым, им в удел оставалась лишь ложь, которую им всю жизнь вдалбливали как высочайшую правду и мудрость; они утратили права собственности на любовь и ненависть, на воспоминания, самоуважение и чувство собственного достоинства. В иные часы Долль сомневался, заполнится ли когда-нибудь пустота, разверзшаяся в его груди.
Двенадцать лет его преследовали и притесняли нацисты: таскали по допросам, сажали под арест, то запрещали, то разрешали его книги, шпионили за его семьей — одним словом, лишали всякой радости жизни. Но из этих мелких и крупных обид, из всех подлостей, мерзостей, гнусностей, которые он за двенадцать лет видел, слышал, читал между строк в хвастливых сводках и передовицах, — из всего этого выросло прочное чувство: бездонная ненависть к этим палачам немецкого народа, ненависть столь глубокая, что ему стал отвратителен не только коричневый цвет, а даже само слово «коричневый». У себя дома он все коричневое замазывал и перекрашивал — это стало своего рода навязчивой идеей.
Как часто он говорил жене:
— Терпение! Будет и на нашей улице праздник! Но когда это произойдет, я ничего не забуду, никого не прощу, никакого великодушия они от меня не дождутся — о каком великодушии может идти речь, когда перед тобой ядовитая змея?!
И он живо воображал, как выселит из квартиры школьного учителя с его женушкой, как будет тягать их на допросы, всячески изводить и в конце концов накажет по заслугам — этих негодяев, которые без зазрения совести подбивали детей семи-восьми лет доносить на собственных родителей: «А где у твоего папы висит портрет фюрера? А что мама говорит папе, когда приходят собирать «зимнюю помощь»?[2] Как папа здоровается по утрам — «доброе утро» или «хайль Гитлер»? А по радио не говорят иногда на языке, которого ты не понимаешь?»
О да, ненависть к этому педагогу, который семилетним детям показывал фотографии изуродованных трупов — эта ненависть, казалось, надолго укоренилась в его душе.
А теперь все тот же самый Долль сделался бургомистром, и возмездие, о котором он так любил поговорить, которое в красках себе рисовал, подпитывая ненасытную ненависть, стало в некотором роде его обязанностью. Он должен был в числе прочего разбираться, кто из нацистов — безвредные попутчики, а кто — деятельные преступники, выкуривать их из логовищ, куда они впопыхах позаползали, смещать их с влиятельных должностей, которых они добивались с прежней ловкостью и бесстыдством, отбирать у них все, что они неправедно наживали, крали, вымогали, конфисковывать продовольствие, которое они по-хомячьи тащили в свои норы, заселять в их просторные квартиры оставшихся без крова — все это теперь стало его долгом. Хотя настоящие «фюреры», главные виновники, давно удрали на запад, но и с мелкими сошками иметь дело — удовольствие ниже среднего. Они уверяли всех и каждого — с праведным негодованием, а то и со слезами на глазах, — что вступили в партию под давлением или из финансовых соображений. Все они готовы были подтвердить свои показания под присягой — дай им волю, они бы и на Библии поклялись. Среди двух-трех сотен местных национал-социалистов не нашлось ни одного, кто вступил бы в партию по «внутреннему убеждению».
— Строчите, строчите ваши отречения, — нетерпеливо говорил Долль. — Это ничего не изменит, но если вам так приятнее… Мы в этом кабинете давно уже поняли, что в мире было всего-навсего три национал-социалиста: Гитлер, Геринг и Геббельс! Подписали? Следующий!
Потом с парой полицейских (среди которых на начальных порах попадались весьма сомнительные личности) и протоколистом бургомистр Долль обходил дома и квартиры этих национал-социалистов. В шкафах у них обнаруживались горы белья — в том числе и почти нового, в то время как в мансарде эвакуированная из Берлина мать, у которой разбомбили дом, не знала, во что одеть детей. В сараях до потолка высились штабеля дров и угля, но на двери висел крепкий замок, чтобы ни щепочки не перепало тем, кому не на чем даже сварить суп. В погребах у этих коричневых скупердяев стояли мешки с зерном («Это для курочек!»), с ячменем («Выдали для поросенка, вот ордер!»), с мукой («Да это же не настоящая мука, это мы мельничную пыль смели!») В кладовках полки ломились от припасов, но на каждую банку у них была заготовлена ложь. Они тряслись за свою бесценную жизнь, но этот страх пересиливало желание защитить свои сокровища: все-де получено по закону! Они шли до самой машины, которая увозила их хомячьи богатства, и угрожать не смели, но на лицах было написано праведное возмущение творящимся беззаконием.
Во время подобных рейдов Долль всегда имел суровый, даже злой вид, но ощущал лишь отвращение и усталость. Он всегда был одиночкой, он даже в браке свято оберегал свое право на уединение — а теперь ему приходилось целые дни проводить среди людей, говорить с ними, принуждать их к чему-то, видеть слезы, слышать всхлипы, протесты, жалобы, просьбы… Под вечер голова превращалась в рокочущую бездну.
Иногда мелькала мысль: куда подевалась ненависть? Вот же они, те самые нацисты: это им я мечтал отомстить, это их злодеяния я клялся не забывать и не прощать. А я стою и не чувствую ничего, кроме омерзения, и больше всего мечтаю оказаться в кровати, и спать, спать, спать, забыться сном — и не возиться больше во всей этой грязи!
Но он был так перегружен работой, что времени на себя у него не оставалось. Ни одну мысль он не мог додумать до конца — голова постоянно была занята другим. Иногда у него возникало смутное чувство, что однажды он просто иссякнет и останется от него лишь полый скелет, обтянутый кожей. Но думать об этом у него тоже не хватало времени, и он не знал: то ли его ненависть к нацистам правда затухла, то ли он слишком устал, чтобы испытывать хоть какие-то живые чувства. Он больше не был человеком, только бургомистром — исправно работающей машиной.
Но однажды ненависть вновь взбурлила в душе Долля. С давних пор проживал в городке некто герр Цахес, а до него — его родители, дедушки и бабушки: словом, он был коренной житель даже по меркам местных аксакалов. До того как нацисты пришли к власти, этот самый Цахес владел маленькой, еле державшейся на плаву фирмочкой, которая занималась оптовой продажей пива; кроме того, Цахес делал из артезианской воды, углекислого газа и разноцветных добавок шипучие напитки, которые так любят дети, а еще занимался оптовыми поставками табака для гостиниц. Всего этого, однако, не хватало, чтобы прокормить семью. Поэтому Цахесы заставляли двух лошаденок, которые обычно развозили пиво, выполнять еще множество различных тягловых работ: доставлять с вокзала чемоданы и ящики, возить из леса дрова, а в сезон вспахивать и возделывать угодья бедняков. При всем том они влачили самое жалкое существование: Цахес постоянно был на грани разорения, потеря любого клиента грозила крахом, и дни, когда на пивоварне выдавали зарплату, превращались в сущий кошмар для всех, кто так или иначе имел отношение к этому предприятию.
После того как к власти пришли нацисты, все в корне изменилось. Как и многие предприниматели, которые до 1933 года едва сводили концы с концами, Цахес вступил в партию в надежде освободиться от долгового рабства и в первых рядах пожать плоды всеобщего благоденствия, которое сулили новые правители. Разумеется, политика его ничуть не интересовала, он думал только о собственном процветании — и после 1933 года его дела действительно пошли в гору. На первых порах незаметно, а потом все наглее и наглее он перекрывал кислород конкурентам, у которых не хватило смекалки вовремя вступить в партию. Он принуждал хозяев гостиниц покупать товар только у него и платил услугами за услуги. Он улаживал мелкие политические осложнения, мог замолвить словечко перед бургомистром и вообще беззастенчиво использовал свое положение во всевозможных комитетах, правлениях и советах. Если кто-то вставал у него на пути, он тайком собирал на противника компромат, выведывал все о его словах и делах, а затем либо шантажировал, либо затягивал узел — смотря что представлялось ему более целесообразным.
Неудивительно, что его предприятие процветало. Кроме ломовых лошадей, он держал теперь особую упряжку, которая возила только ящики с бутылками и бочки. И всюду прислуживающий, перед всеми лебезящий голодранец Цахес сделался членом национал-социалистической партии герром Цахесом, заседающим там и тут, человеком, который мог позволить себе любую резкость, потому что знал, что за ним стоят большие деньги, а главное — партия, распоряжавшаяся счастьем и несчастьем, жизнью и смертью его сограждан. Ко всему прочему, Цахес отъелся, разжирел, и только бледный, нездоровый цвет лица и колючий взгляд его вечно бегающих темных глаз напоминали о былых голодных временах. Когда разразилась война, именно в его сфере все вздорожало и попропадало, но это не сказалось на его барышах: наоборот, на дефицитном плохом товаре он зарабатывал еще больше, чем на хорошем. Кроме того, многие ушли на фронт, и он занял ряд освободившихся постов; как все национал-социалисты, он не считал нужным придерживаться норм распределения продовольствия. Из деревни он вывозил вдоволь сала, яиц, птицы, масла и муки, а чего сам не съедал, продавал по завышенным ценам, в полной уверенности, что старому члену партии все сойдет с рук.
Так оно и было — пока не пришла Красная армия. Цахеса арестовали одним из первых. Его уверения, что он вступил в партию только по экономическим соображениям, были чистой правдой, но за много лет он сделался таким корыстолюбивым вредителем и врагом народа, что экономические соображения не могли облегчить его участь. Впрочем, ему опять повезло больше, чем он заслуживал. Вскоре ему была дарована относительная свобода, так как он оказался нужен на местном молокозаводе. Молочное производство Цахес освоил еще в юности и в трудные времена периодически подвизался на молокозаводе, так что лучшей кандидатуры было не сыскать. Волей-неволей пришлось отрядить его на предприятие, хотя никому это не нравилось. Доллю меньше всех. Но чтобы прокормить детей и их матерей, приходилось на время отодвинуть политические интересы.
Так продолжалось некоторое время, пока до ушей бургомистра не дошли кое-какие слухи. Тогда он вызвал бывшего пивовара, а ныне управляющего молокозаводом Цахеса к себе в кабинет.
— Послушайте, Цахес! — обратился он к бледному, но по-прежнему упитанному человеку, который избегал смотреть ему в глаза. — Мне все уши прожужжали, что у вас якобы есть большой тайник с продуктами. Что вы на это скажете?
Цахес принялся уверять, что никакого тайника у него нет — да Долль ничего другого и не ждал. Он, дескать, в свое время добровольно признался, что в саду в семи разных местах зарыты ящики с вином и шнапсом. Все эти ящики выкопали, а больше ничего у него и не осталось.
Пока Цахес с честнейшим видом все это произносил, Долль пристально наблюдал за ним и наконец сказал:
— Про те семь тайников в городе все знают. Тем не менее упорно ходят слухи, что это лишь малая толика ваших припасов, которые до сих пор не нашли…
— Никаких припасов у меня больше нет, герр обер-бургомистр, — твердо заявил Цахес. — Все, что было, забрали. Больше ничего не осталось.
— Посмотрите мне в глаза, Цахес, и повторите это еще раз!
— Что?.. — Цахеса ошарашило такое необычное требование. — Чего вы хотите?..
— Я хочу, чтобы вы мне — бургомистру, обер-бургомистру, неважно, — еще раз подтвердили, что у вас больше нет тайников — и при этом смотрели мне в глаза!
Но это было Цахесу не под силу. Уже на третьем или четвертом слове его взгляд убежал куда-то в сторону, с трудом воротился на лицо Долля, но тут же снова ускользнул. Цахес смешался, начал запинаться и наконец замолк…
— Да, — медленно проговорил бургомистр после долгой паузы, — теперь я уверен, что вы лжете. Доля правды в слухах есть.
— Ничего подобного, герр обер-бургомистр! Клянусь жизнью матери…
— Да бросьте, Цахес! — с отвращением перебил его Долль. — Подумайте, призовите на помощь здравый смысл… Вы же всегда были нацистом…
— Только формально, герр обер-бургомистр! Выбора не было — вот я и вступил в эту дрянную партейку. Иначе мне пришлось бы объявить о банкротстве — вот вам крест, герр обер-бургомистр!
— У вас нет ни малейшего шанса получить назад вашу недвижимость, и воспользоваться припрятанным добром вам не удастся! Но дело обстоит вот как, — и Долль принялся увещевать: — Все спрятанное, что я найду как бургомистр, остается, Цахес, нам, немцам. В городе сотни людей, Цахес, у которых нет даже самого необходимого, и вы знаете это не хуже меня. К тому же недавно открылась больница — там лежит уже восемьдесят человек, — как бы взбодрил их бокальчик вина, как бы поднялось у них настроение, если бы мы раздали им хоть немного сигарет! Цахес, будьте же человеком, подумайте раз в жизни не о себе, а о тех, кому приходится гораздо хуже, — помогите им! Только подумайте, какое великодушное пожертвование вы сделаете. Скажите, где ваш тайник!
— Я бы и рад был помочь людям, — ответил толстяк. Он так растрогался, что даже слезы выступили на глазах. — Но у меня больше ничего нет, я говорю вам истинную правду, герр обер-бургомистр! Да не сойти мне с этого места, если у меня осталось что-то в заначке…
— Вы двенадцать лет жили в изобилии и достатке, Цахес, — продолжал Долль, будто не слышал его пламенных заверений, — и ни разу не подумали о других. Теперь вы испытали на своей шкуре — а ведь вы на заводе всего шесть недель, Цахес, всего шесть недель! — как тяжела непривычная работа, какие страдания причиняет голод. Подумайте о людях, у которых нет вообще ничего. Докажите всему городу, что вас поносят зря, что вы способны на порядочные поступки! Скажите мне, где тайник!
На мгновение Цахес, казалось, заколебался — но тут же опять посыпались заверения и омерзительные клятвы. Битый час возился бургомистр с бывшим пивоваром. Чем дальше, тем больше он убеждался, что у этого человека есть тайник, и, скорее всего, даже крупный, — но добиться от него чего-либо не представлялось возможным. Гниль и разложение разъели его душу. Не помогли и красочные описания той незавидной участи, которая его ждет, если у него таки что-нибудь найдут. Никакой молокозавод его не спасет — засунут в самую темную дыру, посадят на хлеб и воду, и будет он целыми днями таскать тяжеленные мешки с зерном.
— Долго вы не протянете, Цахес, вы слишком опухли от алкоголя! И сахар, поди, не в порядке! Не исключено, что за эту совершенно бесполезную ложь вам придется заплатить собственной жизнью…
Но все уговоры были тщетны — никакие аргументы не могли заставить Цахеса выдать тайник. Он сидел на своих припасах, как злобный хомячок, и готов был скорее сдохнуть, чем с ними расстаться. Долль впустую потратил целый час — и наконец, пожав плечами, отпустил бывшего пивовара обратно на молокозавод. Он ни минуты не сомневался, что тайник существует и лежит в нем, вероятно, нечто весьма ценное! Однако вскоре бургомистр и думать забыл о пивоваре, с головой погрузившись в более насущные дела.
Как велика и обильна была эта хомячья заначка, Долль узнал всего несколько дней спустя от полицмейстера.
— Сходите на Зеештрассе, герр бургомистр, и посмотрите, как русские трясут цахесовский погреб!
— Так-так! — отозвался Долль с напускным равнодушием, хотя сердце у него разрывалось от гнева и огорчения. — Тайник все-таки нашли? Я был уверен, что он существует, с тех пор как допрашивал этого типа. Собирался и сам пошарить у него в погребе, но руки не дошли…
— Вы бы все равно ничего не нашли, — утешил его полицмейстер. — Этот Цахес уже больше года назад замуровал кладовку для угля — ох уж эти нацисты, не устаешь поражаться, как истово они верили в победу своего фюрера! И никто бы этот тайник не нашел, если б его не выдали.
— Кто же? — поинтересовался Долль.
— Бывшая горничная Цахеса. Она, конечно, думает, что русские ей отсыплют немножко. Ну-ну, пусть дожидается — они тоже не очень-то любят доносчиков!
Но когда Долль чуть позже узнал, как изобильна была хомячья заначка этого заодно-со-всеми-члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии, гнев захлестнул его с новой силой, и он потребовал, чтобы Цахеса немедленно, сей же час доставили к нему с молокозавода.
— Ну что, Цахес, — сказал он этому мерзавцу, который, конечно же, все уже знал — ведь подобные новости распространяются по маленьким городкам с быстротой молнии. — Нашли ваш тайник — а ведь всего несколько дней назад вы здесь стояли и клялись жизнью матери, что ничего не прячете. Клятвопреступник, вот вы кто!
Цахес не отвечал: стоял, опустив голову, взгляд метался туда-сюда — лишь бы на бургомистра не смотреть.
— Вы хоть понимаете, какой ущерб причинили городу, да что там — всем немцам? — И бургомистр принялся перечислять: — Фургон табака, сигар и сигарет. Два фургона вина и шнапса — все это украдено у немецкого народа, получено в обход других. Но вы предпочитали лгать и уверять, будто никаких припасов у вас нет, и все приберегали для себя, в соответствии со старым добрым лозунгом вашей партии: частное превыше общего!
Цахес стал еще бледнее, все краски схлынули с его лица; над его головой бушевала буря, но он не произносил ни слова.
— Но и это еще не все. — И Долль продолжил перечислять: — Фургон белья — а у меня для больницы не осталось ни одной простыни, ни одного полотенца. Пять радиоприемников, три пишущие машинки, две швейные, одна лампа «горное солнце» — а еще целый фургон одежды и прочего барахла. Тьфу нас вас, разоритель, предатель собственного народа, сколько же вы наворовали!..
Долль распалялся все больше — его бесило безответное оцепенение Цахеса. В прошлый раз ему не удалось до него достучаться, не удалось пробудить хоть какие-то человеческие чувства — и опять то же самое!
— Вы не понимаете, — продолжал Долль, овладевая собой, — вы вообще не думаете о том, какой удар вы нанесли по жалким обломкам немецкой репутации, если, конечно, от нее еще хоть что-то осталось! Когда я с протянутой рукой являюсь в комендатуру и жалуюсь, что мне опять нечем накормить малых детей, туберкулезников, тяжелобольных, что мне неоткуда взять койки для больницы, — знаете, что мне там отвечают? «Бургомистр должен изыскивать средства. У немцев все есть — просто они прячут свое добро. Немцы — лгуны и обманщики. Поищи хорошенько, бургомистр!» И выходит, что русские правы! А с какой стати им менять свое мнение о нас, если они находят тайники вроде твоего, мерзавец ты эдакий?! А теперь сотни людей должны мерзнуть дальше, потому что в нужный момент ты не соизволил раскрыть рот, негодяй!
И тут опозоренный и обруганный Цахес все же раскрыл рот, в первый и единственный раз, и фраза, которую он произнес, была достойна настоящего национал-социалиста — она могла родиться только в мозгах члена партии:
— Я бы выдал герру обер-бургомистру свой тайник, если бы он пообещал мне долю, пусть даже небольшую…
Бургомистр Долль остолбенел, потрясенный этим бесстыдным, чудовищным эгоизмом человека, который был совершенно равнодушен к страданиям других — лишь бы самому не страдать. И ему вспомнился недавний разговор с адъютантом коменданта. Адъютант рассказывал, что простые солдаты Красной армии долго думали, будто немцы живут так же, как их собственный народ: что война разорила их до крайности, что они чуть ли не умирают с голоду… Они не видели другого объяснения, почему немцы так безжалостно разоряли их родину. Но по мере наступления, очутившись на немецкой земле, они все увидели собственными глазами: деревни, богатые и благоустроенные, каких у них на родине не осталось, хлева, в которых теснился откормленный скот, здоровое, сытое сельское население. И в крепких каменных домах этих крестьян они обнаружили не только огромные радиоприемники, холодильники, всяческие удобства — нет, среди всего этого великолепия нашлись самые простенькие, дешевенькие швейные машинки из Москвы, пестрые платки с Украины, иконы из русских церквей — сплошь награбленное, наворованное добро. Зажиточные хозяева отнимали последнее у бедняков. И тогда в солдатах Красной армии вспыхнула ненависть и глубокое презрение к этому народу, который не ведал стыда, не желал обуздывать свою алчность, стремился все захапать, все загрести под себя — и пусть остальные пропадают.
Типичный представитель этого народа стоял сейчас перед бургомистром. Удивляться было нечему: в конечном итоге им было совершенно все равно, кого обречь на гибель — русских или немцев. Они не чувствовали никакой общности со своим народом, хотя эта самая общность возводилась в один из основных принципов их партии. Из всего они хотели извлечь выгоду, на всем нажиться, и не важно, сколько тысяч людей придется загубить. Много их нынче развелось, таких цахесов. И Долль велел полицмейстеру увести бывшего пивовара и посадить в самую дрянную камеру, на хлеб и воду. На молокозавод придется подыскать кого-нибудь другого. А этот предатель собственного народа пусть под строжайшим надзором целыми днями таскает тяжеленные мешки — авось долго он так не протянет!
Цахеса увели; больше Долль его не видел и не знал, что с ним сталось. Потому что вскоре после этого Долль заболел — и его болезнь была не в последнюю очередь спровоцирована этими переживаниями.
Когда за подлецом закрылась дверь, бургомистр остался один в кабинете. Он сидел за столом, подперев голову рукой. Он чувствовал, что его ярость выдохлась и душу наполняет тихое, невыразимое отчаяние. С яростью легче было справиться, чем с этим отчаянием, в котором не было ни проблеска надежды. К полной своей неожиданности, он обнаружил, что в этом отчаянии растворилась и его ненависть. Он постарался припомнить все то зло, которое причинили ему нацисты: многолетние преследования, арест, слежка, угрозы, бесчисленные запреты. Тщетно: он больше не испытывал к ним ненависти. Более того: он понял, что ненависть испарилась давно. Когда он производил конфискации у членов партии, держался сурово и безжалостно, он просто выполнял свой долг. С тихим ужасом он осознавал, что в домах людей, которые в партии никогда не состояли, он вел себя точно так же. Всех, всех их он в равной степени презирал. Он не мог ненавидеть тех, кого считал всего-навсего мелкими, злобными зверьками — так, именно так смотрели первые русские солдаты на него и его жену, так и он теперь смотрел на всех немцев.
Но ведь он и сам из той же стаи, он сам немец — слово, которое во всем мире давно превратилось в ругательство. Он один из них, и ничто не отличает его от соотечественников. Как в старой поговорке, которая и по сей день не устарела: с волками жить — по-волчьи выть. Он тоже вкушал ворованного хлеба из разоренных земель — и теперь должен за это ответить! О да, он не мог их больше ненавидеть хотя бы потому, что сам был одним из них. Ему осталось только бессильное презрение — и себя он презирал не меньше всех прочих.
Как ему говорили в комендатуре? Все немцы лгут и обманывают. Цепочка случайностей привела к тому, что он сделался бургомистром провинциального городка, и на этом посту он ежедневно убеждался: русские, увы, правы. На него нахлынули воспоминания: он снова видел пришедшую к нему на прием женщину, мать двоих маленьких детей. По ее лицу катились слезы: ее дом в Берлине разбомбили, и у нее не осталось буквально ничего — ни кроватки, ни кастрюльки, ни одежды для детей. «Сжальтесь, герр бургомистр, вы не можете просто прогнать меня! С пустыми руками я к детям не вернусь!»
У бургомистра тоже ничего не было, но он все же изловчился помочь. Нашел членов партии, у которых требуемого было в избытке, и уделил от этого избытка просительнице — не то чтобы много, но достаточно. А на следующий день перед ним стояла уже другая женщина, соседка той, которую он только что облагодетельствовал, тоже мать, тоже очень бедная: оказалось, что особа, ради которой он так старался, которую всем обеспечил, ночью стащила у соседки несколько тряпок с веревки! Немцы против немцев, каждый за себя, наперекор всем и всему.
Вспомнился бургомистру и извозчик, которого наняли перевезти вещи парализованного старика в дом престарелых, но когда он дотуда добрался, все, что еще было пригодно к употреблению, с телеги исчезло — то ли сам извозчик украл, то ли, как он утверждал, прохожие растащили. Немцы против немцев!..
Подумал он и о подлеце враче, который, стремясь отомстить за какие-то старые обиды, признал больную женщину здоровой и пригодной к тяжелой работе, — этот врач щедро раздавал дефицитные лекарства своим друзьям, но оставлял без помощи тех, кто был ему безразличен и тем паче враждебен. Ну и что, что они страдают — пусть страдают дальше! Немцы против немцев!
Он вспоминал, как люди крали друг у друга лошадей из стойла, птицу, с большим трудом откормленных кроликов, как они проникали на соседские огороды, выдергивали из земли овощи и рвали с деревьев недоспелые плоды, ломая при этом плодоносящие ветки — не для какой-то своей пользы, а просто чтобы напакостить ближнему. Словно выпустили на волю орду сумасшедших, которые, руководствуясь своими безумными хотениями, творили что в голову взбредет. Он знал, как они доносят друг на друга, как бросаются бессмысленными, лживыми обвинениями, рассыпающимися при первой же проверке и придуманными просто по злобе, чтобы нагнать на соседей страху — пускай боятся! Немцы против немцев!..
Долль сидел за бургомистерским столом, обхватив голову руками, и было в этой голове совершенно пусто. Как наивно было думать, что мир только и ждет, как бы помочь немцам выбраться из грязи, из этой жуткой воронки, в которую их швырнула война. И не менее наивно было полагать, будто он, Долль, чем-то отличается от своих соотечественников: он тоже всего-навсего мелкий злобный зверек, как и все они. Ему не подавали руки, сквозь него смотрели как сквозь стену.
И правильно делали: немцы, все и каждый из них, достойны ненависти и презрения. Долль тоже кое-кого ненавидел, например старого ветеринара Виллема-порося, а также скопом нацистов, всех до одного. Но теперь его ненависть — и общая, и частная — иссякла: ведь он был не менее достоин ненависти, чем те, кого он ненавидел.
Ничего не осталось, Долль был опустошен — и им овладела глубокая апатия. Эта апатия, постоянно подстерегавшая его на протяжении последних месяцев, но на время заглушенная навязанной ему активной работой на бургомистерском посту, наконец-то прорвалась и завладела им. Он смотрел поверх стола, заваленного бумагами, его поджидали десятки срочных дел — но какой во всем этом смысл?.. Немцы обречены на гибель, и он в том числе! Все усилия тщетны!
В дверь заглянула секретарша:
— Пришли из комендатуры — вас срочно вызывают к коменданту, герр бургомистр!
— Да, хорошо, — отозвался он. — Сейчас иду…
Но никуда не пошел, а остался сидеть за столом; секретарша еще несколько раз напоминала ему о коменданте. Не то чтобы он думал о чем-то определенном, не то чтобы пытался побороть апатию — этот путь тоже бессмыслен, все пути бессмысленны, так как все ведут немцев в никуда…
Нет, он просто сидел, и никаких внятных соображений не было в его голове. Если бы он взялся описывать свое душевное состояние, то, наверное, сказал бы, что внутри у него клубился туман — серый, густой туман, в котором не видно ни зги и не слышно ни звука. И больше ничего…
Наконец — поддавшись настойчивым уговорам секретарши — он поднялся и отправился в комендатуру, просто потому, что ходил туда уже сотни раз. Это было ничуть не лучше и не хуже всего прочего, что он сейчас мог сделать. Пойдет он в комендатуру или нет, больше не имело значения. Ничто больше не имело значения — даже сам герр доктор Долль. Поражена была самая сердцевина его существа, и инстинкт самосохранения отказал.
Вскоре после этого бургомистр Долль серьезно заболел — и перестал быть бургомистром. Его жена, которой тоже нездоровилось, отправилась с ним в районную больницу…
Глава 5 Прибытие в Берлин
1 сентября этого беспощадного 1945 года герр и фрау Долль прибыли в Берлин. Они почти два месяца пролежали в больнице и по-прежнему были далеки от выздоровления. Но они боялись, что если еще промедлят, то потеряют берлинскую квартиру.
Поезд, который должен был отходить в полдень, тронулся только с наступлением сумерек; несмотря на разбитые окна и загаженные купе, он был переполнен. Набившиеся в неосвещенные вагоны люди были настроены агрессивно, взрывались от любого слова и каждого соперника в борьбе за сидячее место воспринимали как личного врага.
Доллям удалось занять два места, но к ним тут же кто-то подсел, а вокруг со всех сторон обступили те, кому мест не досталось. Ящики били по ногам, рюкзаки больно задевали по лицу. В кромешной тьме ничего не было видно, но ненависть всех ко всем витала в воздухе и ощущалась даже сквозь отвратительный запах, который, несмотря на разбитые окна, из купе не выветривался. Вонь была адская, и она только усиливалась по мере того, как на станциях подсаживались все новые и новые пассажиры, с огромным трудом вбивавшиеся в плотную толпу и проклинавшие каждого, кому удалось сесть.
Эти люди, подсаживавшиеся по дороге, были в основном грибники из Берлина — свои корзины они запросто ставили сидящим на колени, мрачно буркнув, что, дескать, потом заберут. Но поскольку в купе и так было не повернуться, выходило, что корзины больше и девать-то некуда: у фрау Долль на коленях ехали четыре штуки, у Долля — три.
Они не протестовали, никому не отвечали и ни во что не вмешивались: слишком они были больны и слабы, чтобы с кем-то ругаться. Только одна мысль занимала Долля: как сохранить за собой квартиру. Ведь это его последняя надежда когда-нибудь начать новую жизнь.
Долль, конечно, отдавал себе отчет, что квартира — не более чем соломинка, но, если у них был хоть какой-то шанс сохранить за собой берлинское жилье, он не желал этот шанс упускать. Так он говорил и жене, которая утратила бодрость духа от постоянных печеночных недомоганий и заразилась его безрадостным настроем. «Скорее всего, нам скоро придется умереть, но в большом городе умереть можно незаметно и даже с долей комфорта. Только подумай: там есть газ!»
Если у других багажа было слишком много, то у Доллей, наоборот, маловато. Они везли с собой лишь маленький чемоданчик, в котором лежало немного хлеба, банка мясных консервов и четверть фунта зернового кофе в бумажном рожке, а также две книжки и всего ничего туалетных принадлежностей. Долль был одет в легкий костюм, фрау Долль одолжила у подруги светлый летний плащ. В карманах у Долля едва наскреблось бы три сотни марок, которые он занял у знакомого; единственное ценное имущество, которое у них при себе было, это бриллиантовое кольцо молодой женщины.
Поезд стоял на каждой станции бесконечно долго, а когда наконец трогался, то тянулся еле-еле. Долли мрачно глядели на огненные линии и точки, которые выплевывала во тьму труба локомотива, работавшего на буром угле, — за войну они вдоволь насмотрелись на «фейерверки и как-то потеряли к ним вкус. Каждое воспоминание о шутихах военного времени отдавалось болью. В мерцании этих пляшущих светлячков виднелись фигуры на подножках, которые, пригнувшись и ухватившись одной рукой за холодную латунную штангу, подставляли спину густому потоку искр. Видимо, в рюкзаках они везли настолько ценный груз, что ни опаленная, тлеющая одежда, ни риск сорваться их не пугали.
Но у большинства из них в рюкзаках всего-то и было, что горсть картошки, или мешочек муки, или фунт-другой гороха — запас продовольствия, которого в лучшем случае хватит на неделю. И все-таки они с какой-то почти тупой покорностью висели в потоке ветра и искр, не обращая внимания на дымящуюся одежду. Все это были люди маленькие; того, что они везли, ждали их жены и многочисленное потомство. Спекулянты, которые меняли продукты куда более дорогие: масло, шпик, яйца, — а картошку и муку запасали мешками, — они жизнью на подножке не рисковали, они нанимали грузовик и в качестве оплаты отдавали водителю часть груза, их не ждали изголодавшиеся дети…
Но кто тут спекулянт, а кто нет? Когда Долли решили перекусить и в непроглядном мраке купе распаковали хлеб с консервами, некоторые попутчики, несмотря на вонь, учуяли запах съестного и стали отпускать язвительные замечания в адрес тех, кто может позволить себе лопать мясо. Дескать, честным путем нынче мяса не достанешь, посмотреть бы на этих едоков при свете!
Долли не откликались: они быстренько дожевали то, что уже держали в руках, а остатки запихнули обратно в чемоданчик и еще теснее прижались друг к другу. Фрау Долль закутала их обоих в позаимствованный плащ — становилось все холоднее. Они обнялись и приникли друг к другу. Долль свернул себе сигарету из остатков табака, и тут же раздался едкий голос:
— Третью закурил! Вот я и говорю: одним все, другим ничего — куда катимся?
Народ принялся честить неистребимых спекулянтов и бонз, и про Доллей забыли. Они стали шепотом обсуждать берлинскую квартиру. Теперь, когда они приближались к цели, когда перед ними вообще замаячила хоть какая-то цель, их мучила тревога — ведь они не получали никаких известий о квартире аж с марта. В городе шли тяжелые бои, зданий разрушенных не счесть — может, ее уже и не существует, этой квартиры?
— Вот будет дело! Мы тут тащимся, мерзнем — а квартиры-то и нет! Ох и посмеюсь же я!
— А я сердцем чую, что с квартирой все в порядке. Ну а комнату Петты мы быстренько отремонтируем — не так уж сильно она выгорела!
— Утешительница моя!..
— Да ты только подумай: у меня в Берлине полно друзей! Когда мой первый муж был жив, мы многим помогали — пусть теперь они для нас что-нибудь сделают! Больше всего я надеюсь на Бена: у Бена мать — англичанка, наверняка он сейчас пойдет в гору. Эрнст (первый муж молодой женщины) вытащил его из концлагеря, уж он этого не забудет!
— Хочется верить, Альма! Надеяться надо на лучшее, но точно предсказать ничего нельзя. Точно мы знаем только одно: мы есть друг у друга и всегда будем вместе! И ничто нас не разлучит. Ничто!
— Так тому и быть! — согласилась она. И поежилась в его объятиях. — Холодно! — шепнула она.
— Да, холодно! — подтвердил он и прижал ее к себе еще крепче.
Берлин! Берлин, снова Берлин!.. Любимый город, в котором оба они выросли — только он лет на тридцать раньше, — этот сверкающий огнями, бешеный, неутомимый город! Кажется, будто он погряз в бесконечном угаре развлечений и удовольствий — но только до тех пор, пока не вспомнишь об огромных, мрачных рабочих окраинах. Берлин, город труда! Они возвращались обратно, чтобы начать жизнь заново; если и был хоть где-то на Земле у них такой шанс, то только здесь — в этом разрушенном, выгоревшем, обескровленном Берлине!
Было половина третьего ночи, когда Долли сошли с поезда в Гезундбруннене; комендантский час истекал в шесть. Ледяной ветер гулял по вокзалу, все окна до единого, казалось, были разбиты. От этого холода, от этого ветра негде было укрыться! Они пристраивались то тут, то там, но всюду ужасно мерзли. В чудом уцелевших на платформе постройках было не теплее. Ветер задувал сквозь разбитые окна, и люди, скорчившись, бесформенными клубками сидели на полу, безнадежно и тупо ожидая утра.
Фрау Долль втиснулась в людскую гущу, чтобы хоть как-то спрятаться от ледяного ветра. Но едва она присела на свой чемоданчик, как ее тут же согнали с места: нельзя загромождать проход! И она, всегда находчивая, веселая, боевитая, без единого возражения примостилась к этой человеческой свалке с краю. И поплотнее закуталась в плащик, надеясь найти защиту от пронизывающего ветра, который все равно пробирал до костей.
Долль собрал по карманам последние крошки табака, дрожащими от холода пальцами свернул кривую папироску и забегал туда-сюда. В развалинах бывшего вокзального здания он помедлил, всматриваясь в темный, без единого огонька город, озаренный лишь блеклым светом месяца, — но так и не разглядел ничего, кроме руин.
— Не выходите! — предостерег голос из темноты. — Комендантский час еще не закончился. Патрули иногда стреляют без предупреждения.
— Да я вовсе и не собирался выходить! — ответил Долль и швырнул в развалины окурок последней папироски.
А про себя подумал: хорошенькое начало! Воображение часто подводит человека, и то, что представляется трудным, зачастую оказывается легче легкого, а то, о чем вообще не задумываешься, и становится главной преградой. Эти два ледяных часа на разрушенном до основания вокзале, и курево кончилось — и Альма больна!.. Лицо у нее совсем пожелтело…
Он развернулся и потопал к ней.
— Я больше не могу, — сказала она. — Должен же где-то быть медпункт или врач, который мне поможет. Пойдем поспрашиваем. Я превратилась в ледышку, у меня все болит!
— Нам пока еще нельзя в город. Комендантский час! Патрули иногда стреляют без предупреждения.
— Ну и пусть стреляют! — в отчаянии воскликнула она. — Если кого-нибудь из нас подстрелят, то, по крайней мере, им придется отправить нас туда, где тепло и есть врач.
— Ну-ну, Альма, — увещевательно проговорил он. — Давай действительно поищем медпункт или врача. Ты совершенно права: все лучше, чем околеть на этом холоде.
Чтобы выйти с вокзала, пришлось пробираться через развалины. Слабый лунный свет скорее путал, чем освещал дорогу. Долль со своим плохим зрением почти ничего не видел.
— Идем! — позвала она, прибавляя шаг. — Кажется, впереди улица! Может, там и медпункт найдется.
Он неуверенно двинулся за ней. Но тут же споткнулся и чуть не рухнул в какой-то темный провал.
— Ох! — вскрикнула молодая женщина. — Сильно ушибся?..
— Не, ну дожили! — раздался из кромешной тьмы возмущенный голос, звучавший с настоящим берлинским акцентом. — Мужик падает, а баба даже не думает упасть вместе с ним! Дела-а!
— И как бы мне это помогло? — осведомился Долль и, несмотря на боль, невольно рассмеялся. — Если бы моя жена тоже навернулась? Куда мы вообще попали?
— Метро Гезундбруннен, — послышался другой голос. — Но первый поезд только в шесть тридцать.
— Спасибо большое! — ответил он, и они двинулись дальше, на этот раз крепко держась друг за дружку. — Ну, вот Берлин нас и поприветствовал: немножко больно, зато от души. Подобно завоевателю, я поцеловал землю этого города и таким образом закрепил свое право на него — и то, что я услышал в ответ, меня вполне устраивает.
— Ничего не повредил?
— Да нет — кожу на ладонях содрал и ударился немного.
Они нырнули в темное море развалин — до дна уличного ущелья лунный свет не доставал. Пробирались медленно, на ощупь. На пустынной улице царила мертвая тишина, их шаги отдавались эхом.
— Тут мы любой патруль издалека услышим, — сказал Долль. — Десять раз успеем спрятаться.
— Погоди, — ответила она. — Там вроде бы медпункт виднеется. Зажги-ка спичку.
Это действительно оказался медпункт, но внутри было темно, и ни на звонок, ни на стук никто не подал признаков жизни.
— Боюсь, что звонок вообще не работает, — наконец проговорил Долль. — Что теперь? Вернемся на вокзал?
— Нет-нет, только не на вокзал! Давай еще поищем врача или полицейский участок. Да, участок был бы лучше всего. Они наверняка разрешат нам посидеть в караулке и немножко согреться.
Они принялись блуждать по мертвенно-тихому городу, где ни в одном окне не горело ни огонька, и наконец действительно отыскали полицейский участок. Звонить пришлось долго. Наконец вышел полицейский.
— Чего надо? — грубо осведомился он.
— Мы только что приехали в Берлин по железной дороге. Моя жена больна, а медпункт закрыт. Позвольте нам, пожалуйста, посидеть до шести у вас в караулке и согреться.
— Нельзя, запрещено, — отрезал полицейский.
Они принялись просить и клянчить. Они никому не помешают, будут сидеть тихо как мышки!
Но полицейский оставался неумолим:
— Если что-то запрещено, я этого разрешить не могу! И вообще, что вы делаете на улице? Комендантский час!
— Ну так арестуйте нас за это на часок-другой, герр вахмистр! — взмолилась молодая женщина. — Тогда и мы внутри посидим, и вы ничего не нарушите!
Но это предложение тоже не нашло у полицейского отклика — он взял и просто захлопнул дверь. Они остались одни на темной улице.
Супруги посмотрели друг на друга: лица у обоих были растерянные, бледные. И тут они заметили, что уже светает — близится день.
— Значит, скоро шесть. Просто пойдем дальше. Может, трамвай попадется.
Немного времени спустя они уже сидели в автобусе, который вез фабричных рабочих на утреннюю смену. Автобус мимо их дома не проходил, но на нем они добрались до станции городской электрички: вскоре должен был отойти первый поезд. Но тут их подстерегало новое препятствие: билетерша проспала, а контролер у турникета отказывался пропускать людей без билетов — дескать, не имею права!
— А если касса откроется через час?
— Значит, в этот час никто не пройдет! Закон есть закон!
— Но мы опаздываем на работу! — возмущался народ.
— А мне что за дело? У меня свои обязанности!
— Ах так? Ну посмотрим! — крикнул кто-то из местных. — Ну-ка, все за мной!
Через боковой вход, через забор — затем в сумерках через пути, через рельсы под напряжением — и снова через ограду. Долли тащились в хвосте: у Альмы внезапно разболелась нога, а у него после падения ныло все тело. Наконец, едва дыша, они добрались до платформы — и успели увидеть лишь красные хвостовые огни утреннего поезда.
И снова ожидание и холод, дорога и усталость, пересадки и новое ожидание — как же им хотелось домой!.. Как они мечтали о своей кушетке!.. Просто лечь, согреться и заснуть!.. И ни о чем больше не думать!.. Просто отключиться!..
Наконец — ура — они вышли на своей станции.
— Через пять минут будем дома! — подбодрил он ее.
— С нашей скоростью — через все двадцать, — отозвалась она. — Понять бы, что у меня с ногой. Вроде бы маленькая ссадина… О боже, и этого моста нет — в марте он еще стоял!..
И пока они брели, из последних сил переставляя ноги, — из-за разрушенного моста пришлось заложить очередной огромный крюк, — на этом бесконечном пути им попадались только руины — старые, которые появились еще при них, и новые, которые возникли после их бегства из Берлина. Они совсем притихли, плелись, не говоря ни слова, — так много было новых развалин. Долль думал: что мне с ней делать, если окажется, что квартиры больше нет? Она больна и совершенно измучена.
Наконец они в последний раз свернули за угол — и стали судорожно вглядываться в фасады. На этот раз он опередил ее:
— Я вижу цветочные горшки на нашем балконе! Даже рамы на месте! Альма, наша квартира цела!
Они посмотрели друг на друга и слабо улыбнулись.
Ключа у них не было, нужно было найти консьержа. Плохие новости, очень плохие новости! Маленький консьерж исчез еще в апреле: то ли убили в бою, то ли арестовали, жена не знала. Не знала вообще ничего.
— Удрал, вы думаете, вот так взял и убег? Ну не-ет, не таков мой муж, чтобы сбежать от жены и детей, не способен он на такое, герр Долль! И с чего бы ему драпать? Он никому ни в жизнь зла не причинил! Ключ от квартиры? Нет, ключа нету. Туда въехал кто-то, жилконтора поселила, да всего пару дней назад, какая-то то ли танцовщица, то ли певичка, в общем, из театра какая-то бабенка, не знаю точно. С матерью и дитем, да, вообразите, у нее и дите имеется! Ну само собой, пришлось ей подлатать те комнаты, которые окнами на улицу, да. А в задних комнатах по-прежнему живет старая Шульциха, которую вы пустили, когда уезжали в деревню, чтоб присматривала за вещами. Ну, как уж она там за чем присматривала, это вы сами посмотрите, фрау Долль, чего я зря трепаться буду. Вашу большую кастрюлю, если что, фольксштурм забрал. А вот куда делся пылесос, и книги, и ведра, и из кухонных шкафчиков все припасы — об этом я ничего не знаю, фрау Долль, сами у Шульцихи спросите, если, конечно, ее выловите. Она говорит, что живет здесь, но чтоб я знала, где она живет на самом деле! Ее иной раз целую неделю не видать, и за квартиру она не платит!
Медленно, ох как медленно взбирались Долли по лестнице — а ведь до квартиры аж четыре пролета! Они не стали обсуждать с консьержкой все плохие новости, которые она на них вывалила, и между собой тоже не перемолвились ни словом. Только их лица, казалось, стали еще бледнее, чем были после этой бессонной ночи, в течение которой они, больные, сперва тряслись в поезде, а потом сидели на морозе…
Долго, ох как долго жали они на кнопку звонка, прежде чем из квартиры — из их квартиры! — донесся какой-то шорох. Они терпеливо ждали, когда дверь наконец откроется. Их впустила молодая темноволосая дама, наспех накинувшая первые попавшиеся одежки. (Правда сказать, было утро, часов восемь.)
— Ваша квартира?.. Это моя квартира, мне в жилищном управлении выдали ордер… Нет, сударыня, ничего вы тут не сделаете. Три передние комнаты принадлежат мне, я потратила несколько тысяч марок, чтобы привести их в божеский вид… Две другие комнаты выгорели дотла, вы это должны знать не хуже меня, если это действительно ваша квартира, сударыня! Большая комната с окнами во двор — там живет фрау Шульц, но ее сейчас дома нет, и я не знаю, появится ли она сегодня. Во всяком случае, дверь заперта… Да, мне очень жаль, сударыня, но тут холодно, а я стою в одной сорочке, и вообще я рассчитываю еще поспать… Это все вы скажете в жилконторе, сударыня. Хорошего утра!
На этом дверь захлопнулась, и Долли остались в передней одни. Он взял жену за руку и медленно повел ее — она тяжело опиралась на него, — внутрь квартиры. Но там все было заперто, ни в одну комнату не попасть. Тогда он отвел ее на кухню и усадил на единственный стул (да ведь, кажется, их раньше было три?) между газовой плитой и столом.
Молодая женщина покорно села. Впрочем, молодой она сейчас не выглядела: пялилась в пространство невидящим взглядом, и лицо у нее было больное, желтое. Долль взял ее холодные руки, погладил их и сказал:
— Да, начало скверное, моя милая Альма! Но так просто мы не сдадимся — мы непременно найдем выход. Нас голыми руками не возьмешь!
В ответ на эти ободряющие слова фрау Долль попыталась улыбнуться, и это была самая блеклая, самая жалкая, самая душераздирающая улыбка, какую Долль видел на женских устах. Потом она подняла голову и стала разглядывать кухню — долго, очень долго; изучила каждый предмет и наконец воскликнула жалобно:
— Моя кухонька! Ты только оглянись: тут же все, все наше! А эта баба не пускает меня дальше прихожей, не предлагает мне даже присесть в моей собственной квартире! — фрау Альма, казалось, вот-вот заплачет — но глаза у нее были сухие. — И — я не знаю, заметил ты или нет через открытую дверь? — у нее в комнате стоит наша тумбочка из-под радиоприемника и большое желтое кресло, в котором ты так любил сидеть! Ну погоди, я сию минуту пойду в жилконтору!
Но никуда она не пошла — осталась сидеть, тупо глядя перед собой. Она всегда была избалованной блестящей дамой. А теперь сидит в дешевеньком плащике, который ей совершенно не идет — да и тот чужой! — чулки изорваны корзинами грибников, а на руках и лице — грязь и копоть после долгой поездки по железной дороге…
Все потеряно, все опустошено — как мы сами! — сумрачно думал Долль, продолжая механически поглаживать ее руки. Но потом он опомнился: нужно же что-то делать, нельзя же вечно сидеть на кухне. И он отвел Альму к добросердечной жене консьержа: там ее тоже усадили на кухне, но эта кухня была хотя бы натоплена. На сковородке пожарили остатки доллевских кофейных зерен. Порезали хлеб, выскребли остатки мяса из консервной банки и аккуратно выложили в мисочку. И сразу стало казаться, что все не так уж и безнадежно.
Только вот молодая женщина, казалось, ничего не чувствовала. Она заявила, что Долль срочно, сейчас же должен разыскать ее друга, полунемца-полуангличанина, этого Бена, и, когда Долль ответил, что сходит к нему, но только после завтрака, она потеряла покой: она-де точно знает, что Бен — ранняя пташка и всегда приходит на службу раньше времени. Если Долль не отправится на поиски сию секунду, он наверняка Бена не застанет, и потерян будет целый день, — а ей нужно поговорить с ним немедленно!
Возражения вертелись у Долля на языке, но молодая женщина была как в лихорадке, ее захлестывали тревога и отчаяние, а сам он устал как собака и ругаться просто не было сил, — поэтому он согласился пойти на квартиру к Бену.
— Я тебя жду самое большее через полчаса! — крикнула молодая женщина на прощание, тут же воспрянув духом. — Веди Бена сюда. Я не буду завтракать, подожду вас!
Ни за какие полчаса эту дорогу было не осилить, так как трамвай, маршрут которого здесь раньше пролегал, больше не ходил. Доллю пришлось весь путь проделать пешком. Да что там пешком — ползком!
Дом, который он искал, по крайней мере, был цел, но на двери подъезда отсутствовала табличка с фамилией, и на звонок никто не отозвался. В конце концов Долль узнал от консьержа, что искомый господин отсюда съехал — всего пару дней назад. (В нашу квартиру недавно въехали, отсюда съехали — ну и везет же нам в этом Берлине, ничего не скажешь!) Куда он переселился, консьерж понятия не имел. С пустыми руками я к Альме не вернусь! — решил Долль и, приложив массу усилий, разыскал среди соседей старичка, который знал, куда Бен перебрался — куда-то в новую западную зону, далеко-далеко, чуть ли не в часе отсюда. О том, чтобы туда ехать, нечего было и думать. Назад к Альме и завтраку!
Она действительно не садилась есть и даже раздобыла немного сигарет — по пять марок штука: Доллю цена показалась фантастической, ведь до последнего времени русские щедро снабжали его табаком. Весть о том, что Бен переехал, она восприняла стойко.
— Поедем к нему после завтрака — ну и что, что у меня нога болит! Поверь мне, я чувствую: Бен нам поможет. Уж про концлагерь-то он не забудет! Вот увидишь, — она оживлялась по мере того, как говорила, — он теперь наверняка не последний человек. Иначе бы не переехал на запад — там так дорого! Живет, поди, в отдельном особняке. И будет рад нам помочь!
Подкрепившись и основательно помывшись, они распрощались с доброй, но по-прежнему удрученной женой консьержа.
— Я вернусь в ближайшие дни, — пообещала фрау Долль, — и улажу в жилищном управлении проблему с этой нахалкой. В моей собственной квартире она даже не предложила мне присесть — да она у меня полетит вверх тормашками!
А как мы возместим ей «пару тысяч марок» за ремонт? — подумал Долль. Да и потом, даже если посчитать Петту и бабушку, мы все равно не получим право претендовать на все семь комнат.
Но жене он этого говорить не стал. Как будет, так и будет. Не имеет никакого смысла заранее переживать и строить планы. Все устроится само — только вот, скорее всего, не к лучшему.
Бодрость, обретенная после мытья и зернового кофе, быстро улетучилась, и с ногой у жены было, похоже, совсем худо — они едва плелись. Долль снова и снова одергивал себя, чтобы идти рядом с Альмой, но потом опять, сам того не замечая, опережал ее шагов на десять-двадцать. Чувствуя себя виноватым, он разворачивался и возвращался к ней, а она лишь ласково улыбалась ему.
— Иди, иди! — говорила она. — Если я тебя совсем потеряю из виду, то начну свистеть. Это же сущее мучение — тащиться рядом с такой улиткой. Иди вперед!
После холодной ночи солнце пригревало, и это было приятное осеннее тепло, не изнуряющее, а благотворное. Здесь, на улицах, застроенных особняками, листва с деревьев еще не опала. Кроны поредели и поблекли, но как хорошо было после развалин вновь увидеть здоровые деревья! Хотя многие особняки тоже были разрушены, здесь, среди кустов и деревьев, лужаек и цветов это не производило такого гнетущего впечатления.
Фрау Долль сказала мужу, когда он в очередной раз вернулся к своей «улитке»:
— Наверняка у Бена и машина своя есть, и мы сможем на ней ездить, когда захотим. Как раз наступает самая прекрасная осенняя пора! Давай в кои-то веки насладимся ею, только ты и я, — и не будем думать ни о каких невзгодах. Может, Бен и грузовик для нас раздобудет — тогда мы перевезем из нашего болота мебель и твои книги и устроимся с полным комфортом. Вот увидишь, я тебе наколдую такое сказочное гнездышко! У нас будет много гостей-англичан, знакомых Бена, а ты будешь приглашать своих друзей-писателей… Ух, какие я вам буду готовить коктейли — я же искусная барменша! — а уж об ингредиентах Бен позаботится!..
Бен! Бен! Бен! Какое же она еще дитя!.. Все упования своего доверчивого детского сердечка она возложила на друга, о котором не вспоминала много недель и месяцев! Дитя доверчивое и легковерное — никаким разочарованиям не удалось вытравить из ее сердца эту способность верить и надеяться.
И вот наконец они очутились в просторной гостиной огромного особняка; за окнами простирался сад, вдалеке виднелся гараж, где шофер как раз намывал машину — машину Бена, хоть эти ожидания Альмы оправдались. Ее друг взлетел на удивление высоко: судя по табличке на воротах, герр Бен занимал весьма значимый пост.
Но сам он появился далеко не сразу: вел важные переговоры на первом этаже. Вокруг Доллей, ошеломленных великолепием этой комнаты, обставленной антикварной мебелью, хлопотали двое декораторов: перешептываясь, они драпировали тончайшие занавески, лазили по стремянкам и поддергивали шнуры. И когда Долль увидел всю эту роскошь — уже много месяцев и лет он ничего подобного не видел, да еще в целости и сохранности! — он с удвоенной, с десятикратной силой ощутил их собственное оборванство. С белоснежного тюля он невольно переводил взгляд на свой светлый летний костюм, на котором после ночного поезда остались уродливые пятна и полосы; на богатой парче кресла, в котором сидела Альма, особенно выделялись ее дешевый плащик и рваные чулки.
Да, они превратились в нищих — в этом доме, который и в лучшие времена явно принадлежал очень богатой особе, Долль почувствовал это как никогда отчетливо. А ведь не так давно он считал себя человеком вполне обеспеченным. Но теперь они с женой стали попросту — внезапно он осознал это совершенно ясно — беженцами, ничем не лучше тех, которые бесконечным потоком, голодные и несчастные, тащились через их городок, а он как бургомистр должен был устраивать их судьбу. Теперь Долли были в таком же положении: оборванные, лишенные крова, все имущество в одном чемоданчике, они вынуждены обращаться за помощью к друзьям, к чужим людям, может, даже к социальным службам. Бургомистр, домовладелец, дорогое барахло, неистощимый банковский счет, сносные харчи — и вдруг ничего, ничего, ничего!
О боже! — думал Долль. Только бы Альма не наговорила лишнего. Только бы не стала просить о чем-то этих двух женщин — я этого не вынесу, мы же все-таки не попрошайки!
Тут как раз появилась жена этого самого Бена с подругой; на гостей они посмотрели с легким удивлением, но потом Альма начала рассказывать…
Нет, не было ни малейшей опасности, что она наговорит лишнего. До этого просто не дошло. Потому что случилось то, что Доллю впоследствии часто доводилось наблюдать: едва Альма добралась до сути дела, обе женщины заерзали, и по их виду было ясно, что у них тоже язык чешется рассказать о себе!
Стоило Альме сделать паузу, как они тут же вклинились. Едва переводя дыхание, перебивая и дополняя друг друга, они принялись рассказывать, как тяжело им пришлось, как они чуть не умерли с голоду, сколько всего они потеряли… В этом дворце, в антикварном кресле с парчовой обивкой, Долли слушали, как плохо хозяевам жилось и до сих пор живется.
Наконец появился хозяин: он очень торопился, у него-де всего пять минут между двумя важными встречами. Он поцеловал руку фрау Альме и выразил свое сожаление: жизнь стала такая трудная, такая трудная! Он, дескать, даже сигаретой гостей угостить не может — так скверно его снабжают. Да, нога фрау Долль и впрямь выглядит не очень, уж не заражение ли крови? По-хорошему, ей бы в больницу!
Через четверть часа они вновь стояли на улице, визит к самому верному, самому благодарному Альминому другу был позади — хвала небесам! Солнце по-прежнему ярко и весело светило сквозь поредевшую листву, газон перед особняком зеленел, цвели астры. Поддерживая жену под локоть (у нее было совершенно белое, больное лицо), Долль бодро сказал:
— А знаешь, что мы сейчас сделаем, Альма? Перестанем тратить нервы и заживем в свое удовольствие — тогда и ножка твоя болеть перестанет. Куда податься?.. Когда речь зашла о больнице, мне вспомнилось, что всего в четверти часа отсюда находится клиника, где я пару раз подлечивал нервы. Меня там знают, нас наверняка примут.
— Делай со мной что хочешь, — отозвалась фрау Долль. — Господи, как же хочется прилечь!
Так начался их марш-бросок к лечебнице. Альма передвигалась с таким трудом, что путь занял не пятнадцать минут, а почти час. О лучшем друге Бене они во время этой скорбной прогулки не заговаривали — только один раз фрау Долль воскликнула, словно очнувшись от глубоких раздумий:
— Никогда я больше не буду помогать и верить людям, как раньше! Никогда!..
— Слава богу, — откликнулся он, бросая на нее ласковый взгляд, — слава богу, Альма, не в твоей воле это решать. Ты всегда — что бы ни случилось — будешь отличным парнем!
Лечебница — большое уродливое здание из бетона и красного кирпича — по счастью, стояла на прежнем месте — они бы не вынесли, если бы и здесь их поджидало разочарование. Они сели в приемной.
— Тебе придется пустить в ход все свое обаяние, Альма, — шепнул Долль, — чтобы нас здесь приняли. Больше нам идти некуда.
Фрау Долль наспех прошлась по лицу пудрой, румянами и помадой, по мере сил подправив свое обаяние.
— Разумеется, мы вас примем, голубушка! — сказала седовласая докторша и погладила ее по голове. — Что касается вашего мужа, нужно спросить тайного советника. Но для вас в любом случае найдется место в моем отделении.
Появился тайный советник. Доллю показалось, что лицо у него стало еще желтее, морщинистее, озабоченнее и гораздо умнее, чем раньше.
— Для герра Долля у меня найдется комнатка, — сказал он после недолгого раздумья. — Для дамы, к сожалению, нет — может, недели через три-четыре я смогу что-нибудь для вас сделать.
Долли, которым уже казалось, что их самая большая проблема вот-вот решится, растерянно переглянулись, а потом посмотрели на седовласую докторшу, которая теперь, перед начальством, приняла вид замкнутый и смиренный. Взывать к ней не имело смысла — фортуна отвернулась от Доллей. Никакие возражения не помогли бы. Одна неудача за другой — что им, на улице жить, что ли?..
— С женой я не расстанусь, — сказал Долль после продолжительного молчания. — Пойдем, Альма. До свидания, господин тайный советник. До свидания, госпожа доктор!
Они вышли обратно на улицу, и на этот раз им было все равно, что солнце светит, а на деревьях шелестит листва. Вопрос «Что теперь?» черной тенью нависал над ними. Конечно, у них были в городе друзья, даже родственники — но как при таком состоянии молодой женщины пускаться в очередной долгий путь, рискуя притащиться к разбомбленному дому?..
— Что теперь?.. Что теперь?.. — и, внезапно оборачиваясь к лечебнице: — Как я ненавижу этого негодяя с его хитрой, любезной рожей! Я не сомневаюсь, что у них есть свободные койки — для нас обоих. Но он знал твою первую жену — я сразу почувствовала, что он сравнил меня с ней и проникся неприязнью. Но куда же нам идти?.. О боже, мне нужно полежать, хотя бы пару часов, тогда мне станет лучше.
— Я думаю, пойдем-ка мы обратно к нашей доброй консьержке. Наверняка у нее есть какой-нибудь диван или кушетка, и ты сможешь прилечь. А я тем временем придумаю что-нибудь еще!
И так как на данный момент они не видели другого выхода, на том и порешили. Обратная дорога была бесконечна: переполненное метро, где никто и не думал уступить больной женщине место, утомительные подъемы и спуски по лестницам, давка, толкотня, ругань: чего плететесь! В его чемоданчике лежала последняя горбушка хлеба — мясо и кофе кончились. Уже перевалило за полдень, а у них до сих пор не было ни крова, ни продуктовых карточек, ни какой-либо надежды все это в ближайшее время раздобыть. Денег у них осталось — после того, как Альма так щедро потратилась на сигареты — меньше двухсот марок.
Мы на краю бездны, думал Долль. Как люди это делают? Яда нам не достать. Вода?.. Мы оба слишком хорошо плаваем. Петля?.. Отвратительно! Газ — но у нас даже кухни с газовой плитой больше нет. И он сказал опиравшейся на него жене:
— Потерпи еще чуть-чуть! Еще чуть-чуть — и мы дома!
— Дома, — эхом повторила она и улыбнулась немного насмешливо. А затем добавила с горечью: — Вот увидишь, какой великолепный дом у нас еще будет!
— Я не сомневаюсь, — отозвался он. — Великолепный дом — я уже весь в предвкушении.
Глава 6 Новые трудности
И вот они и вправду почти что дома. Альма Долль лежала на консьержкиной кушетке, укрытая периной: она внезапно стала мерзнуть. Зубы у нее стучали. Он сидел на краю кушетки, держал ее за руку и озабоченно вглядывался в ее изможденное лицо.
Затем озноб прошел, и она лежала тихонько, измученная до полусмерти. Наконец она открыла глаза.
— Хороший мой, — сказала она, — ты очень рассердишься, если я тебя еще немножко погоняю? По-моему, мне нужен врач…
— Ничего, я не рассыплюсь, — ответил он. — И я вовсе не сержусь. Сию секунду пойду за врачом.
Она притянула его к себе и поцеловала. Он почувствовал, как ее сухие, потрескавшиеся губы оживают от его поцелуя, снова наливаются кровью и становятся податливее.
— Я доставляю тебе ужасно много хлопот, — прошептала она. — Я понимаю, я все понимаю. Но я тебе с лихвой отплачу, ты же меня знаешь. Дай своей Альме выздороветь, и я снова буду тебя баловать, не сомневайся!
— Баловщица моя! — нежно сказал он. — Конечно, я знаю, я все знаю. — Он еще раз поцеловал ее. — Ну, мне надо идти.
— Далеко не ходи! — крикнула она ему вслед. — На нашей улице живет врачей шесть-восемь.
Да, когда-то жили, кое-кто жил и поныне — вот только ходить по домам у них теперь не было времени. Один мог прийти только поздно вечером, другой вообще на следующий день. Долль ни в коем случае не мог допустить, чтобы его жена так долго страдала от боли. Он шел дальше, взбирался и спускался по лестницам, едва соображая от усталости, голода и переутомления, едва переставляя горящие ноги…
Наконец ему все-таки удалось разыскать врача, который готов был прийти сию минуту. Правда, специальность у него была не та, кожные и венерические болезни, но в этот момент Доллю было все равно. Главное: врач к Альме придет! Не могу же я вернуться к ней и в очередной раз сообщить о неудаче! Хватит с нас на сегодня неудач. Кажется, уже вся наша жизнь только из неудач и состоит.
Лицо у врача было такое, будто бы вместо кожи череп обтягивала тонкая папиросная бумага, которая того и гляди порвется. Он напоминал привидение: двигался медленно и осторожно, словно мог в любой миг рассыпаться, говорил тихо, даже как-то беззвучно, словно все слова уходили в туман…
Они вышли на улицу. В сумке врач нес кое-какие инструменты. И внезапно он спросил:
— Герр доктор Долль, вы писатель?
Долль подтвердил.
— Я тоже писатель, — сообщил врач, все в той же безличной, тихой манере. — Вы знаете?..
Долль попытался вспомнить, какая фамилия значилась на табличке. Но в голову лезли только «кожные и венерические заболевания».
— Нет, — ответил он. — Не знаю.
— Ну как же! — воскликнул врач. — Я даже был когда-то известен. И не так давно. — Он сделал паузу и ни с того ни с сего добавил: — Кстати, моя жена бросилась под машину на шоссе.
Вот так химера! — с содроганием подумал Долль. И эту самую химеру я веду к Альме! Надеюсь, хоть ее-то он пугать не будет!
Но у постели больной врач вел себя как подобает. На его папирусной физиономии даже промелькнуло что-то вроде улыбки, когда он увидел детское личико молодой женщины.
— Ну, и что же нас беспокоит, прекрасное дитя? — мягко спросил он. После осмотра, который не занял у него много времени, он сказал, адресуясь скорее к Доллю, чем к молодой женщине: — Заражение крови на ранней стадии. Лучше всего немедленно обратиться в больницу. Я выпишу направление.
— А как же мой муж?! — воскликнула фрау Альма. — Не поеду я ни в какую больницу. Я не оставлю мужа одного!
Долль попытался ее уговорить:
— Но ты же знаешь, какое у нас положение, милая. Сейчас это лучшее решение. В больнице у тебя будет постель! И еда! И покой! И уход! Соглашайся, Альма!
— А ты? А ты?! — упорствовала она. — Тебе-то где придется ютиться, пока у меня будет и покой, и еда, и постель, и уход?! Ты думаешь, я смогу жить не тужить, пока ты будешь кантоваться бог знает где и как?! Ни за что! Никогда!
Чудной врач сидел, опустив голову и не вмешиваясь в спор. Потом взял сумку и сказал без всякого выражения:
— Сейчас я сделаю вам укол, чтобы боль отпустила и вы могли немного поспать. А вечером загляну к вам снова.
— Но до вечера нам надо выместись с этой кушетки! — возразил Долль. — Здесь спит консьержка. А нам, пожалуй, придется сегодня спать на улице!
Ничего не ответив, врач сделал укол. Долль видел, как на лице жены тут же появилось расслабленное, едва ли не счастливое выражение, как только врач впрыснул обезболивающее. (Морфий был ей не в новинку. Ей уже делали уколы от желчных колик.) Она улыбнулась, слегка потянулась, устроилась поудобнее на подушке.
— Боже! Как хорошо! — прошептала она и закрыла глаза.
За каких-то пять секунд она забыла и мужа, и боль, и огорчения, и голод. Да что там — она вообще забыла, что замужем и имеет ребенка. Осталась наедине с собой, в себе. Улыбка не сходила с ее уст. Долль смотрел, как мирно она дышит: похоже, даже дыхание ей сейчас доставляло удовольствие.
Врач тем временем убрал шприц в сумку.
— Я вас немного провожу, герр доктор! — сказал Долль. Он вдруг понял, что просто не может остаться наедине с этой женщиной, которая внезапно стала ему чужой. Несмотря на все раздоры последних недель и месяцев, никогда еще он не чувствовал себя так одиноко, как сейчас.
— Так значит, я зайду еще раз вечером, — повторил врач, словно не слышал их разговора. — Между восемью и девятью. Проследите, чтобы подъезд был открыт.
Долль не стал больше возражать: все равно врач, похоже, не слушает. Некоторое время они шли молча. Затем врач опять заговорил о своем:
— Как будто сто лет назад это было — но я действительно был довольно известным писателем!
Он не хвастался — скорее высказывал вслух мысль, которая не давала ему покою. И следующая его фраза, казалось, была вырвана из того же потока рассуждений.
— Я вколол вашей жене лекарство из моего запаса для самоубийства. Там примерно треть скополамина. Когда вы вернетесь, она будет спать.
И после очередной паузы:
— Да, я покончу с собой — может, завтра, а может, через год. — Он протянул Доллю вялую, влажную ладонь. — Ну вот я и дома. Спасибо, что проводили. Конечно, у меня никогда не было столько читателей, сколько у вас. И да, вечером я зайду еще раз — не забудьте про парадную дверь.
И уже на ходу:
— Сегодня я, впрочем, кончать с собой не стану. Кстати, вы, конечно, знаете, что жена ваша — наркоманка?!
Долль сидел у постели жены. Она крепко спала. Спала как ребенок — с беззаботным, радостным выражением лица. В открытое окно светило осеннее солнце, поддувал свежий ветерок, на улице весело гомонили играющие дети. Но Доллю не было весело: он очень устал и совершенно отчаялся. К тому же его терзал голод. Последний кусок хлеба он давно съел. Больше у них ничего не было.
«Эх! — думал Долль. Почему я не попросил, чтобы мне сделали такой же укол?! Забыть обо всем хоть ненадолго! Этот полусумасшедший не отказал бы. Фамилия его, кстати, Перниз. Припоминаю, он действительно был известен. Кажется, я из его вещей ничего не читал, он писал все больше об искусстве, словно сам был художником. А теперь носится с мыслью о самоубийстве, и жена его бросилась под машину!»
Долль резко выпрямился на стуле. Его чуть не сморил сон, а ведь надо что-то делать. Через три часа стемнеет, а им по-прежнему негде ночевать!
Он встал и поплелся прочь. На лестничной площадке он помешкал и, поскольку понятия не имел, куда идти, опять поднялся в их бывшую квартиру.
На этот раз дверь открыли, едва он позвонил. И не нахалка танцовщица, а фрау Шульц — та самая дама, которой Альма поручила в их отсутствие присматривать за вещами и в честности которой так сомневалась жена консьержа.
Белое, мясистое лицо жены майора Шульца просветлело, когда она увидела Долля.
— Это вы, герр Долль! Я защищала вашу квартиру аки лев — эх, приехать бы вам на пару недель пораньше!.. Теперь у вас будут трудности с жилищным управлением и прочими ведомствами. А где же ваша супруга? Ах, спит — ну слава богу, пока она спит, я хоть в ее комнате приберусь. Этой ночью вам придется обойтись одной кушеткой, другую забрали, но вы туда сходите, и вам ее вернут! Сигаретку не желаете? Как, вы все выкурили? Возьмите, возьмите пачку! Ай, бросьте, я покупаю столько, сколько хочу, у американцев, пять марок штука, немецкие деньги… Подождите чуток, я как раз варила кофе, когда вы пришли, — выпейте со мной чашечку. Не опивки, нет, настоящий кофе! Я его раздобыла за четыреста марок фунт. Это еще дешево, дорогой мой, я покупаю только задешево. Закусим белым хлебушком; у меня есть сыр и, думаю, даже маслице найдется.
Ох, и не говорите. Вы все потеряли?.. Перестаньте, дорогуша, вы понятия не имеете, в каком положении я — у меня не осталось буквально ничегошеньки! Только то, что на мне надето. Нет-нет, сегодня вы мой гость! А может, нам разбудить вашу жену? Верно, верно, лучше мы ей кое-что оставим. Угощайтесь, угощайтесь совершенно спокойно — я сегодня принесу еще. Меня все так балуют… И мне не приходится платить спекулянтские цены. Нет, стеганого одеяла больше нет, его украли. Я даже знаю кто, но, поскольку не могу доказать, голословно обвинять не стану.
Вы, конечно, слышали, что консьержа-то — того? Естественно, арестовали, он же был нацист до мозга костей. Вот бы еще жену забрали — она и того хуже! — Стену пришлось подлатать и подкрасить, я где-то записала, сколько это стоило, скажу вам позже. Работник взял не очень дорого, так, небольшая любезность. Рамы с пленкой и фанерой я одолжила, но время терпит, пока что они могут спокойно постоять.
Разумеется, комната в полном вашем распоряжении, это же ваша комната, и мебель вся на месте! Посуда тоже ваша. Я всегда могу поспать у знакомых, а эту певичку с ее семейкой выселите через жилконтору. Впрочем, они вполне приличные люди — но что это меняет? Нынче каждому своя шкура ближе к телу! Она вас так боится! У них ведь ничего нет, ни одной ложки, ни одной чашки… Кстати, чайничек, в котором сейчас кофе, не ваш, ваши чайники все побились при бомбежке. Мне его дала одна старушка, денег она, конечно, не возьмет. Думаю, фунт сахара и хлеб будет в самый раз. Это не так много, дорогой мой, сахар нынче по сто, а хлеб по восемьдесят — вам же нужен чайник! Ладно, это я обсужу с вашей женой.
Кушайте, кушайте хлеб, на вкус он ничего, хотя и не насыщает. Я как раз собираюсь купить свежий. Может, и варенье удастся раздобыть. Если бы вы приехали вчера, я бы угостила вас пирогом, настоящим сладким пирогом, с толстым слоем сахарной пудры. Увы, увы! Но ничего: я поговорю с моим пекарем, к воскресенью он испечет вам пирог. Дорого он не возьмет…
…Поток ее речей не иссякал — от Долля требовалось только сидеть и слушать. Иногда он вставлял «да», «вот как», «спасибо» — этого более чем хватало. Он доплыл до пристани; наконец-то, наконец-то, когда он совсем было отчаялся, для них все-таки нашлось какое-никакое пристанище. Удобно расположившись в кресле и вытянув уставшие ноги, которые буквально горели, он поглощал белый хлеб — один кусок, три, семь, — пил кофе, выкуривал сигарету и снова принимался за еду. А Шульц говорила и говорила…
Это была женщина за сорок, начинающая увядать — чего она сама пока еще не желала понимать, — в довольно мятой и не очень чистой одежде, но несомненно дама. Во всяком случае, была когда-то дамой — кого из прежних «дам» сейчас повернется язык так назвать?
И вот уже стемнело, у постели горит большой электрический торшер, из радио тихо льется танцевальная музыка. Врач, эта обтянутая папирусом химера, уже побывал у них и снова ушел. Он опять посоветовал ехать в больницу, но потом без долгих разговоров сделал обоим по уколу. Теперь оба расслабленны и спокойны, и морфий дарует сладкий обман, будто никаких трудностей в жизни больше нет.
На столике у кушетки вдоволь сигарет, заварочный чайник с настоящим чаем, банка сгущенки, сахар — и, конечно же, белый хлеб. Они ни в чем не испытывают недостатка, у них есть дом, в котором играет изысканная музыка. Со стен смотрят картины — оригиналы, не то чтобы шедевры, но вполне добротные полотна.
Долли еще не спят. На этот раз врач вколол им чистый морфий, и они тихонько болтают, строят планы… планы?.. Они потеряли всякую связь с действительностью, витают в грезах, любое желание, едва возникнув, тут же сбывается. Квартира принадлежит им, у них вдосталь продуктовых карточек, скоро придет из городка грузовик с малышом Петтой и вещами. Завтра он снова сядет писать книги, в голове роятся планы, его ждет мировой успех…
Салон молодой женщины станет лучшим салоном Берлина. «Прибойчик» журчит о тех платьях, которые закажет у портнихи, и о тех, которые носила когда-то; от Долля здесь не требуется даже поддакивать, он может предаваться собственным грезам. С женой и ребенком он будет путешествовать по миру, о чем мечтал еще до войны. Теперь ненавистная бойня наконец-то закончилась, еще пара месяцев, и они уедут из этого разрушенного города в более радостные края, где всегда светит солнце, где на деревьях поспевают южные фрукты…
Вот так они лежат и грезят наяву, в эйфории, в чаду; наконец-то они сбежали от горькой действительности. У них тысячи надежд, преград больше нет. Они смотрят друг на друга и ласково улыбаются, словно они не супруги, а юные влюбленные или дети…
Плохо натянутая на рамы пленка шуршит под порывами ветра, в выгоревшем сарае под окнами хлопает дверь. С улицы то и дело доносятся какие-то загадочные шорохи. Сыплются ли это обломки?.. Или крысы в подвале ищут нечто ужасное?.. Мир разрушен, и, чтобы заново его отстроить, нужна каждая воля, каждая рука. А они лежат и мечтают. Им нечего больше любить, ни к чему жить. У них ничего нет, и сами они ничто. Малейшая неприятность может низвергнуть их в бездну и навсегда стереть с лица земли. А они мечтают.
— Дай-ка мне еще сигарету! Завтра купим новые. У меня такое чувство, что отныне наши дела пойдут на лад.
Но потом — еще до полуночи — их вновь охватывает тревога. Действие укола закончилось, пленительный обман развеялся.
— Я не могу спать! — и: — Боль нестерпимая! Давай опять позовем врача.
— Уже поздно. Комендантский час! На улицу выходить нельзя!
— Что за чушь! А если я тут рожаю?! Или при смерти лежу?!
— По счастью, ни то ни другое! Завтра утром я первым делом пойду ко врачу.
— Завтра утром — да до утра я просто не дотяну! Я сама сейчас пойду!
— Альма, ну куда тебе — в такой час, да с твоей ногой! Давай уж лучше я!
— Нет, я. Если я действительно наткнусь на патруль, мне-то они точно ничего не сделают!
— Но все подъезды заперты!
— А я как-нибудь да войду. Ты же знаешь свою Альму. У меня все получится!
И она ушла, оставив его одного. По-прежнему играла музыка, по-прежнему ярко светил торшер у кушетки. Но теперь, когда дурман улетучился, он снова видел, в каком положении они на самом деле: помощи ждать неоткуда, здоровье подорвано, и внутри все иссякло — силы, надежда, желание работать… Благодаря папирусной химере да сомнительной бабенке они на пару часов забыли, каково их положение в действительности, но теперь он снова ясно все понимал. Да, у них теперь есть крыша над головой, но в общем и целом лучше не стало, наоборот, только хуже: жена в неурочный час шатается по улицам в надежде на укол морфия! Ему вспомнилось, как прошлой ночью она настаивала, чтобы они ушли с вокзала Гезундбруннен искать медпункт. Тогда она жаловалась на желчные колики; теперь, когда у нее разболелась нога, о желчной болезни она уже не вспоминала. Наверняка и вчера она мечтала только об уколе. Настоящая наркоманка — только этого не хватало!
Уже час ночи — она обещала вернуться быстро, а прошел уже целый час! Он должен подняться, разыскать ее, помочь ей! Но он так и не поднялся. Что тут сделаешь?.. Может, ее арестовали и отвели в участок. Или она сейчас у врача в одном из этих темных домов — как он ее найдет? Оставалось только ждать, опять ждать, вся его жизнь состоит теперь из тщетного ожидания, а в конце поджидает смерть.
Мысли у него путались. Он ужасно устал, к тому же, вероятно, сказывался укол — так или иначе, он заснул. Да не просто заснул: провалился в сон, как в гибельную бездну.
Через какое-то время он почувствовал, как она легла рядом с ним на кушетку. Она была в отличном настроении. Да, патруль ее задержал, но полицейские оказались настоящими джентльменами. «Иди к своему врачу, — сказали они. — Только держи в руке белый платок — тогда тебе никто не причинит вреда!»
Нет, в дом этого чудака герра Перниза она не попала, но нашла другого врача, весьма светского и обходительного человека, который открыл ей дверь в пижаме и без лишних разговоров сделал укол. Она счастливо рассмеялась. О муже она тоже не забыла, она всегда о нем помнит: принесла для него таблетки. Пусть поскорее их примет: врач сказал, они очень сильные, ничуть не хуже морфия. И она снова рассмеялась.
— Смотри, еще я принесла несколько сигарет. Один из патрульных меня угостил. Давай-ка посчитаем: восемь, десять, двенадцать — ну разве не прелесть?
Нет, не прелесть! — чесался язык у Долля. Все идет наперекосяк. Это просто недопустимо — все эти выкрутасы с сигаретами и с морфием. Хватит с них и Шульцихи! Так нельзя жить, будь я хоть сто раз опустошен. Так нельзя жить — иначе мы совсем пропадем. Хватит уже клянчить сигареты и бегать по врачам…
Но вслух он всего этого не сказал. На него навалилась свинцовая усталость, старая апатия одолела с новой силой. Да и не помочь тут уговорами: Альма все равно поступит так, как считает нужным. Какая она далекая, чужая! Он ощущал и воспринимал мир и жену словно сквозь завесу; связь с реальностью прервалась. Его больше ничего не касалось; и как он ни пытался удержаться «здесь», ему это не удавалось. И конечно, он принял таблетки, которые якобы очень сильные и действуют не хуже морфия. Может быть, они прогонят мучительные мысли, унесут его на время прочь с этой земли…
В таком состоянии он жил день за днем — сколько же их было, этих дней? Впоследствии он не мог сосчитать — и она не могла. Иногда он пробуждался от глубокого искусственного сна и видел перед собой затянутое пленкой окно. Снаружи было то темно, то светло, то день, то ночь, но ему было все равно, он даже не пытался встать. А зачем вставать? Делать ему нечего, ни занятий, ни обязанностей у него не осталось.
Он с трудом собирал мысли в кучку, затем осматривался по сторонам. Иногда жена спала рядом, иногда ее не было. Иногда не было его (звучит странно, но иначе не скажешь!): она наседала на него с просьбами, и он тащился ко врачу. Да, он тоже выпрашивал морфий, когда другого выхода не было, но на самом деле он только лежал и ничего не делал, потому что делать ему было нечего и внутри зияла пустота…
Но чаще она ходила сама, хотя нога у нее гноилась, и все врачи в один голос твердили, что ей обязательно нужно в больницу. Врачей вокруг них роилось множество, но ни один из них не знал о существовании других. Иногда, вызвав на один вечер сразу нескольких, Альма начинала бояться, что они случайно столкнутся и тут выяснится, сколько морфия ей на самом деле колют. Но все всегда проходило гладко. Она получала укол за уколом, ему почти ничего не доставалось, зато она снабжала его снотворным. Когда приходили врачи, он одевался и изображал здорового заботливого супруга. Он и сам себе теперь казался привидением, когда сидел в кресле и поддерживал любезную беседу о здоровье жены.
Если же привести себя в порядок не получалось, он прятался в тесном туалете для прислуги и ждал, когда врач уйдет, или сидел в выгоревшей комнате и пялился на развалины: почти вся улица лежала в руинах. Но они его больше не угнетали — ведь он и сам стал руиной…
Когда врачи уходили, он снова ложился на кушетку и вскорости засыпал. Или часами лежал в каком-то оглушенном состоянии. И в течение всех этих дней, сколько их ни было, они не делали ничего, абсолютно ничего. Они так и не сходили в жилищное управление, не похлопотали о продуктовых карточках. Они даже не озаботились второй кушеткой. Они не давали знать о себе друзьям и родственникам, просто лежали и все — пришибленные, оглушенные, обездвиженные, неспособные ни мыслить, ни действовать. Только поиски лекарств и, может быть, еще сигарет поддерживали в них какую-то жизнь…
Естественно, они бы давно отдали концы, если бы о них не заботилась фрау Шульц, а кроме нее некая Дорле, подруга молодой женщины, внезапно нарисовавшаяся, — Долль понятия не имел откуда и почему. (Он и в лучшие-то времена не особо разбирался в многочисленных подругах своей жены.)
Но фрау Шульц не была бы фрау Шульц, у которой даже добрые дела выходили с двойным дном, если бы снабжала больных супругов регулярно. Она говорила, что заглянет завтра, и не появлялась два дня. Долли, впрочем, не очень это ощущали: им что день, что три, что неделя — разницы уже не было. Когда голод становился слишком сильным, Альма тащилась на кухню. С маленькой танцовщицей, которая, кстати, оказалась вовсе не танцовщицей, а актрисой — и не последнего ряда! — а в первую очередь с ее матерью у фрау Долль завязалось что-то вроде дружбы. Обе стороны смекнули, что противник не так плох, как показалось поначалу. Из этих походов на кухню Альма чаще всего возвращалась с куском хлеба или даже с баночкой варенья, а впрочем, иногда и с тарелкой холодной картошки или парочкой сырых морковок. Он больше не возражал — ел то, что она приносила, после чего они снова старались заснуть и забыть обо всем на свете.
Захаживала к ним и эта Дорле, подруга жены. Она была совсем молоденькая девушка, но на ее иждивении находились мать и ребенок. Матери во время штурма Берлина прострелили ногу, и она до сих пор лежала в больнице: рана никак не хотела заживать. А ребенка невозможно было накормить досыта. Нет, эта Дорле не могла, как фрау Шульц, подбрасывать Доллям продуктов, она и сама-то нередко ела у них. Но она прибиралась в комнате, смахивала пыль, понемножку стирала и как могла делала фрау Долль перевязки. Кроме того, она всегда готова была найти новых врачей — в придачу к старым. А врачей, считали Долли, много не бывает.
Что же касалось их финансового положения, то без бриллиантового кольца фрау Долль им пришлось бы туго. На протяжении недели или двух фрау Шульц обеспечивала Доллей всем необходимым, но потом перестала — вероятно, из-за нехватки денег. Она ничего им не говорила, но внезапно куда-то пропали белый хлеб, хороший кофе и сигареты; вместо вечного «Дешево! Дешево!» с губ фрау Шульц теперь слетали только жалобы: «Цены ломовые! Дети! Дети!»
И однажды фрау Долль, к удивлению мужа, заявила, что хочет заложить бриллиантовое кольцо — нет, не продать, она его слишком любит, а только заложить. Долль возражал, но вяло — другого выхода все равно не было. Они лежат, слабые и больные, никто не подкинет им денег, а без денег никуда — ну так что же! Заложить — отличная идея, когда-нибудь потом Альма вернет кольцо себе. Ведь произойдет же когда-нибудь поворот к лучшему, и они смогут выкупить кольцо. (При этом он прекрасно понимал, что лжет и себе, и ей: никакой надежды на поворот к лучшему у них не было.) Заложить кольцо поручили фрау Шульц.
Она вернулась с кольцом на следующий день. Она-де нашла серьезных покупателей, готовых заплатить немалые деньги, но в залог брать кольцо никто не хочет. Ссуживать деньги по нынешним временам невыгодно: за целый месяц не выручишь столько, сколько заработаешь за день на черном рынке. А вот купить кольцо эти серьезные люди не прочь, и после долгих расспросов фрау Долль выяснила, что предлагают за него двенадцать тысяч марок. Ничего не скажешь, цена хорошая, правда? Но и кольцо стоящее: платиновая оправа, сверкающий белым огнем бриллиант, чистой воды, почти пять четвертых карата.
В деловом отношении фрау Альма нередко удивляла — даже собственного мужа. Она забрала кольцо обратно.
— Нет, — сказала она мужу, когда фрау Шульц ушла, — если они предлагают двенадцать тысяч, то заплатят и пятнадцать, и не исключено, они пятнадцать и предложили, а три тысячи разницы Шульциха просто хочет прикарманить. Нет, я продам кольцо через Бена, у него связи получше, чем у Шульцихи…
Бен!.. Это кольцо — подарок первого мужа — принадлежало Альме, и Долль ни в коем случае не собирался лезть с советами. Но тут воскликнул, на миг очнувшись от апатии и снотворного дурмана:
— Дался тебе этот Бен! Вспомни, как гнусно он с нами обошелся!
— Во всем виноваты эти бабы! — возразила фрау Альма. — Ты же помнишь, он в тот день был ужасно занят.
— У него для тебя даже сигареты не нашлось! — рявкнул Долль.
— У нас тоже часто нет сигарет, — ответила Альма. — Ну почему не попробовать? Вот увидишь, через Бена мы выручим гораздо больше!
— Делай что хочешь! — Апатия вновь овладела Доллем. — Только смотри, как бы Бен опять тебя не разочаровал!
Вскоре после этого разговора к супругам явился герр Бен — они еще лежали в постели, хотя стрелки часов подбирались к полудню. Герр Бен если и удивился, то виду не подал; уже седоватый, но со сверкающими темными глазами, он поцеловал молодой женщине руку, внимательно осмотрел кольцо, заявил, что в драгоценных камнях ничего не смыслит, но, разумеется, постарается выговорить сумму, назначенную владелицей, — двадцать тысяч марок. Альма не сомневалась: Бен своего не упустит, поторгуется как следует, уж она-то его знает. Дав им полторы тысячи марок, которые у него случайно оказались при себе, — очень своевременное вспомоществование, — герр Бен удалился с кольцом, целуя ручки…
Может быть, фрау Шульц разозлилась, что кольцо уплыло у нее из-под носа (а с ним, вероятно, и приличные комиссионные), а может, дело было вовсе не в этом — так или иначе, нюх на деньги у нее оказался потрясающий. Не прошло и полдня, как Долли получили от Бена полторы тысячи марок, а фрау Шульц уже появилась с записной книжечкой, — и тут выяснилось, что Долли задолжали ей сумму, которая эти полторы тысячи существенно превосходит. Она зачитывала бесконечный перечень сигарет, кофе, сахара, соли, пирогов и картошки, а они лишь изумленно внимали. Даже про стену, которую рабочий «любезно» подлатал, фрау Шульц не забыла — за эту самую «любезность» требовалось немало заплатить. С самого первого дня все было учтено и посчитано, даже то, что вроде бы преподносилось как подарки, за которые они ее от всего сердца благодарили, — теперь выяснялось, что все это она для них покупала, и недешево — ох недешево! Кроме того, нельзя было исключать, что фрау Шульц записала на их счет не только те сигареты и кофе, которые действительно им приносила, но также сигареты, которые никто никогда не курил, и кофе, который никто никогда не пил…
Вся эта сцена могла бы закончиться большим скандалом, после которого, однако, они бы навсегда расплевались с этой ушлой особой, — если бы супругам Долль не было бы настолько безразлично, что происходит с ними и вокруг них. Короткая вспышка гнева и та разразилась, когда Шульц уже ушла (эта добрая душа, сбросив такую бомбу, предпочла отбежать на безопасное расстояние и оттуда наблюдать за детонацией). Альма поклялась, что больше никогда ничего у Шульцихи не возьмет, ни единой сигареты! После чего полторы тысячи марок перекочевали в чужой карман, а Бена известили через Дорле, что им опять срочно нужны деньги.
Однако прошло несколько дней, а от Бена не было ни слуху ни духу. Наконец он пришел, но новости принес неутешительные: кольцо до сих пор не продано. К его большому сожалению, цены на золото и драгоценные камни сейчас падают — прямо скажем, не самый удачный момент для продажи. Впрочем, есть у него на примете человек, который, возможно, готов будет заплатить не всю требуемую цену, но около того — не двадцать тысяч, а девятнадцать или восемнадцать. Как бы то ни было:
— Ты же знаешь, Альма, я сделаю для тебя все, что в моих силах!
А пока что он готов пожертвовать им две тысячи марок из собственных средств — хотя у него и самого финансовое положение не ахти, как он неоднократно подчеркнул.
Утлая лодчонка Доллей снова была на плаву, они выплатили все долги Шульцихе, и с тех пор их снабжала Дорле.
Глава 7 Разлучение Доллей
Долли никогда не смогли бы подсчитать, сколько дней и недель пролежали на кушетке. Время тянулось бесконечно, и они жили в полусне, не занимаясь ничем, что выходило за пределы насущнейших надобностей.
Потребность молодой женщины в обезболивающих уколах, которой потворствовали врачи, возрастала, а гнойник на бедре, который никто толком не лечил, представлял все большую опасность. И врачи требовали все настойчивее: «Либо отправляйтесь в больницу, либо пишите отказ от лечения!»
Финансовое положение Доллей тоже было аховое. Бен приходил когда вздумается и денег приносил все меньше. Кольцо он до сих пор не продал и по-прежнему «жертвовал» им из собственных денег, и суммы уменьшались на глазах: вначале тысяча марок, потом пятьсот. Положение на рынке драгоценных камней оставалось скверным. Сейчас продавать кольцо невыгодно, они не выручат за него и пятнадцати тысяч, а то и гораздо меньше. Но он-де прикладывал все усилия, этот верный Альмин друг…
И вот однажды молодая женщина вдруг решительно заявила:
— Сегодня я лягу в больницу!
А через мгновение добавила:
— Но сперва устрою тебя в лечебницу!
И это оказались не пустые слова. Она принялась за дело с энергией, какой не демонстрировала уже много дней и месяцев. Она собрала для мужа немного белья и туалетных принадлежностей, а когда он спросил: «А что возьмешь ты?» — она отмахнулась:
— Об этом не думай, уж я-то не пропаду!
Если бы не сонное безразличие ко всему миру, Долль не уставал бы удивляться внезапной активности жены, которая пробилась аж к бургомистру округа и выклянчила машину, чтобы отвезти тяжелобольного мужа в лечебницу.
И вот в какой-то момент Долль пробудился от глубокого сна, подобного смерти, — сна, в котором ему ничего не вспоминалось, не снилось и, кажется, даже не дышалось… Все еще плохо соображая, он недоуменно огляделся, пытаясь понять: где он и куда делась Альма?.. Она все время лежала рядом, он чувствовал это, а теперь ее не было — он остался совершенно один. Это открытие так сильно его встревожило, что даже разогнало наркотический туман в голове; он сел в постели и осмотрелся…
Он сидел, укрытый одеялом в синюю клеточку, на железной койке, которая некогда была покрашена белой краской, но с тех пор изрядно облупилась. Комнатушка была крошечная, и кроме этой самой койки, в ней не помещалось больше ничего. На высоту человеческого роста стена была выкрашена зеленой масляной краской, а дальше побелена, как и потолок, под которым горела электрическая лампа. Кусок штукатурки с потолка обвалился, и в зияющей дыре виднелись доски перекрытий, а за ними — переплетение труб…
Мгновение он разглядывал дыру над головой, пытаясь сообразить, где уже видел этот потолок с обвалившейся штукатуркой. И вдруг его осенило. Он вспомнил ночь с 15 на 16 февраля 1944 года и один из худших в его жизни налетов, который длился пятьдесят пять минут. Пятьдесят пять минут в непосредственной близости от лечебницы падали бомбы, и за углом большой фугас все сровнял с землей. Больные и сестры, укрывшиеся от бомбежки в подвале, который наполовину выдавался из-под земли и, конечно, для этих целей не подходил, со всех сторон видели зарева пожаров. А когда после отбоя они выбрались наверх, пол в палатах был усыпан стеклянной крошкой, потолки почти всюду обрушились, и именно тогда отвалился этот кусок гипса.
Он помнил все это очень ясно; и внезапно на него вновь накатил ужас и страх той ночи. Как будто вот-вот завоют сирены и загонят его в подвал, обрекая на очередной час мучений.
Но потом он опомнился: ведь наступил мир, мир… Сирена больше не завоет. Он спокойно может спать в «буйной палате» до самого утра — в этой самой «буйной палате», которую сестра Эмеренция именовала попросту «каморочкой». Но как он, герр Долль, очутился в этой каморочке?! Он что, плохо себя вел, буянил? В лечебнице он уже бывал не раз, но здесь еще не оказывался! Ладно, во всяком случае, он лежит не на голом матрасе — ему поставили койку, значит, не так уж все и плохо! И к тому же — он только в этот миг заметил: окованная железом дверь лишь притворена, а значит, ничего ужасного он не натворил.
Он осторожно спустил ноги с койки. Снотворное еще действовало, Долля пошатывало, но если держаться за стену, то идти можно. Невольно он огляделся в поисках тапочек и халата. Но потом вспомнил, что подобных роскошеств у него давно нет. Тогда он накинул на плечи одеяло и вышел в коридор, а оттуда — в вестибюль.
В большом бархатном кресле при свете маленького ночника сидел, как всегда, дежурный. Некоторое время Долль разглядывал его издалека. Нет, это не симпатичный голландец, который проработал на ночных дежурствах всю войну и, бывало, тащил упирающихся больных из коек в подвал, когда с неба уже вовсю сыпались бомбы. Дежурный был незнакомый. Ну и ладно!..
Долль кашлянул и двинулся к нему. Дежурный очнулся от легкой дремы, вгляделся в полумрак и с облегчением откинул голову, узнав Долля.
— Ну что, проснулись? — осведомился он. И добавил: — Смотрите не простудитесь, босиком-то!
— И не подумаю! — отозвался Долль, усаживаясь в плетеное кресло напротив дежурного и закутывая ноги одеялом. — Я никогда не простужаюсь. Крепкий я. Однажды зимой я полдня пролежал под дверью кухни на кафеле, и ничего со мной не случилось.
— Ну надо же! — ответил дежурный. — А зачем вы это сделали?
— Уже не помню! — ответил Долль. — Наверное, хотел получить лекарство, которое мне не давали… Вы теперь вместо Симона Боома?
— А это кто? Ах да, понял, голландский дежурный! Нет, с ним я не пересекся. Он сделал ноги, как только война кончилась. Я здесь всего пару недель.
— А еще кто-нибудь из старой гвардии остался в отделении? Вы наверняка слышали, что я и прежде нередко бывал здесь. Так сказать, завсегдатай.
Он произнес это не без гордости. Время от времени он попадал сюда, когда его истрепанные нервы, никогда не отличавшиеся крепостью, окончательно сдавали. Он переживал здесь очень тяжелые периоды, когда, не имея сил бороться с депрессией, начинал сомневаться в собственном рассудке, — но все же выкарабкивался. А потом в один прекрасный день он объявлял, что выздоровел, и возвращался к работе…
Он любил лечебницу, а особенно это отделение с длинным коридором, ведущим к туалетам, в котором днем и ночью не стихали шаги больных. Любил он и сам коридор, устланный бурым линолеумом: сколько в него выходило белых дверей, все без ручек, зато с замками, которые могли открыть только медработники, и с большими окнами, через которые можно в любую палату заглянуть снаружи, — с окнами, сделанными из такого толстого стекла, что даже самый буйный больной не мог бы разбить его ножкой стула.
Он любил таинственную атмосферу, повисавшую в отделении после каждого «летального исхода», санитаров, которые бестолково топтались в коридоре и шугали больных по палатам: никому не следовало знать о смертельном случае. Всегда это было «стыдно», если кто-то умирал в лечебнице, все работники считали смерть пациента почти что личным позором: здесь не умирают, здесь выздоравливают! И чаще всего руководству удавалось незадолго до кончины потихоньку переправить лежащего при смерти в городскую больницу.
Он любил «шоковые дни», когда больных потчевали кардиазолом, инсулином, а то и электрическим током. Сидя в своей палате, он слышал, как пациенты вскрикивают, словно в эпилептическом припадке. Когда они теряли сознание, наступала глубокая тишина, словно те, кого в этот раз пощадили, боялись шелохнуться — лишь бы не навлечь на себя подобную участь.
Особенно любил он запретные посиделки на здешней кухне, где, правда сказать, ничего не готовили, а только мыли посуду, любил долгие разговоры с санитаркой, которую знал много лет… Она по возможности баловала его всякими лакомствами. Ему нравилась эта женщина: она была моложе его, еще сохраняла остатки привлекательности, но вот уже двадцать лет жила среди умирающих и, утратив все иллюзии, тем не менее всегда готова была прийти на помощь и ободрить хотя бы шуткой.
Любил он и обходы врачей в длинных, безупречно белых халатах: каждый больной был для них всего-навсего случай, к которому они тут же теряли интерес, едва миновала острая стадия. В глубине души его забавляли эти психиатры, которые пристально следили за малейшими переменами в настроении пациента, но не придавали ни малейшего значения телесным страданиям. Он любил здешних врачей именно за то, что чем дольше они работали, чем больше опыта приобретали, тем разительнее походили на собственных подопечных, подобно им утрачивая связь с действительностью.
Он любил прогуливаться в маленьких садиках, огороженных высокими стенами, которые походили на что угодно, но только не на садики, и являли собой совершенно безотрадное зрелище. Он любил внезапный шум в коридоре, когда разошедшегося больного спешно волокли в буйную палату или в ванную. Он любил все это заведение с его густой, удушливой атмосферой, любил возникавшее здесь чувство защищенности, любил жизнь за узкими зарешеченными окошками: в лечебнице он всегда ощущал себя как дома.
— Скажите, — спросил он ночного дежурного Бахманна, — почему меня положили в карцер? Неужели я буянил? Может, что-то разбил?..
— Что вы, ничего подобного! — ответил дежурный. — Вы вели себя смирно, как ягненок. Но когда вы прибыли, других свободных палат не оказалось — вот вас туда и запихнули.
— А вы тут были, когда я прибыл? Мою жену видели?
— Нет, вы появились не в мое дежурство, после обеда. Так что ничего не знаю. Вы были, похоже, чем только не накачаны, но здесь вам тоже сразу вкололи лекарство.
— Вот как! — воскликнул Долль. И: — Ага!
И больше ничего не сказал — затих, плотно закутавшись в одеяло. До него внезапно дошло, что он даже не знает, в какую больницу Альма попала! Он не мог ей написать, не мог отправить посыльного, не мог позвонить. Он остался один, впервые за долгое время опять остался один-одинешенек, — и тут же ощутил, что еще очень слаб и чувствует себя прескверно.
Он поднялся и принялся расхаживать туда-сюда, накинув одеяло на плечи. Так он и прежде часто слонялся по этому коридору, убивая бесконечные бессонные часы.
За этим занятием его и застала ночная медсестра. Звонким старческим голосом она крикнула, вовсе не думая о том, что поблизости спят люди:
— А вот и наш герр доктор Долль снова к нам пожаловал! Ну что, герр доктор, как вы? Как вам каморочка? Хи-хи, хи-хи, это сестра Эмеренция смешно придумала — поселить в каморочку герра Долля, нашего постоянного посетителя! Да не переживайте вы, герр Долль, все будет хорошо! Дело в том, что у нас более двухсот заявок и уже несколько недель ни одной свободной койки. А уж когда являются вообще без заявки…
— Очень даже по заявке, — пробурчал Долль. Это была не совсем правда, но все же…
— Да-да, конечно! — воскликнула сестра еще ретивей и звончей. — Нет ничего стыдного в том, чтобы лежать в карцере, когда речь о таком умнице и паиньке, как герр доктор, правда же, герр Бахманн? — Дежурный поддакнул. — Но давайте-ка мы потихонечку пойдем обратно в постельку! Еще рановато тут разгуливать, всего половина третьего… Не ровен час простудитесь!
— Я никогда не простужаюсь…
— Да бросьте, конечно же, простужаетесь. А если вам не спится, я вам дам чего-нибудь хорошенького. Что хотите принять, чтобы заснуть?
Даже если бы раньше у него и мыслей таких не было, вопрос медсестры тут же пробудил приобретенный в этих стенах рефлекс вымогать столько снотворного, сколько удастся. Он махнул рукой:
— Ах, оставьте меня, лучше уж я здесь погуляю! Вы же все равно не дадите мне ничего дельного, вы просто обманываете несчастных, страдающих больных!
Медсестра Трудхен звонко вскрикнула от ужаса.
— Но, герр доктор, как же вы можете такое говорить, вы, образованный человек! Когда это я вас обманывала? Разумеется, — продолжала медсестра, — если кто-то все время безобразничает и не слушается, я могу вместо люминала дать скополамин. Но это ни в коем случае не обман — это медицинская необходимость!
— Да что вы!
— Но лично вы, герр доктор, никогда не давали повода так поступать! Ну вот что — хотите, я вам дам паральдегид? Вы его всегда уважали и называли шнапсенцией!
— Ну допустим, и сколько вы намерены мне дать? — осведомился Долль, теперь уже с живым интересом. Паральдегид — неплохое предложение от Трудхен, которая хорошо знает, с кем имеет дело, — ведь она более тридцати лет проработала ночной сестрой в лечебнице. Она без труда заменяла дежурного врача, поэтому тайный советник позволял ей свободно распоряжаться медикаментами.
— Сколько я намерена вам дать? — переспросила медсестра и быстро бросила на Долля испытующий взгляд, оценивая, сколько ему нужно. — Ну, пожалуй, три кубика параля…
Долль резко запахнул одеяло и потопал прочь.
— Эти ваши три кубика параля оставьте себе, сестра Трудхен, — презрительно бросил он. — Уж лучше я буду гулять тут всю ночь, чем позволю себя пичкать такими детскими порциями, — и, удаляясь, добавил с нажимом: — По меньшей мере восемь!
Крики, уверения, уговоры. Герр доктор Долль-де отлично знает, что максимальная доза — пять. Ну и что? Кто-то назначил эту максимальную дозу — герру Доллю-то до этого какое дело? Его так просто не возьмешь! Он и шестнадцать кубиков параля, бывало, принимал. (Лихо он сочиняет на ходу!) Они начали торговаться, сестра Трудхен упрашивала и умоляла, Долль оставался горд, аки испанец, отвергал нищенские подачки, всем своим видом показывал, что в любой момент готов развернуться и уйти, но в глубине души забавлялся происходящим. Он думал: как же вы глупы! Я бы прекрасно заснул и безо всякого снотворного, у меня этим снотворным полна каждая клеточка тела. Но теперь это уже дело принципа! В итоге сошлись на шести кубиках. Долль пообещал немедленно улечься в постель, сестра поклялась, что не будет разбавлять паральдегид водой.
— Если он сожжет вам глотку, герр доктор, пеняйте на себя!
И вот Долль снова в каморочке, лежит в постели. Хорошее место эта лечебница, в некотором роде просто превосходное. В ожидании своего шнапсоподобного снотворного напитка он устроился поудобнее, закинув руки за голову. Мельком он вспомнил Альму, но уже без тоски, без жгучего желания немедленно броситься к ней. Какая в этом необходимость? Альма тоже в больнице, ее рану лечат, повязку меняют — все у нее хорошо, равно как и у него, так зачем переживать?
Как всегда в этом заведении, снотворного пришлось ждать довольно долго. Так пациентам внушали мысль, что лекарство очень ценное, хотя на самом деле сестры просто никуда не торопились. У больных здесь времени навалом — могут и подождать. Долль слышал, как сестра Трудхен во весь голос, не стесняясь треплется с ночным дежурным в сестринской. Прежде, бывало, он возмущался подобным пренебрежением — совершенно не уважать хрупкий ночной сон больных. Но теперь лишь улыбка появилась на его устах. Это тоже неотъемлемая часть лечебницы. От этого галдежа страдает лишь само заведение: снотворного расходуется еще больше!
И тут же Доллю стало совершенно ясно, что это дурацкое умозаключение: врачам-то никак не вредит, если больные выпивают слишком много снотворного. Вредит это разве что самим больным, которые весь день потом ходят словно пыльным мешком ударенные. Что касается Долля, то сестре Трудхен тоже все равно, примет он три, или восемь, или шестнадцать кубиков паральдегида. По совести говоря, паральдегид ему вообще не нужен — и так глаза слипаются. Иззябшие члены постепенно отогрелись, оставалось только перевернуться на бок и заснуть.
Но нет, гораздо лучше отключиться в один миг: раз, и нет тебя.
Есть одно стихотворение, которое предваряет сборник новелл Ирены Форбс-Моссе. Называется оно «Маленькая смерть» и начинается примерно так: «О маленькая смерть, как ты прекрасна, когда на небе звезды светят ясно…»
Конечно, поэтесса имела в виду совершенно другую смерть, но Долль именовал «маленькой смертью» эту мгновенную отключку после приема лекарств. Он эту смерть любил. В последнее время он так часто думал о ее старшей сестре, «большой смерти», сжился с нею, сроднился; он привык смотреть на нее как на последнюю свою надежду — уж она-то его не разочарует. Еще поднакопить решимости — и все получится. А пока решимость никак не накапливается, ему остается «маленькая смерть». И сейчас он ждал шесть граммов параля, и, как только они попадут в его организм, все эти размышления и рассуждения мигом кончатся. Больше не нужно страдать, не нужно объяснять самому себе, почему герр доктор Долль поступает так, а не иначе, а вот об этом вообще не заботится — никакого Долля попросту не останется…
И все же сестре пора, пора бы уже принести снотворное. Долль рывком поднимается с кровати. Идет к сестринской, дверь нараспашку. Ночной дежурный тут же замечает его:
— А вот и опять доктор Долль! Идите, сестра, дайте ему скорее лекарство!
Сестра берет коричневую склянку и восклицает (она все еще обижена несправедливыми подозрениями герра Долля):
— Пожалуйста, герр доктор может убедиться, что я его не обманываю! Я — и обманывать! Да я скорее дам больше, чем меньше!
И она цедит лекарство. Слышится характерный запах параля — воняет он отвратительно. Но Доллю запах нравится, очень нравится! Он с напряженным вниманием наблюдает, как медсестра наливает лекарство, и согласно кивает, когда сестра говорит:
— Вот видите: почти семь получилось! Ну что, убедились, герр доктор?
Но он больше не в настроении разговаривать. У него в руке скляночка с лекарством, наконец-то, наконец-то он раздобыл себе глубокий сон, «маленькую смерть», запах обволакивает его. Нет, хватит разговоров. Лицо у него серьезное, почти мрачное: он наедине с собой и своим сном. Он одним духом выпивает содержимое стаканчика. Лекарство обжигает горло сильнее, чем самый крепкий шнапс, плавит рот, перебивает дыхание. С большой неохотой он отхлебывает воды, разжижая великолепный вкус смерти. Затем бросает взгляд на сестру и дежурного, говорит: «Спокойной ночи», — и возвращается обратно в карцер, в свою постель. Лежит еще мгновение, закинув руки за голову, застывшим взглядом смотрит на лампу.
В голове сгущаются облака, ему хочется подумать о том и о сем, но он уже уносится далеко от этого мира, отдаваясь своей возлюбленной «маленькой смерти»…
Иногда он просыпается, и каждый раз в разном настроении. Иногда он часами лежит в своей каморочке мрачный, едва цедит слова, отворачивается к стене и во время обхода не отвечает ни на один вопрос. Или тихонько плачет часами; ему бесконечно жалко себя и свою пропащую жизнь, он чувствует, что должен умереть. В такие дни он ничего не ест и не пьет, желая сдохнуть всем им назло в этой вонючей дыре… А в иные дни он снова бодр и весел и, накинув одеяло на плечи, слоняется по больнице, беседует с другими пациентами.
Молодой врач относился к нему дружелюбно, искренне хотел помочь, пытался разобраться, откуда взялась в душе Долля эта смесь безразличия и отчаяния. Но Долль не желал об этом говорить — не исключено, что он никогда ни с кем об этом говорить не сможет, даже с женой, с Альмой. Может быть, однажды он выберется из этой ямы — но только когда все перемелется. Иногда он даже верил, что выздоровеет, что появится в его жизни нечто новое и заполнит пустоту внутри. Но такие минуты выдавались редко.
По большей части он старался сбить молодого врача со следа: пересказывал случаи из жизни, говорил о книгах, участливо выслушивал его жалобы — зарплата плохая, снабжение и того хуже, переработки, да еще и тайный советник с подчиненными обращается кое-как. Иногда Долль пытался выяснить у молодого врача, какие еще существуют способы самоубийства. При этом он проявлял большую изворотливость: собирал материал о цианистом калии, морфии, скополамине, смертельных дозах, о впрыскивании воздуха в вену с целью спровоцировать эмболию, об инсулине, который практически не оставляет следов. Он собирал материал и готовился к тому часу, когда у него наконец достанет мужества сделать «это» — ведь другого выхода у немцев все равно не осталось.
Часть II Выздоровление
Глава 8 Самовольная выписка
Пока Долль вел бездеятельное существование «наверху в мужском третьем», постепенно возвращаясь в реальность, так как снотворного ему давали все меньше и меньше, от его наметанного глаза не могло укрыться, что состав пациентов существенно изменился по сравнению с былыми временами. Паралитики и шизофреники отошли на второй план, зато стремительно прибывали люди, которые, по всей видимости, не страдали болезнями ни духа, ни души.
Чаще всего эти пациенты появлялись под вечер, изредка — в сопровождении родных. Они веселились, хотя веселье это было какое-то кладбищенское, охотно трепались и щедро раздавали направо и налево дорогущие английские и американские сигареты. Потом двое санитаров ласково уговаривали их принять ванну, и, пока они мылись, медсестра и санитарка тщательно обыскивали их вещи. Иногда Долль становился свидетелем таких обысков и наблюдал, с какой педантичной аккуратностью они прощупывали каждый кармашек, каждый конверт, в то время как обычно довольствовались изъятием всех колющих и режущих предметов, ну и разве что еще пояса от халата, на котором некоторые депрессивные пациенты норовили повеситься.
Когда новоприбывшие выходили из ванной, их, как бы они ни противились, тут же укладывали спать. Больше никаких разговоров с другими пациентами — у кровати занимала пост медсестра, появлялся молодой врач, зачастую делал внутривенную инъекцию, и пациент засыпал. В сонном состоянии его обычно держали неделю. Иногда из палаты доносились крики, шум, шарканье подошв, через окошко в двери Долль мельком видел фигуру в пижаме, борющуюся с сестрой и санитаром, он слышал: «Я не сумасшедший! Я хочу…» И ласковые уговоры: «Потерпите секундочку, герр доктор! (Почти ко всем пациентам обращались «герр доктор».) Сейчас придет врач…»
Прибегал вызванный по телефону врач, а нередко и тайный советник, опять уколы, новое снотворное — и воцарялась тишина.
По прошествии недели пациент появлялся в коридоре — его вела за ручку медсестра. С отекшим лицом, оглушенный снотворным, он брел в туалет и из туалета, и довольно часто случалось, что по пути он вдруг останавливался, упирался лбом в стену и стонал:
— Не могу больше, не могу! Какой я был идиот, зачем сюда лег!
Идиот или не идиот, но даже дилетанту было видно, что лечение продвигается стремительно. Большинство уже на третьей неделе бегали по коридору одетые, припадали к окну вестибюля и, глядя на вольную улицу, твердили нетерпеливо:
— Скоро я выйду из этой лавочки!
И они действительно вскоре исчезали, особенно те, кого «герр доктор» называли по праву, и в освободившуюся палату въезжал новый подобный больной.
Даже менее опытный в таких делах человек, чем Долль, через три дня сообразил бы, что это за чудные пациенты. Его догадку вскоре подтвердил и очередной разоткровенничавшийся «доктор»:
— Да уж, дорогой мой, вам хорошо, вы можете здесь торчать сколько влезет. А мне нужно убраться как можно скорее. Никто не должен знать, что я здесь, а главное, почему.
Естественно, никто не должен был знать. Ведь все это были врачи — подсевшие на морфий врачи, — которых здесь втихую, тайком от грозного департамента здравоохранения, лечили от зависимости. Врачи среди них преобладали потому, что морфий в последнее время достать было трудно, а у врачей он всегда под рукой. Будь этого наркотика в достатке, будь его проще купить, наверняка три четверти немецкого населения глушили бы им болезнь эпохи — бездонное отчаяние и безразличие.
Так что в основном это были врачи или богатые люди, которые могли позволить себе морфий по ценам черного рынка. Начинали они с одного-двух уколов. Эти уколы даровали безмятежность; забывались холод и голод, притуплялась тоска по утраченному и утраченным. Постепенно дозу приходилось увеличивать. Неделю назад хватало одного количества, а теперь требовалось совершенно другое. Доза росла и росла. Поначалу они ограничивались укольчиком перед сном, но вечера тянулись невыносимо долго, а укол помогал скоротать время; и вот они уже и утром не могли подняться, ведь впереди ждал очередной бесконечный, беспросветный день. Они потребляли столько морфия, что аптекари злились, а сами они утрачивали всякую способность работать. Иногда тревогу начинали бить их жены, родные и друзья — ведь на кону стоял брак, налаженный мещанский быт, само их существование: морфинист переставал быть врачом, он сам становился тяжелобольным. И несчастного спешно запихивали в лечебницу. Всем окружающим сообщали, что доктора подкосила ангина, друг-коллега временно брал на себя их практику — лишь бы департамент здравоохранения не узнал, лишь бы чиновное начальство не пронюхало!
В этой нескончаемой веренице наркоманов Долль видел товарищей по несчастью, таких же людей, как он сам, которые больше не верили ни в себя, ни в Германию, сломались под гнетом стыда и унижения и сбежали в искусственный рай. Все они искали — точно так же, как и он, — «маленькую смерть». У всех у них, возможно, еще оставалась крупица надежды, удерживавшая их от последнего шага, им пока еще недоставало — как и Доллю — последнего, решающего толчка. Всюду одно и то же: бегство от действительности, отказ взваливать на плечи непосильный груз, на который обрекла немцев позорная война.
Но и за его собственной фигурой, и за этими мимолетными гостями третьего мужского отделения маячила темная, грозная масса: немецкий народ. Было время, когда Долль питался иллюзиями, но и тогда он знал, что не один лежит на дне чудовищной воронки, что с ним вместе — весь немецкий народ. От этого народа они оторвались: и врачи-морфинисты, и сам Долль. В бесконечные ночи, когда он мерял шагами бурый линолеум коридора, в бесконечные дни, когда он валялся на больничной койке, пялясь на лампу под потолком, он думал, размышлял, оглядывался на путь, который привел его сюда, в это эгоистическое уединение. Где он трусливо спрятался от задачи, которая стоит перед ними всеми…
А народ остался снаружи. От этого невозможно было отмахнуться: за стенами лечебницы народ продолжал биться за жизнь, и Долль к нему принадлежал. Пока он, ничего не делая и только жалея себя, прозябал в лечебнице из милости, потому лишь, что и прежде здесь лечился, народ работал в поте лица. Разбирал противотанковые заграждения и уличные завалы, перекрывал крыши и утеплял к зиме жилища. Раскапывал полусожженные станки и приводил их в рабочее состояние. Голодал, замерзал, чинил железнодорожные пути, под ледяным октябрьским дождем копал картошку и бесконечными вереницами тащился по дорогам, довольствуясь самым малым.
Пока Долль с завистью высматривал, какие у других больных добавки к рациону, в грудях матерей иссякало молоко и дети умирали от голода. Пока Долль ругался с ночным дежурным из-за дополнительной дозы снотворного, старики и старухи, до смерти уставшие, ложились и навсегда засыпали в придорожных канавах, в сыром лесу. Пока возвращающиеся домой солдаты искали свои дома, жен и детей, еду и работу, искали много недель подряд — и не отчаивались, — герр доктор Долль и шагу не сделал, и пальцем не шевельнул, чтобы раздобыть жилье и питание. Пока Долль паразитировал на украшениях, проданных женой, и горько сетовал, что ему недостаточно споро подносят тысячи денег, которые он тут же бездарно спускал, хрупкие девушки брались за самую тяжелую работу и за день зарабатывали столько, что не хватало даже на одну-единственную сигарету, — по цене, к которой Долль давно уже привык.
Да, он действительно заблудился, погряз в постыдно бесполезном, лодырском существовании. Он ясно видел путь, который привел его в эту палату для буйных, видел, как с того самого 26 апреля все глубже погружался в хлябь и топь. И все же он не понимал, как ему удалось этот путь пройти. Сколько эмоций растрачено на безвредного дурачка Виллема-порося! Как пивовар Цахес мог настолько выбить его из колеи! Он же всегда знал, каковы они, эти нацисты. Эта бессмысленная беготня по врачам, снотворное и уколы, которые ничего не меняли, а только мешали принимать необходимые решения!
Но было и еще кое-что. Этот внезапно очнувшийся доктор Долль, этот писатель, который считал, что писать больше не о чем, этот скептик и мыслитель, который верил, что опустошен, этот экс-бургомистр, который не справился с возложенными на него обязанностями, этот отец и муж, который о детях и жене забыл напрочь, — он внезапно вспомнил о детях, стал переживать за жену. Теперь, когда он чувствовал, что идет на поправку, что, может быть, не все еще сделано в этой жизни, что его место — среди ожесточенно вкалывающего народа, — теперь он думал о жене и боялся за нее!
К этому времени он уже получил о ней кое-какие известия. Сама она не давала о себе знать, но однажды его навестила та самая Дорле, верная подруга Альмы, принесла ему новехонькую ночную сорочку, сигареты и полбуханки белого хлеба. О да, жена о нем думала, она его не забывала, заботилась о нем и старалась для него. Она его любила, а он любил ее — снова: во время болезни он об этом как-то позабыл.
Долль тут же закурил и, как голодный волк, набросился на полбуханки хлеба. Дорле сидела на краю койки и рассказывала. По ее словам, Альму в больнице все любят, даже суровые, благочестивые монахини, и все балуют, даже врачи. Рану они действительно запустили, гнойник очень глубокий. Но постепенно состояние Альмы улучшается, врачи посыпают рану сахаром — старое домашнее средство, но действительно помогает…
Да, у Альмы снова завелось немного денег. Этот Бен наконец-то — после множества звонков — явился в больницу, но принес всего две тысячи пятьсот. Он заявил, что положение на рынке бриллиантов по-прежнему ухудшается и поэтому он продал кольцо всего за одиннадцать тысяч — больше ни при каком раскладе выручить не удалось бы. Альма ужасно разозлилась на Бена и запретила ей, Дорле, рассказывать об этом Доллю; поэтому пусть он лучше делает вид, что ничего не знает. Дама, лежащая в одной палате с Альмой и хорошо разбирающаяся в положении дел на черном рынке, сказала, что за кольцо, судя по описанию, можно было без труда выручить тысяч двадцать пять, а то и все тридцать. Так что можно себе представить Альмину ярость. Ну, хотя бы с добрым другом Беном покончено раз и навсегда!
Долль тоже злился, но к злости примешивалось легкое удовлетворение, потому что любой муж немного ревнует жену к ее прежним друзьям, и лучше пусть они уходят, чем приходят. Поэтому он терпеливо слушал, как Дорле скромно, но настойчиво расхваливает саму себя: она-де, не в пример всяким Бенам, настоящая подруга, она на все для Альмы готова, и в огонь и в воду. А он думал, слушая эту досужую болтовню: ах, добрая, милая глупышка Дорле! Ты ведь тоже будешь верной подругой только до тех пор, пока с Альмы будет что взять. Это и сама Альма наверняка отлично понимает. Ты думаешь, я не замечаю, что ты со всей невинностью и наивностью закуриваешь уже третью сигарету из десяти, которые принесла?! С Альмой ты, поди, тоже не церемонишься, но как бы охотно она ни делилась всем, что имеет, — пожалуй, даже слишком охотно, можно сказать, расточительно, — она хочет именно делиться, а не становиться жертвой грабежа. Так что однажды ее дружеские чувства иссякнут — к тебе тоже!!
Так думал Долль, но виду не подавал, а расспрашивал, как у жены обстоит дело с обезболивающими уколами. Дорле и об этом готова была поведать. Поначалу Альме делали много уколов, но потом вмешался главврач, и теперь ей делают только один маленький укольчик на ночь, да и тот не всегда. По этому поводу она не раз устраивала сцены молодому врачу, дежурившему в ночную смену, и чаще всего успешно, так как молодой врач легко поддавался ее обаянию, — да и как не поддаться, когда она умоляла, дулась, плакала, жаловалась, смеялась, отворачивалась к стене и ни с кем не разговаривала, но стоило врачу развернуться и пойти прочь, тут же вскакивала с постели и хватала его за руку, — и весь спектакль повторялся с начала. Но если все это не помогало, то приходилось пускать в ход импортные сигареты, которых врач не мог купить на свой скудный заработок. Поэтому чаще всего Альма все-таки получала свой вечерний укол, рассказывала Дорле.
Пару дней Долль переваривал эти новости, а потом решил, что надо бы ему самому навестить Альму. Какое радостное изумление отразится на ее лице, когда тяжелобольной покажется в дверях ее палаты! Долль знал тайного советника и имел основания сомневаться, что тот даст ему разрешение на свободный выход в город. Лечение еще не завершено, Долль не до конца отвык от снотворного, поэтому настроение у него часто скакало, и врачи наверняка побоятся, что он, попав в город, раздобудет снотворного, а то и наркотиков. Ведь они живут в вечном недоверии к своим пациентам и не могут отделить овец от козлищ — так, по крайней мере, считали все больные и вместе с ними Долль.
Но не хуже, чем недоверчивого тайного советника, Долль знал и обычаи этого заведения, и именно на них построил свой план — как улизнуть в город из крепко запертого третьего мужского отделения. После еды, когда из медперсонала одни уходили на перерыв, а другие с перерыва возвращались, в этот момент, когда никто ни за кем толком не следил, — в этот момент Долль решительно заявил, что его вызывают в бухгалтерию — уладить какие-то финансовые вопросы.
— Ну так идите в бухгалтерию! — равнодушно ответил санитар и отпер дверь.
Долль пополз по ступенькам вниз. Лестница напомнила ему, как нетвердо он еще стоит на ногах; в таком состоянии вылазка в город — предприятие рискованное. Странная вещь эти ступеньки: приделаны вкривь и вкось, никогда не знаешь, что ждать от следующей, колени дрожат, лоб в испарине. Но вот первая преграда позади, и теперь важно преодолеть вторую — входную дверь! Там в «ложе» всегда сидит бдительная девушка, которая ни за что не нажмет кнопку, отпирающую замок, если не сочтет причину убедительной.
Долль постучал в окошко «ложи» и вежливо сказал выглянувшему оттуда лицу:
— Тайный советник вызвал меня к себе, мне нужно к нему в курзал. (Это был главный корпус лечебницы, где тайный советник жил.) Я Долль, третье мужское.
Девушка кивнула, придирчиво разглядывая его.
— Я знаю… — но это «я знаю» относилось только к его имени и отделению.
Долль улыбнулся.
— Вы лучше позвоните тайному советнику, — мягко проговорил он, — убедитесь, что я говорю правду.
Но он еще не договорил фразу до конца, а она уже решилась. Кнопка была нажата, замок зажужжал. Долль сказал:
— Спасибо большое, — и вышел в сад. В десяти шагах от незапертой калитки шумела улица.
Но, одернул он сам себя, здесь выходить на улицу нельзя: не исключено, что девушка наблюдает за мной в окно. Нужно пройти через сад к курзалу и выйти там. Все-таки она не поверила ему до конца. Мне на руку сыграло, что на мне только костюм — ни шляпы, ни пальто. Так в конце ноября на улицу не выходят. Знала бы она, что у меня ни шляпы, ни пальто просто-напросто нет!
Он улыбнулся своим мыслям. И, сунув руки в карманы, не спеша двинулся по саду, все время опасаясь наткнуться на врача или медсестру, которые окажутся менее легковерными. Но все прошло как по маслу: он беспрепятственно вырулил на улицу у главного корпуса и, прибавив шагу, устремился к станции метро.
Холод стоял ужасный. Поскорее бы Альма поправилась — тогда бы они первым делом поехали в городишко и привезли одежду, более адекватную сезону. Нет, первым делом надо уладить дела с квартирой и с карточками. Ах, как же много предстоит сделать, прежде чем он сможет спокойно приняться за работу!..
Да, в летнем костюме невыносимо холодно — он радуется, добравшись наконец до метро, там как-никак потеплее. Надо потише стучать зубами. Люди, конечно, все равно будут пялиться — в такой-то одежде в ноябре! — но пусть считают, что он фанатично закаляется.
Он сидит, зажав руки между колен, голова опущена, лицо в тени. Ему очень плохо, его мутит, он снова весь в поту, как тогда на лестнице. Эти проклятые сушеные овощи на обед! Стоит о них вспомнить, к горлу подступает тошнота. Неужели они жрали сушеные овощи всю войну, чтобы теперь, когда наступил мир, есть их еще и с гарниром из мышиного помета?! Ни стыда, ни совести у этого напыщенного тайного советника — так и норовит нажиться на больных!
Но тут же Долль признает: да нет, его мутит не из-за сушеных овощей. Он дважды просил у санитара Франца добавки — и мышиный помет был вовсе не мышиный помет, а подгоревшая брюква! Нет, рановато он собрался на прогулку! Здоровье пока еще не то. А холод какой!
С особенной силой он это чувствует, пока бредет от конечной станции метро до больницы. Дорога не такая уж и длинная — минут десять, но у него занимает полчаса. Он уже ничему не рад, и скорая встреча с Альмой его не вдохновляет. Спотыкаясь о гранитные плиты, вывороченные бомбой из тротуарной кладки, он бредет и думает, как же будет возвращаться обратно. И как его примут в лечебнице. Его наверняка уже ищут. Санитару и девушке на входе, которые его выпустили, устроят головомойку. Атмосфера, когда он вернется, будет напряженная. Ну и ладно, он и так уже обитает в каморочке — суровее наказания они все равно не придумают. У этой бесконечной улицы что, совсем нет конца? Да еще и накрапывать начинает — погодка что надо для такой прогулки!
Но когда он идет по больничным коридорам за одной из монахинь, которые всегда улыбаются, словно мадонны на старых полотнах, непостижимым образом внушая трепет; когда он стоит на пороге Альминой палаты и видит ее в постели — спиной к нему, лицом к стене, наверное, спит; когда женщина на соседней койке говорит: «Фрау Долль, к вам, похоже, пришли…» — тогда все перенесенные тяготы мигом забываются.
Он прикладывает палец к губам, делает три быстрых шага к койке и зовет тихо:
— Альма!.. Альма!.. Альма моя!.. Золотая моя!
Она медленно поворачивается, и он буквально видит, что она не верит собственным глазам. Но вот ее лицо просияло, засветилось, залучилось счастьем, она протягивает к нему руки и шепчет:
— Откуда ты вдруг взялся? Ты же в лечебнице!
Он стоит у ее койки на коленях, обнимает ее, и его голова покоится на ее груди. Он чувствует знакомый, любимый запах женщины, по которому так соскучился, он шепчет:
— Я сбежал от них, Альма! Я так тосковал по тебе, что просто не выдержал — и удрал…
О, какое счастье — снова быть рядом, чувствовать, что тебе есть к кому прильнуть в этом ледяном мире, полном одиночества и разрушений. Счастье, счастье, что ни говори, это настоящее счастье — а ведь он так долго считал, что никогда больше не сможет быть счастливым! Только послушать, с какой гордостью она представляет его соседке по палате: «Это мой муж!» А он ведь знает, что он всего-навсего немолодой уже мужчина в потрепанном, далеко не безупречном летнем костюме, что сам он тоже потрепан и тоже выглядит далеко не безупречно. Но она всего этого не замечает, потому что любит его, а любовь слепа.
И вот он сидит на краешке ее койки, и они рассказывают друг другу — о боже, что это за рассказы! О врачах — у кого какие, — о других больных, о сестрах, о питании, с которым Альме повезло гораздо больше, чем ему, бедняге! Ему тут же скармливают остатки хлеба и суп, который ей дают вместо послеобеденного кофе. Она машет купюрой, и медсестра бежит за сигаретами. Ах, деньги, эти две тысячи пятьсот, последняя выплата от Бена, последнее, что она смогла выручить, — они тоже уже подходят к концу. Деньги у нее не задерживаются. Ведь ему нужна была ночная сорочка (пятьсот марок!), и ей нужна была ночная сорочка (семьсот марок!) — да еще сигареты!.. Здесь за американские сигареты дерут аж пятнадцать марок — форменный разбой! Они же знают, что она больна и беспомощна!
Но при этом она смеется: смеется над взвинченными ценами, смеется над утекающими деньгами — будем жить сегодняшним днем! А там все как-нибудь наладится. Ей двадцать четыре года, и всегда все как-то налаживалось, всегда все преодолевалось. И в этот раз преодолеется! Когда они снова будут вместе, все пойдет иначе! Они перевезут из городка свои пожитки, у них еще много ценных вещей, на этом «ресурсе» они протянут не меньше года. Устроятся с комфортом, и она откроет на Курфюрстендамм магазин галстуков. Торговать будет только эксклюзивным товаром, лучше всего английским! Уж в этом-то она разбирается, он же знает, она когда-то работала в очень дорогом магазине мужской одежды. Она будет следить, чтобы все их покупатели были люди с деньгами — на это у нее глаз наметан.
А пока она будет зарабатывать деньги, он сядет писать большую книгу, и, когда его новое творение выйдет в свет, его имя снова будет у всех на устах. Но он будет не только писать — по возможности он будет присматривать за ребенком, за Петтой. Пусть малыш привыкнет к нему как следует, пусть научится его любить, он не должен считать Долля «отчимом».
Она щебечет без остановки. Она не видит никаких преград, думает только об успехе. Он слушает: то кивнет, то призадумается — но все это не важно. Она сама дитя, сегодняшние планы завтра забудутся, завтра возникнут другие планы, другие упования. Пусть вволю фантазирует о несбыточном — все равно эти фантазии бесплодны. И все же он заражается ее энергией, бурлящим в ней жизнелюбием: этот побег из лечебницы, каким бы несвоевременным он ни был, — это первый его самостоятельный шаг, шаг в будущее!
Они долго сидели и нежно ворковали о прошлом и будущем, а тем временем в комнате стало совсем темно, — и вот зажегся свет, они испуганно отшатнулись друг от друга, а стоявшая на пороге монахиня сказала с улыбкой мадонны, убирая руку от выключателя:
— Сейчас будет ужин! А вам, герр Долль, наверняка пора домой.
Да, они так заговорились, что позабыли обо всем на свете. Не заметили, как стало смеркаться и наконец совсем стемнело. Давно замолкла танцевальная музычка, игравшая из радиоприемника, теперь какой-то шепелявый оратор толкал речь о необходимости платить налоги. Но Долль ушел не сразу. Все равно он уже припозднился. Может быть, чтобы позлить своевольного пациента, его даже лишат ужина, но сейчас его это совершенно не волновало.
Последнюю сигарету — последнюю-распоследнюю — они решили курить по очереди:
— Сначала ты три затяжки, потом я три затяжки, потом опять ты три затяжки — стой, ну-ка не жульничай в мою пользу, баловщица, ты сделала всего две!
— Завтра ты снова придешь! — сказала Альма с нажимом, когда они начали прощаться.
— Завтра? — с улыбкой переспросил он. — Не думаю, что мне это удастся. В наказание меня наверняка на какое-то время посадят под замок.
— Ну и что? Все равно у тебя получится выбраться! — убежденно заявила она. — Когда ты хочешь, у тебя все получается. — Он только улыбнулся в ответ на похвалу. — А если, — добавила она торопливо, — если завтра не выйдет, приходи через три, четыре дня! Просто помни, что я лежу и только тебя и жду.
Он поцеловал ее.
— До свидания, любимая! Надеюсь, что до скорого!
— До скорого! Пока! Хорошо тебе добраться — о боже, бедненький мой, ты же там околеешь!
Да, на обратном пути он мерз ужасно и был несказанно счастлив, когда наконец добрался до лечебницы. Он нажал на кнопку звонка, замок зажужжал, открываясь, и, хотя он продрог до костей, теперь его занимала лишь одна мысль: как-то его здесь встретят? Он от души надеялся, что милосердие врачам все же не чуждо.
В «ложе» сидела та же самая девушка, которая после обеда его выпустила, поверив неуклюжему вранью. Она бросила на него взгляд и хотела было открыть окошко, но передумала. Вздохнув с облегчением, Долль стал подниматься по лестнице: первая опасность позади…
«Каково это? — размышлял он, вползая наверх по ступенькам. — Как будто в школу иду после прогула… Мне что, тринадцать — или все-таки пятьдесят два? Чувство точно такое же, как тогда, и даже пахнет точно так же, как пахло в гимназии принца Генриха на Груневальдштрассе! Тот же самый затаенный, щекочущий страх, тот же самый тоскливый запах нагретой солнцем пыли… Да, действительно: всю свою жизнь мы так и не покидаем школы. Во всяком случае, я — я всего-навсего стареющий гимназист и совершаю такие же глупости, как в детстве!»
Он нажал на кнопку звонка третьего мужского отделения. Открыли, как всегда, далеко не сразу, пришлось подождать. Пожилой старший санитар мгновение разглядывал его, словно хотел что-то сказать, но потом молча посторонился, впуская блудного пациента. Опасность номер два! — подумал Долль.
В вестибюле, как всегда в этот час между ужином и отбоем, было полно народу, некоторые больные в гневном нетерпении бегали по коридору. В это время даже те пациенты, которые целый день безучастно валялись в постели, вылезали из своих берлог. Движимые какой-то безотчетной тревогой, быть может подсознательной жаждой свободы, они бесцельно и безмолвно переминались с ноги на ногу или бегали туда-сюда, пока их не смаривал сон — обычно в виде напитка, таблетки, укола, смотря на что расщедрится ночная сестра.
Долль молча прошел через толпу товарищей по несчастью, они тоже не обратили на него ни малейшего внимания. В этом заключалось большое преимущество отделения для «тяжелых» — вести себя здесь можно как угодно: сегодня болтать без умолку, а завтра хранить мертвое молчание, сегодня веселиться, а завтра крушить все вокруг — что бы ты ни делал, никого это не удивляет.
Каморочка Долля была заперта, причем на замке оказалась не только внутренняя дверь с маленьким стеклянным окошечком, но и наружная, со звукопоглощающей обивкой: это его озадачило — не слишком ли заботится медперсонал об имуществе человека, у которого почти никакого имущества и нет?.. Ладно, хорошо, уберегли крошечный обмылок, ночную сорочку и расческу от соседей-клептоманов — но теперь-то пусть откроют этот хлев! Он чудовищно устал и проголодался, если повезет, то в палате ждет ужин — не придется бегать на кухню!
— Герр Онхольц, — вежливо обратился Долль к равнодушному санитару, как раз проходившему мимо, — будьте добры, отоприте мою келью…
— Вашу келью? — Санитар слегка усмехнулся. Просьбу Долля он выполнять не торопился. — Но разве с сегодняшнего вечера там не сидит Бартель из четырнадцатой палаты? Он, знаете ли, немножко буянил…
— А мне теперь куда? В четырнадцатую палату? — осведомился Долль. Он все еще не верил в очевидное.
— Ну, об этом я вам ничего сказать не могу! — Санитар пожал плечами и двинулся дальше. — Насколько я знаю, на этот счет никаких указаний не поступало.
Прекрасно — как мило, как трогательно! — подумал Долль и пошел на кухню. Ну что ж, посмотрим. Qui vivra, verra…[3]
На кухне сидела за столом его старая приятельница, нянечка Кляйншмидт. Не один десяток раз они вместе тряслись в бомбоубежище, а после налета делили по-братски последнюю сигарету и последние зерна кофе.
— Ну что? — спросила Кляйншмидт, когда Долль молча сел напротив нее на деревянный стул. — Что скажете? Вы вроде как сами себя выписали, а, герр Долль?
— Пусть без разрешения, но я всего лишь сходил навестить больную жену, — отозвался Долль. — А они заняли мой бункер. Начальство себя что, господом богом возомнило?!
— Господь бог все всегда делает правильно! — закивала нянечка, которая тайного советника не выносила точно так же, как Долль, а главврача знала уже лет двадцать. — Знаете что, доктор Долль, — продолжала она, многозначительно прищурившись, — будь я на вашем месте, я бы согласилась, что выписалась по собственной воле… — и добавила после паузы: — Я не позволила бы со скандалом выкинуть меня из лечебницы, которая заработала на мне столько денег. Лучше выкинуться самой!
Долль на мгновение задумался. Время шло к восьми.
— Я еще успею на метро? — спросил он.
— Конечно! Конечно!
«Домой я уж как-нибудь попаду. Шульциха вряд ли будет рада моему появлению, но с ней я разберусь. Мое возвращение в мир, к деятельной жизни произошло быстрее, чем я рассчитывал, но Кляйншмидт совершенно права: лучше я сам уйду, чем меня уйдут!»
— Ну что? — осведомилась нянечка, испытующе глядя на него.
— Решено! — ответил он и поднялся. — До свидания, дорогая моя, а может, никакого свидания и не будет — по крайней мере, не в этих стенах!
— Погодите! Секунду! — воскликнула санитарка, не пожимая протянутой руки. — Вы же даже не поужинали! Подождите! Я вам дам кой-чего. — И она достала из термошкафа миску картошки с морковкой. И положила на нее хлеб — четыре, пять ломтей.
— Ну нет, так не пойдет! — воспротивился Долль. — Столько хлеба мне не положено. Я не хочу, чтобы вы меня подкармливали за счет других.
— Не говорите ерунды, — отрезала Кляйншмидт. — Я не дам вам больше того, за что смогу отчитаться, — и пояснила: — У Бартеля был припадок, ему сделали укол, и он не проснется до утра. Ужин ему не нужен. Так что ешьте!
— Ну тогда ладно! Спасибо большое! — обрадовался Долль и накинулся на еду, как голодный волк. Пока он ел, санитарка спокойно скрутила из окурков папиросу, зажгла ее от газовой горелки термошкафа и принялась расспрашивать Долля, как чувствует себя его жена, есть ли ему где жить, какие у него имеются вещи и, главное, какие перспективы…
— Вот и славно! — наконец сказала она, убирая миску и водружая перед ним стакан кофе с молоком и тарелку бутербродов с вареньем. — Вы все начнете сначала, как и мы все. Вам это не повредит. Глядишь, и блажь сама собой пройдет!
Долль опять запротестовал:
— Но вот эти бутерброды с вареньем точно не больничный паек! Это из ваших запасов. Такими бутербродами здесь не потчуют. К тому же я уже совершенно сыт.
— Вот как взрослый человек может нести такой вздор, — усмехнулась она. — Лучше радуйтесь, что можете наесться, — вам предстоят голодные дни! Жрите уже, несчастный вы человек! — прикрикнула вдруг она гневно. — Что я сказала, когда утром 16 февраля сорок четвертого вы отдали мне ваш последний кофе и последнюю сигарету?! Просто слов нет, — продолжила она уже более мирно, когда он послушно принялся за еду, — как мужики выкобениваются — да так ни одна девица не ломается!
Позже, когда он уже собрался уходить, она протянула ему «фильтровую» сигарету и купюру в двадцать марок.
— Только попробуйте, — угрожающе проговорила она, — только попробуйте опять закочевряжиться! Я вот кочевряжиться не буду, если вы принесете мне вместо одной сигареты две. А деньги вернете до конца месяца — дело чести, так? А теперь убирайтесь отсюда! Ваше барахлишко я сложила в коробку, и надо сказать, там еще много места осталось! Кстати, последний поезд, наверно, уже ушел. Ну ничего, дотопаете до Вильмерсдорфа пешком — вы мужчина молодой, ничего вам не сделается, особенно в это время года. Может, заработаете воспаление легких — зато бодрит! А главное — в будущем никаких забот!..
Глава 9 Робинзон
Последний поезд метро действительно уже ушел, и марш-бросок через темный, разбомбленный Берлин и впрямь бодрил — как нянечка Кляйншмидт и предсказывала. Иногда Долль, большой знаток Берлина, совершенно не понимал, где находится. Прохожих, у которых можно спросить дорогу, на улицах почти не было, а те, которые ему встречались, так спешили пройти мимо, словно боялись его — и, наверное, они действительно боялись. Иногда Доллю и самому становилось не по себе: такой ужас наводил этот ночной каменный лабиринт, над которым ноябрьский ветер гнал темные тучи. И все же в его душе свершился переворот. Когда он только приехал в Берлин, его не оставляла мысль: в этом мертвом городе я никогда не смогу работать! А теперь он упрямо думал: я буду здесь работать! И еще как! Вопреки всему!
Ему пришлось долго топтаться у запертого парадного: звонок был отключен, а кроме него, похоже, никто внутрь не рвался. Было ужасно холодно, у Долля зуб на зуб не попадал. Но мысль подпитать жизненные силы с помощью сигареты, которую дала ему нянечка Кляйншмидт, он тут же отбросил: он заранее решил, что выкурит ее в постели, когда окажется по-настоящему «дома», там, где теперь будет его отчизна и вотчина, — по крайней мере, он сделает все от него зависящее, чтобы это было так. Точно так же он гнал от себя опасение, что в такой поздний час он может и не дождаться человека с ключом, что все жители уже сидят по домам: нет, мне не придется торчать здесь всю ночь напролет, кто-нибудь обязательно придет. И придет скоро — сердцем чую!
Он уже готов был поверить, что чутье его обманывает, но тут из-за угла показался крупный, высокий мужчина и воскликнул изумленно:
— О, герр доктор Долль! Ключ забыли? И стоите на этой холодине без пальто?!
Они были шапочно знакомы, как многие берлинцы, по бомбоубежищу: когда знаешь только имя, фамилию да надо ли при человеке следить за языком — вдруг он ярый нацист. Долль собрался было отшутиться, но неожиданно для самого себя сказал — ведь этот молодой человек считался «приличным парнем»:
— По правде говоря, у меня в данный момент просто-напросто нет ни ключа, ни пальто. Мы приехали в Берлин голы как соколы — да что там, не мы одни нынче такие!
Хотя в подъезде вместо стекол были вставлены картонки, после пронзительного уличного холода Доллю показалось, что он попал в приятное тепло.
— Ах! — воскликнул он. — Как хорошо наконец согреться!
Его спутник с легким удивлением согласился и осведомился о «любезной супруге». Увы, сейчас она в больнице, но герр Долль надеется, что скоро они воссоединятся. Молодой человек вежливо поддержал его: он-де будет рад вновь увидеть фрау Долль, в бомбоубежище она никогда не давала окружающим унывать. Подобно другим соседям, он всегда восхищался тем, как она держится даже при самых кошмарных налетах. Ее беззаботная веселость многим служила утешением и примером. В том числе и ему, и он не стесняется в этом признаться.
На прощание они пожали друг другу руки, и рукопожатие получилось неожиданно крепким. Долль поднялся еще на один пролет и позвонил к Шульцихе — да нет, к себе домой. Он не раз и не два с силой вдавил кнопку звонка. Коробку с «барахлишком» он держал под мышкой, и, несмотря на «приятное тепло» лестничного колодца, его все равно бил озноб.
Наконец ему открыли — он уже в восьмой раз щелкнул выключателем, зажигавшим свет на лестнице. На пороге стояла молодая актриса — опять он явился начинать новую жизнь, и опять она его впускает. Альма, помнится, установила, что эта молодая особа вовсе не такая зловредная нахалка, как им показалось в первое берлинское утро, — напротив, она весьма великодушно помогала Доллям, когда те голодали.
Открыв дверь, она воскликнула:
— Герр Долль, это вы!.. В такую поздноту! Пойдемте скорей на кухню; я как раз готовлю пюре для малыша, а с газом как-никак теплее!
Долль устало опустился на стул между плитой и столом, на стул, на котором в далекое сентябрьское утро в таком отчаянии сидела его жена. От плиты действительно исходило слабое, но весьма приятное тепло. Помешивая пюре, фрейлейн Гвенда спросила:
— Вы действительно выздоровели, герр Долль? Вид у вас не очень-то здоровый, и в лес по дрова я бы с вами не пошла!
— Нет-нет, я правда совершенно здоров, — отозвался Долль, хотя это не соответствовало истине: чувствовал он себя прескверно, по телу разливалась слабость. — Это все больничный воздух — на нем, знаете ли, не особенно расцветешь, — добавил он. Ему не хотелось, чтобы фрейлейн Гвенда подумала, что он теперь опять примется за старое и будет целыми днями лежать, голодать и клянчить. — Я все эти недели, вплоть до сегодняшнего дня, ни разу не был на свежем воздухе. А сегодня пошел навестить жену, и для первого раза, пожалуй, немного перегулял.
Фрейлейн Гвенда участливо поинтересовалась самочувствием его жены, и Доллю не сразу удалось перевести разговор на свою комнату: фрау Шульц здесь? Уже легла? Можно с ней поговорить?
Да. Фрейлейн Гвенда ответила «да». Фрау Шульц, насколько ей известно, сегодня ночует здесь. Но погасила она уже свет или нет — фрейлейн Гвенда сказать не может. Поэтому Долль на цыпочках подкрался к двери «своей» комнаты и заглянул в замочную скважину. Кромешная тьма. Он долго прислушивался. Уловив присвистывающее посапывание, он понял: плохо дело, понежиться в теплой постели ему сегодня не суждено. И можно не рассчитывать, что удастся в тишине и покое наконец выкурить кляйншмидтовскую сигарету.
Когда он вернулся на кухню, фрейлейн Гвенда с пюре уже ушла и газ погасила. Здесь его тоже не дождались. Он постоял, разглядывая кухню. Вне всякого сомнения, это была его, их, доллевская кухня; каждая вещь здесь принадлежала им, не только мебель, но и каждая ложка, поварешка, кастрюлька, тарелка. Но когда он попытался заглянуть в большой, массивный буфет, все ящики оказались заперты, а ключи неизвестно где.
Что за странный мир, подумалось ему. Хоть бы спросили нашего разрешения, хоть бы что-то нам заплатили! Какие нынче вообще расценки на жилье? Как-то он об этом не задумывался. Маленькое семейство фрейлейн Гвенды поселилось здесь только в конце августа, но вот Шульциху, мастерицу составлять счета, я завтра прямо с утра возьму в оборот — как насчет платы за квартиру, свет и газ? Какие-никакие деньги он выручит, и, хотя по меркам черного рынка это будет кот наплакал, для человека, у которого нет ни гроша, немного денег — это уже немало денег.
Рассуждая подобным образом, Долль разглядывал замки на дверях кладовок, которых в этой барской кухне было аж две — одна справа от окна, другая слева. Ну конечно, сказал он сам себе с легким вздохом. Одна для Шульцихи, другая для фрейлейн Гвенды. Доллей никто в виду не имел. С этим тоже нужно что-то делать. Завтра утром пойду в жилищное управление и выясню, на что мы имеем право. Впрочем, нет — первым делом в продовольственное управление за карточками; невозможно больше выпрашивать, одалживать и покупать из-под полы.
Остановившись перед кухонным столом, Долль окинул его задумчивым взглядом. Эх, жаль, что стол коротковат и жестковат — спать на нем не ляжешь. Может быть, устроиться в ванне? Но от одной мысли об этой ледяной лохани его снова забил озноб, все еще гнездившийся в теле, и он тут же отбросил эту идею. Кусочек коридора застлан ковролином, а на вешалке в прихожей висят какие-то женские пальто — ими вполне можно укрыться.
Но все же что-то не давало ему покоя, и наконец он сообразил, что в квартире-то шесть с половиной комнат, и половина — это каморка для прислуги. Он заглянул туда и щелкнул выключателем, но свет не зажегся: то ли проводка повреждена, то ли лампочки в патроне нет. Тогда он вернулся на кухню, походя сунул зажигалку к газовой горелке, отыскал в мусорном ведре газету и свернул из нее факел. И с этим факелом отправился обратно в комнату прислуги.
Да, кровать на месте, на ней матрас и даже подушка, но больше нет ничего: ни белья, ни одеяла. А какой холод в этой берлоге! Долль поднес догорающий факел к окну и увидел, что рамы скалятся осколками. Свежий ночной воздух беспрепятственно вливался в каморку. Тем не менее более роскошных хором не предвиделось, а кровать — это все-таки кровать, и он, в конце концов, мужчина. Ему даже в голову не пришло перетащить кровать в другое помещение — к примеру, в натопленную кухню, где все окна целы. Нет, этой мысли у Долля не возникло, именно потому, что он был мужчина — так, по крайней мере, сочла Альма, когда впоследствии он рассказывал ей об этой ночи.
Внезапно ему стало неловко использовать чужое женское пальто как одеяло. Он долго мучился, отдирая от коридорного пола прибитый гвоздями затоптанный половичок. Наконец ему это удалось, но было совершенно ясно, что половичок с изодранными краями никогда уже нельзя будет положить на место. На кухне Долль быстро разделся, зажег от газа сигарету и, волоча за собой половичок, прошествовал в свою походную спальню. Он несколько раз обернул вокруг себя старый пыльный ковер, а задубевшие от холода ноги закутал остатками халата, который нашел в ванной.
А потом он долго лежал во тьме; сигарета время от времени вспыхивала, и тогда на фоне близкого огонька мерк светлый проем окна, за которым виднелась черная крыша дворового сарая и серое небо над ней. А когда сигарета лишь вяло тлела, снова проступало небо и воздух казался еще холоднее.
Поначалу, несмотря на сигарету, он все равно чувствовал себя неуютно, потому что никак не мог согреться, а половик оказался слишком тяжелый и неприятно пах пылью и еще чем-то неопределимым, но точно не согревающим ни тело, ни душу. Наконец он докурил; теперь только небо над черной крышей бледно сияло ему в лицо. И иззябший Долль провалился в дремотную грезу, которой предавался с мальчишеских лет в случаях, когда жизненные обстоятельства представлялись ему особенно угрожающими.
Ему воображалось, что он — Робинзон на необитаемом острове, но Робинзон без Пятницы, такой Робинзон, который не желает встречаться с белыми людьми и содрогается при мысли, что его когда-нибудь «спасут». Этот необычный Робинзон делал все, чтобы спрятаться от своих собратьев. Жилище он построил в непроходимой чаще, через которую вела заросшая, неприметная тропка. Но и этого ему было мало: он мечтал поселиться в глубоком ущелье меж высоких, крутых утесов и чтобы в это ущелье вел длинный, темный каменный тоннель, который в случае чего легко завалить камнями. А над ущельем нависали бы деревья — не слишком густо, но чтобы сверху ничего нельзя было увидеть; это служило бы Робинзону прикрытием с воздуха.
В такое глубокое уединение Долль, бывало, сбегал еще мальчишкой, когда мир, населенный людьми, казался ему слишком опасным, когда он не понимал доказательство, заданное по геометрии, когда вскрывалась какая-нибудь неуклюжая ложь. Во взрослом возрасте, когда мужество его покидало, он тоже не гнушался подобными побегами; более того, за последние годы, когда Берлин постоянно подвергался безжалостным бомбежкам, эти побеги стали для него особенно важны.
Но в основе своей — это Долль понял, когда внимательно проштудировал труды Фрейда, — эта каменная пещера или ущелье обозначали не что иное, как материнское лоно, в которое ему хотелось забиться в минуту опасности. Только там можно было обрести покой, и южное солнце, которое в его мечтах всегда светило над Робинзоновым островом, — это было горячее сердце его матери, источавшее благодатное сияние теплой алой крови!
С подобными мыслями он заснул, а когда проснулся, в пустом оконном проеме все еще мрела грязно-серая каша уходящей ночи. Однако герр Долль вскочил со своего одра полный сил и совершенно согревшийся: он страстно желал после крушения всех надежд наконец-то приняться за дело. На кухне при электрическом свете он ужаснулся, увидев, как его угваздал пыльный половичок. Но поделать с этим он, увы, ничего не мог: смены белья у него не было. Поэтому он отправился в ванную, очень тщательно помылся, вышел свежий, хотя и снова подмерзший, остановился перед большим зеркалом в прихожей, придирчиво себя обозрел — и нашел, что давно уже не имел столь бодрого и здорового вида. Он стремительно сбежал вниз по лестнице; подъезд уже стоял нараспашку, а вот лавка матушки Минус за углом еще не открылась.
Но поскольку в лавке горел свет, он постучал в дверь, и упорно стучал до тех пор, пока добродушное, полное лицо матушки Минус в обрамлении седых волос не прижалось к дверному стеклу — и энергично закачалось вправо-влево, дескать, войти пока еще нельзя. Долль забарабанил еще громче, эхо разносилось по пустой улице, тонущей в утренних сумерках, и, когда добрая Минус, приняв вид настолько сердитый, насколько могла, распахнула дверь, намереваясь прогнать назойливого стучальщика, он мигом сунул ей руку и сказал:
— Да, это действительно я, доктор Долль. В последний раз мы с вами виделись в конце марта, и я рад, что вы, как и мы, уцелели в этой катавасии. Моя жена, правда, сейчас в больнице, но я думаю, ее выпишут в самое ближайшее время. И да, я знаю, что ломлюсь к вам самым бесстыжим образом, но я непременно хочу поговорить с вами с глазу на глаз, пока не появились покупатели!
Радостно тараторя, Долль потихоньку, шажок за шажком, теснил ее внутрь лавки. И предусмотрительно закрыл за собой дверь, чтобы другие нахалы не вздумали повторить его подвиг.
— Да, — сказала добрая Минус: она уже не сердилась. — Да, я слыхала, что вы двое приехали, и мне рассказывали, что дела у вас не очень. Что же привело вас ко мне, герр доктор?
Но прежде чем Долль успел обрисовать свои потребности, перспективы и гарантии, она вновь заговорила:
— Впрочем, о чем это я? Кто приходит в такую рань к матушке Минус, чтобы поговорить непременно с глазу на глаз? Еды, да?.. Заморить червячка, верно?.. Ну вот что, герр доктор: один раз я вам отпущу без карточек, но только один-единственный раз, слышите? И больше никогда!
— Великолепно, фрау Минус! — вскричал Долль, радуясь, что все получилось так легко. — Вы лучше всех на свете!
— Ах, бросьте! — ответила фрау Минус, а сама уже складывала, распихивала по кулечкам, взвешивала, отрезала и хрустела оберточной бумагой. Глаза Долля тем временем округлялись все больше, потому что он рассчитывал самое большее на хлеб и немного эрзац-кофе. — Говорите поменьше, а главное, ничего не обещайте! Но зарубите себе на носу: я сказала «один раз», а мое слово твердое. И пусть считается, что я слишком добренькая и не умею говорить «нет». Умею, еще как! Вы же знаете: не положено, за это мою лавку могут просто-напросто закрыть. Но один раз — так и быть, потому что человек должен поступать по-человечески, а до меня доходили слухи, что вам довелось пережить. Так что берите и не трепитесь! Двенадцать марок сорок семь пфеннигов — если у вас есть деньги, заплатите сразу, ну а нет так нет. Я могу записать все это вам в кредит, когда отдадите, тогда и отдадите, что уж там. Но без карточек — ни-ни!
Грозно повторив это уже в третий раз, словно пытаясь ожесточить собственное мягкое сердце, она вытолкала глубоко тронутого Долля за порог. В замке повернулся ключ, а он все стоял у двери и энергично кивал матушке Минус, так как помахать было нечем: руки-то заняты. И отправился домой с чувством, что внезапно разбогател.
Уходя, он прихватил торчавший в двери ключ, и это оказалось весьма кстати, так как в квартире все еще спали. Тем лучше: он спокойно, без чужих глаз мог распаковать свои сокровища. Разложив продукты на кухонном столе, он и впрямь почувствовал себя так, будто был нищим Лазарем, а тут вдруг сделался богачом. Перед ним лежали три буханки хлеба — одна белая и две черные, пакетики с эрзац-кофе, сахаром, лапшой, белой мукой, рожок кофейных зерен, масло и маргарин, завернутые в бумагу, и картонная тарелочка с вареньем.
«Если бы все это мне пришлось покупать на черном рынке!» — подумал Долль и водрузил на огонь кастрюлю с водой, собираясь сварить пока что суррогатный кофе — настоящий зерновой он решил поберечь до возвращения Альмы.
Найти посуду оказалось не так просто: буфет-то на замке! Но под мойкой он в конце концов нашел все необходимое, наспех сполоснул холодной водой и снова сказал себе: больше я этого терпеть не буду — ни дня! И принялся за свой пир горой.
Однако спокойно поесть ему было не суждено. Сначала, словно немытое и растрепанное привидение, на кухню просочилась Шульциха, в ужасе уставилась на Долля и вылетела в коридор с пронзительным воплем:
— Господи боже, вы же не предупреждали, герр доктор Долль!
И исчезла, а вместе с ней — и ее неопрятная, местами драная ночная сорочка, и всклокоченная голова, усеянная папильотками, на которые были накручены короткие прядки. Долль поспешил за ней.
— Постойте, фрау Шульц! — воззвал он. — Ну погодите секунду, я на вас не смотрю, честное слово!
Дверь захлопнулась у него перед носом, а вламываться в комнату было все же неловко, и он крикнул в замочную скважину:
— Сударыня, я сейчас быстренько сбегаю за карточками — можем мы после этого поговорить?
Ответом ему был вздох: «О боже!»
— Нам непременно нужно сегодня поговорить! Для вас это тоже важно, поверьте! — из-за двери донесся еще один вздох, более тяжелый. — Да ничего страшного, не переживайте! — свистел и пыхтел Долль в замочную скважину. — У меня молодая красивая жена, вы же знаете! Поговорим позже, сударыня, мирно и спокойно! До свидания!
Очередной вздох «о боже» Долль посчитал согласием.
— Старое пугало! — пробормотал он себе под нос. — Вот выставлю я тебя из квартиры — то-то ты удивишься! Ты думаешь, я забыл, как после 20 июля ты благословляла провидение, спасшее нашего любимого фюрера?!!!
Но не так уж много времени он провел в приятном обществе бутербродов с вареньем: его потревожили снова — на этот раз звонок в дверь. На пороге топтался долговязый молодой человек, который накануне вечером впустил его в подъезд, в какое-никакое тепло.
— О, вы уже встали, герр доктор Долль! — Он, похоже, смутился, но тут же оправился. — Я думал, вы еще спите, хотел по-быстрому занести… — Он протянул большой сверток. — Это пальто, — торопливо пояснил он. — К сожалению, летнее… И еще шляпа. Я выше вас ростом, но может, вам все-таки подойдет… Конечно, не насовсем, вы уж меня извините. Но пока не достанете чего-нибудь получше, носите, сколько надо…
— Но, герр… — растерянно начал Долль. — Вот видите, я даже фамилию вашу забыл…
— Ну, фамилия дело десятое! Так или иначе, пусть это и летнее пальто, но все же лучше, чем ничего… — и сверток сменил хозяина; мужчины обменялись крепкими рукопожатиями…
— Я вам очень признателен, герр… — опять начал Долль, но опять запнулся. — Нет, вы уж все-таки скажите мне вашу фамилию… — Вот так с ним всегда: как будто нельзя как следует поблагодарить человека, если не знаешь, как его зовут…
— Грундлос, — ответил тот. — Франц Ксавер Грундлос. Вы простите, но мне пора — спешу на работу. Метро нынче…
Последние слова доносятся уже с лестницы. Теперь Долль может «как следует» поблагодарить герра Грундлоса, но тот уже умчался!
И Долль во второй раз за утро принимается распаковывать подарки. Настроение у него праздничное, словно Рождество и день рождения выпали на один день. Ах, какое ложное представление о немцах он составил, погрузившись в депрессию! Порядочность, честность — они еще не вымерли и не вымрут никогда. Наоборот, только усилятся, они одолеют, задушат эту сорную траву нацизма, вырастающую из доносов, зависти, ненависти!..
Да, это всего лишь летнее пальто, да и великовато оно ему — все так. Но качество прекрасное, серовато-голубоватая ткань, шелковая подкладка. А значит, люди снова помогают друг другу, не бросают ближнего один на один с его невзгодами: каждый может помочь, каждому можно помочь. Конечно, пальто длинновато — ну и что с того?
Не снимая пальто, он надевает еще и бархатную шляпу в баварском стиле — прежде он ни за что бы не нахлобучил такого на собственную голову! Но не так уж и тепло на кухне, чтобы нельзя было поедать бутерброды с вареньем в летнем пальто. Впрочем, за стол он не возвращается. Ему внезапно загорелось: бегом в продовольственное управление! Сколько месяцев он профукал, а теперь желает во что бы то ни стало продемонстрировать ушлой майорше, что у него тоже есть карточки, что он обойдется и без ее помощи! Сегодня же он ей все покажет!
Правда, остается одна проблема: куда убрать продукты. Доверять никому нельзя. И он прокрадывается в выгоревшую комнату, заваленную обломками и рухлядью, и складывает драгоценные кулечки и свертки в ящик опаленного пеленального комода Петты.
Последний взгляд в зеркало. А что, неплохо! — говорит он сам себе. Во всяком случае, на тысячу процентов лучше, чем я выглядел все последние месяцы! А теперь — на приступ продовольственного управления! Дай-то боже, чтобы там мне попались такие же приличные люди, какие попадались уже три раза за последние двадцать четыре часа! В такой удачный день все должно пройти как по маслу!
Когда Долль уходит из дому, еще нет восьми, а возвращается он далеко за полдень — и это совершенно другой Долль. Он молча опускается на кухонный стул — устал до смерти. Фрейлейн Гвенда, стерегущая на плите свой картофельный суп, — он варится уже четыре часа и давно бы должен довариться, но газ, газ-то какой! — фрейлейн Гвенда просит его вернуть ключ от входной двери: ведь это вы его взяли?.. Не отвечая ни слова, Долль поднимается. Мельком замечает, что теперь ключи торчат во всех замках: и в кладовках, и в буфете. Он выдергивает их из скважин, сует в карман и направляется к выходу.
Обе женщины — и Гвенда, и вдовая майорша Шульц — быстро переглядываются и приходят к молчаливому согласию: пусть бедный сумасшедший творит что хочет. Расфуфырившаяся Шульциха, игриво потряхивая кудряшками, щебечет:
— Если вы хотите со мной поговорить, герр доктор Долль, я к вашим услугам. Я до сих пор здесь только ради вас.
Но он не к ее услугам. Он идет по коридору в комнату Шульцихи. Он заходит внутрь, запирает за собой дверь и садится в кресло. Он вымотался, измучился и отчаялся: трудно выдержать такое утро человеку, который едва оправился от болезни. Нужно отдохнуть, отдохнуть… Он откидывается на спинку и закрывает глаза. Но тут же распахивает их снова. Холодно, о, как же холодно! Хоть он и в пальто, а все равно… Он с трудом поднимается и придвигает к самым ногам электрический обогреватель. Берет с кушетки стеганое одеяло Шульцихи и заворачивается в него…
Снова закрывает глаза. И еще успевает подумать: посплю самое большее до четырех. В пять я должен быть у Альмы. Ох и похвастаюсь успехами… Нет, сейчас нельзя об этом думать, иначе вообще не заснуть!
Постепенно он проваливается в дрему. Но ему не удается проспать и пяти минут, как раздается стук в дверь и лопотание фрау Шульц:
— Герр доктор Долль, уделите мне минутку! Вы же сами хотели со мной поговорить!
Он не желает ее слышать. Он спит. Ему непременно нужно поспать.
— Дорогой герр доктор Долль, откройте хоть на секундочку, я заберу пальто и сумочку! Мне пора идти!
Долль спит. Но когда она в третий раз принимается скулить, он вскакивает, опрокидывает обогреватель, бросается к двери, поворачивает ключ, распахивает дверь и бешено орет:
— Да пошли вы к черту! Если вы сию минуту не уберетесь с глаз моих долой, я вас отсюда вышвырну, спущу с лестницы, все четыре пролета ваши — вы меня поняли, вы?!!..
Эта вспышка гнева оказывает немедленное воздействие: фрау Шульц обращается в бегство.
— Я уже ухожу! — в ужасе лепечет она. — Простите за беспокойство! Этого больше не повторится!
И Долль наконец-то засыпает — выплеснув злость, он погружается в сон, глубокий и спокойный, словно разразившаяся гроза очистила воздух. Когда он просыпается, в комнате уже смеркается. Он чувствует себя свежим и отдохнувшим — давно забытое ощущение. Его первый здоровый сон безо всяких лекарств! Удобно устроившись в кресле, он в спокойной обстановке обдумывает все то, что произошло утром.
Он снова видит себя стоящим в длинной очереди в карточном бюро. Хотя он пришел рано, перед ним человек сто. Окружающие ругаются и задирают друг друга. Перебранки вспыхивают из-за одного-единственного слова, которое зачастую еще и неправильно понято, — а какая необузданная ярость захлестывает стоящих в очереди, когда им кажется, что кто-то пытается пролезть вперед! За три часа в атмосфере взаимной ненависти Долль неизбежно утрачивает свое утреннее праздничное настроение. Его одолевает гнетущее чувство, и, как он ни пытается, побороть его не может.
И вот наконец он стоит в кабинете перед столом, за которым сидит то ли девушка, то ли женщина; за спиной гомонят, рядом гомонят, и Долль тоже открывает рот, произносит слова, которые сто раз обдумал, кропотливо подобрал…
Но ему не дают сказать и трех фраз.
— Сначала принесите справку о регистрации и ордер на квартиру, — перебивает его девушка. — Без этих документов мы карточки не выдаем. Идите в жилищное управление! Пожалуйста, следующий!
— Но девушка! — восклицает он. — Это наша квартира, она всегда была нашей, и мы из нее не выписывались — так зачем мне заново регистрироваться?! Посмотрите в вашей картотеке!
— Тогда пусть жилищное управление это подтвердит! И вообще… — Она окинула его неприязненным взглядом. — Пожалуйста, следующий!
Долль мог говорить что угодно — она на своей должности давно научилась не слышать посетителей. Его речи были для нее все равно что жужжание мухи! Ему пришлось развернуться и уйти — и ради этого он потратил три с лишним часа и кучу нервов!
Он отправился на поиски жилищного управления, нашел его. Там была очередь покороче: стоять пришлось всего полтора часа. Но и в жилищном управлении он ничего не добился. Сначала его выслушала некая дама и засомневалась, как следует поступить в его случае. Он должен был встать на учет до 30 сентября, а сейчас уже почти декабрь! Дама перенаправила его к своему весьма раздражительному коллеге, который, судя по его обращению с предыдущим просителем, не очень любил слушать, зато очень любил вещать.
Перед этим человеком Долль разложил свои бумажки: старые квитанции на квартплату, свидетельство о том, что он был бургомистром провинциального городка, справки из районной больницы, где Долли лежали…
Бросив быстрый взгляд на документы, человек за столом сгреб их все в одну кучу и рявкнул:
— Меня все это не интересует! Уберите свои бумажки, им самое место в мусорном ведре! Следующий!
— Мне нужно свидетельство о проживании, — довольно сердито сказал Долль.
— Свидетельство о проживании? Ишь чего захотели! — Раздражительный тип раздражался с полоборота. — Это на каком же основании? Непонятно! Ничего я вам не выдам, даже не надейтесь! Следующий!
— Какие документы вам нужны? — продолжал упорствовать Долль.
— Мне ничего не нужно! Это вам нужно! Следующий, и поживее! — это «следующий» он, похоже, выкрикивал чисто механически, как многие люди привешивают в конце каждой фразы что-нибудь вроде «да?». И он зачастил: — Принесите заявление от вашего домохозяина, что владеете квартирой с 1939 года. Принесите справки, что вы снялись с учета и не получаете продуктов в том месте, куда вас эвакуировали.
— Но меня никто не эвакуировал. Да и сняться с учета в этом городишке я не мог: карточек там не выдают.
— Ну просто смешно! — закричал чиновник. — Сплошные отговорки да увертки! Вы хотите пролезть в Берлин, только и всего! Но от меня вы ничего не получите, слышите, ничего, даже если представите все справки в лучшем виде! — Он в бешенстве грохнул кулаком по столу. — Я таких, как вы, вижу насквозь — вы меня не проведете. Следующий!
И вдруг добавил совершенно другим, брюзгливым тоном:
— И вообще…
Уже во второй раз за утро Долль слышал это «и вообще», звучавшее, как глухая угроза. От всего этого хамства и подозрительности у него кровь вскипела в жилах, и он осведомился зло:
— Что это значит? Что вы этим «и вообще» хотите сказать?
— Шли бы вы уже! — чиновнику, казалось, враз стало скучно. — Сами отлично понимаете. Не притворяйтесь! — Он придирчиво осмотрел свои ногти, потом поднял взгляд на Долля. — Или вы желаете объяснить мне, как вы с семьей живете в Берлине аж с 1 сентября? — Тон у него был торжествующий, и окружающие злорадно косились на Долля — ну, сейчас он получит! — Либо вы приехали не 1 сентября, а только сейчас. Тогда вы проворонили сроки и никто вас на учет не поставит. Либо вы с 1 сентября отовариваетесь на черном рынке — тогда я обязан сдать вас в полицию!
— Если бы вы, — гневно отчеканил Долль — он так разъярился, что стал как никогда снисходителен к самому себе и даже не подумал, что в чем-то этот чиновник прав, — если бы вы дали себе труд внимательно ознакомиться с бумагами, вместо того чтобы с ходу отправлять их в мусорное ведро, вы бы узнали, что до вчерашнего дня я лежал в больнице — и там мне полагалось питание. А жена моя до сих пор лежит в больнице, и я могу в любой момент принести вам любую справку, которая это подтверждает…
— Мне до этого дела нет! Меня это не касается! Следующий! Я вам сказал, какие справки от вас требуются. Все, следующий!
И теперь это уже была не завитушка в конце фразы — к столу действительно подошел следующий посетитель. Долль поплелся вон из кабинета. Он чувствовал, что окружающие провожают его высокомерно-насмешливыми взглядами, знал, что чиновник празднует победу и думает: этого я проучил как следует! Этот теперь долго носу не покажет! А еще Долль был уверен, что «следующего» сейчас примут с распростертыми объятиями, с каким бы неоднозначным делом он ни пришел. Да, с ним наверняка обойдутся любезно, так как теперь чиновнику захочется доказать себе, коллегам и посетителям, что он приличный человек. Но никаким приличным человеком он, конечно же, не был, а был одним из миллионов тиранов, которые испокон веку заправляли в этом прапорщицком государстве.
По пути домой Долль уже не думает о том, что от ноябрьской стужи его защищает пальто, которое ему всего несколько часов назад великодушно одолжил сосед, и что в желудке приятная тяжесть от еды, которую ему уделила добрая женщина. Он снова разочарован в соотечественниках. Робинзон страшно одинок на своем острове.
Так и получилось, что фрейлейн Гвенде и особенно фрау Шульц пришлось отдуваться за грехи жилищного управления. Так и получилось, что Долль заснул в полном унынии. Но все-таки это не тот Долль, каким он был в последнее время. Полтора часа сна — и в душе снова пробуждаются мужество и вера. Я справлюсь! — думает он. А если не справлюсь я, то все уладит Альма. Может, вообще разумнее послать туда ее. Она куда лучше меня умеет находить подход к мужчинам. И вообще — Альма, она и есть Альма!..
Он усмехается: вот и к нему привязалось это «и вообще». Проскользнув в выгоревшую комнату, он достает припрятанные харчи — пора бы наконец и пообедать.
Глава 10 Робинзон выходит в мир
Как ни старался Долль красться беззвучно — вдовая майорша Шульц его все-таки услышала. Едва он отрезал первый ломтик хлеба, в дверь раздался деликатный стук, и на его «войдите» показалась косматая Шульцихина голова.
— Ах, герр доктор Долль, можно я заберу свои вещи — если, конечно, я вам не помешаю?
— Забирайте, забирайте уже! — отмахнулся Долль. Но тут ему вспомнилось, как он наорал на нее, хотя виновато было жилищное управление, и он добавил: — Вы уж извините, что я вам нагрубил. Ходил по инстанциям, там все не слава богу — вот нервы и сдали. К тому же я не совсем здоров…
И тут же пожалел о своих словах. Он почувствовал, он прямо-таки увидел, как испуганная Шульциха воспрянула духом. И уж точно не стоило упоминать «инстанции» — она тут же поинтересовалась:
— Вы побывали в жилищном управлении? Что решили насчет квартиры?
— Как квартира будет поделена, — ответил Долль уже осторожнее, — между мной и фрейлейн Гвендой, пока непонятно. Но одно очевидно, сударыня: в этой комнате намерен жить я.
Физиономия Шульцихи скривилась.
— Но, герр Долль! — захныкала она. — На дворе зима, вы же не можете просто так взять и выкинуть меня на улицу! Конечно, я подыщу себе другое жилье, но до тех пор…
— До тех пор придется нам жить вдвоем, а когда мою жену выпишут, то и втроем… — Она попыталась вклиниться. — Нет-нет, сударыня, это не обсуждается. Я знаю, что комнатой вы пользовались от случая к случаю…
— Клевета! — вскричала Шульциха, и ее толстые белые щеки затряслись от злости и негодования. — Не верьте ни слову из того, что говорит эта Гвенда! Она же актрисулька, у нее профессия такая — врать!
— С фрейлейн Гвендой я о вас ни словом не перемолвился, фрау Шульц!
— Ну да, ну да, разумеется. Простите меня! Я знаю, вам насвистела в уши эта змеюка, консьержева супружница, нацистка! Она вечно норовит меня оговорить! Да я ее посажу! Сколько всего она наворовала из одной только вашей квартиры, пока я не отобрала у нее ключ! Ведра, кастрюли, картины… Пусть ваша жена хорошенько осмотрится в ее халупе на первом этаже — там пол вашего хозяйства! Само собой, я жила здесь постоянно!
— Так значит, — сказал Долль, — вы пользовались комнатой все время, каждый день?
— Все время, все время! Я же говорю, с прошлого года…
— Тогда вы, наверное, не будете спорить, что мне кое-что причитается за квартиру и коммунальные услуги. Я, конечно, не записываю все так тщательно, как вы, поэтому возьму недорого. Скажем, за квартиру, а также за пользование мебелью и кухней — двести марок, — а за газ и электричество еще сотню. В сумме триста — за все это время! Прошу вас, сударыня!
И он протянул руку.
Фрау Шульц даже села — не удобства ради, а потому что от ужаса ноги у нее подкосились. Такой атаки она не ожидала.
— Но у меня нет денег! — пролепетала она и вцепилась в сумку. — Даже двадцати марок не наберется…
— О, не переживайте! — успокаивающе отозвался Долль. — Ничего страшного. Давайте для начала вот хотя бы эти самые двадцать марок. Я согласен на рассрочку. А пока вы не выплатите все триста марок, я буду пользоваться вашим одеялом! Оно мне сейчас очень кстати.
— Нет! Нет! Нет!!! — Майорша Шульц сорвалась на крик. — Ничего я вам платить не буду! Мы так не договаривались! Мы с вашей женой условились, что я буду присматривать за вашими вещами в обмен на проживание.
— Но вы же сами мне только что рассказывали, сколько моих вещей пропало! Как это могло произойти, если вы за ними присматривали? Нет, фрау Шульц, триста марок вам заплатить придется. Вы только вспомните, я без возражений оплатил все представленные вами счета: столько-то сигарет, столько-то хлеба, столько-то фунтов картошки… Не так уж много я и требую. Жена бы наверняка меня не поддержала: она бы запросила гораздо больше…
— Ваша жена твердо обещала, что денег с меня не возьмет!
— Нет, сударыня, ничего подобного она не обещала. Не морочьте мне голову. Все решено, и деньги вы заплатите — чем скорее, тем лучше!
— А как же мое одеяло? — возопила фрау Шульц. — Герр доктор, дорогой, золотой мой герр доктор, в мой дом четыре раза попадали бомбы, у меня ничего не осталось, кроме этого одеяла. Герр доктор, вы не можете поступить столь бессердечно! У меня больше ничего нет, я несчастная женщина, и лет мне уже немало! — Она схватила его за руку, глаза ее наполнились слезами. — Сигареты! — прошептала она, словно бы размышляя вслух. — Сигареты он мне припомнил! Может, я и правда присчитала немного лишку — так ведь самую капельку, самую крошечку! Мне же надо как-то зарабатывать — вот я и продаю сигареты, я тоже, знаете ли, жить хочу! А иначе зачем я цеплялась за жизнь все последние годы — чтобы теперь помереть с голоду?! Нет, вы не должны считаться со мной за каждую сигарету, и одеяло отдайте! Вы не такой бессердечный, я знаю, вы просто притворяетесь! Триста марок я вам отдать никак не смогу. Если бы мне хоть пенсию платили! Но я не получаю ничего, ничегошеньки — а ведь фюрер говорил…
Тут она вконец запуталась и замолкла: лишь глаза ее молили о пощаде, а по щекам текли слезы. При этом она тискала его руку в своих мерзких ладонях, теплых и влажных.
— Сударыня! — сказал он и неучтиво выдернул руку. — Сударыня, слезами меня не проймешь — они меня только раздражают. Вы только что сами признали, что обсчитали нас, — поэтому я не верю ни единому вашему слову, в том числе и жалобам на бедность. Заберете свое одеяло, когда заплатите триста марок! А если не заплатите, тогда одеяло останется у меня.
— Нет! — резко возразила майорша Шульц, и все ее лихорадочное возбуждение вдруг как рукой сняло. — Нет, никаких денег я вам платить не стану. Можете хоть куда жаловаться. Ваше требование незаконно. Ваша жена мне ясно сказала…
— Воля ваша, фрау Шульц. Значит, одеяло остается у меня!
— Прекрасно, — сухо ответила фрау Шульц. — Замечательно! Вы еще об этом пожалеете — и вы, и ваша жена! Морфинисты несчастные! Это, между прочим, противозаконно!
— Спекуляция сигаретами куда более противозаконна, — ему омерзителен был оборот, который принял этот разговор. — Спасибо, фрау Шульц, больше нам обсуждать нечего. Заберите свои вещи из буфета и кладовки. И отдайте мне ключ от парадной двери…
— Ключ я вам не отдам! Вы не выставите меня на улицу!
— Сумку! — взревел Долль. Он сам не ожидал, что вдруг так взбесится. Он вырвал сумку у нее из рук, она тихонько вскрикнула. — Да не бойтесь, ничего вашего я не возьму! — Сумка была набита письмами, всевозможными туалетными принадлежностями, пачками сигарет. — Куда вы сунули ключ? — осведомился Долль, зарываясь все глубже. Под руку ему попалась пачка денег, синенькие купюры — сотни, — штук тридцать, если не сорок. Он сунул пачку Шульцихе в руки. — А вот и ваши двадцать марок нашлись, бедная вы женщина, у вас же ничего не осталось, вы лишь тщетно ждете, когда фюрер выплатит вам пенсию… — Наконец он нащупал ключи. — Ключ от квартиры на этой же связке?
Она покачала головой.
— У меня ничего нет… — прошептала она растерянно, держа в руках пачку банкнот.
— Да уж вижу! — отозвался Долль и отдал ей сумку. — Спасибо большое. А теперь, милейшая, извольте удалиться…
Мгновение она помешкала, словно не в силах принять решение, а потом вдруг выложила на стол три сотенные купюры. На Долля она при этом не смотрела. И ни слова не произнесла. (Неужели ей стало стыдно? Немыслимое дело!) И вышла из комнаты…
— Ваше одеяло! — крикнул Долль ей вслед. — Вы одеяло забыли!
Но она целеустремленно шагала по коридору и как раз миновала кухню.
— Ваши вещи в буфете! — опять крикнул Долль. Без толку. Входная дверь хлопнула, фрау Шульц ушла.
Пожав плечами, Долль вернулся к недоеденному хлебу. Хотя деньги он выбил, разговор с Шульцихой не принес ему удовлетворения. Три сотни, при виде которых ему становилось как-то неуютно, он спрятал в карман. При ценах, которые Альма платила в больнице, на них можно было купить сигарет пятнадцать — или обменять на одну золотую марку. Но для него они представляли куда большую ценность, и не только потому, что он добыл их с боем.
Тем временем совсем стемнело. Долль заканчивал трапезу уже при зажженном свете и не уставал удивляться, как много хлеба надо человеку, если питаться только им одним, как быстро съедается любая буханка. Раз за разом он говорил себе: ну все, последний кусочек! — и раз за разом, поколебавшись, брал еще один. Хлеб он ел всухомятку — варенье и сало пусть дождутся возвращения Альмы.
Затем он собирает продукты, намереваясь отнести их обратно в горелый Петтин комодик. Но тут вспоминает, что еще с полудня у него в кармане лежит ключ от кладовки, и идет на кухню.
Там хлопочет фрейлейн Гвенда. На ней серо-голубая шубка, а сама она размалевана, как будто прямо с кухни собирается выходить на сцену. Но она всего-то идет на вечеринку к друзьям. Фрейлейн Гвенда тут же принимается жаловаться: как же холодно, даже в квартире холод невыносимый. Представьте себе, она «из-под полы» купила печечку, а в ближайшие дни «из-под полы» же добудет брикеты угля, по две пятьдесят за штуку. Да нет, это еще дешево, очень даже дешево, бывает, что и по четыре марки за брикет дерут. А он как собирается зимовать? Нельзя же постоянно гонять обогреватель — не ровен час отключат электричество, и будут они все сидеть в темноте!
— Послушайте, фрейлейн Гвенда! — перебивает ее Долль: это нытье действует ему на нервы. — Послушайте, фрейлейн Гвенда, я выставил Шульциху из квартиры и забрал у нее ключи. Так что ей здесь больше появляться незачем. Просто чтобы вы знали…
На раскрашенном лице Гвенды мелькает озорная гримаска, — похоже, ей смешно, — и она говорит:
— Что, наконец-то и вы ее раскусили?!! Я уж грешным делом думала: сколько же еще вы будете терпеть? Ну, что до меня, я по ней точно ни слезинки не пролью.
— Значит, вы тоже понимаете, что она за фрукт! — кивает Долль. — Буфет на кухне, я думаю, можно открыть, пусть каждый берет из посуды то, что нужно. Там на всех хватит. А припасы давайте хранить отдельно, в разных кладовках, и ключи держать у себя. Вам какая больше нравится, правая или левая?
Фрейлейн Гвенда выбирает левую; на все остальное она согласна.
— Ну что ж, а теперь давайте вместе посмотрим, что там осталось из шульцевских припасов, чтобы впоследствии она не смогла нас ни в чем обвинить…
— Ох, да что там может быть? — Фрейлейн Гвенда презрительно отмахивается. — Она всегда тут же съедала все, что покупала.
И она, должно быть, права, так как кроме горстки приправ, двух луковиц и нескольких картофелин они не нашли ничего. После ревизии в кладовку заселились продукты Долля, и она сразу приобрела более солидный вид, чем в шульцевские времена!
Долль запирает кладовку. Время уже позднее, за окном тьма. Дует сильный ветер, выгибает пленку на окнах и с треском швыряет в нее горсти дождя. Тем не менее Долль по-прежнему намерен сегодня попасть в больницу к Альме. Весь день ему рисовалась эта сцена. Сколько раз он с замиранием сердца представлял себе, как сидит на краешке ее кровати, тихонько играет радио, может, у нее снова найдется покурить… (Хотя при их финансовом положении это бесстыдство и безрассудство!)
Лучше не говорить ей, что из лечебницы его выгнали, не нужно ей лишних переживаний. Она тут же забеспокоится, как он справится дома один. Заспешит с выпиской, а ведь лечение еще не завершено. Лучше он сделает вид, что опять сбежал. Придумает на ходу какую-нибудь историю.
Погрузившись в размышления, Долль спускается по лестнице. В лицо ударяет ледяной ноябрьский ветер, хлещут тяжелые капли. Он содрогается. На нем всего-навсего летнее пальто, вспоминает он. И останавливается. Летнее или нет, он в любом случае не может заявиться в нем в больницу — Альма сразу сообразит, что он больше не лежит в лечебнице! Придется идти в тонком летнем костюме — при одной мысли об этом Долля начинает бить озноб. А что, если отдать пальто швейцару? — думает он. Нет, это тоже не годится. Альма примется жалеть его и восхищаться, что он пришел к ней в такое ненастье, и тут обнаружит, что костюм-то сухой, хотя за окном льет как из ведра.
Нет, схитрить не удастся — придется идти в пиджаке. Впрочем, осеняет его, можно сказать, что пальто ему одолжил кто-то в лечебнице. Но это тоже не очень правдоподобно. Я удираю тайком и при этом прошу у кого-то пальто? Кроме того, Альма вполне может опознать гардеробчик герра Франца Ксавера Грундлоса — у женщин глаз на такие вещи наметан. Нет, ничего другого не остается: я должен, вынужден идти в пиджаке!
На улице было очень мерзко: сыро и холодно, — и Долль, как и вчера вечером, с удовольствием нырнул в тепло подъезда. Но только когда он переступил порог своей комнаты и увидел уютно пылающее окошечко обогревателя, ему пришло в голову, что идти куда-то вообще необязательно. Альма его не ждет: в больнице сейчас ужин, и она наверняка уже не рассчитывает сегодня его увидеть. А значит, нет никакой необходимости шлепать во тьме по дождю и холоду, рискуя замерзнуть до полусмерти. Он спокойно может остаться дома, залезть в теплую постель, почитать немного, а завтра отправиться к Альме — при свете дня и, хочется верить, по более приятной погоде.
Но Долль замотал головой и даже ногой топнул — столько в нем было решимости. Ведь он уже твердо собрался идти. Меньше всего ему хотелось снова впасть в тупую апатию последних месяцев и на все махнуть рукой. Торопливо, словно опасаясь передумать, он сорвал с себя пальто, бросил его на кресло и снова побежал вниз по лестнице, выскочил под ледяной дождь. И порысил так стремительно, что толком не замечал, как пробирает до костей ветер и как саднит нога после того, как он опять споткнулся о вывороченную гранитную плиту, — нет, ничего не доходило до его сознания. Он все время видел перед собой мягко освещенную палату, в которой играет приглушенная радиомузыка, и слышал, как выпаливает, еще толком не отдышавшись после пробежки по городу: «Добрый вечер, Альма!» — и счастливая улыбка озаряет ее лицо.
И пока он бежал, воодушевленный этим праздничным ожиданием, ему казалось, что он убегает от всего своего искореженного, обезбоженного прошлого, в котором он жил, питаясь глупой, ложной гордостью за свое одиночество и робинзонаду. Он бежал, как обнищавший человек бежит навстречу своему прекрасному, светлому будущему.
Всю дорогу он мчался легко, словно подхваченный ветром, и вот он уже на пороге больницы. Тут он на мгновение задержался, промокнул лицо платком и протер забрызганные дождем очки. Затем руками пригладил волосы — расческу он, как всегда, забыл. Наконец, немного отдышавшись, он стал медленно подниматься по лестнице. Никто его не останавливал и, кажется, даже не видел. Так он и добрался до нужной палаты, постучал и ворвался внутрь.
Он увидел, как просияло ее лицо — именно так, как он себе представлял, и все же в тысячу раз прекраснее, — и услышал ее возглас:
— Ах, мальчик мой, мальчик мой, это ты! Ты снова от них удрал? У меня весь день было чувство, что сегодня ты придешь!
Он подошел, нет, подбежал к ее кровати, наклонился к ней, поцеловал и прошептал:
— Нет, Альма, на этот раз я не удрал! Меня выгнали из лечебницы еще вчера вечером. Я не хотел тебе говорить, но, когда увидел твое счастливое лицо, понял, что не могу лгать!
Он подсел к ней и принялся рассказывать обо всем, что произошло после их вчерашнего расставания: и о мытарствах по всевозможным инстанциям, которые чуть было не довели его до отчаяния, и о стычке с Шульцихой, и, наконец, о том, что он из каких-то дурацких соображений оставил дома пальто.
— А теперь получается, что мерз я совершенно зря! Впрочем, может, вовсе и не зря. Я еще не разобрался в себе, но чувствую: теперь все изменится. И вообще, не так уж я и замерз — у меня просто не было времени об этом думать!
И он так на нее посмотрел, что она притянула его голову поближе и прошептала:
— Ах ты негодник, как это ты на меня смотришь? Ты знаешь, что я тебя ужасно люблю и что ты выглядишь сейчас на тридцать лет моложе?! Как бы я хотела сегодня же вырваться отсюда и полететь с тобой в наше гнездышко!
И едва она выговорила эти слова, как лицо у нее изменилось, и он понял, что внезапная мысль немедленно пойти с ним домой тут же завладела ею, что мимолетное желание превратилось в настоятельную потребность, а потом и в твердое намерение. Напрочь позабыв о своей ране, она бормотала:
— А вот возьму и выпишусь! А если меня не отпустят, поступлю, как ты: просто-напросто сбегу!
И, сияя, добавила:
— Подумай только, какое счастье: сегодня вечером мы наконец-то снова будем вместе!
Он ответил раздраженно:
— Об этом и речи не может быть, Альма! Вспомни о своей ране: ее нужно ежедневно промывать и перевязывать! Ты не должна прерывать лечение. Я вполне справлюсь сам. Главное — больше не валяться кулем на кровати!
Она упрямо возразила, что сделает так, как считает нужным. И сегодня вечером покинет больницу!
Он знал, как она умеет упираться, и попытался решить дело миром: принялся уговаривать, подбирая правильные, добрые слова. Уговаривать пришлось долго: ей втемяшилось сегодня же выписаться.
— А с молодым врачом я все улажу!
Конца-краю этому спору не было, и у Долля уже не оставалось никакой надежды ее переубедить. Пару раз к ним заглядывала монахиня с улыбкой мадонны и намекала, что герру Доллю пора идти. Ужин давно стыл на тумбочке у кровати. Под конец, прощаясь с Альмой, он все-таки вырвал у нее обещание, что она не сбежит из больницы сегодня же вечером и не будет ничего предпринимать, пока не посоветуется с главврачом. Как чудесно этот вечер начинался — и как скверно закончился: обе стороны не добились желаемого и сердились друг на друга.
Проходя по коридору, Долль увидел через открытую дверь в одну из палат молодого человека в белом врачебном халате. Ага, вот и познакомимся! — подумал он, завернул в палату и представился. Оказалось, что молодой человек с желтоватым лицом — действительно врач ночной смены. Долль, которому этот тип с первой секунды не понравился, сказал:
— Моя жена выразила желание выписаться как можно скорее. Я ее отговорил. Полагаю, вы меня поддержите. Состояние ее раны…
— Превосходное! — спешно подхватил врач. Похоже, Долль тоже вызывал у него неприязнь. — Ей уже не обязательно находиться в стационаре. Вполне хватит амбулаторного лечения. Если ваша жена будет дважды в неделю приходить на перевязки, этого более чем достаточно.
— Я попросил жену не торопиться и взял с нее обещание обсудить выписку с главврачом. — Долль гнул свое, и в голосе его послышалось раздражение. — Дело в том, что кроме раны есть еще одна проблема: ей почти каждый вечер колют морфий, верно? Но ведь ее нельзя выписать, пока она не привыкнет обходиться без уколов, так?
Не было никакого сомнения: при этой атаке молодой врач вздрогнул, и его желтоватое лицо побледнело. Но он быстро взял себя в руки и ответил с подчеркнутой снисходительностью специалиста, разъясняющего очевидное ничего не понимающему профану:
— Ах, уколы — жена вам о них рассказала? Ну, на этот счет могу вас успокоить: ваша жена только думает, что ей колют морфий. На самом деле поначалу это был безвредный заменитель, а в последнее время и вовсе дистиллированная вода…
При этих словах врач ухмыльнулся так мерзко, что Долль едва не рявкнул: так значит, за дистиллированную воду вы брали с нее дорогие американские сигареты! Это как вообще называется? Кроме того, он не верил ни единому его слову. Альма прекрасно знает, как действует морфий, и не перепутает его с водой. Ты просто лжешь, чтобы выгородить себя перед начальством!
Но всего этого Долль не озвучил — чего бы он добился, если бы устроил скандал?.. И сказал только:
— Насколько я понимаю, от воды, которую больной считает морфием, тоже нужно отвыкнуть, — или вы считаете иначе?
Врач опять мерзко ухмыльнулся.
— Да бросьте! — отмахнулся он. — Вы все усложняете. Давайте сейчас вместе пойдем к вашей жене, и я расскажу ей правду. И вы воочию убедитесь, что никакого шока не будет — наоборот, она испытает облегчение.
— Нет уж! — отрезал Долль. Взгляд его метал молнии. — Еще не хватало! В результате гнев моей жены обратится на меня, а не на вас. Давайте условимся так: я поговорю с главврачом, а до того настоятельно вас прошу нашу беседу моей жене не передавать!
Ухмылка эскулапа сделалась невыносимо высокомерной.
— Не волнуйтесь, герр Долль! — насмешливо успокоил он. — Я не выдам вас жене, и вам не придется испытать на себе всю мощь ее гнева. Само собой, это было всего лишь предложение — я подумал, вы захотите быть рядом, когда я открою ей правду! Разумеется, я справлюсь и сам…
— Никаких правд сегодня вечером!
— Посмотрим, — неопределенно ответил врач. — Посмотрим, что ваша жена скажет мне о вашем визите. Разумеется, я буду исходить из состояния пациентки. — Он посмотрел на собеседника, словно раздумывая, что бы еще сказать. Затем сунул руку в карман халата и достал пачку американских сигарет. — Прошу вас! — сказал он изумленному Доллю. — Нет-нет, я настаиваю!
И Долль, ошеломленный, сбитый с толку, совершенно растерявшийся, взял сигарету… В следующее мгновение он готов был сам себе влепить пощечину за эту глупость, за эту малодушную слабость! Да, этот молодой насмешливый пройдоха обставил его по всем статьям, и теперь, когда он дал маху, взяв предложенную сигарету, можно было уже не думать о том, чтобы снова заговорить о деле.
Поэтому они обменялись парой вежливых, пустых слов, и Долль отправился домой, кипя от гнева, злясь на себя и свою вечную неготовность держать и наносить удары.
Единственное, что его утешало, — это обещание Альмы не требовать выписки сегодня же, а подождать, пока ему или ей удастся переговорить с главврачом. Но чем дольше Долль об этом думал, тем более слабым казалось утешение. Хоть он и не сомневался, что Альма сдержит слово, но допускал, что молодой врач не станет держать язык за зубами и добьется того, что Долль в данный момент считал пагубным: преждевременной выписки.
Поспешая в больницу, он в горячке радостного ожидания не замечал ни холода, ни дождя, а по пути домой ненастье ноябрьской ночи заслонили от него тягостные размышления. Он очнулся от раздумий уже недалеко от дома, и то лишь потому, что с разбегу налетел на другого человека, сбив его с ног. Долль забормотал слова извинения и помог упавшему подняться, смиренно ожидая, что сейчас на него обрушится град ругательств и угроз. Но этого, к его удивлению, не произошло — человек, чье лицо было неразличимо в темноте, спросил едва ли не робко:
— Ну как, герр Долль, вы уже что-то сделали, чтобы вновь занять свое место в литературе?
Долль был так ошарашен — все-таки не ожидаешь услышать подобный вопрос на ночной улице, — что не сразу сообразил, кто к нему обращается и кого он повалил в грязь: это был тот самый папирусный врач, которого Долль первым пригласил к Альме по прибытии в Берлин.
— Ах это вы, герр доктор! Вы уж простите меня, пожалуйста, мне правда очень неловко. Надеюсь, вы не ушиблись…
— Я думаю, — отозвался тот — он как был, так и остался мастером не слышать то, что его не интересует. — Я думаю, сейчас нельзя медлить, если хочешь играть какую-то роль. Множество совершенно безвестных людей уже снова рвется к кормушке…
Зависти в его голосе не было: подобно всему, что он произносил, эти слова прозвучали как-то бесплотно, словно ушли в туман, не отозвавшись эхом ни в нем самом, ни вокруг него. Они вместе двинулись по улице — ведь их дома находились по соседству. Врач-химера продолжал:
— Снова расплодились всякие объединения, союзы, палаты, группы — но меня никуда не зовут. А ведь я когда-то был по-настоящему известным писателем — не таким известным, как вы, герр Долль, но все же не последнего ряда…
Тем временем они добрались до цели, и как-то само собой получилось, что Долль вошел в дом врача и в его квартиру, в слабо натопленную смотровую, где они без долгих предисловий сели у стола. Покрытое белым лаком медицинское кресло с подножниками выглядело так же химерично, как его хозяин, в нем сидевший. Во всем этом было что-то ирреальное: словно видишь сон и вот-вот проснешься.
Но врач продолжал:
— Такое впечатление, будто меня все считают умершим — обо мне начисто позабыли. Но как же так? Я же вижу в газетах имена старых друзей. Я ведь их не забыл — и они меня забыть не могут. Но нет, ничего! Ни весточки! Словно бы я умер — но ведь я не умер, я еще жив!
На миг он замолчал, вперив в Долля взгляд своих невыразительных карих глаз, неподвижный и немигающий. И тот сказал, желая утешить собеседника:
— Меня тоже никуда не зовут…
— Нет! — воскликнула папирусная химера с неожиданным напором. — Нет! Мне не в чем себя упрекнуть! — И он ответил на вопрос, который ему не задавали: — Я никогда не был нацистом. Конечно, какое-то время я служил врачом в вермахте, но эта участь никого не миновала. А в партии я никогда не состоял — и вот теперь это молчание, словно меня считают нацистом. И как с этим быть?..
Теперь он часто моргал, и тонкая папирусная кожа на скулах почти порозовела.
— С чем быть-то? — осведомился Долль. — С тем, что вас обходят? Почему вы сами не напомните о себе своим старым друзьям? Может, они даже не знают, что вы живы. Столько народу сгинуло…
— Но я писал письма, много писем! — возразил врач. — Смотрите, полный ящик! — Он выдвинул ящик письменного стола и показал Доллю стопочку писем в конвертах; на конвертах были написаны адреса и наклеены берлинские марки с медведями. Врач торопливо пояснил: — Письмо — это ведь своего рода клич: ты его пишешь и тем самым уже призываешь адресата. — Он помолчал мгновение и добавил: — Кто может меня упрекнуть? Никогда я не был нацистом! Никогда! Не было такого! — Он заморгал еще быстрее.
У Долля возникло стойкое ощущение, что все не совсем так, что этого доктора Перниза грызет какая-то мука и ради того, чтобы от нее избавиться, он готов даже солгать. По крайней мере, бесконечные заверения, что он-де никогда не был нацистом, были подозрительны. Он напоминал Доллю пивовара, который клялся бургомистру, что никакого тайника у него нет, — пока этот самый тайник не нашли.
Долль поднялся.
— Вы бы отослали письма-то, — посоветовал он.
Но врач уже снова ушел в себя и сделался непроницаем.
— Конечно! — без выражения отозвался он. — Только вот какое из них отослать? Кому?.. Все это люди невероятно тщеславные, и тот, кому я не напишу, будет чувствовать себя обойденным. Благодарю за визит!
Долль вышел в ночь. Что, если Альма все-таки настояла на выписке и ждет его дома? Он прибавил шагу.
Но когда он переступил порог комнаты, та оказалась пуста. Никакая Альма к нему не пришла, вечер предстояло коротать в одиночестве — да и, наверное, еще не один день он будет самостоятельно строить их будущее. Он намеревался как можно скорее приступить к работе, чтобы жизнь обрела смысл. Но для этого нужно было связаться с людьми, которые ориентируются в этой сфере, нужно было разузнать, какие нынче есть возможности опубликоваться, какие существуют газеты, журналы, издательства. Но с чего начать? Он уже два месяца в Берлине, но ничего, ровным счетом ничего не знает о переменах, которые произошли после катастрофы. Стыдно признаться: он ни в одну газету ни разу не заглянул!
Ворочая подобные мысли, Долль навел в комнате какой-никакой порядок. Заодно накрыл к ужину и сварил себе кофе. Затем тихонько постучался к фрейлейн Гвен-де и, когда ее мать открыла, попросил одолжить газет, хотя бы и старых. Ненадолго, до завтрашнего утра.
Ему вручили целую стопку, с которой он и закрылся у себя. В тот вечер он жевал хлеб и хлебал кофе, не замечая вкуса. Он читал, читал газеты, новые и старые, читал самозабвенно, не думая ни о чем другом, как в пятнадцатилетнем возрасте читал своего любимого Карла Мая. Он читал все подряд: статьи про внутреннюю и внешнюю политику, письма в редакцию и фельетоны, заметки о культурных мероприятиях и объявления. Он проглатывал газеты от первой до последней страницы.
И перед ним открывался мир, в котором он раньше жил вслепую, — а теперь все обретало ясность и четкость. Он ходил по улицам этого города и ни разу не задумывался о том, куда деваются противотанковые заграждения, кто разбирает завалы и чьими усилиями вновь пущен транспорт. Он видел, как люди работают на улицах, и испытывал лишь недоумение: люди опять работают — зачем?.. Иногда он думал: это бывшие нацисты, они должны работать. А мы — мы ничего никому не должны, мы подождем, пока все само собой наладится…
Однако эти люди были ничем не хуже и не лучше его; но, пока он валялся на кушетке и старательно доводил себя до срыва, те, кто был разочарован не меньше его, взялись за работу, и работа помогла им побороть и разочарование, и отчаяние!
Он читал о театрах, где снова шли спектакли. О художественных выставках и концертах, о новых фильмах со всего света. Он читал, что люди сами рубят и привозят из леса дрова, сами приводят в порядок разрушенные жилища, сами перекрывают крыши и чинят обгоревшие станки. Он читал объявления о продаже вещей, каких давно уже было не достать. Пусть их было мало, но это только начало — все только начинается!
Он клеймил Берлин «мертвым городом», «лабиринтом развалин», в котором он-де никогда не сможет работать, — а работа в этом городе кипела, да еще как! Каждому, кто не принимал в ней участия, должно было стать стыдно. В каком тумане слепого себялюбия и эгоистического паразитизма они жили все последние месяцы! Они только брали, брали, а чтобы самим внести хоть крошечную лепту — это им даже в голову не приходило!
В этот вечер, в эту ночь, когда Долль отложил последний газетный листок, улегся на кушетку и потушил свет, ему не понадобились никакие трусливые фантазии о Робинзоне, чтобы поскорее заснуть. Перед его внутренним взором снова и снова проходило все то, о чем он только что прочитал, и чем чаще он повторял себе, что все уже сделано за него, тем меньше понимал, почему все это время сам стоял в стороне, опустив руки и исходя злобой. Сон сморил его далеко не сразу, и он заснул, все еще упрекая себя.
Глава 11 Скандал как начало
Несмотря на мучительные сны, Долль проснулся свежим и отдохнувшим и, как и вчера, бросил все силы на уборку, чтобы его не раздражали внешние неустройства. Он очень надеялся, что намеченный путь приведет его к успеху и очередной ничтожный тиранчик, как в жилищном управлении, не лишит его вновь обретенного мужества.
Вчера вечером, запоем читая газеты, Долль часто натыкался на имя человека, которого помнил еще с донацистских времен. Этого человека, с которым он редко встречался лично, но который работал редактором в большом издательстве и курировал некоторые его книги, — этого человека по фамилии Фёльгер он намеревался разыскать. И начать решил с редакции той самой газеты.
Долль как раз сунул руки в рукава одолженного пальто, когда звонок залился трелью — пять, шесть раз, — и, когда он открыл, удивляясь, кто это к ним рвется, на пороге оказался не кто иной, как его собственная жена, Альма! В каждой руке она держала по набитой хозяйственной сумке, через плечо были переброшены платья и что-то юбкообразное, и по выражению ее лица было ясно, что настроение у нее отнюдь не радостное.
Долль, который еще вчера вечером опасался, что она может заявиться домой, совершенно растерялся. Чтение газет и намерение нанести визит редактору Фёльгеру заслонили от него все остальное, и этим утром он не вспоминал ни о жене, ни о том, что она может прийти.
— Альма, ты?! — воскликнул он в полном изумлении.
— Да, Альма, я!!! — передразнила она его со злой насмешкой. — Ну конечно, ты бы предпочел, чтобы я никогда сюда не приходила, а неделями валялась в больнице! (Ты не хочешь наконец открыть дверь и взять у меня вещи?! Ты же видишь, у меня на все рук не хватает!) Так-то ты держишь слово — настроил против меня этого молодого врача! Да еще сигареты у него выпрашивал — ну спасибо!
В ярости выплюнув эту тираду, она протиснулась мимо него и направилась в комнату. Небрежно бросила на пол свои пожитки, швырнула платья на стул и плюхнулась в кресло. Но тут же снова вскочила, достала из кармана пачку сигарет и закурила. Несмотря на обиду, товарищеский дух в ней был не напускной, не искусственный, так как она тут же протянула пачку ему и предложила:
— Бери!
Долль, который вчера так разозлился на себя за то, что не отказался от сигареты молодого врача, теперь отказался от сигареты жены — опять ошибка! — и ответил гневно:
— Я вовсе не настраивал врача против тебя! Более того, я не выпрашивал у него сигарет, а взял одну-единственную из чистой вежливости, так как он настаивал!
— Да неужели? — сердито отозвалась она. — А у меня не берешь? Ну да, конечно, с собственной женой вежливым быть необязательно. Можно спокойно нарушить данное ей обещание и за ее спиной подговаривать врача, чтобы он еще бог знает сколько времени держал ее в больнице!
— Ничего подобного я тебе не обещал! А вот ты мне обещала не уходить из больницы, пока мы не посоветуемся с главврачом!
— Вот видишь, ты и сам говоришь: мы условились, что сперва нужно посоветоваться с главврачом, — а ты идешь и сговариваешься с этим типом! Ну конечно! Тебе важнее всего, чтобы я там проторчала подольше! Здесь я тебе, наверное, только мешаю!
— Альма! — тихо проговорил Долль. — Альма, давай не будем ссориться. Нам нужно подумать о будущем. А будущего без тебя у меня нет. Но для этого ты должна быть здорова — именно эта забота мною и двигала. Вчера вечером я читал газеты — ах, Альма, сколько всего произошло в мире за два месяца, которые мы провалялись, ничего не делая! Ну ничего, теперь мы тоже заживем как люди. Как раз когда ты пришла, я собирался к Фёльгеру, моему прежнему редактору, который всегда стоял за мои книги. Тебя выписали — ладно, тут ничего уже не поделаешь. Но ты лучше приляг, не нагружай ногу…
Лицо ее расслабилось, выражение смягчилось, как только он сменил тон с запальчивого на мирный. Но услышав его последнее предложение, она, словно упрямый ребенок, замотала головой и, словно упрямый ребенок, заявила:
— А я не понимаю, почему бы мне не пойти с тобой. Нога в порядке — ну, почти в порядке. Я не хочу валяться в постели и подыхать со скуки!
Он ответил кротко:
— Именно для того, чтобы это бесконечное валяние в постели не повторилось, я прошу тебя внимательнее отнестись к своему здоровью. Потому что, если опять начнется эта бездеятельная жизнь, о работе не будет и речи — только о том, как раздобыть морфий, — и опять мы окажемся во власти Шульцихи и Дорле. Сделай одолжение, Альма, пощади себя, чтобы до этого не дошло!
Но она покачала головой и строптиво повторила:
— Нащадилась уже, хватит. Я хочу помогать тебе. Что бы ты ни делал, я хочу быть рядом!
— До сегодняшнего утра ты была прикована к постели, ты не можешь просто так взять и пойти бродить по городу! — твердо ответил он. — Знала бы ты, как я боюсь, что опять начнется это прозябание! И теперь у нас уже нет никаких резервов, нет бриллиантового кольца, которое можно в крайнем случае продать. Да, Альма, тебе придется осознать, что мы теперь бедные люди и многого не сможем себе позволить: ни врачей, ни дорогих американских сигарет, может быть, даже белого хлеба — он съедается слишком быстро, а насыщает гораздо хуже черного.
— Ах вот как? — воскликнула она, опять начиная горячиться. — И поэтому ты не взял у меня сигарету? Решил поиграть в бедняка?!! А мне вслед за тобой придется бросить курить и питаться одним только черным хлебом, хотя ты прекрасно знаешь, что у меня от него всегда проблемы с печенью?! Нет уж, сам делай что хочешь, но меня в это не втягивай! У меня еще куча вещей, которые я могу продать, а когда они кончатся, я знаю выход получше, чем загибаться в нищете.
Он ответил раздраженно:
— Ну разумеется, очень удобно говорить: я ни в чем не хочу нуждаться, — и угрожать, что уйдешь при первых же трудностях. Только вот угрожать мне не надо — этого я не позволю даже тебе! И если ты хочешь уйти, тогда чем скорее, тем лучше! А я двинусь своим путем!
— Вот видишь! — торжествующе воскликнула она. — Так я и думала: неспроста ты уговаривал и меня, и врача, что мне нужно еще полежать в больнице! Я стала для тебя обузой, и ты хочешь от меня избавиться. Пожалуйста, я не буду тебе мешать, я в любой момент могу уйти. Одна я устроюсь гораздо лучше, чем с тобой!
— Что за чушь ты несешь! — воскликнул он. — Я ни слова не сказал о том, что ты стала мне обузой и я предпочту обойтись без тебя! Это все твои слова! Но речь ведь вовсе не об этом! Речь о том, чтобы ты проявила благоразумие и не перегружала больную ногу. Да или нет?
— Конечно же нет! — насмешливо отозвалась она. — Если бы ты попросил меня об этом по-хорошему, я бы, может, и согласилась, но в таком тоне — нет уж, ни за что!
— Сначала я тебя просил по-хорошему, но ты не хочешь меня слушать. Ну, если не хочешь…
Он выжидающе поглядел на нее, но ее ярость только нарастала.
— Сколько еще раз мне повторить, что не хочу?! Я не дам тебе меня тиранить! Смотри, я сейчас закурю еще одну сигарету — просто чтобы тебя позлить!
И она действительно закурила.
— Прекрасно, прекрасно! — ответил он. — Во всяком случае, теперь я все понял!
И он направился к выходу. Ее глаза потемнели от гнева; но он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь, в коридоре натянул пальто, нахлобучил шляпу и выскочил из квартиры.
Сегодня дождя не было, ветер тоже поутих, но никогда еще эта улица, по обеим сторонам которой высились горелые руины и груды обломков, не наводила такую смертную тоску. Так и у него в жизни: война уничтожила все, остались лишь руины и корявые обломки сгоревших воспоминаний. Наверное, тут уже ничего не изменить; в одном он был прав: из этих развалин выхода нет. То, что сейчас устроила ему собственная жена, могло отбить всякое желание что-то делать! И ведь он прав — это она не права! Здравый смысл на его стороне, а все, что она говорит о нежелании в чем-либо себя ограничивать, — полнейшая ерунда!
Конечно, конечно, она молодая, избалованная женщина, и не следовало вываливать на нее все это, едва она переступила порог, все эти рассуждения про сигареты и белый хлеб, — надо было повременить. Он должен был проявить терпение и осторожность. Но, господи, он ведь тоже всего лишь человек; время и невзгоды давят ему на плечи, давят сильнее, чем на нее, потому что она живет как птичка и сегодня уже не помнит о вчерашних горестях! Почему он всегда заботится о чувствах других людей, а его чувства не заботят никого?
Нет, даже и хорошо, что так все вышло. То, как они расстались, — это и есть вся правда их отношений, когда влюбленность не затушевывает разногласия. Они ни в чем не сходятся, во всем чужды друг другу, совершенно чужды, каждый сам по себе. И сам по себе он пойдет своим путем; он больше не будет ее уговаривать, пусть себе курит и распродает что хочет! Он ни слова ей больше не скажет! Но ни слова не скажет и о том, что узнает и чего добьется у редактора Фёльгера.
Погруженный в свои мысли, он добрался до станции метро, купил билетик и стал дожидаться поезда. Наконец поезд подошел, и из него, с трудом протискиваясь сквозь толпу на платформе, стали высаживаться люди. После чего в переполненный вагон забились новые пассажиры, в том числе и Долль.
Внезапно рядом раздался насмешливый голос:
— Может, теперь вам угодно сигаретку?
Он обернулся и растерянно уставился в лицо собственной жены, которая смотрела на него надменно и холодно. Он не ответил, а лишь мрачно качнул головой, отвергая предложенную сигарету. Это было уже слишком; его снова захлестнул гнев. После такого скандала втихаря пойти за ним, а теперь высмеивать его на глазах у окружающих — да можно ли быть такой несносной!
Его бесило, что она потащилась за ним на встречу, которая столько для него значила, — словно все это имело к ней какое-то отношение. Она мешала ему. Ему нужно было обдумать, что он скажет редактору Фёльгеру, а мысли его крутились вокруг этой вздорной бабы!
Выйдя из метро, он пересел на городскую железную дорогу, а потом на электричку — она не отставала. Он знал, что ведет себя отнюдь не по-рыцарски: например, в электричку он запрыгнул в самый последний момент, когда поезд уже тронулся. Но ее это не обескуражило: она тоже успела вспрыгнуть и, злорадно торжествуя, даже заплатила за него. На его слабые возражения ни она, ни кондуктор внимания не обратили.
Конечно, ею двигало не только злорадство. Пару раз она пыталась сделать вид, что ничего не произошло, и завести с ним безобидный разговор. Но он только поджимал губы и не отвечал ни слова.
Теперь, когда они сошли с электрички и оставалось пройти пешком последний отрезок пути, она предприняла третью попытку. Они как раз проходили по временному деревянному мосту, а рядом в воде лежал прекрасно заасфальтированный, широкий железный мост, который без цели и смысла взорвали гитлеровцы. Она с любопытством посмотрела на гладкое дорожное полотно, которое круто уходило вниз, под воду (и при этом нигде не треснуло), тянулось по дну на глубине, быть может, полуметра, а потом так же круто поднималось на противоположный берег. Позабыв обо всем на свете, она воскликнула:
— Как жаль, что я уже не ребенок: вот бы с такой горки съехать в воду! Впрочем, на санках или на велосипеде и теперь можно. Ах, я бы сотню американских сигарет отдала, лишь бы попробовать!
Ее последние слова смазали впечатление от первых, которые вызвали у Долля невольную улыбку. Он прямо-таки увидел, как она съезжает на попе по этому мосту, смеясь и сверкая белоснежными зубами, и ее золотисто-рыжая грива развевается на ветру. Она бы правда это сделала, она бы не постеснялась. Но последняя ее фраза, про американские сигареты, вновь испортила ему настроение.
А ее эта фраза навела на ровно противоположную мысль. Она вытащила из кармана пачку «Честерфилда», заглянула внутрь и протянула ему:
— Ну, что скажешь? Последний шанс! Осталось две штучки — по-братски?
Он еще крепче сжал губы и покачал головой, хотя руки у него так и чесались взять сигарету — очень уж хотелось покурить.
— Ну, нет так нет! — равнодушно сказала она и достала из пачки сигарету. И продолжила, закуривая: — Если хочешь дуться и капризничать, как малое дитя, пожалуйста, мне-то что! От этого сигарета не доставит мне меньше удовольствия!
Она с наслаждением затянулась и выпустила дым в его сторону, явно нарочно. И с прежним насмешливым высокомерием сказала:
— Тебе же все равно придется сдаться. Хочешь не хочешь, ты представишь меня своему редактору и будешь со мной разговаривать, как бы по-дурацки ты себя сейчас ни вел!
Он все время об этом думал, и ее колкое замечание попало в яблочко. Он взвился:
— Вместо того чтобы тащиться за мной и мешать мне думать, ты бы лучше сходила в жилищное управление и в карточное бюро! Ты так хвасталась, что тебе достаточно пальцами щелкнуть — и все уладится! Но о таких вещах ты никогда сама не подумаешь, гораздо удобнее свалить их на меня!
Она ответила язвительно:
— О квартире и карточках не беспокойся! Ты думаешь, раз у тебя ничего не получилось, то и у меня не получится? Да я сегодня же после обеда туда пойду и добьюсь всего, что нам причитается!
Он ответил с притворным сочувствием к ее заносчивой неосведомленности:
— После обеда все конторы закрыты!
На что она отозвалась еще надменнее:
— Не для меня, дорогой! Будешь смеяться, но — не для меня!
А он:
— Вот уж точно мне не до смеха будет! А тебе — не до хвастовства!
На том их очередная перепалка и закончилась. Они добрались до большого здания, где размещалось издательство, — некогда это было одно из самых представительных и величественных строений в Берлине. Снаружи возносящийся ввысь фасад и сейчас смотрелся солидно, и даже война его как будто бы не тронула — если не считать разбитых, пустых или закрытых картонками окон. Только горы обломков, нагроможденные вокруг, намекали, что внутри здание не очень-то уцелело.
И действительно, едва переступив порог, они оказались в закопченном помещении, провонявшем гарью. Помещение было очень просторное — за счет обрушившихся перегородок.
Когда они нырнули в низенькую железную дверь, запах гари вдруг исчез, зато повеяло сыровато-кисловатым ароматом свежей известки. Вверх уходила широкая, скупо освещенная лестница, стены, казалось, только что покрасили, все пахло новьем, хотя новье было довольно убогое. Эту часть здания явно только что отремонтировали.
Поднявшись на второй этаж, они попали в ту самую редакцию, где Долль рассчитывал найти Фёльгера или хотя бы получить о нем какие-либо сведения. Чуть ли не заикаясь, он осведомился о человеке, который некогда занимался его книгами; у него внезапно возникло чувство, будто после катастрофы он только и делал, что стремился навстречу этому мгновению, и вот-вот — как он на это надеялся! — его изломанное прошлое все-таки соединится со счастливым будущим. Внезапно, в секунду между вопросом и ответом, он затрепетал, боясь услышать «нет», «ничего не знаем», словно тогда дверь в светлое будущее захлопнется перед ним навсегда.
И он перевел дух, когда услышал:
— Я спрошу, может ли герр Фёльгер вас сейчас принять. Как мне вас представить?
Называя свое имя, он чувствовал, как по всему телу разливается слабость: будто бы он стоял на краю пропасти, и у него закружилась голова, но счастливая случайность спасла его от падения.
Их провели в большое помещение, где царил беспорядок: оно больше напоминало кабину машиниста, чем кабинет редактора. Долль взглянул в изъеденное заботами старческое лицо, обрамленное жидкими седыми волосами. О боже! — с содроганием подумал он, пожимая протянутую руку, это же не Фёльгер, это какой-то древний дед! Это просто не может быть Фёльгер! Тот заговорил, а Долль в смятении подумал: «Может, он тоже потрясен тем, как я выгляжу. Я бы никогда его не узнал! Проклятая война — что она со всеми нами сделала!..»
А редактор тем временем взволнованно восклицал:
— Долль, неужели это вы! Вы же наверняка знаете: ходили слухи, что вы погибли. Мы все думали: вот, и он тоже! А теперь вот он вы! Присаживайтесь, сударыня, прошу! У меня тут, конечно, все довольно скромно…
И Долль слышал собственный голос, лопочущий так же растерянно и сбивчиво:
— Ну и что, что меня считали погибшим! Теперь, значит, сто лет проживу. А что, я могу! — Он чувствует взгляд Альмы, наблюдающей за ним, радуется, что она ведет себя смирно, не лезет вперед, и говорит вопреки своим первоначальным намерениям: — Кстати, познакомьтесь, герр Фёльгер — моя жена! — и добавляет, так как ему кажется, что на лице редактора промелькнуло удивление: — Мы поженились незадолго до конца войны.
— Да-да! — восклицает тот и кивает поседевшей головой. — Все меняется, все меняется — у меня тоже! — Он бросает взгляд на молодую женщину, и складывается впечатление, что у него тоже перемены в личной жизни. Он продолжает: — А теперь я снова, как до возникновения Тысячелетнего рейха, сижу в этом здании, постаревший и пощипанный жизнью, и выполняю ту же самую работу, что и раньше. Иногда мне кажется, будто все, что произошло со мной за последние двенадцать с половиной лет, на самом деле плод моего воображения, смутное воспоминание о ночном кошмаре…
— О нет! — возражает Долль. — У меня не так. Мне все эти ужасы пока еще кажутся весьма вещественными. Но конечно, ведь вы погружены в работу…
— А вы? Неужели ни над чем не работаете?..
— Ни над чем! Представьте себе, я был бургомистром! А потом долго болел, — и он начинает рассказывать обо всем, что творилось с ним в последние месяцы, о том, как нарастало ощущение безнадежности и одолевала апатия…
По ходу рассказа собеседник начинает ерзать и использует первую представившуюся возможность поведать Доллю, как тяжело пришлось ему, что ему и его близким довелось пережить!
Долль рассеянно слушает его жалобы, и на каждый страшный эпизод в его памяти всплывает свой, похожий, но еще более страшный. Едва дождавшись паузы, он снова принимается вываливать на Фёльгера все подробности своих злоключений.
И вдруг они останавливаются, смотрят друг на друга, и озабоченные лица озаряют слабые улыбки, — они уличили друг друга.
— Вот и мы делаем то же самое, — говорит Фёльгер, и улыбка его становится шире, — точно как те самые замечательные люди, над глупостью которых мы так любим потешаться. Каждому выпал на долю самый ужасный ужас!
— Да! — соглашается Долль. — При этом все мы прошли примерно через одно и то же!
— Именно, — кивает Фёльгер. — Все мы настрадались так, что сама способность страдать у нас уже отказала.
— Верно! — восклицает Долль.
И оба замолкают. Долль колеблется: не пора ли встать и уйти? Фёльгер ни словом не намекнул, что у него есть для Долля работа, и даже не предложил ему писать для газеты, которую сам же и редактирует. И даже если Фёльгер этого не чувствует, то Альма-то точно знает, с какими ожиданиями ее муж сюда пришел. Фёльгер, быть может, думает, что Долль просто хотел повидаться со старым знакомым. Но она-то знает, что с этого визита должна была начаться новая жизнь…
И все же! Все же! Именно из-за Альмы он не хочет прямо спросить у Фёльгера, не найдется ли у него для Долля работы. На глазах у Альмы он ничего клянчить не станет. Нет, единственное, что ему остается после явно затянувшегося, совершенно однозначного молчания, — это встать, проститься и уйти. Moriturus te salutat! Идущий на смерть приветствует тебя! Уйти и тихо, достойно умереть!
Мимолетно Доллю вспоминается другой писатель, врач, который когда-то был писателем, этот всеми забытый черепок. Как он говорил? Я все равно что умер. И Долль встает, протягивает руку:
— Пожалуй, пойду я, дорогой мой Фёльгер. У вас наверняка дел по горло…
— Да-да, — отзывается Фёльгер, пожимая протянутую руку. — Дел действительно невпроворот. Но я очень рад был с вами увидеться. Какое счастье, что вы живы! А уж как, наверное, вам Гранцов обрадовался! Передавайте ему от меня привет. Ведь это же он вам сказал, где меня найти?
— Нет! — отвечает Долль, не догадываясь, что сейчас услышит. И даже не задается вопросом, кто такой Гранцов, которому он должен передать привет от Фёльгера. — Нет, Фёльгер, я наткнулся на ваше имя в газете. И пришел сюда наудачу.
— Так вы не виделись с Гранцовом?!
— Нет, — осторожно отвечает Долль. — Пока еще нет.
— Пока еще нет! — восклицает собеседник. — Так вы, поди, даже не знаете, что Гранцов разыскивает вас уже несколько недель, с тех пор как прошел слух, что вы в Берлине?! Вы до сих пор этого не знаете, Долль?
— Нет, — опять отвечает Долль. — И честно говоря, я не знаю даже, кто такой Гранцов.
— Что?! — вскрикивает Фёльгер и в ужасе выпускает руку Долля, которую до этого сжимал. — Да нет же, вы не можете не знать, кто такой Гранцов! По крайней мере, вы должны знать его стихи! Или большой роман «Венделин и сомнамбулы»! Правда, — продолжает он, видя, что Долль упорно качает головой, — правда, Гранцов двенадцать лет прожил в эмиграции, и в 33-м году нацисты, естественно, запретили все его книги. Но все равно — вы должны были знать его еще до 33-го года!
— Увы, нет! — стоит на своем Долль. — Вы учтите, что я почти все время жил в деревне и очень мало писателей знаю лично.
— Но должны же вы были читать о нем в газетах, — не оставляет надежды Фёльгер. — Он еще в мае вернулся из эмиграции и основал большой творческий союз. Вы должны были об этом читать, Долль!
— Я был бургомистром маленького городка и работал в среднем по четырнадцать часов в сутки, — с улыбкой отвечает Долль: настырность Фёльгера его забавляет. — У меня не было времени читать даже письма, приходившие на мое имя, — что уж там говорить о газетах. По правде говоря, я вчера вечером впервые после катастрофы развернул газету, и единственное знакомое имя, которое я встретил, — это ваше, Фёльгер. Поэтому сегодня я и пришел сюда. Однако, — продолжает он, — однако вы, может быть, объясните мне, зачем этот Гранцов меня ищет, хотя я его не знаю и точно никогда не знал?
— Ну что за вопросы, Долль! — возмущается Фёльгер. — Естественно, Гранцов хочет, чтобы вы вступили в его союз. От вас многого ждут, кому, как не вам, написать роман о нашем времени — такой роман, который будут читать все…
— Нет-нет, — отвечает Долль, мрачнея. — Это точно не ко мне, этой темы я касаться не намерен, — и, покачав головой, продолжает: — Знаете, Фёльгер, поначалу я — как и все — лежал во прахе. Но когда я стал понемножечку выкарабкиваться и задумался о том, чем буду заниматься, я понял, что теперь нельзя писать книги как раньше, словно ничего не произошло, словно весь наш мир не рухнул. Мы не можем делать вид, будто Тысячелетнего рейха никогда не существовало и мы просто продолжаем писать в том же духе, что и до 33-го года. Нет, нужно создать что-то совершенно новое, причем это касается не только содержания, но и формы…
На мгновение он остановился и неуверенно взглянул на внимательно слушающего Фёльгера. И рубанул сплеча:
— Но я не знаю как — мне пока ничего в голову не приходит. Может быть, я никогда больше не напишу ни одной книги. Кругом такая безнадега. Кто мы такие, немцы, в этом мире, который сами же разрушили?.. К кому мы намерены обращаться — к немцам, которые не желают нас слушать, или к другим народам, которые нас ненавидят?..
— Ну что вы, — сказал Фёльгер, — ну что вы, я бы на вашем месте не переживал ни по поводу формы, ни по поводу читателя. Я совершенно уверен, что однажды вы вновь возьметесь за перо, просто потому что не сможете иначе! А теперь идите-ка к Гранцову, я дам вам его адрес. Около полудня вы его скорее всего застанете.
Вскоре они распрощались. В ходе этой знаменательной беседы молодая женщина не произнесла ни слова, что «прибойчику» было вовсе не свойственно. И теперь, когда они вышли из редакции, она молчала. Долля это упорное молчание тяготило. Хотя он не чувствовал себя в силах приняться за роман, о котором шла речь, хотя он не мог оправдать надежд, которые возлагали на него Фёльгер и, вероятно, Гранцов, — он все же рад был, что о нем не забыли, что его ищут по всему Берлину. (Как этот поиск происходит, он не очень хорошо понимал.)
Долгие месяцы он чувствовал себя таким слабым и ничтожным, что малая толика участия, слабый лучик сочувствия осветили и согрели его душу. Теперь он ощущал себя по-другому, даже шел по-другому, другим взглядом обвел обгоревшие станки, валявшиеся в закопченном помещении. Может быть, однажды вы снова заработаете для меня, говорил он про себя. Сейчас вы обожжены и сломаны, но это поправимо — рано или поздно все наладится…
Он шагал сквозь серый ноябрьский день, петляя между грудами обломков. В воздухе кружились обгоревшие клочки бумаги и горькая зола. Но на душе у него было хорошо, словно веял майский ветерок, пели птицы, зеленели деревья. Он снова стал человеком! Так долго он считал себя пустым местом, так долго его пинали все кто ни попадя — но нет, он еще человек! Фёльгер подтвердил это, Гранцов в него верит. Он как те станки — однажды снова заработает!
С немым вызовом он покосился на свою спутницу. Почему она молчит? Пора бы как-то обозначить, что она тоже рада тому приему, который ему оказали.
Но она на него даже не смотрела. Ее взгляд скользил по витринам, где между убогим суррогатом, продаваемым по ломовым ценам, и безделушками, выставленными лишь для украшения, валялось кой-какое жалкое барахлишко. И вдруг — не подав мужу никакого знака — она свернула в один из этих магазинов, который на поверку оказался даже не магазином, а забегаловкой.
Он снова разозлился на нее, на это пренебрежение: она просто бросила его посреди улицы, ничего не объяснив, в полной уверенности, что он будет ее ждать! Как бы не так — до станции электрички рукой подать. Когда она выйдет из этой забегаловки, он, быть может, уже уедет, и решающий разговор с Гранцовом пройдет без нее.
Впрочем, это его совершенно не радовало, он все больше злился, что не кто иной, как его спутница жизни пытается испортить ему первый за долгое время счастливый день. Едва она показалась на пороге забегаловки, как он развернулся и потопал прочь, прямиком к станции, и не удостоил ее ни взглядом, ни словом, когда она с совершенно беззаботным и добродушным видом встала рядом.
И конечно же, она опять закурила! Так вот зачем она зашла в этот кабак — купить сигарет! Выбросила на ветер последние деньги — нет бы о будущем подумать! И теперь, когда он — по такому радостному случаю — готов взять у нее сигарету, она, разумеется, и не подумала его угостить!
Судьба распорядилась так, что в полупустом вагоне два свободных места рядом нашлись только на одной из тех скамеечек у дверей, которые закреплены вдоль стен вагона. Напротив, через широкий проход, рядом с бледным, но толстощеким господином сидела пожилая дама — впрочем, к толстячку она, похоже, не имела никакого отношения. Про себя Долль тут же окрестил ее «гниющим пупсом». Старая дева, явно никогда не бывавшая замужем, с щечками, на которых розовел невинный младенческий румянец, была так обезображена старостью и стигмами близкой смерти, что в ее детской внешности сквозила какая-то злобная порочность.
Это престарелое создание, расшитое оборками, тесемками и пуговками, не могло просто так смотреть на беззаботно дымящую Альму. Пару раз она презрительно фыркнула, затем покосилась на толстощекого соседа, а потом снова уставилась на молодую женщину и, наконец, на Долля, который как раз только что заплатил за Альму кондуктору и тем самым дал понять, что он ее спутник и за нее отвечает.
Долль в ответ смерил ее холодным, ничего не выражающим взглядом, и «гниющий пупс» что-то горячо залопотал себе под нос. При этом взгляд ее выцветших голубых глаз устремлялся то на Альму, то на других пассажиров, словно призывая их тоже повозмущаться. Было очевидно, что старуха уже не в состоянии молча справляться с обуревающими ее эмоциями и вот-вот взорвется.
То ли Альма хотела этот взрыв ускорить, то ли по своей беспечности не обратила никакого внимания на развертывающийся перед ней немой спектакль, но она вдруг полезла в сумку и вытащила гребешок. И, встряхнув кудряшками, принялась их расчесывать.
Тут уж пожилая дама не выдержала. Громко, срываясь на крик, она напустилась на Альму:
— У себя дома будете расчесываться, девушка! Тут вам не парикмахерская!
Толстощекий господин согласно кивнул, и вообще казалось, что все в вагоне, кто наблюдал за происходящим, были на стороне разгневанной старухи. Но молодая женщина ответила холодно и очень учтиво:
— Я сижу от вас достаточно далеко, чтобы вас не тревожить, сударыня!
Однако, увидев сварливую рожицу гниющего пупса и сердитые, а то и злорадные мины других пассажиров, она внезапно протянула гребешок Доллю:
— Ты бы тоже причесался, милый. У тебя воронье гнездо на голове.
Помешкав, Долль взял расческу и принялся приглаживать волосы. На тех физиономиях, на которых только что было написано злорадство, после неожиданной Альминой выходки обозначилось любопытство и даже улыбки. Улыбнулся и толстощекий старухин сосед. Альмина обидчица побагровела от гнева, потом лицо вдруг ее сделалось изжелта-белым, и она рявкнула:
— Всюду эти расфуфыренные бабенки, тьфу!
Весь вагон затаил дыхание, а Альма ответила хладнокровно:
— И всюду эти печеные сычихи, тьфу!
Не только Долль нашел, что определение «печеная сычиха» как нельзя лучше подходит этой старой перечнице, — весь вагон грохнул. Толстощекий господин, потешаясь, даже затопал было ногами, но тут же оробел и покосился на свою соседку. Впрочем, ее нечего было бояться — она проиграла эту схватку. Забившись в темный угол, она лишь злобно пыхтела — поди, дотлевает заживо, шепнул жене Долль.
После этого интермеццо между супругами все враз наладилось. Они принялись болтать, словно и не было никакой ссоры. Долль охотно взял у жены сигарету, с наслаждением затянулся и даже кивнул в знак согласия, когда Альма сказала, словно извиняясь:
— Проявлю-ка я еще раз легкомыслие — ведь сегодня такой радостный день!
И вот час спустя они стоят в просторной, прямо-таки роскошной приемной. Во всем, что касается обстановки и антуража, это здание значительно превосходит то, в котором они сегодня побывали. И насколько эта приемная — где на стенах развешаны старинные полотна, пол устлан толстым ковролином, а в воздухе разлита атмосфера деловитого порядка, в которую две сотрудницы тем не менее привносят что-то домашнее, уютное, — так вот насколько эта приемная краше фёльгеровской, настолько и сам прием, их здесь ожидающий, теплее того, что оказал им редактор. Едва Долль назвал свое имя, едва одна из дам скрылась в соседнем помещении, чтобы доложить о нем, — как дверь этого помещения (а это оказался целый зал, оформленный в бело-голубых тонах) распахивается и к Доллю бросается крупный, толстый седой человек.
— Долль! — восклицает он, хватает гостя за руку, и все в нем, кажется, ходит ходуном от волнения. — Долль! Ну наконец-то!
Он тащит потрясенного Долля из приемной в бело-голубой зал; фрау Долль молча следует за ними.
— Долль! Значит, вы все-таки живы! Мы так за вас переживали!
И Долль, чью руку тискает в своих больших, влажных, мягких ладонях радушный хозяин, ничего не может вымолвить, кроме имени, которое он впервые услышал полтора часа назад:
— Гранцов! И вправду — Гранцов!
Они смотрят друг на друга, на глазах у обоих слезы — словно встретились старые товарищи. И в этих слезах нет ничего фальшивого: их захлестывает буря эмоций, буря воспоминаний о двенадцати годах, которые один из них провел в эмиграции, а другой — под пятой у нацистов. Но они выжили! И они всей душой радуются, что наконец-то могут встретиться и познакомиться. Если бы не исторические катаклизмы, они давно бы уже стали приятелями.
При этом Долля гложет совесть: Гранцов хотя бы его книги знает, не в пример его, доллевскому, возмутительному невежеству. В голове проносится: надеюсь, Фёльгер никогда не расскажет Гранцову, что я и имя-то его не сразу вспомнил. Но это легкое чувство вины быстро развеивается. Гранцова, по всей видимости, собственная персона совершенно не интересует. Он жаждет послушать Доллей: как они провели последние годы, где и на что жили, где живут сейчас, как у них дела. Только радость, добродушную радость читает Долль в глазах Гранцова, который жадно ловит каждое его слово. А ведь я кто? Всего-навсего неприметный романист, который давно уже бросил писать и погряз в самокопании. Лишь бы Гранцов этого не понял — а я уж как-нибудь соберу себя в кучку…
Пока Долль лихорадочно размышляет, Гранцов усаживает их на полукруглый диванчик голубого бархата. На круглом столе лежат сигареты, угощайся не хочу. Кофе заказан и уже принесен, да не просто кофе, а самый настоящий кофе, хоть и жидковатый, но…
— Вы уж нас извините, Долль. Столовая у нас не ахти. Но это явление временное — теперь-то все наладится…
Гранцов так произносит это «теперь», будто имеет в виду нашедшегося Долля, будто с этой минуты отсчитывает новую эру, — хотя, конечно, это ложное впечатление.
Беседа вливается в более спокойное русло. Говорят по большей части Долли, повествуя о событиях последних месяцев. Да, в отличие от редакции Фёльгера здесь Альма тоже говорит — никакого демонстративного молчания. И это правильно: если Фёльгер, бросив на нее один-единственный удивленный взгляд, тут же перестал ее замечать, то Гранцову явно нравится веселая молодая женщина — он слушает и ее, и Долля с равным вниманием, то улыбаясь, то хмурясь.
Да, этот Гранцов — мастер задавать вопросы и слушать. Не то что Фёльгер: там оба собеседника только и ждали паузы, чтобы вклиниться со своими жалобами. У Гранцова, похоже, нет потребности рассказывать о себе, он, как говорится, весь обращается в слух. Он энергично кивает, когда они сообщают ему о решении никогда не возвращаться в городишко. Он озабоченно качает головой, когда слышит, в каком состоянии они нашли свою берлинскую квартиру. Он с силой хлопает ладонью по столу, когда Долль описывает чиновника-тирана из жилищного управления. Словом, он принимает живейшее участие во всем, что ему рассказывают, и у них создается впечатление, что он не просто слушает и тут же выбрасывает услышанное из головы, а делает выводы, принимает решения…
И это впечатление оказывается верным, так как в одну из пауз Гранцов говорит:
— Думаю, я составил представление о вашем положении и знаю, как быть дальше.
Они с напряженным вниманием смотрят на него. Он продолжает:
— Во-первых, вам нужно подыскать приличное жилье, желательно в районе, который не слишком пострадал. Во-вторых, нужно раздобыть грузовик, чтобы перевезти ваши вещи из провинции. А в-третьих, вы должны получить продуктовые карточки, по возможности первой или хотя бы второй категории.
Они изумленно переглядываются, не веря своим ушам, а он улыбается отеческой, дружеской улыбкой. Они просто хотели излить душу, они готовы были сами решать свои проблемы. Немножко сочувствия, чуточку поддержки — вот и все, чего они ждали. А им предлагали помощь — помощь не на словах, а на деле!
— Да, — с улыбкой продолжает Гранцов, — всем этим надо заняться. Сейчас схожу узнаю… — И этот крупный, грузный человек встает и стремительно выходит из комнаты, оставляя супругов наедине.
Они смотрят друг на друга, лица у обоих просветлевшие.
— Этого не может быть, — говорит Долль. — И тем не менее это правда. Неужели он действительно нам поможет!
А она в ответ:
— Я бы с радостью осталась в нашей разоренной квартире, но если мы получим отдельное жилье…
А он:
— Как просто — оказывается, надо было поговорить с одним-единственным человеком! А ведь мы чуть было не пропали, Альма!
При этой мысли он содрогается, и она тоже затихает, вспоминая, через что они прошли, прежде чем добраться до этого бело-голубого зала. Они выстояли, выплыли, теперь — только вперед. В эту минуту Долль не задумывается о том, что все не так просто, что дело не только в квартире, продуктах и вещах… Он как будто забыл, что была война, а до нее — множество невзгод, что он выгорел дотла и в душе пустота… И как бы Гранцов ему ни помогал, внутреннего содержания никакие благодетели ему не вернут, это под силу только ему самому — снова поверить, не только в себя, нет, в первую очередь в соотечественников, во весь мир, в то, что надо работать и не сдаваться, твердо уверовать, что будущее принесет свои плоды, — а ведь всего этого пока и в помине нет.
Но об этом он не думает. А говорит, высвобождаясь из ее объятий:
— Судьба дает нам шанс, и им грех не воспользоваться! Мы не должны подвести Гранцова, он не должен нас стыдиться!
— Ни в коем случае, — отвечает она.
Тут возвращается улыбающийся Гранцов.
— Процесс пошел! — сообщает он. — Зайдите послезавтра, тогда мы сможем поговорить более предметно. Послезавтра в час вам удобно?.. Отлично, договорились: в четверг в час дня у меня!
Он смотрит на гостей, ласково улыбаясь, как умиленный отец на любимых детей. У Долля мелькает мысль, что Гранцов ведь не старше его, — но по сравнению с этим человеком он сам себе кажется неопытным, зеленым юнцом.
— А теперь я вас кое о чем спрошу, Долль, — продолжает Гранцов после паузы. — Но вы можете не отвечать, если не хотите. Так вот: как у вас обстоят дела с работой? Вы же понимаете: все ждут… Пишете ли вы что-нибудь в последнее время? Или, может быть, вынашиваете какой-нибудь замысел?
— Да, — поколебавшись, отвечает Долль. — Я, конечно…
Гранцов спешно перебивает:
— Нет, правда, Долль, если вам не по душе трезвонить о ваших планах… Но я ведь спрашиваю не из праздного любопытства.
— Да, разумеется, я понимаю, — поспешно соглашается Долль. — И я совершенно спокойно могу об этом говорить. Только вот боюсь вас разочаровать, Гранцов. Потому что, честно говоря, никаких замыслов у меня нет. Правду сказать, в последние полгода перед катастрофой я начал записывать свои воспоминания о нацистах…
— Ну вот, прекрасно! — восклицает Гранцов.
— Ох, не знаю. Не думаю, что это так уж прекрасно. Понимаете, каких-то уж совсем ужасов мне пережить не довелось, а скрупулезно описывать всякую мелочовку… Вряд ли книга получится интересная: ну в самом деле, как мелкие неприятности чуть не довели человека до самоубийства… — до сих пор Долль говорил неуверенно, даже нехотя. Но тут речь полилась глаже — Для меня все это пройденный этап. С тех пор как закончилась война, я столько всего пережил, что ненависть к нацистам как-то сама собой угасла и переросла в ненависть ко всему человечеству. Нацисты больше для меня не существуют…
— Да что вы! Что вы! — протестует Гранцов. — Как же так, герр Долль! Я вот, напротив, твердо убежден, что господа нацисты по-прежнему живут среди нас. И иногда я это очень отчетливо ощущаю.
— Да, возможно, отдельные персонажи, самые неисправимые…
Гранцов решительно замотал головой.
— Тем не менее, — продолжил Долль, — как бы там ни было, с этой книгой для меня покончено, — и добавил в ответ на просительный жест собеседника: — Я не могу, по крайней мере пока, заставить себя просмотреть получившийся текст, перепечатать его…
Он замолк и взглянул на Гранцова. Тот заторопился:
— Ну что вы, дражайший Долль, никто не будет заставлять вас заниматься тем, что вам претит. Всему свое время… А как насчет планов на будущее?
— Никак! — покаянно сознался Долль. — Иногда я, правда, задумываюсь о романе, даже перебираю вполне конкретные темы… Но меня не отпускает чувство, что после такой катастрофы — я имею в виду катастрофу не только нашу общую, но и мою личную — нужно начать все сызнова, по-другому. — И он торопливо пересказал все то, что полтора часа назад говорил редактору Фёльгеру. — Вот так, — заключил он, — мне очень жаль, что приходится вас разочаровывать, герр Гранцов, да еще при первой же встрече. Может быть, я снова загорюсь работой, когда внешние обстоятельства моей жизни хоть немного переменятся. Для творчества мне нужен покой не только бытовой, но и душевный.
— Разумеется! — согласился Гранцов.
Они проговорили еще несколько минут, но работы больше не касались. В бело-голубом зале вновь воцарилось прежнее радостное настроение: свершилось долгожданное знакомство! Наконец они распрощались, условившись, что увидятся послезавтра в час.
Но когда супруги Долль вышли на улицу, их ждал шофер в серой форме:
— Герр Гранцов сказал мне отвезти вас домой. Куда ехать?..
Очередной знак внимания, очередное баловство! И все сильнее давит чувство долга: нельзя разочаровать человека, который так в тебя верит…
Некоторое время они ехали молча, потрясенные свалившимся на них счастьем. Впереди маячил затылок шофера. И вдруг Альма легонько пихнула мужа.
— Эй! — шепнула она.
Он спросил:
— Да, дорогая?
— Ах, мальчик мой, — проговорила она, — мне кажется, я сейчас с ума сойду от счастья. Неужели этот Гранцов правда нам поможет! Хочется вопить во все горло! Вопить от счастья! — И она засюсюкала, как избалованное дитя: — А ну-ка покажи своей Альмочке, как ты ее любишь! Ну-ка скорее чмокни ее! Тысячу раз чмокни! Не то я закричу!
— Шофер! — предостерег он, хотя готов был сию секунду исполнить ее желание.
— Шофер — старенький дедушка! — отмахнулась она. — Шофер ведет машинку, шофер ничегошеньки не видит! А вы, молодой человек, не отлынивайте: чмок-чмок-чмок свою малышку Альму, тыщу раз чмок — иначе я закричу!
И Долли долго, долго целовались… Они так давно в последний раз ездили на машине, что совершенно забыли: ведь у шофера есть зеркало, в котором отражается все, что происходит в салоне. Подобно малым детям, они верили, что их никто не видит.
А шофер скромностью не отличался — это был настоящий берлинский шофер.
— И знаете, герр Гранцов, — сказал он в завершение своего отчета, когда вечером вез шефа домой, — и знаете, тискались они не как почтенные супруги, а как совсем зеленый молодняк! А он-то, он-то ведь уж не первой молодости, поди однолеток наш с вами, герр Гранцов. Я вам так скажу, герр Гранцов: если он с такой же страстью книжки пишет, то я б эти книжки почитал!..
Глава 12 Выздоровление
В северном пригороде Берлина в маленькой комнатке у окна сидит человек. На дворе разгар лета, июль: точнее сказать, 5 июля 1946 года. Хотя времени всего-то девятый час, ночная росистая свежесть уже улетучилась. И сейчас-то припекает, а днем вообще будет жара, если только гроза не принесет чуточку прохлады.
Но пока что грозу ничто не предвещает. Солнце сияет ослепительно, на небе ни облачка, и цвета оно даже не голубого, а матово-бело-серебристого, с легким голубоватым оттенком. Когда человек отрывается от того, что пишет, и бросает взгляд в окно — а случается это не так уж редко, работа его, по-видимому, не слишком занимает, — он щурится — так слепит летнее небо. Но когда глаза привыкают, он начинает разбирать в знойном мареве приятный пригородный пейзаж: зеленые кроны, острые фронтоны, красная черепица — и никаких развалин. Даже на крышах не видно заплат, даже окна всюду целы. Удивительное благолепие — в этом-то городе руин!
Да, пишущий человек часто поднимает голову. При этом он не откладывает ручку, будто вот-вот вернется к работе. Однако вместо того чтобы писать, он прислушивается к голосам, доносящимся со двора. Голоса эти сплошь женские и почти все молодые, с плавным, чуть небрежным берлинским выговором. То и дело слышится что-нибудь вроде: «В помещении такая духотень!» Или: «Сей секунд объясню!»
Но подобные возгласы не вызывают улыбки на его лице, он не ощущает ни капли превосходства над этими безграмотными, косноязычными женщинами. Он твердо усвоил, что у него нет никаких причин чувствовать себя выше кого-то или чего-то.
Хотя голоса явно молодые и ему достаточно лишь встать и подойти к окну, чтобы поглазеть на болтушек, он этого не делает. Он знает, что среди этих девушек и женщин есть хорошенькие и что они загорают, сбросив себя все лишнее, но любопытства не испытывает, а чувствует себя стариком — очень усталым стариком. За последний год седины у него сильно прибавилось, но если бы ее количество зависело от того, насколько старым он сам себя ощущает, он был бы уже бел как лунь.
Он продолжает писать, и кроме женского щебета до его ушей часто доносится еще один звук. Рука его снова замирает, он настораживается и прислушивается. Звук этот весьма странный: напоминает одновременно воркование голубя и трель дрозда (правда, не очень чистую). Этот чудной звук, происхождение которого он в первые недели никак не мог разгадать, издает большой пес, помесь добермана с овчаркой, — несчастное животное, которое в хаосе стрельбы, пожаров и всеобщей сумятицы при битве за Берлин повредилось в уме и теперь лежит на цепи где-то под зеленой сенью деревьев, и ухаживает за ним слабоумная обитательница дома номер 10 по Эльзаштрассе. По вечерам Германн, как прозвали слабоумную Гермину в этом заведении, спускает пса, и он всю ночь сторожит дом 10 по Эльзаштрассе, — и горе чужакам, которые отважатся полезть через забор! Пес не колеблясь их растерзает — ведь это сумасшедший пес, его ничто не сможет удержать, даже его опекунша Германн.
Странно, что этот пес, которому в наследство от более счастливых времен досталась кличка Муха, уже совершенно ему не подходящая, — что этот пес вовсю брешет ночью, а днем только поет и воркует, как птичка. Война оставила на нем неизгладимый отпечаток, душа у него больная, он плачет и жаждет крови, пользы от него никакой. И иногда, слушая эти причудливые рулады, человек поневоле задается вопросом: а скольких людей постигла судьба бедолаги Мухи?
Да, человек какие только предлоги не находит, чтобы отвлечься от работы и хотя бы на пару минут перестать мучительно выкорябывать слова на бумаге. Он то и дело посматривает на сухо тикающие часы на стене: сколько там времени, не пора ли уже встать и сложить стопочкой исписанные листки? Эти настенные часы с выцветшим голубым циферблатом и латунно-желтым маятником — единственная вещь в тесной каморке, которая не является предметом первейшей необходимости. Стол, стул, кровать, тесный встроенный шкаф и старое, совершенно вылинявшее бархатное кресло — вот и вся обстановка.
Впрочем, нет, нельзя забывать еще об одном предмете, хотя чаще всего его не видно. Это пестро разрисованная черная бархатная подушечка. Изображен на ней замок с тремя башнями, с лиловыми скатами крыш и множеством окошек: снизу окошки красные, сверху желтые, а стены самого замка — некрашеный черный бархат. На одной из башен на длинном флагштоке реет белое знамя, на другой торчит крест, тоже белый, а на третьей — что-то вроде длиннющей белой пики. Замок окружают деревья с белыми стволами и пышными зелеными кронами, а вдали виднеются розовые, лиловые и огненно-красные скалы, кое-где опоясанные невесть откуда взявшимся белым парапетом. Вверху висит какое-то небесное тело, круглое и желтое: то ли луна, то ли солнце.
Человек ненавидит эту подушку лютой ненавистью. Он проклинает ее уже хотя бы за то, что эта дурацкая, отвратительная вещица благополучно пережила войну, уничтожившую столько всего прекрасного. Чтобы подушка не мозолила глаза, он засовывает ее то в недра кровати, то во встроенный шкаф. Но ее снова и снова отыскивает горничная и услужливо кладет на линялое бархатное кресло — ей это произведение искусства явно нравится. Человек мог бы попросить горничную не трогать подушку, но он этого не делает. Он ни слова не говорит этой женщине, которая, прибравшись, всегда одинаково ласково объявляет: «Теперь можете работать!» — или: «Теперь можете выпить кофе».
Впрочем, нельзя сильно упрекать пишущего за то, что он так часто прерывает работу. Он пишет из голого чувства долга, без веры и вдохновения, может быть, лишь для того, чтобы доказать себе и окружающим, что способен довести начатое до конца. Этот труд, за который он взялся с полгода назад, на первых порах приносил ему радость. Потом начались перерывы в работе — то из-за ссоры, то из-за болезни, то просто потому, что он не мог себя заставить взяться за перо; и чем смутнее становилась перспектива завершения, тем меньше интереса у писателя вызывало его собственное творение.
Однако в этот день, 5 июля, дело обстояло несколько иначе. Утром человек пробудился от глубокого сна и внезапно осознал, что пора наконец завести свою писательскую лодчонку из моря фактов в тихую гавань. Он пока не мог точно сказать, когда доплывет до этой гавани — через два дня или через восемь, а может, через двенадцать, — но и двенадцать дней не наводили больше тоски, так как он знал, что надежная гавань ждет его. Сегодня он отвлекался просто потому, что это вошло у него в привычку, а вовсе не потому, что искал повод побездельничать.
Человек бросает взгляд на настенные часы с выцветшим голубым циферблатом и обнаруживает, что проработал уже достаточно. Он складывает писчие принадлежности, прячет их в шкаф и берет маленький чурбачок, на котором висит ключ. С ключом и ворохом белья он выходит в коридор и направляется к двери, на которой висит табличка с категоричной надписью: «С гон. и сиф. вход воспрещен!»
Человек уже собирается открыть дверь, но тут видит, что в замке уже торчит ключ, тоже висящий на чурбачке, — точная копия конструкции, которую он сжимает в руке. Пробормотав что-то вроде «ну и свинство», он хочет взяться за ручку, но тут дверь распахивается изнутри и навстречу ему вылетает девушка или молодая женщина, на которой нет ничего, кроме коротенькой сорочки. Воровато проскользнув мимо него, она скрывается за одной из ближайших дверей.
Человек мгновение смотрит ей вслед, размышляя, не устроить ли скандал из-за неправомочного пользования его туалетной комнатой. На табличке все предельно ясно сказано! Но он передумывает. С тех пор как он оказался в этом заведении, он еще ни разу ни с кем не поругался — и теперь тоже найдет другой выход. Вынув ключ из замка, он с обоими чурбачками заходит в туалетную комнату и закрывается на задвижку.
Тщательно моясь, он раздумывает, пожаловаться ли на это возмутительное нарушение запрета матушке Трюллер или просто забрать второй ключ, предназначенный только для медсестер и беспечно оставленный в замке. Он выбирает второй путь: у матушки Трюллер и так полно забот и, какой бы нагоняй она ни устроила, эффекта хватит хорошо если на день. А что касается больных…
Да, что касается этих самых больных, большинство из которых на самом деле никакие не больные, — так вот что касается этих шестидесяти женщин из дома 10 по Эльзаштрассе, среди которых он единственный мужчина, — на них не действуют ни уговоры, ни выговоры, ни просьбы, ни приказы. Наоборот, они всегда рады сделать что-нибудь назло, нарушить любой запрет и подложить ближнему свинью.
Когда человек прибыл сюда добрых восемь недель назад и внезапно обнаружил, что очутился среди шести десятков женщин, преимущественно молодых и хорошеньких, он подумал, что скучать ему здесь не придется и он наверняка узнает много полезного. Не то чтобы у него были какие-то виды на этих дамочек, нет-нет, от подобных намерений его удерживал сам род заболеваний, которые и привели их сюда — как правило, под отеческим давлением полиции. Эти болезни, названия которых так бесстыдно красовались на табличке, здешние обитательницы, как правило, подцепляли в Берлине по собственному легкомыслию, зачастую зная или — в редких случаях — не зная, с чем имеют дело. Им ставили роковые диагнозы и назначали лечение.
Но лечиться они не желали: не являлись на осмотр в положенные дни или не следовали рекомендациям врачей, — а значит, представляли опасность для любого, кто имел с ними дело. Тогда и подключалась полиция: их доставляли до самого порога клиники и отпускали только после полного выздоровления. Некоторых не так-то просто было разыскать. Зная, что их ждет, они меняли квартиры и изощрялись как могли, лишь бы увернуться от лечения, — но в конце концов при очередной облаве их задерживали.
Да, несмотря на все это, или, скорее, именно поэтому, человек надеялся услышать от своих товарок увлекательные и поучительные истории, прикоснуться к ярким судьбам. Но скоро он понял, что все эти девицы безнадежные дуры и закоснелые вруньи. Их послушать, так они попали сюда только из-за козней врачей, чиновников от здравоохранения и полиции, — и тут-то их и заразили подлые бабенки, с которыми пришлось лежать в одной палате!
Чтобы распознать в их россказнях ложь, особой проницательности не требовалось, а уж что касалось их лени, она была просто-таки возмутительной! Хотя за исключением дней, когда им делали уколы или назначали «медикаментозный удар», им вовсе не был предписан постельный режим, многие из них почти не вставали с коек все восемь, а то и двенадцать недель, которые длилось их лечение. Они валялись в постели, молодые и цветущие, полные сил, но разленившиеся до мозга костей, не способные ни к какой полезной работе. Они были ленивы до такой степени, что далеко не всегда подавали лоток для рвотных масс очередной товарке, которой поплохело после «медикаментозного удара». Пусть блюет на пол — на то и медсестра, чтобы прийти и убрать. Они вызывали медсестру, и, если та появлялась не сразу, блевотина так и лежала на полу. Грязь и вонь их не беспокоили, зато любая, даже самая простая работа вызывала отвращение.
Не для того они живут на этом свете, который устроен так удобно для молоденьких хорошеньких девушек: берешь мужика и потрошишь его, как жирного рождественского гуся! Они хвастались друг перед другом своими победами, хвастались, в какие кошельки запускали руку и какой магнетической привлекательностью обладали в бытность свою барменшами, — хвастались всем своим пустым, бесполезным существованием, где именно бесполезность считалась высшей доблестью. А потом шли и воровали друг у друга сигареты, выбрасывали из окна или в унитаз прописанные им лекарства (они же «умные», они знают, что врачи их травят!), а по воскресеньям, когда их навещали родственники, плакались и жаловались, как плохо их кормят — жить приходится впроголодь! И только еженедельное взвешивание показывало, как они жиреют от лени и обжорства!
Нет, его ожидания не оправдались. Ничего романтического не было в этих женщинах, ничего, что могло бы примирить его с их пороками. Конечно, он был к ним не очень-то снисходителен. Они страшно всполошились, когда он попал в их женское царство; ему оказали самый что ни на есть дружеский прием, и в первые недели у него отбоя не было от посетительниц, которые являлись к нему под самыми разнообразными предлогами. Но он быстро понял, что больше просто не может с ними разговаривать. Его несказанно раздражало, что они считают его дураком, способным поверить в их небылицы!
И потом, они оказались очень жадными. Он видел, какие взгляды они бросали в его тарелку, сравнивая его еду со своей. Конечно, как частный пациент главврача, который поместил его в это заведение только потому, что больше нигде не нашлось места, он был на особом положении, но в общем и целом кормили его не хуже и не лучше, чем остальных. У матушки Трюллер и времени-то не было пускаться на кулинарные изыски ради одного-единственного пациента! Но они прикидывали, какой величины у него кусок хлеба и насколько толстым слоем на него что-то намазано, и говорили: «Эх, вот это жизнь!» Или: «Да мне все равно!»
Они постоянно что-то у него клянчили: то сигарету, то прикурить, то книжку, то газету, то бензин заправить в зажигалку — и так ему надоели, что в конце концов он стал отвечать отказом даже на самые бесхитростные просьбы.
В их отношениях наступило грозное затишье: они перестали захаживать к нему и здоровались сквозь зубы, — а затем разразилась война. Однажды какой-то пьяный перелез через садовую решетку и попытался пробраться в клинику; человек не преминул заметить, что удивляться тут нечему: стоит только посмотреть, как бесстыже пациентки окликают и осмеивают прохожих с балконов, — по обычаю гулящих девок, коими большинство из них и являются. Их возмущению не было предела: каков лжец, каков предатель! Дескать, ни одна из них сроду ничего не кричала с балкона, а когда врач тем не менее велел запереть балконные двери, они поклялись, что однажды ночью устроят ему темную — места живого не оставят!
Естественно, никакой темной ему никто не устроил. Даже бойкот, который они было ему объявили, не затянулся надолго. Они ни в чем не знали постоянства, даже во вражде. Они снова стали с ним разговаривать, время от времени то одна, то другая заглядывала к нему и стреляла сигаретку, а если сигарет не находилось, то хоть пару окурков. Но у человека была не такая короткая память: он больше не собирался иметь с ними никаких дел, никогда и ни при каких условиях, даже если среди множества виновных он приговаривал и нескольких невинных.
Человек давно уже закончил мыться, навел в комнате порядок и запер оба ключа от туалетной двери во встроенный шкаф. Легкая улыбка пробегает по его лицу, когда он представляет себе, как отчаянно сестра Эмма и сестра Гертруда будут этот ключ искать!
Хотя на улице ярко светит солнце, он надевает летнее пальто: стесняется показываться на улице в истрепанном, запачканном костюме. Спустившись по лестнице, он поворачивает к кухне. На кухне хлопочет матушка Трюллер с помощниками: готовит обед на без малого восемьдесят обитателей этого дома. Лицо у нее багровое, грудь, всегда прикрытая желтоватыми или лиловыми кружевными оборками, мощно вздымается, она мечет с плиты и на плиту тяжеленные кастрюли, словно они ничего не весят, она работает так, что лоб ее усеян маленькими жемчужинками пота, — но настроение у нее превосходное.
Она видит его, и лицо ее озаряет улыбка.
— Что-то вы сегодня рано, герр Долль. Покидаете нас?
— Да, покидаю, матушка Трюллер, дорогу здоровому! А если сегодня действительно придет грузовик, то я и к обеду не вернусь. Хочется верить, что он все-таки придет.
— От души вам этого желаю! Но что вы обедать отказываетесь, это ерунда. Я горжусь, что откормила вас аж на двадцать фунтов! Если вы не вернетесь до трех, я пошлю вам ваш обед. Заодно и домочадцев угостите!
— Ох, ну что вы, не стоит, матушка Трюллер! — протестует человек. И добавляет, понизив голос, чтобы никто не услышал: — Вы же знаете, я перед вами в долгах как в шелках. Кто знает, когда я смогу расплатиться по счетам! — Он тяжело вздыхает.
— За полгода расплатитесь! — сияя, отвечает матушка Трюллер. — Вот смотрю я на вас и нарадоваться не могу: здоровый, сильный мужчина — нужно просто сесть и приняться за работу, и деньги потекут рекой. А вы тут вздыхаете — в такой прекрасный летний денек!
Добродушно отчитывая его, она проводила Долля до самой двери, до порога, который обитавшим здесь женщинам и девушкам разрешалось переступать только после полного выздоровления.
— Ну что ж, всего вам доброго, герр Долль! Может, и вправду грузовик сегодня придет. И — ну вы знаете — если что услышите, тут же дайте мне знать.
— Само собой, матушка Трюллер, — отзывается Долль и выходит на улицу, под палящее солнце.
Она не меняется! — говорит он сам себе, шагая по улице, — и не изменится вовек. Никогда она не забудет напутствовать каждого, кто покидает клинику: сообщите, если что услышите. Разговор может идти о чем угодно, но под конец она не преминет об этом напомнить.
Да и неудивительно: ведь она все время об этом думает, даже когда говорит о чем-то совершенно другом. Под спудом ее всегда мучит тревога о без вести пропавшем сыне, которого она по-прежнему любит и ждет. Начальница и хозяйка этой диковинной клиники на Эльзаштрассе, командирша шалого бабьего полка, — она постоянно думает о сыне и саму себя считает временно исполняющей его обязанности. Вот уже больше года, как от него нет никаких вестей: Эрдманн исчез во время боев за Берлин. Может, попал в плен, может, лежит на какой-нибудь улице среди руин, сраженный шальной пулей, раздавленный рухнувшей стеной, погребенный под обломками. Уже давно, уже месяцев пятнадцать.
Но мать ждет его, и будет ждать всегда, сколько бы времени ни прошло — год за годом. И вместе с ней многие матери и жены ждут своих сыновей, мужей и возлюбленных, которые, скорее всего, никогда к ним не вернутся. А чтобы заполнить ожидание, эта дочь ганноверского крестьянина, поднявшаяся благодаря собственному упорному труду, работает не покладая рук. Она держит на коротком поводке своих пациенток, которые только и думают, какое бы безобразие учинить, она хлопочет день и ночь, у нее для каждого найдется доброе слово, она всегда готова посочувствовать и помочь. У нее просто нет времени впадать в депрессию и опускать руки. В своей простоте она настоящий образец для подражания.
Но она никогда не забывает напутствовать уходящего:
— Если вдруг что услышите, я имею в виду моего сына, Эрдманна, — сразу сообщите мне.
Внешний мир, за исключением ближайших улиц, где расположены магазины, в которых она закупается, — это мир далекий и чужой для матушки Трюллер, которая все время проводит в своей маленькой клинике, вечно занятая насущными нуждами и проблемами. Пять минут неспешным шагом — и начинается большой, далекий мир, где в любой день может произойти чудо. Где кто-нибудь из ее пациентов встретит на улице ее сына Эрдманна и скажет: «Послушай, Эрдманн, пора бы показаться матери. Она уж больше года тебя ждет — дни и ночи напролет! Адрес у нее прежний — Эльзаштрассе, 10».
Не то чтобы Эрдманн такой человек, которому нужно напоминать, что надо бы навестить мать. Вовсе нет! Эрдманн пришел бы к матери и без чужих подсказок.
Но этот далекий мир, этот ужасно большой, путаный Берлин — он такой чудной, в нем столько странностей! Вдруг кто-то встретит человека, который слышал что-нибудь о ее сыне, а может, даже видел его. Вдруг пронесется весть, что пленных распустили по домам, — матушка Трюллер все выслушает с благодарностью, самые удивительные, самые невероятные слухи. Ее сильное сердце не трепещет, она не падает духом. Чтобы подпитать ее надежду, достаточно бесхитростного рассказа о том, что кто-то вернулся домой, когда его уже не ждали.
Она ждет и надеется. И с ней вместе ждут и надеются сотни, тысячи женщин — и никому до них нет дела. Во время войны они были паиньками: отдавали на заклание сыновей и мужей и смиренно взваливали на себя их работу. Теперь они так же смиренно ждут и возделывают каждая свой клочок. И только уходящих напутствуют: «Если что услышите, то вы уж сразу… ладно?..»
Добрая, хлопотливая, несокрушимая матушка Трюллер — мать народа, вечная мать, которая неустанно верит, мужественно ждет и всегда всем помогает!
Ворочая эти мысли, человек в не очень свежем летнем пальто, под которым стыдливо прячется поношенный, потрепанный, покрытый пятнами костюм, проходит мимо одной из тех забегаловок, где, как ему известно, можно из-под полы купить сигареты. Ему очень хочется курить, но он держит себя в руках. Дорогие американские сигареты по одиннадцать марок штука давно уже не водятся в хозяйстве Доллей — как он и предсказывал своей молодой жене. Что касается «дешевых» немецких по пять марок, приходится довольствоваться в лучшем случае одной штукой в день; одна немецкая сигарета после ужина, сладостный дым наполняет легкие, — и снова терпеть двадцать четыре часа!
Терпеть?.. Да нет, конечно, Долли курят — никогда они не бросят эту пагубную привычку. И сейчас у Долля в кармане полно того, что можно курить! В саду у матушки Трюллер они собирают лепестки роз, и не только опавшие, нет, — обрывают живые цветы! Решив: «Все равно этому цветку недолго осталось!» — они ощипывают лепестки, забивают ими карманы Долля, а потом сушат их в его комнате. Поэтому у него всегда пахнет розами. Приходилось им курить и вишневые листья, а в худшие времена — кошмарный на вкус чай для очищения крови, из которого они выбирали ягоды можжевельника и «кочерыжки».
Да, вот такими они стали невзыскательными, даже молодая женщина, которая ни за что не желала отказывать себе в удовольствиях! Когда-то у них были машины, у каждого своя, деньги и все, что за деньги можно купить; никакие блага этого мира не были для них проблемой. Теперь они накрепко усвоили, что они — побежденный народ; это знание вошло в их плоть и кровь. Они смеются над вонючим «табачком», прикрывают пятна на одежде, но больше ничего не стыдятся. Кто мы такие, чтобы хотеть большего? Мы побежденный народ, мы проиграли грандиозную войну, мы стали голытьбой.
Впрочем, пригород, по которому Долль сейчас шел, война более или менее пощадила. Кое-где зияют пробоины в крышах, кое-какие дома лежат в руинах, но в общем все цело, да и буйная летняя зелень скрадывает раны войны. Только вот люди на улицах: всем бы им не повредило, если бы они весили на двадцать фунтов больше, а на лицах у них было на пятьдесят морщин меньше. Иной раз попадается просто невообразимое убожество: лохмотья вместо одежды, драная, латаная-перелатаная обувь, истоптавшая, похоже, все дороги Европы.
Перед Доллем уже давно идет молодая девушка: в ней совершенно нет того очарования юности, которое красит даже некрасивых, она тяжело, словно из последних сил, передвигает окровавленные, гноящиеся, грязные ноги. Платье ее, судя по всему, скроено из двух мучных мешков. Когда девушка его шила, она, несмотря на нищету, еще на что-то надеялась: вышила кое-как пару каемочек и даже приделала воротничок — пусть у меня платье из мешковины, но я молода, посмотрите на меня!
Но от этого жалкого кокетства ничего уже не осталось, а платье настолько запачкалось, что белый воротничок кажется почти черным, во всяком случае, не светлее мешковины. За время долгих скитаний она утратила последнюю надежду и окончательно сдалась.
Этих людей, которые сейчас идут со мной по улице, думает Долль, можно разделить на две группы: одни надеяться больше не могут, а другие — не смеют.
Но все они, как одни, так и другие, волокут какую-нибудь добычу: негодящий хворост, надранный с деревьев, расползшийся чемодан, содержимое которого уже никого не может заинтересовать, переполненные сумки и таинственные портфели, обвязанные веревочкой: их так часто набивали до отказа, что замки давно сломались.
Все равно мы погибнем, думают одни. Но сперва дайте нам еще разок поесть! Не просто набить желудки, а по-настоящему насытиться — чтобы удовлетворение растеклось по жилам вместе с ярко-красной кровью, в которую наконец-то влилось хоть немного питательных веществ!
Если мы соберемся с силами и будем работать изо дня в день, то переживем это время! — думают другие. Однако на их лицах война тоже оставила невыводимую печать — настороженное, опасливое выражение: может, мы и кончим плохо — но мы хотя бы надеялись! Сам Долль — пессимист, но в меру: он не верит, что погибнет сам, не верит, что погибнет его семья, но допускает, что будущее принесет немцам все мыслимые и немыслимые бедствия.
Он сворачивает с центральной улицы в тихий, зеленый переулок. Проход закрыт: поперек дороги шлагбаум, опоясанный красно-белыми полосками, рядом будка со скрещенными красно-белыми перекладинами; вахту несут русские солдаты и немецкий полицейский — охраняют от чужаков район, где живут офицеры оккупационных сил. Хотя у Долля есть пропуск, а значит — право беспрепятственного прохода, застава его раздражает: ему неприятно все, что так или иначе напоминает о войне и военных. Хватит уже, навоевались, пора положить этому конец раз и навсегда — и не только здесь, во всем мире! Примерно так можно выразить то нетерпеливое чувство, которое охватывает его при виде красно-белой будки.
Впрочем, он отлично понимает, что чувство это глупое. Все это по-прежнему необходимо: мир, а уж тем более его соотечественники пока не дозрели до того, чтобы жить без постоянного надзора, без грозного кнута. Слишком долго духовность была низложена. Оставь дорогих соотечественников без присмотра — так они, чего доброго, тут же раскроят друг другу черепушки!
Доллю остается всего шагов двадцать до чудесного особняка, выкрашенного в желтоватый цвет. Он производит весьма ухоженное впечатление: перед крыльцом клумбы, на которых сейчас наверняка высажена картошка, окна целы, на них висят шторы. Его цель — не этот особняк, его цель расположена еще в трех-четырех минутах ходьбы, но он твердо решил, что по пути быстренько заглянет сюда. Потому что здесь живет человек, который за последний тяжелый год очень часто ему помогал, человек, которого он много раз подводил и который все равно относился к нему с неизменной доброжелательностью. Добрый, надежный друг, друг бескорыстный — редкий подарок судьбы даже в обычные времена, а тем более в такие, как сейчас!
В последние месяцы Долль был к этому человеку преступно невнимателен: он жил так, будто человека, который столько о нем заботился, не существует на свете. Не подавал признаков жизни, не выходил на связь. Пора, пора его навестить!
Несмотря на все эти здравые рассуждения, Долль борется с искушением пробежать еще пару улочек и глянуть, не пришел ли грузовик. Если машина уже на месте, придется таскать и расставлять вещи. Тогда визит сам собой отложится!
Он стоит, не в силах принять решение, а затем его словно подбрасывает: сколько можно отлынивать, грузовик подождет! Он жмет на звонок, и через мгновение калитка с жужжанием открывается. Он проходит через палисадник и спрашивает у горничной:
— Могу я поговорить с герром Гранцовом?
И добавляет, поскольку давно уже здесь не показывался:
— Долль.
— Я вас узнала! — отвечает горничная немного обиженно и исчезает в недрах дома.
Ждет Долль недолго. Ему не приходится идти вслед за горничной в кабинет писателя, с трепетом переступать порог, тревожно вглядываться в лицо хозяина. Как это часто бывало и раньше, все складывается гораздо проще — даже, наверное, проще, чем он заслуживает…
На пороге появляется Гранцов собственной персоной, в темных брюках и белоснежной рубашке, в одной руке ручка, в другой сигарета — он оторвался от работы. И восклицает, как когда-то:
— Долль! Как здорово, что ты зашел! Ну что, поправился? Ты ведь здесь недалеко живешь? Ждешь грузовик с Альмой и вещами? Славно, славно! Говорю тебе, все у тебя наладится, еще как наладится! Ну входи же, входи, нечего сидеть тут на жаре. Ты ведь куришь? Вот, бери! На огонек! Да садись же! Ну что, давай рассказывай: как дела? Что вы поделываете?
Так и начинается разговор: ни слова упрека, ни намека на обиду. Только добродушие, интерес, готовность помогать. Но, разумеется, наступает момент, когда Гранцов наклоняется вперед и спрашивает тихо, осторожно, словно опасается разбередить рану:
— А как работа? Вернулся к книге? Дело идет?
— Эх, Гранцов! — отвечает Долль не без смущения. — Да, я снова пишу. Каждый день вырабатываю норму, ну ты понимаешь: именно норму, потому что иначе как нормой это не назовешь. Как мальчишка, выполняющий домашнее задание. Порыв, подъем, вдохновение — всего этого и в помине нет. У меня сейчас куча поденщины — строчу рассказы для газет, исключительно заработка ради… Впрочем, иногда я даже получаю какое-никакое удовольствие. Но работа все время стопорится. Эти бесконечные долги, которые мы наделали в тяжелые времена!.. Повседневные траты сжирают все до гроша. А теперь еще эта машина из деревни — ведь она нам влетит в несколько тысяч! — он с сомнением смотрит на Гранцова.
Тот выслушивает все доллевские сетования, как и прежде, с искренним участием.
— Ох уж эти твои долги! — говорит он. — Наслышан, наслышан. Говорят даже, что ты начинаешь распродавать книги. Не надо, Долль! Вы и так уже страшно сказать сколько всего продали. Хватит, прекращайте это безобразие!
— Ну а что нам остается?! — в отчаянии восклицает Долль. — Легко говорить: хватит, прекращайте! Да я бы с радостью! Ты же знаешь, как мне дороги мои книги. Я пятнадцать лет собирал свою библиотеку. Каждую лишнюю марку вкладывал в книги! Но теперь мне приходится их продавать. Надо же как-то расплачиваться с долгами!
— Да понятно! Понятно! — примирительно говорит Гранцов. — Но книги я все-таки не стал бы продавать. Почему бы тебе не поговорить начистоту с издателем?
— Мертенсу я тоже страшно сказать сколько задолжал!
— Ну, Долль, это еще полбеды, — возражает Гранцов. — Мертенс — человек здравомыслящий. Поговори с ним. В конце концов, самое страшное, что ты можешь услышать, — это «нет», а «нет» тебе никак не повредит. Но попомни мои слова, «нет» он не скажет. Не исключено, и даже вполне вероятно, что он готов к такой просьбе. Ну хочешь, я сам с ним поговорю?
— Ради бога, не надо! — в ужасе восклицает Долль. — Я не допущу, чтобы ты все брал на себя, Гранцов! Нет уж, если кто и пойдет на поклон к Мертенсу, то я!
— Значит, поговоришь с ним?
— Наверное. Скорее всего. Ну не надо так скептически ухмыляться! Честно, я постараюсь.
— Ну смотри: сам не поговоришь, я поговорю вместо тебя. В любом случае, Долль: книги и вещи больше продавать нельзя! Ты уж меня прости, что я лезу в твои дела. Но все-таки это, прямо скажем, не лучший способ добыть денег.
— Хорошо, — говорит Долль, исполняясь твердой решимости. — Я поговорю с Мертенсом. Ты себе представить не можешь, Гранцов, как я буду счастлив, если удастся одним махом решить все проблемы! Прежде я никогда не делал долгов — это просто омерзительно!
— Тогда ты сможешь полностью отдаться работе и ни о чем не беспокоиться, — продолжает Гранцов. — И наконец напишешь книгу, которую все мы ждем! Я знаю, я уверен — это будет шедевр!
Он стоит на своем, хотя Долль качает головой. Затем разговор заходит о путешествии Гранцова в Южную Германию. Да, они болтают, делятся впечатлениями, никакие разочарования не смогли разрушить их старую новую дружбу. У них не так много общего, но одно их роднит: вера, что непременно нужно работать — ради себя и ради народа. И они все время говорят и думают о работе, вся их жизнь вращается вокруг работы, и эта работа никогда не превратится для них в унылую обязанность.
Но вот Долль вновь идет по улице и курит очередную сигарету из «активов» Гранцова. Он сворачивает раз, другой — и оказывается в начале маленькой улочки, где живет он сам. Грузовика перед домом не видно. Хорошо, что он пошел к Гранцову, не заглянув сюда, взял себя за шкирку и пошел — а то сейчас стыдился бы собственной трусости.
Он неспешно подходит к дому, отпирает дверь, переступает порог. Дети живут здесь одни, за ними присматривает старая прислуга, но сейчас они в школе: в комнатах тихо и пусто. Хуже того: повсюду разгром и беспорядок, грязь и пыль. Это жилище так и не стало для них домом: его никто не любит. Дело к полудню, а в комнате малышки до сих пор не собрана постель. Белье, вперемешку чистое и грязное, валяется где попало — на полу и на мебели. Немыслимых размеров плюшевый медведь, величиной с шестилетнего ребенка, сидит в углу и глупо таращит на вошедшего карие глаза.
А тот в нерешительности топчется перед распахнутым платяным шкафом: может, попробовать навести здесь хоть какой-то порядок?.. Но он со вздохом отметает эту мысль, даже не попытавшись. Ну запихнет он пару одежек в свалку на полках — так разве же это порядок? Порядок — это значит основательно протереть этот шкаф изнутри и снаружи, как и всю прочую мебель, а еще прибраться в комнате, помыть окна…
Как говорится — он пожимает плечами. Что толку наводить порядок, если все равно никто из домашних не будет его потом поддерживать?! Чтобы сделать хоть что-нибудь, он открывает окно… Затем поднимается по лестнице на второй этаж. Комната мальчика заперта — ну и правильно! Сын сам в ней убирается — нечего остальным там шнырять!
В супружеской спальне все так же, как было неделю назад, когда Альма уехала в городишко. Смятая постель не убрана, по полу разбросаны газеты, в пепельнице мусор — окурки из нее вытряхнули, но какие-то клочки бумаги остались, — умывальник замызган; всюду, даже на полу, раскиданы белье и одежда, шкаф нараспашку!
Легко ругаться на приходящую прислугу — дескать, она ничего не делает. Но ведь ей за пару часов нужно успеть принести продукты, постоять в очередях, приготовить еду — больше ни на что времени не хватает. Нет, прислуга тут ни при чем, тут другое…
И снова, как внизу, в детской, Долль пожимает плечами, — но на этот раз даже окно открыть не пытается. Он идет в другую комнату, где собирался устроить кабинет. Увы, он так и не довел начатое до конца — но когда-нибудь все-таки будет работать в этой светлой комнате…
Он садится в кресло и осматривается. К стене на скорую руку прибиты несколько полок, лишь наполовину заполненных книгами. Письменный стол по-прежнему раскорячен посреди комнаты, как его поставили грузчики. Надставка большого книжного шкафа стоит, будто второй стол, на полу и, как и стол, загромождена книгами, — теми книгами, которые Долль решил ни в коем случае не продавать. А в углу красуется большая китайская ваза с крышкой, — великолепная безделушка в пурпурных, синих и зеленых тонах, установленная на черной стеле.
Долль поднимает руку, приветствуя ее. Эта ваза — единственный предмет роскоши, оставшийся у них после крушения мира. Последний осколок их прежнего состояния, она непостижимым образом уцелела — возможно, потому, что им просто не хватило предприимчивости и энергии отнести ее в одну из антикварных лавок на западе Берлина. Все остальное, что было им дорого — не только ему, но и Альме, — давно исчезло, и осталась лишь эта пещера, не дом, не очаг, а убежище, где можно есть и пить, но нельзя жить.
А ведь это место могло стать им домом. После памятного разговора с Гранцовом, когда им так неожиданно и так щедро помогли, они из полуразоренной комнаты, на окнах которой вечно шуршала пленка, перебрались в этот дом, покинув и нечистоплотную Шульциху, и актрисульку Гвенду, и врачей, у которых они доставали морфий. У Долля снова появилась работа, отпала надобность думать о том, чем питаться и как обогреваться, он связался с издателем Мертенсом, стал писать для газет, работать над романом… В этот период они с воодушевлением обустраивали свое новое жилище. И дом тогда выглядел по-человечески…
Как же так вышло: почему все обернулось вспять, почему они тут же потеряли то, что едва-едва обрели? Сидя за письменным столом в этой пыльной норе, Долль задумчиво смотрит на улицу, где пляшут солнечные блики…
Быть может, первым ударом стала Альмина поездка в городишко: она хотела перевезти в Берлин множество нужных вещей, но обнаружила, что все их добро разграбили и растащили, обобрав их до нитки. О, местные завистники сполна отомстили ненавистному бургомистру: лишили его последних носков, последних ботинок, не оставили ни рубашки, ни костюма, ни платья для жены — не позарились только на самые старые, самые истрепанные обноски. Он вновь убедился, на этот раз на собственной шкуре, как одичал и опустился немецкий народ: они считали, что имеют полное право воровать и мародерствовать, — ведь война так много у них отняла! Как могут, так и выживают — кто посмеет им запретить?! На смену лозунгу «Общее превыше частного», который так и не воплотился в жизнь, пришел другой: «Помоги себе сам — и ничем не гнушайся!»
А уж тем более если речь об этом ненавистном бывшем бургомистре! Они расквитались с ним за слова, которые он произнес некогда с балкона комендатуры, желая свести счеты с местными нацистами. Они не забыли ни допросов, ни обысков, ни конфискаций, которые он устраивал, вменили ему в вину каждую просьбу, на которую он ответил отказом!
Что делать — Долли старались утешить друг друга. Они говорили: «А если бы на наш дом упала бомба?! Тогда бы у нас вообще ничего не осталось! А так — есть все-таки мебель, которую соседи не успели пустить на растопку, кое-какие ковры — а книги вообще почти не тронули!»
Пережив потерю, они принялись обустраивать дом, он снова сел за работу — но осталась какая-то заноза в душе. Не было прежнего подъема, прежнего огня. Старею, думалось Доллю. Не то чтобы он горевал по разворованному добру: все, что куплено за деньги, можно купить снова. И не то чтобы он так уж огорчался, что у него остались лишь две пары старых носков, штопаных-перештопаных, и один-единственный костюм, который совсем уж поизносился.
Нет, бытовая сторона дела его не очень удручала. Куда печальнее было сознавать, что, как и в минувшие двенадцать лет, зло торжествует, а мораль обесценивается на глазах. Неужели у этого народа нет никакого шанса зажить когда-нибудь по совести? У Долля часто возникало чувство, что под гнетом лишений соотечественники стали еще более рьяными нацистами, чем прежде. Как часто он слышал: «А вот при фюрере того-то и того-то было в достатке!» Даже многим из тех, кто раньше нацистов не поддерживал, тирания Гитлера стала казаться благословенным, сытым временем. Ужасы войны с ночными бомбежками, отправленные на убой мужья и сыновья, издевательства над невинными — все это немцы уже забыли. Помнили только, что раньше им доставалось немножко больше хлеба и мяса. Не верилось, что они когда-нибудь одумаются, и иногда становилось среди них совсем невмоготу; и впервые Долль всерьез начал подумывать — теперь, после войны! — об эмиграции.
Но все же этих причин было недостаточно, чтобы снова впасть в глубокую апатию, разрушить едва построенное и разбазарить с трудом убереженное. Может быть, тут внесла свою лепту и работа — работа, которую он выполнял скорее из чувства долга, чем из внутренней потребности, работа без вдохновения, без страсти, без любви, работа, чуждая его сердцу. Он всегда любил свою работу, считал ее смыслом жизни. А теперь равнодушно тянул лямку, и нередко на него находило отчаяние: что, если он никогда больше не сможет работать как прежде, что, если вдохновение покинуло его навсегда?..
Все шло ни шатко ни валко, и к крупным неурядицам добавлялись тысячи мелких неприятностей, неизбежных в то время. Долль, казалось, утратил способность хоть сколько-то разумно распоряжаться финансами. Они вечно были на мели, денег никогда не хватало, а раз их все равно не хватало, несмотря на всю экономию, то с какой стати ограничивать себя? Почему бы не купить английские или американские сигареты? Какая разница!
Как назло, именно в это время у молодой женщины снова обострилась желчнокаменная болезнь, — то ли действительно организм не выдержал, то ли все это она себе навоображала. В доме опять завелись соответствующие лекарства, и на этот раз Долль не протестовал — теперь их желания совпадали. Они уносились в мир грез, мир окрашивался в розовые тона, все невзгоды забывались, они не чувствовали ни голода, ни холода и вставали с постели лишь для того, чтобы раздобыть еще «веществ».
Но добывать деньги становилось все труднее. Долль бросил работать — и началась большая распродажа. Они сбывали мебель и персидские ковры, картины и книги — ненасытная прорва засасывала их жизнь. Их силы, их мужество, их надежды, их последнее имущество — все утекало в эту бездну.
Им хватало хитрости скрывать свою пагубную страсть от окружающих: послушать их разговоры с Гранцовом, так работа двигалась семимильными шагами. Долль все время трепался о новых замыслах, придумывал замечательные истории — и снова все забывал, едва они выходили за гранцовский порог. Они жили в тумане грез, обволакивавшем их постельный склеп, где они лежали хоть и вместе, но поодиночке, витая каждый в своих мечтах…
Но наконец все зашло в тупик: продавать стало нечего, они растеряли все, что имели, да еще наделали кучу долгов, организм перестал реагировать даже на ударные дозы, и они начали думать с отвращением: пора кончать с этой дурацкой, бесполезной жизнью! Но они не кончали, как не кончал и весь немецкий народ, хотя причин было предостаточно! Они снова оказались в больнице: тут-то и попал он в это примечательное заведение на Эльзаштрассе, 10, о котором рассказывалось выше. Она, благодаря своей молодости, довольно быстро излечилась от последствий злоупотребления наркотиками — и уже давно уехала в городишко, чтобы собрать и привезти в Берлин остатки их вещей.
Теперь они снова попытаются начать все сначала. Снова — и при обстоятельствах куда более трудных, чем прежде. Они бездумно разбазарили солидный капитал дружбы, доверия, имущества и даже веры в себя.
Он поднимается из-за стола, стоящего посреди этой пыльной, запущенной комнаты, где на него со всех сторон словно бы с укором смотрят остатки его книжного собрания. Потянувшись, он выходит на балкон и смотрит на солнечную зелень внизу. Ни эти деревья, ни кусты, ни трава не помнят войны. Жизнь продолжается. Утешение, конечно, слабое, но лучше, чем ничего. Может, и он еще напишет свою книгу — книгу, которую все будут читать, которая будет иметь успех! Может, прямо сейчас, когда он стоит на балконе, на улицу заворачивает грузовик с остатками книг и мебели. Они все начнут сначала, они предпримут еще одну попытку — и на этот раз не сорвутся у самой цели!
Внезапно, хотя он стоит на солнцепеке, по телу пробегает озноб. Ему тяжело находиться в этом доме, где похоронено столько надежд. Он поспешно выходит на улицу, снова минует красно-белый шлагбаум и через несколько минут уже едет в электричке.
Так, мрачно думает он. Гранцов не должен считать, что я не в состоянии принимать решения и сваливаю свои проблемы на окружающих. Я хочу все выяснить до того, как придет грузовик.
Вскоре он уже шагает через эпицентр разрушений. Мало людей осталось на этих улицах, где семь лет назад кишели целые толпы — ни пройти ни проехать. Теперь шагай хоть по проезжей части — о машинах можно не беспокоиться: даже если кто сюда и заедет, то тащится еле-еле, лавируя между выбоинами в дорожном покрытии.
Долль тоже идет медленно. Руины залиты солнцем, кругом царит покой, в воздухе — неистребимый запах пыли и гари. Некоторые берлинцы надеялись, что развалины вскоре зарастут зеленью. Но мы живем не в джунглях, да и матушка-земля погребена под камнями — до сих пор ничего не проросло! Ни травинки, ни стебелька…
А раз так, дорогой мой, говорит Долль сам себе, то чему же ты удивляешься, на что жалуешься? Руины так быстро не зарастают — это и тебя касается, да-да, тебя в первую очередь! Ты уже немолод, а вспомни, каким ты был год назад — развалина, а не человек! Уже забыл, как лежал тогда в гигантской воронке, в которую превратилась вся Германия, а то и весь мир, и уповал на помощь «Большой тройки»? То-то же! Все-таки с тех пор многое изменилось в лучшую сторону. Кое-какая трава на руинах проросла. Имей терпение и иди дальше своей дорогой!
И он идет своей дорогой, и буквально через сотню шагов эта самая дорога приводит его к большому, неухоженному зданию, высящемуся среди развалин, — раньше здесь размещался Трудовой фронт. Он поднимается по лестнице, никто не спрашивает, зачем он пришел, не требует, чтобы он для начала заполнил анкету — родился, крестился, проживал; он идет к предпринимателю, и предприниматель этот человек современный.
Он открывает дверь и видит издателя Мертенса — безо всяких там секретарш, помощников и администраторов.
Десять минут спустя он покидает бывший штаб Германского трудового фронта. Гранцов оказался прав: Мертенс — человек не мелочный. Никаких разглагольствований, препирательств, попреков. Вопрос, краткое раздумье — и «да» в ответ.
Под мышкой у Долля сверток — ему подарили издательские новинки, — нагрудный карман распух от денег. А значит, не придется увеличивать прорехи на книжных полках и от долгового ярма он наконец-то избавится. Нужно просто работать, упорно и вдохновенно, и все будет хорошо.
Хотя почтовое отделение есть недалеко от его дома, как раз у остановки трамвая, небольшое и немноголюдное, он ищет почту здесь, среди развалин, расспрашивает прохожих. Ему не терпится покончить с делом, которое давно его гнетет. Он долго петляет среди завалов и руин и наконец находит здание почты: оно тоже изрядно пострадало, и народу в нем тьма.
Он долго топчется в очереди; наконец ему выдают ручку, бланки для почтовых переводов и квитанции. Пристроившись к высокому бюро, он начинает заполнять бланки. Суммы фигурируют немалые: понадобится много времени, много месяцев работы, прежде чем он сможет погасить задолженность. А сколько чудных вещиц они могли бы купить на эти деньги! Их обиталище стало бы напоминать человеческое жилье, а не звериное логово, если бы они не выбросили бездумно столько денег на эти поганые «вещества», на эту дрянь, которая к тому же подорвала их здоровье!
Но об этом Долль думает лишь мимоходом — он с наслаждением выписывает переводы, с глубоким чувством облегчения вычеркивает имена кредиторов из списка, который всегда носит при себе. Пока что он не может заплатить всем, через неделю он получит в издательстве остаток задатка — и тогда положит конец всему этому безобразию!
Когда Долль час спустя выходит на улицу, бумажник у него опять тощий, но сердце, кажется, бьется громче и мощнее — так легко у него на душе. Он больше не думает о том, что на развалинах не растет ни травинки, он и развалин-то не замечает. Он освободился от тяжкой, давно мучившей его обузы, он ясно видит дальнейший путь… Внезапно он начинает торопиться — ему хочется поскорее вернуться домой. В эту унылую, грязную дыру — внезапно в своих мыслях он называет ее домом!
Посмотрите, как он заворачивает за угол и сразу всматривается в конец улицы — а там кипит жизнь! Перед его крыльцом стоит грузовик, дети помогают грузчикам таскать вещи — силы небесные, они как раз несут его книги! На полках больше не будет дыр, берлога превратится в дом — отныне все наладится! Он почти вприпрыжку мчится по улице…
Альма сидит в кресле, курит и командует грузчиками. Пока его не было, она успела отмыться от дорожной пыли и теперь снова имеет юный, цветущий вид…
— Ты не поверишь, — кричит она, завидев его, — но я полностью забила и грузовик, и прицеп! Привезла все-все-все! Больше туда ездить не понадобится. Прощай, мерзкое болото! Все твои книги здесь — ты рад? Я молодец?
Конечно же, он рад, он целует жену. Но тут же торопливо осведомляется: не найдется ли у Альмы сигареты?..
— Да хоть пачка! — восклицает она. — Бедный мальчик, неужели тебе так хочется курить? Вот, держи! У меня для тебя еще кое-что есть: в сумке две бутылки шнапса! Людям тоже дай хлебнуть, они поработали на совесть. Не морщись, я не транжира. Шнапс в нашем городишке дешев: бутылка меньше сорока марок! Кроме того, я возвращаю тебе всю сумму, которую брала на дорогу. И даже больше!
— Что?! — изумляется он. — Как это ты возвращаешь всю сумму?! И даже больше! По железной дороге нынче что, бесплатно возят, а гостиницы сами платят постояльцам?
— Все гораздо проще! — смеется она. — Я распродала хлам, который не влезал в машину. Всякое старье, которым мы сто лет не пользовались: матрасы, деревянная мебелишка. А теперь давай выпьем за то, чтобы жизнь отныне становилась только лучше. Будем!
Они чокнулись и выпили. Она с удовольствием потянулась.
— Ох, как хорошо выпить после этой бесконечной пыльной дороги! Как я рада, что все позади! И что я со всем справилась! Мы грузились до трех ночи — да, представь себе, работали не покладая рук, можешь еще разок поцеловать меня в знак благодарности! Как же я счастлива!
Он поцеловал ее, это избалованное дитя, которое готово было разделить с ним его путь — путь работы и строжайшей экономии. Он смотрел, как она улыбается, излучая счастье, молодость и здоровье, и радовался достигнутому.
Поздно вечером Долль возвращается в больницу, чтобы переночевать там в последний раз. На следующее утро он окончательно переберется на свою тихую улочку и начнет заново отстраивать семейный очаг. Он здоров, он хочет работать, он верит в будущее. А ведь невозможно верить в собственное будущее, если не веришь в будущее своих близких, знакомых, всего народа, если не думаешь о человечестве. Он верит, что они выстоят, что Европа поднимется из пепла, потому что верит, что поднимется сам.
Апатия наконец-то отпустила его, он больше не лежит в воронке. И «Большая тройка» тут ни при чем — таинственным образом растут его силы, он сам карабкается наверх, он уже наверху. Он славит жизнь, долгую, столько раз оскверненную, и тем не менее прекрасную жизнь! Все страны снова будут процветать, и Германия тоже выздоровеет — любимая, несчастная Германия, захворавшее сердце Европы.
И теперь, в этот поздний час, шагая по улицам Берлина, Долль впервые ощущает, что на самом деле наступил мир. Он идет мимо уцелевших домов, мимо развалин, листва шелестит над головой, и он счастлив. Он достиг гармонии с самим собой. Достиг равновесия. Он здоров — здоров и готов к мирной жизни.
Жизнь продолжается, и они преодолеют все трудности, раз уж им посчастливилось столько пережить — и выжить. Жизнь всегда продолжается, даже среди руин. Руины не важны — важна только жизнь. Жизнь — это когда в центре города, среди искореженных камней, пробивается травинка. Жизни нет конца.
И возможно, люди даже вынесут какие-то уроки. Вынесут уроки из собственных страданий, слез, крови. Одни будут учиться с неохотой, другие — с опаской, третьи — с воодушевлением. Но в конце концов все поймут, что теперь жизнь неизбежно пойдет по-другому — даже мыслить придется иначе…
Долль, во всяком случае, готов учиться. Он видит убегающий вперед путь, знает, каковы его ближайшие шаги, — работа, работа и еще раз работа. Дальше пока мрак, но сейчас для всех немцев будущее покрыто мраком, и об этом он думать не станет. В последние годы все они научились жить до востребования, сегодняшним днем — так почему бы этот навык не использовать сейчас? Жить и работать! Вот и весь секрет!
Вечерний ветерок ласково колышет кроны. Долль, маленький человек, чувствует дыхание бескрайнего мира. Остановившись под деревом, он слушает шепот ветвей. На самом деле листья шуршат, потому что движется воздух. Только поэтому. Других причин нет. Но этого достаточно. В последние годы у него никогда не было времени постоять под деревом, вслушаться в шелест листвы. Теперь он может себе это позволить, потому что наступил мир — мир! Пойми и прочувствуй это, человек: тебе больше не нужно убивать и разрушать. Отложи оружие — наступил мир!
Маленький человек[4]
Пролог Беззаботные
ПИННЕБЕРГ УЗНАЕТ ВАЖНУЮ НОВОСТЬ О БАРАШКЕ И ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ
Уже начало пятого, — отметил про себя Пиннеберг. Обаятельный светловолосый молодой мужчина стоял в ожидании возле дома 24 по Ротенбаумштрассе.
Они с Барашком договорились встретиться здесь без четверти четыре, а на часах уже пять минут пятого. Отрывая взгляд от циферблата, Пиннеберг заметил на двери дома 24 табличку, на которой было выведено:
Доктор Сезам
Заболевания женских органов
Прием с 9 до 12 и с 16 до 18
«Нормально! Только начало пятого! — подумал он. — Вот закурю, и Барашек точно появится, а впрочем, курить не стоит — хватит на сегодня необоснованных трат».
Он огляделся. Дома вдоль Ротенбаумштрассе расположены только в один ряд. Дорога, засаженная деревьями, ведет к набережной Штрелы, полноводной в этом месте, поскольку совсем недалеко отсюда ей предстоит влиться в Балтийское море. Свежий ветер, дующий с реки, наполняет воздух свежестью и звуками шелеста листвы.
«Живут же люди, — подумал Пиннеберг. — Небось, комнат полно у этого Сезама. Понятное дело, зарабатывает немало. Сколько же он платит за аренду? Двести марок? Триста? Да я даже не представляю. Десять минут пятого!»
Похлопав по карману, Пиннеберг выудил из пачки сигарету и закурил.
И в этот самый момент, вынырнув из-за поворота, к нему устремилась Барашек — в белоснежной плиссированной юбке, шелковой блузке. На ее белокурой головке не было шляпки, и волосы развевались на ветру.
— Привет, малыш. Ну опоздала. Не сердись.
— С чего бы. Только просидим мы тут до скончания века. По крайней мере, человек тридцать туда зашли, пока я тебя ждал.
— Это же не значит, что все они к этому врачу. К тому же мы записались заранее.
— И правильно сделали.
— Ну разумеется, правильно. Ты, как всегда, прав, мой милый! — Уже на ступеньках она обхватила руками его лицо и пылко его поцеловала. — Господи, до чего же я счастлива, что мы снова рядом. Подумать только, целых две недели!
— Конечно, Барашек, — сказал он. — Да я уже больше не ворчу, как ты заметила.
Когда дверь распахнулась, на них из полумрака прихожей гаркнуло седое чудище:
— Ваши направления!
— Разрешите нам хотя бы войти, — сказал Пиннеберг и подтолкнул вперед Барашка. — Собственно говоря, мы частным образом. И по записи. Мое имя Пиннеберг.
При слове «частный» чудище подняло руку и включило в прихожей свет.
— Доктор сейчас выйдет. Буквально через минуту. Попрошу вас, вон туда, пожалуйста, — сказала она, указывая на дверь.
На пути им попалась комната, дверь которой на половину была раскрыта. Приемная — решили они. Там-то и сидели все те тридцать человек, которых видел на улице Пиннеберг. Все их головы тут же обернулись к вновь прибывшим, и тут же поднялся гул голосов:
— За что мы платим налоги?!
— И чем это они лучше нас?!
Вошла медсестра:
— Немедленно прекратите! Вы мешаете доктору! Или, думаете, он ничего не слышит? А эти люди его зять с женой. Ведь так?
Смущенный Пиннеберг улыбнулся, Барашек поспешила к нужной двери, а в приемной на мгновение наступила тишина.
— Быстрей же! — прошептала сестра, проталкивая Пиннеберга вперед. — Эти страховые пациенты слишком бесцеремонные. На что эти люди рассчитывают за те гроши, что нам выделяют?
Дверь закрылась, и Пиннеберг и Барашек оказались во владениях красного плюша.
— Похоже на гостиную, — заметил Пиннеберг. — И как тебе все это? На мой взгляд, ужасно старомодно.
— Это было отвратительно, — сказала Барашек. — По сути мы такие же, как и они, — страховые пациенты. Теперь знаем, как врачи про нас говорят.
— Ну что ты так волнуешься? — ответил он. — Так ведь и есть на самом деле. Мы люди маленькие, вот они с нами и не считаются.
— Меня и правда это волнует…
Дверь открылась, и в комнату вошла уже другая медсестра.
— Господин и госпожа Пиннеберг? Доктор просит вас еще немного подождать. А пока я запишу ваши личные данные.
— Пожалуйста, — согласился Пиннеберг и тут же услышал:
— Сколько вам лет?
— Двадцать три года.
— Имя?
— Иоганнес. — Слегка запнувшись, он добавил: — Бухгалтер. — И уже увереннее: — На здоровье не жалуюсь. В детстве — самые обычные детские болячки, ничего серьезного. Полагаю, мы оба здоровы.
После недолгого молчания продолжил:
— Да, мать еще жива. Нет, отца больше нет. От чего умер, сказать не могу, не знаю.
Заговорила Барашек:
— Двадцать два. Эмма. — Какое-то время она молчала, потом продолжила: — Урожденная Мёршель. Здорова. Родители живы. Тоже здоровы.
— Ну все, еще минуту, и доктор вас примет.
— И кому все это нужно, — пробормотал Пиннеберг, когда дверь за сестрой закрылась. — Мы…
— Тяжело тебе дался этот «бухгалтер».
— Ну а ты? Урожденная Мёршель! — Он засмеялся. — Эмма Пиннеберг, по прозвищу Барашек, урожденная Мёршель. Эмма Пинне…
— Да успокойся ты! О господи, милый, мне опять приспичило. Не знаешь, где у них здесь это «заведение»?
— Ну каждый раз одно и то же! Заранее надо было, что ли…
— Но я же уже… Клянусь, милый… Еще на Ратушной площади — целый грош отдала. Я когда волнуюсь…
— Значит, так, Барашек, надо немного потерпеть. Если ты и правда недавно…
— Но мне очень надо, дорогой.
— Прошу вас, — послышался голос, и в дверях они увидели доктора Сезама, того самого знаменитого доктора Сезама, который, по слухам, пленил половину жителей города и четверть населения провинции добротой своего сердца. Как бы то ни было, он издал популярную брошюру о проблемах сексуального свойства, поэтому Пиннеберг, набравшись храбрости, написал ему и попросил принять Барашка.
Доктор Сезам стоял в дверях:
— Прошу вас.
Доктор Сезам поискал у себя на столе письмо Пиннеберга.
— Вы писали мне, господин Пиннеберг, что не собираетесь пока заводить детей, потому что недостаточно обеспечены.
— Да, — ответил Пиннеберг, явно смутившись.
— Раздевайтесь, — обратился врач к женщине. — И вы хотите быть уверенной, абсолютно уверенной…
Его глаза недоверчиво усмехались за стеклами очков в золотой оправе.
— Я прочитал в вашей книге, — говорит Пиннеберг, — что эти пессуарии…
— Пессарии, — поправил его врач. — Да, но не каждой женщине они подходят. К тому же не совсем удобны в использовании. Не уверен, есть ли у вашей жены навык… — И он взглянул на нее.
Она начала раздеваться — блузка, юбка — высокая, со стройными длинными ногами.
— Ну, пройдемте, — сказал врач. — А вот блузку, юная дама, снимать было необязательно.
Лицо Барашка залил румянец.
— Оставьте ее здесь и пойдемте. Мы сейчас, господин Пиннеберг.
И они прошли в соседнюю комнату. Пиннеберг не сводил с них взгляда. Доктор Сезам едва доходил «юной даме» до плеча. Пиннеберг в очередной раз убеждается, как она восхитительна — лучшая в мире, единственная на свете. Он работает в Духерове, она же здесь, в Плаце, они видятся раз в две недели, потому волнение его не отпускает, а желание не угасает.
Он как мог вслушивался в то, что происходило в соседней комнате: тихим, мягким голосом врач о чем-то спрашивает, шумно перебирает в металлическом лотке инструменты, этот звякающий звук Пиннеберг слышал в кабинете дантиста — неприятный звук.
И вот впервые он не узнал голоса своего Барашка — очень громкого, звонкого, это был почти крик: «Нет! Нет! Нет!» — и еще раз: «Нет!». И совсем тихо: «О Боже!»
Что там творится? Пиннеберг — три шага — и подошел к двери. Говорят, врачи те еще развратники… Но тут он снова услышал голос доктора Сезама, но не смог разобрать ни слова. Слышно было только, как вновь звякнул инструмент.
И долгое молчание.
Лето в самом разгаре, середина июля, невероятно ослепительный солнечный свет и очень синее небо. Морской бриз колышет ветви деревьев, и они норовят «заглянуть» в распахнутое окно. В детстве Пиннеберг знал одну песенку, которая сейчас вдруг вспомнились ему:
Ветер, ветер, суховей, Улетай от нас скорей! В новой шляпе мой сынок, Будь с ним ласков, ветерок!Из приемной доносились голоса. Для тех, кому они принадлежали, время растянулось в бесконечность.
«Вам бы мои заботы. Мне бы ваши…»
Они вернулись. Пиннеберг вопрошающе уставился на Барашка. Ее широко раскрытые глаза говорили о том, что она сильно напугана.
На ее бледном лице вдруг появилась улыбка, сначала слабая, но постепенно она становилась все шире и наконец расцвела пышным цветом. А доктор в углу спокойно мыл руки, посматривая через комнату на Пиннеберга. И вдруг проговорил:
— Слишком поздно, господин Пиннеберг, с предупреждением. Дверь заперта. Думаю, уже второй месяц.
У Пиннеберга перехватило дыхание. Вот так удар! Но его реакция была мгновенной.
— Доктор, но это невозможно! Мы были осторожны. Да этого не может быть. Ведь правда, Барашек…
— Милый, — ответила она. — Милый мой…
— И тем не менее это так, — прерывает ее врач. — Ошибка исключена. И поверьте мне, господин Пиннеберг, дети брак только укрепляют.
— Но доктор, — прошептал Пиннеберг, дрожащими губами, — я зарабатываю сто восемьдесят марок в месяц! Господин доктор, смилуйтесь!
Доктор Сезам уже так устал. От всего этого. Он прекрасно знает, что будет дальше, он слышит это каждый день — по тридцать раз.
— Нет, — ответил он. — Нет. Не просите. Вопрос закрыт. Вы оба здоровы. И зарабатываете нормально. Нормаль-но.
— Господин доктор, — не в силах побороть волнение, канючил Пиннеберг. У него за спиной Барашек поглаживала его по голове.
— Успокойся, родной, успокойся! Мы справимся.
— Но ведь это совершенно невозможно… — надтреснутым голосом все повторял Пиннеберг — и утих, когда в комнату вошла сестра.
— Господин доктор, вас к телефону.
— Поймите же, — продолжал врач. — Вы еще рады будете — помяните мое слово. А когда ребенок родится, не медлите, приходите. Вот тогда и поговорим о мерах предохранения. И не верьте диетам. Значит, так… Мужества вам, юная дама!
Он пожал Барашку руку.
— Я должен… — проговорил Пиннеберг, доставая кошелек.
— Ах да, — уже в дверях врач снова одарил молодых людей оценивающим взглядом. — Пятнадцать марок, сестра.
— Пятнадцать… — протяжно промямлил Пиннеберг и посмотрел на дверь, за которой скрылся доктор Сезам. Он не спеша вынул бумажку в двадцать марок, нахмурился, глядя, как сестра выписывает квитанцию. Как только она оказалась у него в руках, лицо его оживилось.
— Мне же страховая компания возместит эти расходы, не так ли?
Медсестра посмотрела на него, затем на Барашка.
— Диагноз — беременность, да? — И, не дожидаясь ответа, добавила: — Нет. Это не страховой случай.
— Пошли, Барашек, — сказал он.
Они не торопясь спускались вниз. На лестнице Барашек остановилась, крепко сжала ему руку:
— Только не расстраивайся! Прошу тебя, не надо! Мы справимся.
— Да, да, — ответил он рассеянно.
Они шли по Ротенбаумштрассе, свернули на Майнцерштрассе — оживленную улицу с многоэтажными зданиями и стремящимся потоком машин. Газетчики уже предлагали вечерние выпуски. И до них никому не было дела.
— Он сказал «зарабатываете нормально» и взял пятнадцать марок из моих ста восьмидесяти, грабитель!
— Я справлюсь, — сказала Барашек, — Я смогу.
— О, ты… — только и мог вымолвить он.
По Майнцерштрассе они дошли до Крюмпервег, и сразу же окунулись в тишину.
— Теперь-то я понимаю, — сказала Барашек.
— Что именно?
— Сейчас это уже не имеет значения, но я заметила, что по утрам меня слегка мутит… Вот такая ирония…
— Должна же ты была догадаться?
— Да я думала, что вот-вот начнутся месячные. О таком даже не задумываешься.
— Он мог ошибиться?
— Нет. Не думаю. Все так и есть.
— И все-таки, мог он ошибиться?
— Нет, я думаю…
— Погоди! И послушай меня! Я спрашиваю: ошибка возможна?!
— Возможна? Да все что угодно возможно!
— А вдруг завтра начнутся? Тогда я ему напишу!.. — И в мыслях он уже строчил доктору гневное послание.
С Крюмпервег они свернули на Геббельштрассе. И побрели по вечерней улице, под кронами восхитительных вязов.
— Я потребую с него свои пятнадцать марок! — внезапно выкрикнул Пиннеберг.
Барашек молчала. Шаг за шагом, она очень внимательно смотрела себе под ноги, — теперь для нее многое изменилось.
— И куда мы сейчас? — спросил Пиннеберг.
— Я должна вернуться домой, — ответила Барашек. — Я не сказала матери, что останусь сегодня.
— Тоже мне!
— Не ругайся! Я освобожусь к половине девятого. Во сколько твой поезд?
— В полдесятого.
— Я провожу тебя до поезда.
— Опять у нас ничего не вышло, — сказал он. — И так всякий раз. Ну и жизнь.
Лютьенштрассе — улица в рабочем районе города со снующей повсюду детворой, даже попрощаться негде.
— Не принимай это близко к сердцу, дорогой, — сказала она, пожимая ему руку. — Я выкручусь.
— Да-да, — тень улыбки скользнула по его лицу. — Ты, мой Барашек, как козырной туз, побьешь любую карту.
— В половине девятого спущусь. Обещаю.
— И даже не поцелуешь?
— Ничего не выйдет, сразу же поползут сплетни. Держись.
— Ладно уж, Барашек — ответил он. — И ты не принимай все это близко к сердцу. Как-нибудь уладится.
— Разумеется, — сказала она. — Я не боюсь. Пока!
Она нырнула в темноту лестницы, и было слышно, только как ее чемоданчик стукается о перила: тук… тук… тук…
Пиннеберг не сводил глаз с ее стройных ног. Сто тысяч раз Барашек вот так уходила от него по этой чертовой лестнице.
— Барашек, — крикнул он ей вслед. — Барашек!
— Да? — откликнулась она, вглядываясь сквозь перила.
— Подожди! — крикнул он, поднялся по лестнице и, затаив дыхание, обнял ее за плечи. — Барашек, — прошептал он, задыхаясь от волнения. — Эмма Мёршель! Как ты смотришь на то, чтобы нам пожениться?..
МАМАША МЁРШЕЛЬ. ПАПАША МЁРШЕЛЬ. КАРЛ МЁРШЕЛЬ. ПИННЕБЕРГ ВХОДИТ В СЕМЬЮ МЁРШЕЛЬ
Эмма Мёршель не ответила. Она высвободилась из объятий Пиннеберга и присела на ступеньку — и сразу ее ноги куда-то исчезли. Она во все глаза смотрела на своего возлюбленного.
— Боже, — сказала она, — если ты этого хочешь!
Ее глаза ее цвета морской волны лучились сиянием.
«Будто все рождественские елки вспыхнули разом всеми своими огнями!» — подумалось Пиннебергу, и он даже смутился.
— Вот и отлично, Барашек, — сказал он. — Решено. И давай как можно скорее, а?
— Милый, ты мне ничего не должен. Я и сама справлюсь. Но ты, разумеется, прав — лучше, чтобы у малыша был отец.
— У малыша, — произнес Иоганнес Пиннеберг. — Ну да, у малыша.
На мгновение наступила тишина. Он засомневался — сказать ей или нет, что совсем не думал он ни о каком «малыше», предлагая ей пожениться. Просто ему совсем не хотелось этим летним вечером три часа торчать на улице, поджидая свою девушку. Но он не сказал этого. А просто сказал:
— Вставай, Барашек, нечего сидеть на грязных ступеньках, твоя белая юбка…
— Плевать мне на юбку! При чем тут какие-то юбки! Я счастлива, Ханнес, родной! — Она вскочила на ноги.
Даже дом был с ними заодно: в это время суток, когда с работы возвращаются отцы семейств, а хозяйки выбегают прикупить то, что не успели днем, из двадцати жильцов мимо них не прошел никто.
Пнннеберг высвободился из ее объятий и не сказал:
— Теперь мы можем заняться «этим» у тебя наверху — как «пара». Идем.
Барашек спросила:
— Ты и правда так считаешь? Не лучше ли сначала подготовить моих отца с матерью, которые пока о нас ничего не знают?
— Но чему быть, того все равно не миновать, ведь так? — отбивался Пиннеберг, который ну совсем не желал выходить на улицу… — К тому же они наверняка обрадуются.
— Да, — задумчивл проговорила Барашек. — Мама точно обрадуется, а отец… знаешь, лучше тебе с ним не спорить, он любит порой кого поддеть, такой уж у него характер.
— Я учту, — сказал Пиннеберг.
Барашек отперла дверь, и они оказались в маленькой прихожей. Из-за двери они услышали голос:
— Эмма! Иди сюда! Быстро!
— Сейчас, мама, — крикнула Эмма, — только разуюсь.
Она взяла Пиннеберга за руку и на цыпочках повела в комнатку с окнами во двор, в которой стояли две кровати.
— Клади сюда свои вещи. Это моя кровать. На другой спит мама. Отец с Карлом спят в другой комнате. Пошли. Нет, постой. Что у тебя на голове? — Она ловко провела расческой по его взлохмаченным волосам.
У одного и у другой бешено колотилось сердце. Взявшись за руки, они миновали прихожую и открыли дверь в кухню. Над плитой согнулась сутулая женщина в коричневом платье и длинном синем фартуке, в сковороде у нее что-то шкворчало.
Женщина не оторвала глаз от плиты.
— Сбегай в погреб, Эмма, за углем. Карлу можно сто раз говорить…
— Мама, — сказала Эмма, — это мой друг Иоганнес Пиннеберг из Духерова. Мы решили пожениться.
Женщина у плиты подняла глаза. Смуглое морщинистое лицо, плотно сжатые тонкие губы, пронзительный взгляд поблекших глаз — типичный портрет женщины из рабочей семьи.
Мгновение она не отводила взгляда от Пиннеберга — резкого, сердитого, после чего вернулась к своим картофельным оладьям.
— Что за ерунду ты говоришь, — воскликнула она. — Не хватало еще парней в дом таскать?! Иди за углем, у меня весь кончился.
— Мама, — сказала Барашек с натянутой улыбкой. — Он правда хочет на мне жениться.
— Отправляйся за углем, говорю тебе! — крикнула женщина, поводя в воздухе вилкой.
— Мама!..
Женщина подняла голову и медленно произнесла:
— Ты все еще здесь? Наподдать для скорости?!
Барашек сжала руку своему Ханнесу, схватила корзину и бросила как можно задорнее:
— Я быстро! — И выбежала в коридор.
Дверь на лестницу захлопнулась.
Пиннеберг остался в кухне, не сводя робкого взгляда с фрау Мёршель, после чего перевел его на окно, за которым виднелись дымовые трубы на фоне голубого летнего неба.
Фрау Мёршель переставила сковородку с конфорки, пошуровала кочергой в печке, ворча что-то себе под нос. Пиннеберг вежливо спросил:
— Простите, вы что-то сказали?..
Это были первые слова, которые он произнес в этом доме.
Лучше бы он промолчал: женщина как стервятник ринулась на него — в одной руке кочерга, в другой вилка для оладий, размахивая ими во все стороны. Однако не это было страшным. Ужасным сделалось ее лицо — морщины на нем дергались и прыгали, но еще хуже были ее жесткие, свирепые глаза.
— Только посмей опозорить девчонку! — рявкнула она.
Пиннеберг отступил на шаг.
— Я хочу жениться на Эмме, фрау Мёршель! — с тревогой в голосе сказал он.
— Думаешь, я не понимаю, что там у вас с ней, — невозмутимо сказала старуха. — Две недели уж жду. Думала, что сама скажет, думала сама придет. Вот так вот сижу здесь и жду. — Она вздохнула: — Моя Эмма хорошая девочка. Эй, вы, она вам не игрушка какая, слышите? Она порядочная. Никогда не давала повода усомниться в этом — а вы хотите ее довести до стыда!
— Да нет же, нет, — сказал Пиннеберг, тревожась все больше.
— Хотите, хотите! — не унимается фрау Мёршель. — Еще как хотите! Две недели вот жду — когда она принесет стирать свои тряпки. Нет, не несет. Как ты посмел это сделать?
Возразить ему было нечего.
— Мы молодые, — попытался оправдаться он.
— Это ты, ты мою дочку втянул в это, — прорычала она с новой силой. — Все вы, мужики, свиньи, все — свиньи, тьфу!
— Но мы поженимся, как только соберем необходимые бумаги, — пытался объяснить Пиннеберг.
Фрау Мёршель вернулась к плите, на которой уже шипело. Потом спросила:
— Кто вы? И готовы вы к женитьбе?
— Я бухгалтер. В конторе по продаже зерна.
— Стало быть, служащий?
— Да.
— Лучше бы был рабочим. Сколько получаете?
— Сто восемьдесят марок.
— Чистыми?
— Нет, с вычетами.
— Неплохо, хоть и не много, — сказала женщина. — Дочка не пропадет. — И злобно добавила: — Приданого не ждите. Мы простые работяги, негде нам его взять. Разве что застиранное бельишко.
— Да это и не нужно вовсе, — проговорил Пиннеберг. Женщина не сдавалась и опять набросилась на него:
— У самого-то небось ничего нет. Не похож ты на богача. Вон костюм какой помятый, стало быть, ничего не скопил.
Пиннебергу не пришлось признаваться, что она права, так как в кухню вошла Эмма с углем. Настроение у нее было приподнятым.
— С косточками тебя съела, бедолага? — спросила она. — Мама у меня — кипяток. Всем от нее достается.
— Угомонись, дуреха, — вставила мать, — не то схлопочешь! Отправляйтесь в спальню и милуйтесь там на здоровье. А с отцом я сама поговорю.
— Как скажешь, — сказала Барашек. — Кстати, а ты не поинтересовалась у моего жениха, любит ли он картофельные оладьи? Помолвка у нас как-никак.
— Убирайтесь отсюда! Да не вздумайте запирать дверь — сама проверю, и чтоб без глупостей.
Они сидели за маленьким столиком на белых крашеных стульях, друг напротив друга.
— Мать — простая работница, — сказала Барашек, — потому такая грубая, но она без задних мыслей.
— Да все она понимает, — сказал Пиннеберг, ухмыльнувшись. — Она, например, догадалась о том, что мы с тобой сегодня узнали от доктора.
— Разумеется, догадалась. Мать в таких вещах разбирается. И мне кажется, ты ей понравился.
— Но выглядело это совсем не так.
— Мать такая. Она всегда ругается. А я делаю вид, что не слышу.
С минуту они молчали: сидя, как послушные дети, положив руки на стол.
— Кольца надо купить, — задумчиво произнес Пиннеберг.
— Господи, а я и не подумала, — протараторила Барашек. — А тебе какие больше нравятся — блестящие или матовые?
— Матовые! — ответил он.
— И мне, и мне! Как здорово, что у нас вкусы одинаковые. А сколько кольца стоят?
— Даже не знаю. Марок тридцать?
— Ничего себе?
— Если золотые!
— Конечно, золотые. Давай определим размер.
Он придвинулся к ней вплотную. Отмотали от катушки нитку. Снять мерку оказалось делом совсем не простым: то слишком туго нитка ложится на палец, то чересчур свободно.
— Рассматривать руки друг друга — к ссоре, — сказала Барашек.
— Ничего я не рассматриваю, — спохватился он. — Просто целую, я целую твои руки, Барашек.
В дверь громко постучали:
— Выходите! Отец пришел.
— Уже идем, — ответила Барашек и выдернула руку из рук Пиннеберга. — Пошли быстрее, а то отец вечно всем недоволен.
— А какой он, твой отец?
— Господи, сейчас узнаешь. И потом, какая тебе разница? Ты женишься на мне, на мне одной, а не на моих родителях.
— Не на одной тебе. Вместе с малышом.
— И правда, вместе с Малышом. Замечательные ему попались родители — такие беспечные. Четверть часа не могут посидеть спокойно.
За кухонным столом сидел высокий мужчина в серых брюках, в серой жилетке и белой трикотажной рубашке без воротника, в шлепанцах на босу ногу. Желтое, морщинистое лицо; маленькие, колючие глазки выстреливают сквозь пенсне; седые усы, и такая же, почти белая борода. В руках он держал «Глас народа». Когда Пиннеберг и Эмма вошли в кухню, он отложил газету и уставился на молодого человека.
— Значит, ты и есть тот молодец, что собирается жениться на моей дочери? Рад познакомиться. Садись. И подумай хорошенько.
— О чем? — не понял Пиннеберг.
Эмма тоже надела фартук и начала помогать матери. Фрау Мёршель проворчала:
— И где этого мальчишку носит? Дождется, оладьи остынут.
— У него сверхурочная работа, — ответил папаша Мёршель, при этом он подмигнул Пиннебергу. — Вы ведь тоже сверхурочно работаете, а?
— Ну да, — кивнул Пиннеберг. — И даже частенько.
— Оплачивают?
— К сожалению, нет. Хозяин говорит…
Но папаше Мёршель не интересно, что говорит хозяин.
— Теперь понимаете, почему я хочу, чтобы у дочери парень был рабочим? Когда Карл остается на сверхурочную, ему за это платят.
— Господин Клейнгольц говорит… — пытался объяснить Пиннеберг.
— О чем работодатели толкуют, нам, молодой человек, давно известно, — сказал папаша Мёршель. — Это не так интересно. Вопрос в том, что они при этом делают. У вас должно быть коллективное соглашение, ведь так?
— Наверное, — ответил Пиннеберг.
— Вера — дело церковников и к рабочим отношения не имеет. Соглашение должно быть. А по нему за сверхурочные полагается платить. И к чему мне зять, которому сверхурочные не оплачивают?
Пиннеберг пожал плечами.
— Потому что вы, служащие, плохо организованы, — не унимался Мёршель. — Не солидарны друг с другом. Вот почему они делают с вами что захотят.
— Я организован, — грубо отрезал Пиннеберг. — Я состою в профсоюзе.
— Эмма! Мать! Наш молодой человек состоит в профсоюзе! Кто бы мог подумать! Какой герой — в профсоюзе он! — Папаша Мёршель наклонил голову и, прищурившись, стал сверлить будущего зятя своими глазенками. — И как этот профсоюз называется, юноша? Ну?!
— Профсоюз германских служащих! — ответил Пиннеберг, раздражаясь все больше и больше.
Долговязый Мёршель от смеха согнулся пополам.
— Мать, Эмма, держите меня, наш новый сынок — в профсоюзе белых воротничков! Желтый профсоюз! Для тех, кто хочет усидеть между двух стульев. О господи, умора!
— Наш профсоюз отнюдь не желтый, — Пиннеберг не на шутку начал сердиться: — Нас не финансируют работодатели. Мы платим членские взносы.
— Начальников подкармливаете! Желтых бонз! Ну, Эмма, правильного жениха ты себе нашла! Пэгээсовец! Белый воротничок!
Пиннеберг умоляюще уставился на Барашка, но она даже не повернулась в его сторону. Может, она к такому и привыкла, но он нет.
— Итак, вы из служащих, продолжал Мёршель. — А они считают, что лучше нас, рабочих.
— Ничего я так не считаю.
— Считаете-считаете. А почему, я спрашиваю? Потому что вы не требуете, чтобы вам платили каждую неделю, а готовы ждать. Не настаиваете на оплате сверхурочных, получаете по заниженным ставкам, не бастуете. Потому что вы всем известные штрейкбрехеры…
— Дело не только в деньгах, — сказал Пиннеберг. — У нас другие представления, не такие, как у рабочих. У нас свои потребности…
— Думайте иначе, — проговорил Мёршель. — Так же, как рабочие.
— Я не согласен, — ответил Пиннеберг. — Я, например…
— Что вы? — усмехнулся Мёршель. — Вы, например, взяли аванс?
— Что еще за аванс?
— Самый настоящий. — Мёршель осклабился: — У Эммы. Не очень-то это красиво. Типичная пролетарская привычка.
— Я… — Лицо Пиннеберга обдало жаром, и ему захотелось хлопнуть дверью и прогреметь на прощанье: «Да чтоб вас всех!..»
Но фрау Мёршель решила утихомирить мужа:
— Успокойся, отец, хватит зубоскалить! Дело сделано. Тебя оно уже не касается.
— Карл вернулся! — выкрикнула Барашек при звуке хлопнувшей входной двери.
— Зови к столу, женщина, — сказал Мёршель. — А я прав, зятек, хочешь, спроси у своего пастора.
В кухню вошел молодой человек, однако «молодым» назвать его было трудно, скорее уж пожилым. Он выглядел каким-то дряблым и даже более злобным, чем его отец. Его «добрый вечер» было похоже на звериный рык. Он, не обращая на гостя внимания, снял пиджак, жилет, а за ними и рубашку. Пиннеберг с нарастающим удивлением наблюдал за ним.
— Сверхурочная работа? — спросил Карла отец. Тот прорычал что-то нечленораздельное.
— Умоешься после, Карл, — сказала фрау Ступке. — Иди есть.
Но было слышно, как побежала в раковине вода; Карл уже усердно отмывался. При виде его оголенного торса Пиннеберг смутился, главным образом из-за Барашка. Но она, судя по всему, не придавала этому значения и отнеслась к этому как к само собой разумеющемуся. А Пиннеберга, наоборот, задевало почти все: и убогие тарелки в темных пятнах, и пропахшие луком картофельные оладьи, скисшие огурцы, теплое бутылочное пиво, которое предложили только мужчинам; вся эта унылая кухня и моющийся Карл…
Карл сел за стол.
— Ха-а, пиво! — грубо бросил он.
— Это жених Эммы, — пустилась в объяснения фрау Мёршель. — Они хотят пожениться.
— Оторвала себе жениха, — продолжал Карл. — Еще и буржуя. Пролетарий для нее недостаточно хорош.
— Вот-вот, — довольно кивнул отец.
— Ты деньги в дом сначала принеси, а уж потом выступай, — огрызнулась мать.
— Что значит твое «вот-вот»? — с издевкой спросил Карл отца. — Что до меня, так настоящий буржуй лучше, чем ваши социал-фашисты.
— Социал-фашисты? — с гневом воскликнул отец. — Кто тут из нас фанатик, так это ты, советский прихвостень.
— Ну понятно: вы у нас непрошибаемы…
Пиннеберг слушал не без удовольствия — Карл вернул его, Пиннеберга, должок отцу.
Только картофельные оладьи не выиграли от этого. Обед получился пренеприятным — иначе видел Пиннеберг свою помолвку.
НОЧНАЯ БЕСЕДА. ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
Пиннеберг опоздал на поезд и решил уехать утром, четырехчасовым. На работу он в любом случае успеет.
Они с Эммой сидели в кухне, в кромешной темноте. В одной из комнат спал отец, в другой фрау Мёршель. Карл отправился на сходку КПГ.
Они поставили рядом две табуретки и примостились спиной к остывшей уже плите. Через приоткрытую дверь балкона задувал ветерок, отчего шаль, завешивающая проем, слегка колыхалась. А за окном на темном ночном небе мерцали отдаленным светом звезды — а под ними, внизу, разрезали ночную тишину двора неразборчивые звуки, доносившиеся из многочисленных радиоприемников.
— Как бы мне хотелось, чтобы у нас был уютный дом, — прошептал Пиннеберг и сжал руку Барашка. — Знаешь, — объяснил он, — чтобы светлые комнаты и белые занавески, и обязательно чтобы было чисто.
— Ну да, — сказала Барашек. — Здесь тебе и правда плохо, ты к такому не привык.
— Нет, я совсем не это имел в виду, мой милый Барашек.
— Это, это. Почему ты не хочешь признаться? А у нас на самом деле плохо. Карл с отцом все время ссорятся — плохо. Отец с матерью спорят — тоже плохо. А еще они обманывают мать, чтобы дать ей денег на хозяйство поменьше, а она норовит вытянуть из них побольше… все это плохо.
— Почему так происходит? Вы трое зарабатываете, вам вроде должно хватать.
Барашек на это ничего не сказала.
— Знаешь, мне здесь не место, — заговорила она после небольшой паузы. — Я для них что-то вроде Золушки. Когда отец и Карл приходят домой, они отдыхают. А я стираю, глажу, шью, чиню чулки. Да и не это важно, — в сердцах выпалила она. — Я не жалуюсь, делаю все это как само собой разумеющееся. Но при этом они все время чем-то недовольны, никогда от них слова доброго не услышишь. Карл упрекает в том, что меня содержит, потому что больше вносит в хозяйство… Я ведь немного зарабатываю — чего сегодня стоит простая продавщица?
— Скоро этому придет конец, — пытался успокоить ее Пиннеберг. — Теперь уже точно скоро.
— Эх, совсем не в этом дело, я говорю о другом, — отчаянно воскликнула она. — Понимаешь, дорогой, они презирают меня, все дурой считают. Я и правда не такая умная и многого не понимаю. И потом я некрасивая…
— Да ты красавица!
— Ты первый, кто мне это говорит. Всякий раз, что мы ходили на танцы, я сидела в сторонке. Когда мать отправляла Карла, чтоб он привел своих дружков, тот говорил: «Кто станет танцевать с этой коровой?» Так что ты и вправду первый…
У Пиннеберга возникло неприятное чувство. «Не стоило ей этого говорить, — подумал он. — Я всегда считал ее красивой. Может, я ошибался…»
Барашек тем временем продолжала:
— Понимаешь, милый, я не то чтобы жалуюсь. Говорю только, чтобы ты знал. Они мне совсем чужие, и только ты не чужой. Ты один. И что я благодарна тебе — и не только за малыша, но и за то, что берешь за себя Золушку.
— Ты… Да ты… — Только и мог вымолвить он.
— Постой, не сейчас. Ты говоришь, что хорошо бы у нас все было светлым и чистым, но для этого тебе придется набраться терпения, а я и готовить-то толком не умею. Если я что-то буду делать не так, ты мне обязательно говори, и я тоже не хочу ничего от тебя скрывать.
— Ну конечно, Барашек, так и будет.
— И мы никогда не будем ссориться. Господи, милый мой, мы непременно будем счастливы с тобой. И с малышом.
— А вдруг это будет девочка?
— Что ты! Это будет мальчик — маленький, хорошенький мальчик.
Посидев еще немного, они поднялись и вышли на балкон.
Над крышами нависало звездное небо. Они стояли молча, положив руки на плечи друг друга.
И все же пришлось возвращаться в свой привычный мир — в тесный двор с яркими квадратами окон, по которому разносились квакающие звуки джаза.
— Мы же купим радио? — внезапно спросил он.
— Ну разумеется. Мне будет не так одиноко, пока ты на работе. Но позже, у нас сейчас другие заботы.
— Конечно, — согласился он.
Повисло молчание…
— Милый, — робко подала она голос. — Мне надо кое о чем тебя спросить.
— Давай, — неуверенно откликнулся он.
— Не будешь сердиться?
— Конечно нет.
— У тебя есть какие-нибудь сбережения?
Молчание…
— Совсем немного, — нерешительно ответил он. — А у тебя?
— Тоже немного. — И тут же добавила: — Совсем чуть-чуть.
— И сколько это чуть-чуть?
— Сначала ты ответь, — не сдавалась она.
— У меня… — начал было он.
— Ну, говори.
— На самом деле совсем мало, может, даже меньше, чем у тебя.
— Да не может быть.
И вновь молчание.… Длительное молчание.
— А сама ты как думаешь? — спросил он.
— Ну, — глубоко вздохнула она. — Наверное, больше, чем… — И задумалась.
— Чем сколько? — допытывался он.
— Да чего там. — И она расхохоталась: — Стеснительные какие. У меня, например, на счете сто тридцать марок.
На что он важно, с расстановкой произнес:
— Четыреста семьдесят.
— Как здорово! — обрадовалась Барашек. — Это ровно шестьсот марок. Милый, это целое богатство!
— Ну, я так не думаю. Холостяцкая жизнь обходится дорого.
— А я трачу семьдесят на еду и жилье при зарплате в сто двадцать марок.
— Долго же тебе пришлось копить, — сказал он.
— Правда долго, — согласилась она. — А больше откладывать не получается.
Молчание…
— Боюсь, мы не найдем квартиру в Духерове, — сказал он.
— Может, снять меблированную комнату?
— Ну да, сэкономим хоть на мебели.
— Да, мебель сейчас очень дорогая.
— А давай прикинем, — предложил он.
— Давай. Посмотрим, во что это выльется. Только давай считать так, будто у нас нет ни гроша.
— Да, те деньги, что у нас есть, мы трогать не будем, пусть копятся. Итак, сто восемьдесят марок жалованья…
— Женатому должны платить больше.
— Да, но понимаешь… — Он смутился: — По соглашению вроде бы должны, но мой босс такой хитрый…
— Да не все ли равно, хитрый он или нет.
— Барашек, давай все-таки считать, исходя из ста восьмидесяти. Будет больше — тем лучше, но про сто восемьдесят мы знаем наверняка.
— Ну хорошо, — согласилась она. — А сколько вычитают?
— Да, — сказал он, — тут уж мы изменить ничего не можем. Шесть марок — налог и две семьдесят — страховка по безработице. Касса взаимопомощи — четыре марки. Больничная касса — пять сорок. Профсоюз — четыре пятьдесят…
— Ничего себе, в профсоюз сколько.
— Не начинай. С меня и твоего отца хватит. — Он начал раздражаться.
— Хорошо-хорошо, — успокоила его Барашек. — Получается двадцать две марки шестьдесят. А на проезд тебе деньги нужны?
— Слава богу, нет.
— Остается сто пятьдесят семь марок. Сколько может стоить жилье?
— Даже не представляю. Комната с мебелью и кухня. Не меньше сорока марок.
— Допустим, сорок пять, — прикинула Барашек. — Остается сто двенадцать марок. А на еду сколько нам понадобится?
— Тебе лучше знать.
— Мать все время повторяет, что у нее уходит по полторы марки в день на человека.
— Значит, девяносто марок в месяц, — подытожил он.
— В результате останется двадцать две марки сорок пфеннигов, — сказала она.
Они посмотрели друг на друга. Из оцепенения первой вышла Барашек:
— И у нас практически ничего не остается на отопление, газ, свет. А почтовые расходы? А одежда? Белье? Обувь? А посуда?
— В кино тоже иногда сходить хочется. А в выходные за город съездить. И покурить.
— А еще хотели что-нибудь скопить.
— Марок двадцать в месяц.
— Нет, тридцать.
— Нужно пересчитать.
— Вычеты те же.
— Комнату с кухней дешевле не найдем.
— Ну марок на пять хотя бы.
— Посмотрим. Да и газеты нужны.
— Ну да. Выходит, что только на еде и можно сэкономить. Марок десять.
И опять они посмотрели друг на друга.
— Как ни крути, доход у нас слишком маленький. О том, чтобы что-то отложить, не может быть и речи.
— Скажи, а тебе обязательно крахмалить сорочки? — спросила она его с печалью в голосе. — Сама я их выгладить не смогу.
— Да. Босс требует. Отдать сорочку в глажку стоит шестьдесят пфеннигов, еще десять пфеннигов — сам воротничок.
— В месяц это пять марок, — подсчитала она.
— И еще обувь содержать.
— Да. Это тоже выльется в приличную сумму.
Молчание…
— Ну, давай подсчитаем еще разок. — Он задумался: — Ну, сбросим с еды еще десятку. Меньше, чем на семьдесят, не получится.
— У других-то получается?
— Не представляю как. Многие ведь зарабатывают еще меньше.
— И я не представляю.
— И все-таки мне кажется, мы где-то просчитались. Давай-ка еще раз.
Но как они ни пересчитывали, результат выходил тем же.
Они посмотрели друг на друга.
— А между прочим, я смогу потребовать вернуть мне взносы в кассу взаимопомощи, когда выйду замуж, — внезапно вспомнила Барашек.
— Точно! — обрадовался он. — А это целых сто двадцать марок.
— А что твоя мама? — вдруг спросила она. — Ты никогда мне о ней не рассказывал.
— А что тут рассказывать, — отрезал он. — Мы с ней даже не переписываемся.
— А-а. Бывает.
Опять наступило молчание.
Они поднялись. Так ничего и не решив, они опять пошли на балкон. Двор уже погрузился в темноту. Город затих, лишь изредка до них доносились гудки автомобилей.
Он задумчиво произнес:
— А стрижка стоит восемьдесят пфеннигов.
— Все, хватит об этом, — сказала она. — Другие как-то выкручиваются, выкрутимся и мы. Все наладится.
— И вот что, Барашек, — сказал он. — Я не стану выдавать тебе деньги на хозяйство. В начале месяца мы все деньги положим в чашку, и каждый будет брать столько, сколько ему нужно.
— Отлично, — согласилась она. — У меня как раз есть подходящая для этого красивая голубая ваза. Позже я тебе ее покажу. Но мы будем жить совсем скромно. А там, глядишь, и я научусь гладить рубашки.
— Сигареты по пять пфеннигов — это роскошь, — сказал он. — Есть за три, и вполне приличные.
Но тут Барашек подскочила как ошпаренная:
— Господи, милый, про ребенка мы с тобой совсем забыли! Ведь это тоже расходы!
Пиннеберг подумал немного, затем произнес:
— Сколько же может понадобиться на маленького ребенка? Кстати, ведь выплатят же тебе пособие по родам, и пособие кормящей матери, и налоги сократятся. Думаю, что первое время он не принесет лишних трат.
— Даже и не знаю… — засомневалась она.
Пока они разговаривали, на пороге возникла фигура в белом одеянии.
— Спать вы собираетесь? — спросила фрау Мёршель. — Часа три у вас еще есть.
— Да, мама, — ответила Барашек.
— Раз уж так, сегодня с отцом посплю. И Карл ночевать не придет. Так что забирай его с собой, твоего…
Дверь за ней захлопнулась. Кого «твоего», так и осталось недосказанным.
— Мне не очень хочется здесь… — виновато проговорил Пиннеберг. — Здесь, у твоих родителей, не очень-то прилично…
— Боже мой, милый, — засмеялась она: — Я и сама начинаю думать, что Карл был прав. Ты самый настоящий буржуй.
— Вовсе нет, — попытался возразить он. — Если твои родители и правда не против… — Он все еще сомневался: — Если доктор Сезам ошибся… У меня при себе ничего нет…
— Тогда так и будем сидеть в кухне, — согласилась она, — хоть у меня уже все тело затекло.
— Ладно уж, пойдем, — сказал он с чувством полного раскаяния.
— Ну как же, тебе ведь не хочется?..
— Это я баран, Барашек! Настоящий баран!
— Выходит, мы два сапога пара.
— Скоро мы это узнаем, — подытожил он.
Часть первая Провинциальный городок
ВСЕ КАК ПОЛАГАЕТСЯ: СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО СВАДЕБНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ. ОСТАЕТСЯ ОДИН ВОПРОС: ЗАЧЕМ НУЖНА ГУСЯТНИЦА?
Субботний поезд, который отправлялся с вокзала Плаца в 14:10, уносил с собой в Духеров, в купе для некурящих вагона третьего класса, супружескую чету Пиннебергов, а в багажном отделении «громадную» дорожную корзину с Эмминым добром, ее постельными принадлежностями, — именно с ее подушками и одеялами («О своих пусть сам позаботится, нам это не по карману…») — и коробкой из-под яиц с Эмминой посудой.
Вот уже вокзальная площадь Плаца, и сам обезлюдевший вокзал, остались позади, пригородные дома исчезли из вида и начались нескончаемые поля. Поезд мчался вдоль сверкающей на солнце Штрелы, а затем пошли леса, в окнах мелькали березы, выстроившиеся вдоль железнодорожного полотна.
Вместе с ними в купе ехал какой-то неугомонный мужчина, который всю дорогу суетился: то газету полистает, то повосхищается видами из окна, а то примется разглядывать молодоженов; своим мельтешением он постоянно заставал молодых людей врасплох — в тот самый момент, когда они были поглощены только собою.
Пиннеберг положил правую руку на колено, да так, чтобы продемонстрировать обручальное кольцо и чтобы этот чудак увидел, что они законные супруги. Но именно в тот момент чудак уже пялился в окно.
— Красивое кольцо, — шепчет Пиннеберг Барашку. — Совсем не заметно, что оно всего лишь позолоченное.
— Знаешь, у меня какое-то странное ощущение с этим кольцом. Знаю, что оно на пальце, и тем не менее все время посматриваю на него.
— Это ты еще не привыкла. Супруги со стажем колец даже не замечают. Если потеряют — и то не заметят.
— Со мной такого не случится, — яростно отреагировала Барашек. — Я всегда буду его чувствовать, всегда. Всегда.
— И я тоже, — сказал Пиннеберг. — Потому что оно напоминает о тебе.
— А мне — о тебе.
И они придвинулись друг к другу еще ближе. Но тут же отодвинулись: угрюмый тип опять уставился на них, вообще не стесняясь.
— Этот не из Духерова, а то бы я его знал, — прошептал Пиннеберг.
— Ты, что ли, всех в своем Духерове знаешь?
— Ну разумеется. Я ведь работал в магазине мужской и женской одежды Бергмана. Как тут всех не знать.
— И почему ты ушел оттуда? Это же твоя специальность.
— Не сошлись характерами с владельцем, — протараторил скороговоркой Пиннеберг.
Барашку хотелось узнать подробности, но, чтобы не смущать его, она решила этого не делать. У нее еще будет время — теперь, когда они поженились, с этим можно не спешить.
Он тоже подумал об этом.
— Думаю, твоя уже вернулась домой, — сказал он.
— Да, — ответила она. — Она рассердилась, потому и провожать нас не пришла. Когда мы вышли из зала регистрации, сказала, что это не свадьба, а не пойми что.
— Мы же ей только деньги сэкономили. Вся эта обжираловка и пошлые шуточки не для меня.
— Ну да, — согласилась с ним Барашек. — Но она хотела порадоваться.
— Женятся не для того, чтобы повеселить мать, — отрезал он.
Молчание…
— И все-таки, — начала Барашек. — Расскажи, какая у нас квартира.
— Думаю, тебе понравится. В Духерове выбор очень скромный.
— Ну Ханнес, расскажи мне о ней еще раз.
— Ладно уж. — И он снова, в который раз, описал ей их новое жилище: — Она за городом — это ты уже знаешь. И вокруг полно зелени.
— Как здорово.
— Это обычная меблирашка. Каменщик Мотес задумал построить за городом дом; рассчитывал, что к нему присоединятся другие строители. Но никто не откликнулся, вот дом и не достроили.
— Почему это другие отказались?
— Не знаю. Видимо, посчитали, что в этой глухомани не выгодно. До города двадцать минут и дорога немощеная.
— Ну хорошо, а что квартира? — напомнила она ему.
— Она на самом верху, у вдовы Шаренхефер.
— А кто она такая?
— Да господи, почем мне знать. Выглядела настоящей госпожой, все говорила, что видала лучшие дни, а сейчас инфляция и все такое. Разнылась, короче говоря.
— Боже сохрани!
— Успокойся, не будет же она ныть вечно. Лучше вообще не общаться с чужими. Нам достаточно общения друг с другом.
— Да-да, конечно. А что, если она станет навязываться?
— Не думаю. Это уже пожилая женщина, седая. Правда, она чересчур трясется над своей мебелью: мебель у меня вся в хорошем состоянии, от покойной матери осталась, на диван садитесь аккуратно, в нем пружины хоть и прочные, но уже старые, от лишней нагрузки могут сломаться.
— Невозможно же постоянно об этом помнить, — сказала Барашек и задумалась. — Представь, от радости или от тоски я, погруженная в свои мысли, вдруг с ходу сяду на этот диван, разве будешь в такую секунду помнить о старых, хоть и прочных пружинах.
— Придется думать, — очень строго сказал Пиннеберг. — Придется. Кстати, часы под стеклом, что стоят на комоде, нам заводить нельзя, потому что только она умеет это делать.
— Вот пусть и забирает свои мерзкие часы. Мне не нужны часы, которые нельзя заводить.
— Разберемся. В крайнем случае, скажем, что они слишком громко тикают.
— Вот сегодня вечером и скажем! Ну да, вдруг эти драгоценнейшие часы заводить надо только ночью. Ладно, расскажи же, наконец, про саму квартиру. Вот мы поднялись по лестнице, открыли дверь и…
— И входим в переднюю. Она общая. Налево дверь — там наша кухня. Вообще-то, я бы не назвал ее настоящей кухней. Это же чердак с косой крышей, но там есть газовая плитка…
— С двумя конфорками, — загрустила Барашек. — Даже не знаю, как я с этим справлюсь. Всего на двух конфорках приготовить обед кто сможет? У матери вон их целых четыре.
— Не сомневаюсь, что и двух вполне достаточно.
— Послушай, дорогой…
— Мы же не станем шиковать, тогда нам и двух хватит.
— Конечно, не станем. Но смотри: одна конфорка для супа, вторая для мяса, третья для овощей. И картофель, это уже четвертая. Если я поставлю на две конфорки две кастрюли, две другие в это время остынут. Но ведь так!
— Ты права… — задумчиво произнес он. И внезапно в полном исступлении заключил: — Выходит, тебе нужны четыре кастрюли!
— Конечно, четыре, — гордо заявила она. — Да и этого мало. Мне нужна гусятница.
— Боже, ведь я купил только одну кастрюлю.
Барашек была неумолима:
— В таком случае нам придется докупить еще четыре.
— На нашу зарплату не сможем, придется залезть в сбережения.
— С этим ничего не поделать, родной. Надо быть реалистами. Без кастрюль не обойтись.
— Я думал, что все сложится как-то иначе, — в его глазах читалась грусть. — Думал, сможем что-то откладывать, а сами начинаем транжирить.
— Но это вещи первой необходимости!
— Гусятница это не первая необходимость, — он разволновался еще больше. — Я не ем рагу. Никогда! А чтобы приготовить всего лишь кусочек мяса, нет смысла покупать целую гусятницу! Ни за что!
— А как же рулет? — не унималась Барашек. — А жаркое?
— У нас и воды в кухне нет, — сказал он и сам смутился. — За водой тебе придется бегать на кухню к фрау Шаренхефер.
— Вот еще не слава богу! — снова вздохнула она.
Со стороны может показаться, что в браке нет ничего сложного: два человека поженились, воспитывают детей. И все делают вместе, любят друг друга, стараются устроить свою жизнь лучше. Дружба, любовь, забота; поесть-попить, поспать, сходить на работу, похлопотать по хозяйству, в воскресенье выбраться за город, а вечером иногда в кино! Вот и весь рецепт.
На самом же деле брак растворяется в тысяче самых разных проблем. Брак как таковой удаляется на задний план, становится необходимым условием существования, как, например, в истории с гусятницей. Или с часами, забрать которые он, Пиннеберг, должен попросить сегодня вечером фрау Шаренхефер. То-то и оно.
У обоих на душе кошки скребли. Хорошо хоть, что решать все эти проблемы не надо сию же минуту. Здесь, в этом купе они могли больше не думать о них. Их угрюмый спутник сошел на какой-то станции, а они даже не заметили этого. Гусятница и часы отодвинулись на задний план; Пиннеберг и Барашек, под мерное погромыхивание поезда, крепко обнялись. Время от времени они дают себе возможность отдышаться и вновь возвращаются к своим поцелуям, пока наконец поезд не замедляет ход. Духеров.
— Господи, приехали! — воскликнули они одновременно.
ПИННЕБЕРГ НАПУСКАЕТ ТУМАНУ И ЗАГАДЫВАЕТ БАРАШКУ ЗАГАДКИ
— Я заказал машину, — быстро проговорил Пиннеберг, — пешком ты точно не дойдешь.
— Но зачем? Мы же планировали экономить! Помнишь, как в прошлое воскресенье мы два часа пробегали по Плацу.
— Но у тебя же вещи…
— Можно позвать носильщика. Или даже кого-то из твоей конторы. Ваших рабочих.
— Нет, только не с моей работы, это бы выглядело…
— Ну, хорошо, как знаешь, — согласилась с ним Барашек.
— Да, чуть не забыл, — торопливо сказал он, потому что поезд уже начал тормозить. — Давай не будем подавать виду, что мы супружеская пара. Прикинемся, будто мы немного знакомы.
— С чего это вдруг? — удивилась Барашек. — Мы ведь в законном браке.
— Понимаешь, это из-за людей, — он смутился. — Мы ведь никому не послали приглашений на свадьбу, и люди могут обидеться.
— Ничего не понимаю, — удивилась Барашек. — Объясни. Почему наша женитьба может кого-то обидеть?
— Я тебе потом все объясню. Позже. А сейчас нам надо… Бери чемодан. И, ради бога, сделай вид, мы едва знакомы.
Барашек замолчала и только украдкой поглядывала на своего мужа. Он же проявил необыкновенную учтивость, помогая ей выйти из вагона. И даже смущенно улыбнулся:
— Это главный духеровский вокзал. А есть еще узкоколейка на Максфельде. Сюда, пожалуйста.
Он шел на три шага впереди — слишком быстро для заботливого супруга, настоявшего на том, чтобы заказать машину для жены, которую могла утомить дорога. Спустившись по лестнице, он вышел через боковую дверь, где их уже ждал крытый автомобиль — их такси.
Шофер поздоровался:
— Здравствуйте, господин Пиннеберг. Здравствуйте, фройляйн.
Пиннеберг торопливо пробормотал:
— Одну минуту! Садитесь, а я схожу за багажом.
И он исчез.
Барашек стояла возле машины и смотрела на вокзальную площадь с двухэтажными зданиями. Напротив она увидела вокзальную гостиницу.
— Контора Клейнгольца находится здесь? — спросила она у шофера.
— Это где господин Пиннеберг работает? Нет, фройляйн, мы как раз ее будем проезжать. Она на площади, рядом с ратушей.
— Скажите, а нельзя ли открыть верх? Сегодня такой чудесный день, — сказала Барашек.
— Прошу прощения, фройляйн, но господин Пиннеберг распорядился закрыть верх. Обычно в такую погоду я езжу в открытой.
— Ну раз господин Пиннеберг так распорядился… — сказала Барашек и села на сиденье.
Она увидела, как возвращается Пиннеберг — вслед за носильщиком, который катил на тележке корзину, портплед и коробку. За последние пять минут она смотрела на своего мужа совершенно другими глазами, и от ее глаз не ускользнуло, что правую руку он держит в кармане брюк, чего раньше она за ним не замечала. И правда, такой привычки он не имел. Однако ж сейчас его правая рука покоилась в кармане!
Они поехали.
— Вот ты и увидишь Духеров. Весь Духеров, правда длиной в одну улицу, — сказал он и усмехнулся.
— Итак, ты хотел мне объяснить, что могло обидеть этих людей, — начала она.
— Еще не время, — ответил он. — Тут разговор не получится — видишь, какая у нас ужасная мостовая.
— Что ж, потом так потом, — сказала она. После продолжительного молчания она опять заметила нечто необычное в его поведении. Он забился в самый угол, и если кто-нибудь ненароком бросит взгляд в окно их машины, Пиннеберга точно не разглядит.
— Твоя контора, — указала ему она. — «Эмиль Клейнгольц. Зерно, корма, удобрения. Картофель оптом и в розницу». Я точно буду покупать картошку у тебя.
— Нет-нет, — попытался он возразить. — Это совсем старая вывеска. Картофель в розницу мы уже не продаем.
— Жаль, — сказала она. — Вот было бы здорово: прихожу я к тебе на работу и покупаю десять фунтов картошки. Как тебе идея? И никому бы не сказала, что я твоя жена.
— Да, жалко, — согласился он. — И правда здорово.
Она явно нервничала и непрестанно постукивала ногой по дну машины. Чуть погодя, задумавшись, она спросила:
— А вода здесь есть?
— Какая вода? — переспросил он.
— Ну какая? Чтобы искупаться! — почти огрызнулась Барашек.
— Да, купаться здесь есть где, — ответил он.
Они продолжали ехать. Главную улицу, скорее всего, уже проехали. Увидев табличку, Барашек прочитала: «Полевая улица». Здесь стояли маленькие домики, каждый окруженный садом.
— А здесь на самом деле очень красиво, — порадовалась она. — И столько цветов!
Машину без конца подбрасывало на ухабах.
— А это называется Зеленым Концом, — сказал он.
— Как это Зеленым Концом?
— Да наша улица так называется — Зеленый Конец.
— Это наша улица?! А то я подумала, мы не туда заехали.
Слева они увидели огороженный проволокой выгон для скота, — там паслись несколько коров и лошадь. Справа раскинулось поле цветущего клевера.
— Открой окно, — попросила она.
— Да мы уже приехали.
Когда выгон остался позади, они остановились. Это было место, где город воздвиг свой последний оплот. Монумент! В открытом поле стоял одновременно узкий и высокий доходный дом каменщика Мотеса, фасад которого был выкрашен в коричневый и желтый цвета, торцы же так и стояли облезлыми, видимо, в ожидании, что к ним пристроят другие дома.
— Красотой тут и не пахнет, — сказала Барашек, оглядывая дом сверху донизу.
— Ты еще не видела квартиру, а она очень даже ничего, — поспешил утешить ее Пиннеберг.
— Тогда пошли, — скомандовала она. — Надеюсь, малышу здесь понравится.
Пиннеберг и шофер понесли корзину, Барашек — коробку из-под яиц.
— Портплед я принесу в следующую ходку, — сказал шофер.
На первом этаже располагалась лавка, понятно, почему здесь пахло сыром и картофелем. На втором этаже висели головки сыра, потому сырный запах царил безраздельно. А вот совсем наверху, под крышей, стоял запах сырости — здесь хранили картофель.
— Объясни мне, пожалуйста, куда делся запах сыра?
Но Пиннеберг уже открывал дверь.
— Не хочешь заглянуть в нашу комнату, а?
Они заходят в маленькую переднюю — еще меньше ее делают стоящие по обе стороны шкаф и сундук. Мужчины с трудом протискиваются между ними с корзиной.
— Сюда! — позвал ее Пиннеберг, открывая дверь. Барашек переступила порог.
— Боже мой! — вырвалось у нее. — Что здесь творится?
В тут секунду все, что было у нее в руках, включая коробку из-под яиц, полетело на старый плюшевый диван — в ответ завопили все его пружины. Барашек пересекла узкую длинную комнату и подлетела к одному из четырех больших окон, распахнула его и выглянула наружу.
Внизу находилась размытая грунтовая дорога с рытвинами и травой, лебедой и чертополохом по обочинам — она и была «улицей». А за дорогой она увидела клевер; она вдыхала его запах и не могла надышаться. Нет ничего лучше божественного аромата цветущего клевера, нагретого за день солнцем.
За клеверным полем раскинулись желтые и зеленые поля. Там, где росла рожь, щетиной топорщилось жнивье. А еще дальше — зеленая полоса — это луга, где в зарослях ив, ольхи и тополей петляла Штрела, совсем узенькая, прямо ручеек.
«Отсюда она направляется в Плац, в мой родной город, где я росла и страдала, где коротала одиночество в комнатке с окнами во двор, где вокруг были только стены и камни… А здесь — простор».
Она даже не заметила, как к окну подошел Пиннеберг, он простился с шофером, который принес наконец ее постельные принадлежности; в этот момент его глаза лучились счастьем и покоем.
— Нет, ты только посмотри! Вот это жизнь!.. — вырвалось у нее.
Она протянула ему правую руку, он ей левую.
— Лето! — воскликнула она и свободной рукой описала в воздухе полукруг.
— Видишь вон там поезд? Это дорога на Максфельде, — сказал он.
Внизу они увидели шофера, который, судя по всему, заглянул в лавку, — он поприветствовал их бутылкой пива. Он вытер ладонью горлышко бутылки, запрокинул голову и с возгласом: «Ваше здоровье!» — стал пить.
— И ваше! — крикнул ему в ответ Пиннеберг, выпуская из своей руки руку жены.
— Ну что ж, пора нам посмотреть нашу комнату ужасов, — сказала Барашек.
Это похоже на наваждение: необъятный простор полей по контрасту с каморкой, где… Нет, Барашка избалованной не назовешь. Она пару раз видела в Плаце в витрине на Майнцерштрассе простую, дешевую мебель, но эта…
— Миленький, бога ради, держи меня за руку, — взмолилась она. — А то, боюсь, чего опрокину или где-нибудь сама застряну, тогда уж ни туда ни сюда.
— Ну, не так уж тут все и ужасно, — обиженно произнес он. — По-моему, здесь есть очень милые уголки.
— Да уж, эти уголки, — заметила она. — Но скажи, ради бога, что это? Нет, лучше вообще ничего не говори. Идем туда, лучше вблизи посмотрим.
Они отправляются «в поход». Идти приходится гуськом, Барашек при этом не отпускает руку Ханнеса.
Комната точно ущелье — не такое узкое, но бесконечно длинное, как манеж. Три четверти этой бездонной бочки были заставлены мягкой мебелью, столиками орехового дерева, шкафчиками, подзеркальниками, подставками для цветов, этажерками. Среди этого мебельного изобилия нашлась даже огромная клетка для попугая (никакого попугая, в ней, к счастью, не было). В свободной от этого хлама четверти стояли две кровати и умывальник. Барашка заинтересовала конструкция, которая служила перегородкой между столовой и спальней, — но это не было похоже ни на стену, ни на занавеску или ширму. Шпалера, сколоченная из деревянных реек, какие обычно устраивают для винограда, но от пола до потолка и с аркой посредине, предназначенной для прохода. И это не были простые некрашеные деревяшки; это были изящные коричневатые планки орехового дерева, и на каждой по пять симметричных углублений. А чтобы она не выглядела просто решеткой, в нее вплели цветы, из бумаги и ткани, — розы, нарциссы, фиалки. И все это украшено длинными гирляндами из зеленой бумаги, какими украшают пивные фестивали.
— Господи! — воскликнула Барашек и присела там, где и стояла. Упасть на пол ей не грозило — куда ни ткни, что-нибудь да стояло. Она «приземлилась» на вращающийся табурет из черного дерева с плетеным сиденьем, стоящий там без своего фортепиано.
Пиннеберг стоял молча, будто потерял дар речи. Подыскивая квартирный вариант, он нашел эту решетку довольно забавной вещицей.
Внезапно Барашек, сверкнув глазами, будто у нее открылось второе дыхание, вскочила на ноги и стала продираться к шпалере. Она осторожно провела пальцем по планке, украшенной, как уже было замечено, бороздками, завитушками, и посмотрела на свой палец.
— Вот! — торжественно заявила она и протянула палец Ханнесу. Палец был серого цвета.
— Ну немного пыли, — пробормотал он.
— Немного! — Барашек посмотрела на него, что огнем обдала. — Я тебе вроде жена, а? А здесь нужна прислуга — и не меньше чем на пять часов, и каждый день.
— Но зачем? Почему?
— А кто будет поддерживать в этом доме чистоту, по-твоему? Не меньше сотни предметов мебели со всевозможными набалдашниками, выступами, углублениями — это еще куда ни шло, и я бы с этим справилась, хоть и глупо тратить на это время. Но шпалера — я одна не в состоянии драить ее по три часа в день. А эти бумажные цветы…
Она щелкнула пальцем по розе, и та упала на пол — и в потоке солнечного света затанцевали миллионы серых пылинок.
— Так будет у меня помощница по хозяйству? — спросила Барашек, но отнюдь не ягненок.
— Ну ты же сможешь пробежаться здесь с тряпкой всего раз в неделю?
— Не говори ерунды! Здесь будет жить наш малыш и обо все эти выступы и загогулины набьет себе не одну шишку!
— Возможно, к тому времени у нас будет квартира.
— К тому времени! А как зимой здесь печку топить? Под крышей! Наружные стены! Четыре окна! На день уйдет полцентнера брикетов, а потом зубами стучать прикажешь!
— Согласись, — задетый ее тоном проговорил он, — меблированная комната тем и отличается от собственной квартиры.
— Можешь мне это не объяснять. Но самому-то тебе здесь как? Неужели нравится? Смог бы ты тут жить? Подумай, как ты приходишь домой и плутаешь по этому лабиринту со всем этим барахлом. Ага… так и думала, что они еще и булавками приколоты.
— Но другого варианта сейчас все равно нет.
— Ну так я его найду, и получше этого. Не сомневайся. Когда мы должны заявить об отказе?
— Первого сентября, но…
— А съехать?
— Тридцатого сентября, но…
— Так что у нас полтора месяца, — вздохнула она. — Ладно, потерплю. Малыша только бедненького жалко, должен волноваться вместе со мной. Я представляла себе, как мы замечательно с ним здесь погуляем. Не судьба, значит. Вместо этого мне придется целыми днями грязь возить.
— Послушай, мы же не можем вот просто так взять и отказаться!
— Почему же? Мы сделаем это немедленно, и сегодня же, да прямо сейчас! — сказала она с гордо поднятой головой. Вид у нее был решительный, она раскраснелась, а глаза блестели от возбуждения.
— Знаешь, Барашек, — не спеша проговорил Пиннеберг, — я и не подозревал, что ты такая. Ей-богу.
Она засмеялась, протянула руку и взъерошила ему волосы.
— Ну да, я оказалась не сахар. А какой я должна была быть, по-твоему? С тех пор как кончила школу, моими учителями были брат, отец, начальница да такие же, как я, работницы.
— Да понимаю я, — с печалью в голосе кивнул он.
Часы — те самые, со стеклянной дверцей — что стояли на комоде между Купидоном со стрелой и стеклянной фигуркой иволги, пробили семь раз.
— Собирайся, дорогой! Пошли вниз, в лавку, нам надо купить чего-нибудь к ужину и на завтра — я с нетерпением жду встречи с нашей так называемой кухней.
ЧЕТА ПИННЕБЕРГОВ НАНОСИТ ПЕРВЫЙ ВИЗИТ. ФРАУ ШАРЕНХЕФЕР ПЛАЧЕТ ПОД БОЙ СВАДЕБНЫХ ЧАСОВ
Они принесли кое-что из продуктов, и Барашек быстро накрыла на стол. От ее дурного настроения не осталось и следа. Во время ужина, который состоял из бутербродов и чая, они непринужденно болтали и строили планы на будущее.
Пиннеберг не отказался бы от пива, но Барашек заявила:
— Во-первых, чай дешевле. А во-вторых, пиво вредно для нашего малыша. Пока не рожу, мы не будем пить никакого алкоголя. И вообще…
«Почему это мы», — подумал Пиннеберг, а вслух спросил:
— Что «и вообще»?
— И вообще — шикуем мы только этим вечером. А так, хотя бы два раза в неделю, есть будем жареную картошку и хлеб с маргарином. Настоящее масло — если только по воскресеньям. В маргарине, между прочим, тоже хватает витаминов.
— Но совсем не таких.
— Как знаешь, но не забывай, либо мы будем двигаться к намеченной цели, либо проедим все, что скопили.
— Да-да, — быстро согласился он.
— Ну все, давай соберем посуду, а помою я ее завтра утром. Сейчас лучше собрать кое-какое тряпье и отнести его фрау Шаренхефер.
— Ты что, собираешься сделать это в первый же вечер?
— Ну да, прямо сегодня же, нечего с этим откладывать. Кстати, она могла бы уже и сама к нам пожаловать.
Они стояли в кухне, которая в действительности была не чем иным как чердаком, оборудованным газовой плитой. Барашек в который раз повторила:
— В конце концов, шесть недель не такой уж большой срок.
В комнате она, не мешкая, приступила к делу — сняла все скатерти и вязаные крючком салфетки и сложила их аккуратными стопками.
— Милый, ты не принесешь мне из кухни блюдце, пусть не думает, что мы хотим прикарманить все эти булавки.
Наконец она заключила:
— Ну, готово. — Подхватила сверток с тряпьем и, обернувшись, скомандовала:
— А ты бери часы.
Пиннеберг застыл в раздумье:
— Я?
— Бери часы. Я иду открывать дверь.
И она пошла вперед.
Они миновали переднюю, чулан с вениками и всяческой утварью и оказались в хозяйской кухне.
— Видишь, вот это кухня! Но сюда я могу приходить только за водой.
Они заглянули в спальню — длинную и узкую, как полотенце, в которой стояли две кровати.
— Одна из них осталась от ее покойного мужа? Хоть к нам ее не поставила, и то хорошо.
Затем они прошли в небольшую комнатку, свет в которую едва проникал через единственное окно с плотными плюшевыми занавесками.
Фрау Пиннеберг застыла в дверях.
— Добрый вечер. Мы пришли пожелать вам доброго вечера, — неуверенно проговорила она в темноту.
— Минуточку, — раздался жалобный голосок. — Одну минуточку, я сейчас зажгу свет.
У Барашка за спиной копошился возле стола Пиннеберг, оттуда же послышался звон бесценных часов. Похоже, он сунул их куда-то с глаз долой.
«Все мужчины трусы», — подумала Барашек.
— Сейчас я включу свет, — послышался из угла все тот же жалобный голос. — Это вы, молодые люди? Мне нужно привести себя в порядок; что-то мне сегодня всплакнулось, как, впрочем, частенько по вечерам.
— На самом деле? — спросила Барашек. — Ну, если мы помешали… Мы хотели…
— Нет, нет, не уходите, я уже включаю свет. Я объясню, почему плакала.
И правда, в комнате стало светло; то, что старая дама назвала светом, оказалось тусклой лампочкой под самым потолком, которой хватало мощности превратить мрак лишь в пещерный сумрак, выхватывающий из темноты мертвенно-серые очертания бархата и плюша, и среди всего этого вырастала долговязая костлявая фигура седовласой женщины в сером шерстяном платье с серым, заплаканным лицом и острым красным носом.
— О! Молодежь! — проскрипела она и протянула Барашку потную костлявую руку. — Милости прошу ко мне!
Барашек прижала к груди тюк с собранными вещами в надежде, что старуха не заметит его своими мутными, воспаленными глазами. Хорошо, что и Ханнес избавился от часов, подумала она, надо будет незаметно забрать их к себе. От ее былой решимости не осталось и следа.
— Право, не хочется вас беспокоить, — сказала Барашек.
— Вовсе это не беспокойство — ко мне ведь никто больше не приходит. Не то что когда мой дорогой муж был жив! Может, и к лучшему, что его нет в живых!
— А он что, сильно болел? — спросила Барашек и сама испугалась, что не подумав, задала такой глупый вопрос, но старуха, похоже, его даже не расслышала.
— Видите ли, молодые люди, — сказала она, — перед войной мы были богаты, у нас было целых пятьдесят тысяч марок. Теперь же от них не осталось и следа. Как могло случиться, что все эти деньги закончились? — проскулила она. — Ну как может пожилая женщина столько потратить?
— Инфляция, — осторожно предположил Пиннеберг.
— Не может такого быть, и все тут, — сказала она, пропустив его слова мимо ушей. — Я всегда веду учет. И записываю. Вот и сейчас все подсчитываю. Смотрите, тут написано — фунт масла три тысячи марок… Разве может фунт масла стоить три тысячи марок?
— Ну ведь инфляция… — подхватила разговор Барашек.
— Слушайте, что я вам скажу. Я знаю наверняка, что мои деньги украли. Один из тех, кто снимал у меня комнату. Но кто это был, ума не приложу. Я и имени-то припомнить не могу, столько народу у меня здесь перебывало с начала войны. Вот и ломаю голову. Но хитрец был каких поискать — незаметно для меня подделал записи в моей учетной книге. Там, где значилось «3» он написал «3 тысячи», а я сразу и не заметила.
Барашек посмотрела на Пиннеберга полным отчаяния взглядом, а тот аж голову опустил.
— Пятьдесят тысяч, все пятьдесят тысяч… Я же всегда учитывала все расходы, с тех самых пор, как умер муж. Вот чулки купила, всего несколько сорочек; и приданое у меня было приличное, так что покупала я немного, и всегда все записывала. Говорю вам, и на пять тысяч не накупила…
— Но те деньги обесценились, — предприняла Барашек еще одну попытку объяснить.
— Нет, ограбил он меня, — жалобно всхлипывала старуха, и слезы рекой хлынули у нее из ее глаз. — Я вам сейчас эти книги покажу. Я только сейчас заметила, там цифры разной рукой написаны, нули эти.
Она встала и направилась к бюро красного дерева.
— Может, не стоит, — в один голос воскликнули Пиннеберги.
Как раз в этот момент часы, которые Пиннеберг подсунул старухе в спальню, звонко пробили девять раз.
Старуха замерла на полпути. Подняла голову, всматриваясь в темноту, прислушиваясь, с полуоткрытым ртом и дрожащими губами.
— Что это было? — спросила она с тревогой в голосе, а Барашек от испуга крепко схватила Ханнеса за руку. — Это же свадебные часы моего мужа. Почему они звонят здесь?
Часы перестали бить.
— Мы хотели просить вас, фрау Шаренхефер… — начала Барашек.
Старуха их не слушала. Быть может, она вообще никогда не слушала, что говорят другие. Открыв дверь, она обнаружила на столе часы — не заметить их даже при таком тусклом освещении было невозможно.
— Молодые люди принесли мне часы, — прошептала себе под нос старуха. — Подарок моего мужа по случаю нашей помолвки. Мне не нравится эта парочка, они не останутся в моем доме. Никто здесь не остается…
Еще не успела она договорить, а часы опять начали свой перезвон — еще поспешнее, еще звонче: десять, пятнадцать, двадцать, тридцать раз кряду…
— Это из-за того, что мы их тронули с места. Нельзя их было переносить, — прошептал Пиннеберг Барашку на ухо.
— О господи, пошли отсюда, — взмолилась Барашек.
Они встали. Старуха стояла в дверях, не пропуская их вперед и глядя на часы.
— Бьют, — бормотала она. — Все бьют и бьют. А когда отобьют, замолкнут навсегда. Я слышу их в последний раз. Все уходит от меня. Деньги ушли. Когда часы били, я всегда думала: мой покойный муж все еще слышит их бой…
И тут часы остановились.
— Пожалуйста, фрау Шаренхефер, мне очень жаль, что я коснулся ваших часов.
— Это моя вина, — всхлипнула Барашек. — Это я…
— Оставьте меня, молодые люди. Это должно было случиться. Желаю вам спокойной ночи.
Пиннеберги засеменили мимо нее — притихшие и испуганные, точно дети.
— Не забудьте в понедельник отметиться в полиции! А то у меня будут проблемы — бросила им вслед старая женщина.
ТАИНА РАССЕИВАЕТСЯ. БЕРГМАН И КЛЕЙНГОЛЬЦ. ПОЧЕМУ ПИННЕБЕРГУ НЕ СЛЕДОВАЛО ЖЕНИТЬСЯ
Они не помнили, как добрались до своей комнаты, минуя все эти жуткие, захламленные закоулки старухина лабиринта, держась за руки, словно пугливые дети, и теперь стояли бок о бок в кромешной тьме. Им казалось, что и здесь свет будет против них, как в гостиной у старой женщины.
— Это было ужасно, — сказала Барашек, еле переводя дыхание.
— Точно, — согласился с ней он. И чуть помедлив, добавил — Да она рехнулась, Барашек, с горя, из-за денег.
— Сошла с ума. А я… — Они продолжали стоять в темноте, держась за руки. — А я изо дня в день буду одна в этой комнате, и она может в любую минуту здесь появиться. Господи! Нет!
— Успокойся, милая. Когда я видел ее раньше, она выглядела совсем по-другому. Может, с ней только сегодня такое случилось?
— «Молодые люди…» — передразнила Барашек. — Она говорила это с таким надменным видом, будто мы дети малые. Ой, милый, как же я не хочу быть похожей на нее! Ведь мне это не грозит, правда? Я так боюсь.
— Ах ты мой Барашек, — сказал он и обнял ее, такую беспомощную, невероятно беспомощную, что ищет у него защиты. — Ты мой любимый Барашек, и всегда будешь только Барашком, как же ты можешь стать такой, как старуха Шаренхефер!
— Правда? Только ведь нашему малышу будет не в прок, если я стану здесь жить. Например, его нельзя пугать, и чтобы он рос счастливым, его маме нужны положительные эмоции.
— Ну конечно, — успокаивал ее Пиннеберг, обнимая и лаская. — Вот увидишь, все у нас наладится.
— Это все общие слова. Ты же не говоришь, что мы съедем отсюда, немедленно.
— Но мы не можем этого сделать! У нас и денег нет, чтобы полтора месяца оплачивать две квартиры.
— Какие большие деньги! Из-за этих грошей, по-твоему, я должна жить в постоянном страхе, а малыш страдать?
— Ну да, деньги! — сказал он. — Плохие деньги. Хорошие деньги.
Сжимая ее в объятиях, он почувствовал, что стал повзрослее, и даже умнее. Все, что раньше казалось важным, теперь для него не имело значения. Он понял, что должен быть с ней честным.
— У меня нет особых талантов, Барашек — сказал он ей. — Я не смогу добиться успеха, мы всегда будем трястись над каждым грошом.
— Что ты! Что ты! — запричитала она.
Белые оконные занавески чуть подрагивали от дуновения вечернего ветра, а комнату наполнял мягкий свет. Его притягательная сила увлекла их к распахнутому окну, и они, обнявшись, устремили свои взоры вдаль.
Кругом все было залито лунным светом. Вдалеке справа мерцал огненной точкой последний на Фельдштрассе газовый фонарь. Картину, что открывалась из окна, будто раскрасили в два цвета — там, где тянулись поля, она была более светлой, там, где начинался лес, на ней лежала бездонная черная тень. Тишину нарушало лишь журчание Штрелы, что билась о камни где-то там, внизу. Ночной ветерок нежно ласкал их лица.
— Красота-то какая, — сказала она. — И покой.
— Да, — ответил он. — Здесь и в самом деле хорошо. А как дышится — не то что у вас, в Плаце.
— У вас… Как тебе известно, в Плаце меня уже нет, я здесь, на Зеленом Конце, у вдовы Шаренхефер…
— У вдовы?
— У вдовы!
— Спустимся к ней?
— Не сейчас, милый, может, полежим немного. Нам о многом нужно поговорить.
«Ну начинается…» — подумал он.
Но она, ничего не сказав, выглянула из окна, подставив ветру свое лицо, и он тут же принялся трепать ее светлые волосы, путая пряди на лбу. Пиннеберг не сводил с нее глаз.
— Как тихо.
— Да, — кивнул он. — Давай-ка лучше спать, Барашек.
— Может, посидим немного! Ведь завтра воскресенье, рано не вставать. И все-таки мне не терпится у тебя кое-что спросить.
— Ну так не тяни, спрашивай! — бросил он с нотками раздражения в голосе и потянулся за сигаретой. Глубоко затягиваясь, он вновь обратился к ней, но в этот раз более спокойным тоном: — О чем ты хотела спросить, Барашек?
— Сам-то не догадываешься?
— Да откуда мне знать.
— Ты знаешь, — сказала она.
— Да нет же, Барашек, я и в самом деле не знаю.
— Знаешь, знаешь.
— Барашек, ну пожалуйста, сжалься. Говори уже!
— Ты и сам все знаешь.
— Ну и ладно! — обиделся он.
— Милый, — сказала она, — милый, а помнишь, как мы сидели у меня на кухне? В день нашей помолвки? Кругом темнота и все небо усеяно звездами, и мы выходили на балкон.
— Да, — грубо отрезал он. — Помню. И?..
— Забыл, о чем мы говорили?
— Послушай, там много чего было! Если б я все помнил!
— Нет, мы обсуждали что-то очень конкретное. И кое-что пообещали друг другу.
— Ну, не знаю… — буркнул он.
Фрау Эмма Пиннеберг, урожденная Мёршель, всматривалась в залитые лунным светом поля. Чуть правее подмигивал газовый фонарь, а прямо, за раскидистыми кронами деревьев, образующих небольшую рощицу, несла свои воды Штрела, а в окно задувал такой приятный ночной ветерок.
Это ли не чудо и, может, не стоит портить такой хороший вечер? Но необъяснимое чувство тоски никак не отпускало. Словно внутренний голос твердил Барашку: вся эта красота — самообман. Поверишь в нее и не заметишь, как окажешься по уши в грязи.
Она стремительно развернулась и выпалила:
— Мы кое-что пообещали друг другу. Мы обещали, что будем честными хотя бы друг с другом и что между нами не будет никаких секретов.
— Погоди, все было немножко иначе. Обещание давала только ты.
— То есть ты не собираешься быть честным со мной?
— Да нет же, но дело не в этом. Видишь ли, есть вещи, о которых женщинам лучше не знать.
— То есть? — Убитым голосом спросила Барашек. Вид у нее был подавленный, но она быстро взяла себя в руки и выпалила: — Ну да, пять марок таксисту, когда на счетчике две сорок, это такие вещи женщинам знать не положено?
— Но он помог поднять наверх твою корзину и портплед!
— За две марки шестьдесят? А почему ты прятал правую руку в кармане? Чтобы не было видно обручального кольца? А почему ты велел, чтобы верх машины был поднят? Почему ты не пошел со мной в лавку? И почему каких-то людей должно было обидеть, что ты их не пригласил на свадьбу? Почему?..
— Барашек, прошу, — взмолился он. — Барашек, мне бы не хотелось…
— Это все вздор, Ханнес, ты просто не имеешь права иметь от меня секреты. Будут у одного секреты, другой начнет за ним шпионить, и мы не заметим, как с нами произойдет то же, что и с большинством других людей.
— Да-да, Барашек, но…
— Ты можешь говорить со мной обо всем, правда, милый. Ты зовешь меня Барашком — я догадываюсь почему и тем не менее не упрекаю тебя.
— Во всем ты права, Барашек, но понимаешь, все не так просто, как кажется. Хотел бы я, но… Боже, это такая глупость, то, что я скажу…
— Это касается какой-то девушки? — спросила она.
— Что ты, что ты. Или может быть, но это совсем не то, о чем ты подумала.
— Тогда что? Говори, дорогой. Любопытно было бы узнать.
— Ну что ж, Барашек, как знаешь. — Но видно было, что он колеблется. — Давай оставим этот разговор до завтра?
— Как это? Нет! Говори немедленно. Ты думаешь, я смогу спокойно заснуть в таком волнении? Это не связано с девушкой, но все-таки ее касается. Звучит загадочно, не находишь?
— Твоя взяла, слушай. Началось все с Бергмана, ты знаешь, что я раньше служил у него.
— В магазине одежды, да, ты рассказывал. Это определенно лучше картофеля и удобрений. Удобрения… это же навоз. Это им вы торгуете?
— Барашек, если ты будешь меня все время подкалывать…
— Ладно-ладно, слушаю, — сказала она, пристраиваясь на подоконнике так, чтобы были видны и Ханнес и залитые лунным светом поля, на которые она никак не могла налюбоваться.
— Итак, у Бергмана я работал старшим продавцом, платил он мне сто семьдесят марок…
— Старший продавец? Сто семьдесят марок?
— Прошу тебя, не перебивай! Эмиль Клейнгольц был постоянным нашим клиентом, закупался у нас костюмами. По коммерческим соображениям он вынужден пропустить рюмку-другую и с фермерами, и землевладельцами. А он очень быстро пьянеет. Вот и валится с ног прямо где стоит, а страдает при этом одежда.
— Боже! Как же так можно?
— Ты будешь слушать, в конце концов? Так вот, мне поручили его обслуживать, хозяин и его жена старались с ним не связываться. Не будь меня на месте, они бы ни за что ему не угодили, а у меня это получалось. Он постоянно со мной заговаривал о том, чтобы я бросил эту еврейскую лавочку, что у него настоящее арийское предприятие, и свободно место бухгалтера, и платит он больше… Ну-ну, ври больше, думал я. У Бергмана я хотя бы знал, на что рассчитывать, да и сам он был вполне приличным человеком, к своим работникам относился с уважением.
— Тогда почему ты бросил его и перешел к Клейнгольцу?
— Да по глупости! Знаешь, Барашек, в Духерове принято, что по утрам каждая фирма посылает на почту своего курьера. Например, «Штерн», «Нойвирт» и «Мозес Минден», и мы — не исключение. Курьерам строго запрещено показывать друг другу то, что они получают на почте. Более того, при получении конверта курьер должен жирной чертой зачеркнуть адрес отправителя, чтобы никто не узнал, где мы берем товар. Но курьеры, как правило, знакомы между собой по торговому училищу и при встрече могут заболтаться и забыть вымарать адрес. Владельцы фирм, и в особенности Мозес Минден, нередко заставляют своих работников вынюхивать чужие секреты.
— Как же это подло! — возмутилась Барашек.
— Ну, везде сейчас так. Так вот, случилась такая история, что «Рейхсбаннер» собрался купить триста курток. Все наши четыре магазина получили запрос, чтобы организация потом выбрала, у кого выгоднее им покупать. Мы знали, что наши конкуренты обязательно начнут вынюхивать, где мы получаем товар. Зная это, я и предложил Бергману: «Давайте в эти дни я сам буду получать почту».
— И как? Узнали они что-нибудь? — любопытствует Барашек.
— Нет, — воскликнул Пиннеберг. Как она могла усомниться в его способностях? — Конечно, нет. Как только курьер оказывался ближе, чем на десять шагов от меня, я тут же угощал его булыжником. В итоге заказ получили мы.
— Ах, милый, не уходи в сторону. Давай-ка рассказывай о девушке, которая не то, что я думаю! Не в ней ли причина, что ты ушел от Бергмана?
— Говорил же, ушел я от него по глупости, — сказал он и как-то смутился. — Так вот, те две недели я сам ходил на почту, что очень понравилось хозяйке. С восьми до девяти мне в магазине все равно было делать нечего, а те работники, что обычно ходили на почту, в это время могли принимать товар. Вот она и говорит: «Теперь господин Пиннеберг вместо них может ходить на почту». Я ей в ответ: «Почему это я? Я старший продавец, не буду я по городу с пакетами бегать». А она: «Будете!» А я опять: «Ни за что». В общем, мы с ней разругались, и я сказал: «Нечего мне тут приказывать, меня хозяин нанимал!»
— А хозяин что?
— Да ничего. Куда ему против жены? Стал меня уговаривать согласиться с ней, но я не отступил. Тогда он, виновато так, сказал: «К сожалению, придется нам расстаться, господин Пиннеберг!» А я был настроен решительно и сказал: «Хорошо, первого числа следующего месяца я ухожу». А он сказал: «Все же подумайте, господин Пиннеберг». Возможно, я бы и передумал, но, как нарочно, в тот день в магазин заглянул Клейнгольц. От него не ускользнуло, что я взвинчен, вот он меня обо всем и расспросил, а вечером велел зайти к нему. Мы пили коньяк и пиво, а когда я вернулся от него домой, твердо знал, что буду работать у него бухгалтером с жалованьем в сто восемьдесят марок. По правде сказать, в бухгалтерии-то я ничего не смыслил.
— Ох, милый! Ну, а Бергман как это воспринял? Что он сказал?
— Он очень сокрушался. Отговаривал. Все повторял и повторял: «Не стоит, Пиннеберг. Вы что, не видите, во что ввязываетесь?! Что, собираетесь на его полукровке жениться, пока мамеле доведет своего муженька до белой горячки? А полукровка эта еще хуже матери будет».
— Боже, он так и сказал?
— Ну, они же ортодоксальные евреи, и гордятся этим. «Не будь таким жалким, — так говорил Бергман, — ты же еврей!»
— Знаешь, мне и самой не очень нравятся евреи, — сказала Барашек. — А что за история с дочкой?
— В этом-то как раз и загвоздка. Я четыре года прожил в Духерове и даже не подозревал, что Клейнгольц хочет насильно выдать дочь замуж. Мамаша тоже хороша, — шатается по дому в вязаной кофте, а дочь, Мария, так пущий зверь.
— И тебя, бедолагу, хотели на ней женить?
— Барашек, меня хотят на ней женить! Клейнгольц берет на работу только холостяков, сейчас нас у него трое, и за мной он охотится больше всего.
— А сколько лет этой Марии?
— Да откуда мне знать, — небрежно отмахнулся он. — Тридцать два. Тридцать три. Да это неважно. Я же не собираюсь на ней жениться.
— Господи, бедный ты мой. Как же такое может быть: мужу двадцать три, а жене тридцать три? — удивилась Барашек.
— Очень даже может. — Его уже начинал раздражать весь этот разговор. — И не смей надо мной подтрунивать, не расскажу больше ничего.
— Да не смеюсь я над тобой. Хотя, милый, ты и сам должен понимать, что это какая-то комедия. А она выгодная партия?
— Вовсе нет. Торговля не приносит хорошего дохода. Клейнгольц покупает слишком дорого, а продает слишком дешево, к тому же он чересчур много пьет. Его дело перейдет к сыну, которому только десять лет. А Мария получит несколько тысяч марок — в лучшем случае — и потому никто на нее до сих пор не клюнул.
— Вот в чем, оказывается, было дело, — сказала Барашек. — И вот это ты от меня скрывал? Обвенчался тайком, потому и верх на машине велел поднять и руку с обручальным кольцом в кармане держал?
— Именно. О боже, Барашек, если они узнают, что я женат, мать с дочерью через неделю меня вышвырнут. И что тогда?
— Вернешься к Бергману!
— Об этом и речи быть не может! Видишь ли, — он замялся в нерешительности и продолжил: — Когда я уходил, Бергман меня предупредил, что ничего у меня с Клейнгольцем не выйдет. «Пиннеберг, — сказал он. — Вы все равно вернетесь ко мне! В Духерове вам идти некуда. Только к Бергману! Вы непременно прибежите ко мне, и, знаете что, Пиннеберг, я вас приму. Но прежде, обещайте мне, по крайней мере в течение месяца, вам придется обивать пороги биржи труда, с тем чтобы вы являлись ко мне на поклон и умоляли, чтобы я взял вас на работу. За ваш необдуманный поступок полагается наказание!» Ну и как я, после того что наговорил мне Бергман, вернусь к нему? Не могу я этого сделать.
— Но если он прав? Ты же сам видишь, что он прав?
— Барашек, милый мой Барашек, — взмолился он, — даже не проси меня об этом. Может, он и прав, и я поступил глупо, что отказался ходить на почту. Но если ты меня станешь просить, я пойду к Бергману, и он возьмет меня к себе. А хозяйка и другие продавцы, Дюссель и Мамлок будут насмехаться надо мной, вот этого я тебе ни за что не прощу.
— Да нет же, не буду я тебя уговаривать. Только вот как ты думаешь, даже если мы будем осторожны, не всплывет история с нашим браком наружу?
— Верно говоришь, нельзя допустить, чтобы все стало известно! Ни в коем случае. Я все продумал заранее. Видишь, и комната у нас на окраине, в городе нас точно никто не увидит вместе, а если мы случайно все же встретимся, сделаем вид, что незнакомы.
Барашек сидела в задумчивости, а потом произнесла:
— То, что мы все-таки не можем жить здесь, с этим-то ты согласен?
— Потерпи, Барашек, — попросил он. — Ну две недельки, до первого числа. Раньше первого мы не сможем отказаться.
Не сразу, но она согласилась. Она оглянулась вокруг, но разглядеть в темноте ничего не могла, и вздохнув, сказала:
— Ну хорошо, милый, я попробую. Но сам понимаешь, это ненадолго, здесь мы никогда не будем счастливы!
— Спасибо, — закивал он. — Спасибо тебе. Верь, все образуется, непременно. Главное, не остаться без работы.
— Это правда, — согласилась с ним она.
Они еще немного постояли у окна, глядя на тихие, залитые лунным светом просторы, а после отправились спать. Занавески задергивать не стали — домов напротив все равно не было. Засыпая, они могли различать в тишине лишь тихое журчание Штрелы.
ЧТО У НАС НА ОБЕД? С КЕМ ХОДИТЬ НА ТАНЦЫ? ЖЕНИТЬСЯ ИЛИ НЕ ЖЕНИТЬСЯ?
В понедельник утром Пиннеберги сидели за кофейным столиком.
— Итак, сегодня принимаемся за дело! — Глаза у Барашка блестели от возбуждения. — И, окинув взглядом «камеру ужасов», она сказала: — С этим старьем как-нибудь расправлюсь! — И, бросив взгляд на чашку, поинтересовалась: — Как тебе кофе? Двадцать пять процентов натурального.
— Раз так спрашиваешь, значит, знаешь ответ.
— Мы же решили экономить.
На что Пиннеберг не преминул заметить, что раньше всегда позволял себе чашечку «настоящего» кофе. На двоих потребуется больше денег, чем на одного, считала она. Он же уверен, холостяку жизнь обходится дороже, так все говорят, а на питание супружеской паре надо меньше денег, чем одному на стороне.
Их продолжительный диспут затянулся, пока он не спохватился:
— Боже! Я должен бежать. А то опоздаю.
Они попрощались возле двери. Уже на лестнице, на полпути вниз, он услышал окрик Эммы:
— Милый, постой! Что у нас сегодня на обед?
— Неважно! — крикнул он в ответ.
— Ну, пожалуйста, скажи! Я же не знаю…
— Вот и я не знаю!
Внизу хлопнула дверь.
Она кинулась к окну и увидела, как он вышел из дома. Он помахал ей рукой, потом платком, а она не отрываясь смотрела в окно, пока он не прошел мимо фонаря и не исчез за углом желтого дома. И вот теперь Барашек, впервые за двадцать два года, сама становится хозяйкой своей жизни — этого утра, комнаты, их совместной трапезы. Она приступила к работе.
На углу главной улицы Пиннеберг увидел Кранца, секретаря мэрии, и вежливо его приветствовал. И тут в голову ударила мысль: «Я же приподнял шляпу правой рукой, а на ней кольцо. Буду надеяться, что Кранц не заметил». Пиннеберг неохотно снял кольцо и осторожно убрал его в потайное отделение бумажника. «Что поделаешь, раз надо».
В доме у его работодателя Эмиля Клейнгольца уже все встали. Обычно утро в этой семье никому не приносит радости: еще с постели встать не успели, а настроение хуже некуда, вот и приходится обмениваться колкостями. Особенно утром в понедельник. Накануне отец семейства донимал окружающих дерзкими эскападами, а наутро расплачивался за свое поведение. Фрау Эмилия Клейнгольц была не из тех, кто не сможет приручить мужчину, и ей без особого труда удалось укротить буйный нрав своего супруга. Вот и в последнее время у нее складывалось все просто замечательно. В воскресенье вечером Эмилия обычно запирала входную дверь, к ужину ставила перед мужем кувшин пива, а затем баловала его коньяком — и все, цель была достигнута. Это походило на семейную идиллию: малец хныча копошился в каком-нибудь углу (маленький нытик), женщины сидели за рукоделием (готовили Марии приданое), а отец читал газету и время от времени просил: «Подлей-ка еще, мать». И каждый раз фрау Клейнгольц отвечала: «Подумай о ребенке, отец!» Но потом подливала, впрочем, не всегда, это зависело от поведения мужа.
Ничего необычного не произошло и в тот воскресный вечер, к десяти часам все уже лежали в постелях.
В одиннадцать фрау Клейнгольц проснулась, в комнате было темно. Она прислушалась. Из соседней комнаты доносились отчетливые стоны (все знали, что дочь Мария частенько стонет во сне), в изножье отцовской кровати спокойно посапывал сын. Вот только отцовского храпа не хватало в семейном хоре.
Сунув руку под подушку, фрау Клейнгольц нащупала ключ от входной двери. Тогда фрау Клейнгольц включила свет. Ага, мужа на месте не оказалось. Фрау Клейнгольц встала. Фрау Клейнгольц обошла квартиру. Фрау Клейнгольц вышла во двор (там у них находился туалет). Мужа нигде не было. В конце концов она обнаружила, что в кабинете одно из окон приоткрыто, а она отлично помнила, что закрывала его. Подобного она не забывает.
Фрау Клейнгольц обуревала кипящая ярость: четверть бутылки коньяку, кувшин пива, и все напрасно! Надо бы одеться, подумала она и, набросив теплый лиловый халат, отправилась на поиски мужа. Где ж ему быть — наверняка, заправляется в трактире у Брюна.
Зерновая контора Клейнгольцев — старое надежное предприятие — располагалась на Базарной площади. Эмиль был представителем уже третьего поколения ее владельцев. Она имела стабильную репутацию, пользовалась доверием трехсот постоянных клиентов — фермеров и землевладельцев. Когда Эмиль Клейнгольц говорил: «Франц, это отличное удобрение», Франц не требовал проверки компонентов, входящих в состав удобрения. Он просто платил деньги и был уверен: товар действительно отменного качества.
Правда, этот подход имел свою особенность. Чтобы сделка дала плоды обеим сторонам, ее, как задумано природой, необходимо было «поливать», то есть обмывать. Вот так каждый вагон картофеля, каждая расписка, каждый договор сопровождался возлиянием; в ход шли пиво, водка, коньяк. И все бы ничего, если тебя ждет покладистая жена, сплоченная семья, в которой царят мир и уют, но что, если жена — змея подколодная?
Фрау Эмилия Клейнгольц всегда была склочной особой. Она подозревала, что это не очень хорошая черта, но гордыня в ней всегда брала верх.
Она вышла замуж за красивого, к тому же богатого мужчину. Бедная девушка, без гроша в кармане, вырвала его у других. И теперь, после тридцати четырех лет брака, она, как и в самом начале, неистово сражалась за него.
И вот она в тапочках на босу ногу, в домашнем халате, направлялась на угол к Брюну. Но и там мужа не оказалось. Она могла вежливо поинтересоваться, не заходил ли туда муж, но это было не в ее характере — она набросилась на трактирщика с отборной бранью: мерзавец, пьяниц спаивать, донесу куда следует…
Старик Брюн, мужчина с окладистой бородой, попытался выпроводить ее за дверь, но она не унималась, сопротивлялась что есть мочи. Но куда там — у старика поистине железная хватка.
— Вот так, милочка, — сказал он напоследок.
Фрау Клейнгольц стояла одна на улице, глядя на мостовую Базарной площади их второразрядного городка, на двухэтажные дома, их фасады и двухскатные крыши, и ни в одном окне не видно света. Только газовые фонари, покачиваясь, мерцают пламенем.
Неужели идти домой? Не на ту напали! Эмиль будет изо дня в день над ней насмехаться из-за того, что она искала его да не отыскала. Нет, она обязательно найдет его, вытащит из компании таких же пьянчуг, для которых напиться — самое распрекрасное удовольствие!
Самое распрекрасное удовольствие!
При этой мысли она вдруг вспомнила: сегодня в «Тиволи» танцы. Эмиль точно будет там.
Там! Там!
И как была, в тапочках и халате, она отправилась через полгорода в «Тиволи». Кассир общества «Гармония» потребовал за вход марку, на что она только и могла сказать: «А под зад коленом не желаешь?»
Кассир, само собой, стушевался.
Она вошла в танцевальный зал и, с виду спокойная, встала, прислонившись к колонне. Спокойствие с нее как рукой сняло, стоило ей увидеть, как ее муж, светлобородый красавец, слился в танце с какой-то молодой черноволосой бестией. Да и то, что они делали, танцем назвать язык не повернулся бы — в пьяном угаре они только и могли, что спотыкаться.
— Сударыня, позвольте, сударыня! — пытался удержать фрау Клейнгольц распорядитель. Но он хорошо понимал: на них обрушилось стихийное бедствие — торнадо, извержение вулкана, — люди в этой ситуации бессильны. Ему ничего не оставалось, как отступить. В толпе танцующих появился небольшой просвет, и так, по проходу меж двух стен, образованных людскими телами, она набросилась на пару, которая, не подозревая о надвигающейся опасности, еле держалась на ногах.
Он тут же получил оплеуху.
— Ой, душа моя! — заверещал он, ничего не понимая. Вскоре до него стал доходить смысл происходящего.
Теперь уже и она поняла, что надо убираться оттуда, но уходить надо с чувством достоинства, не теряя самообладания. И взяла его под руку:
— Пора, Эмиль, уходим.
И он последовал за ней. Беспомощно и безмолвно он плелся из зала, как большой побитый пес, оглядываясь на свою славную, дерзкую маленькую собачонку — работницу с багетной фабрики Штосселя. Не имея ничего путного в жизни, она с большим удовольствием подцепила состоятельного легкомысленного кавалера. Он ушел, а вместе с ним ушла и она, из его жизни. На улице возле них остановилось такси: кто как не председатель общества «Гармония» знает, что позаботиться об этом лучше заранее.
Эмиль Клейнгольц заснул по дороге, не проснулся он и тогда, когда жена с шофером втащили его в дом и уложили в постель, в ту самую ненавистную супружескую постель, которую он всего два часа назад так отважно покинул. Пока он беспробудно спал, его жена так и не смогла сомкнуть глаз. Спустя время она включила свет и долго смотрела на своего ненаглядного — этого беспутного шалопая, своего мужа. Но в этом обрюзгшем человеке с серым лицом она видела того юного Эмиля, что ухаживал за ней когда-то, всегда охочего до всяческих проделок, такого неунывающего, но чтобы за мягкое ущипнуть — такого он себе не позволял и на затрещину не нарывался.
И насколько ей позволял рассуждать ее глупый мозг, она задумалась о пройденном ею пути. Двое детей — воображала-дочь и капризный, болезненный сын. Беспутный муж и его частично пропитое торговое предприятие. А она? Как же она?
В конце концов, никто не мешает ей плакать, в темноте так даже выгодно — не надо тратиться на освещение, на него столько денег уходит. А сколько же промотал он за те два часа, когда сбежал из дома, подумала она, включила свет и вытряхнула содержимое его бумажника — сидела и все считала и считала. А потом, опять в темноте, дала себе слово быть с ним ласковой. И все сидела и стонала, причитая: «Ничего у меня не осталось. Надо держать его на коротком поводке!»
Проплакав еще, она в конце концов заснула, как всегда засыпала и после нестерпимой зубной боли, и после родов, и после большой утраты и большой радости.
Она проснулась в пять часов утра, быстро встала и вручила приказчику ключи от амбара с овсом, в шесть от стука в дверь она проснулась во второй раз — тогда служанка взяла у нее ключ от кладовой. Потом еще час сна! Еще час покоя! В третий раз она уже окончательно пробудилась ото сна, когда часы показывали без четверти семь. Сын должен был идти в школу, а муж все еще спал. Когда она в следующий раз заглянула в спальню, в четверть восьмого, то застала мужа бодрствующим, но отнюдь не в бодром состоянии.
— И поделом тебе, пьяница беспробудный, — отрезала она и вышла из комнаты. К утреннему кофе он явился мрачнее тучи.
— Подай селедку, Мария! — только и вымолвил он.
— Стыдно, отец, так куролесить, — с вызовом сказала Мария, уходя за селедкой.
— Черт возьми! — взревел отец. — Вон ее из нашего дома!
— Ты прав, отец, — поддакнула ему жена. — Даром ты что ли трех нахлебников содержишь.
— Пиннеберг — лучший вариант. На нем и остановимся, — сказал Клейнгольц.
— Конечно. Надо бы его поторопить.
— Уж это моя забота, — бросил он ей и отправился в контору.
Теперь от работодателя Иоганнеса Пиннеберга всецело зависело само существование семьи последнего: и милого Барашка, и их еще не родившегося малыша.
МУЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ. НАД НАЦИСТОМ ЛАУТЕРБАХОМ, ДЕМОНОМ ШУЛЬЦЕМ И ТАЙНЫМ МУЖЕМ СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ
Лаутербах явился в контору раньше остальных: без пяти восемь. И не потому, что был верен делу — просто от скуки. Этот светловолосый юноша плотного телосложения и невысокого роста с огромными ручищами прежде был сельскохозяйственным работником. Он решил, что деревенская жизнь не для него и перебрался в город. Так Лаутербах очутился в Духерове, у Эмиля Клейнгольца, и считался своего рода экспертом по семенам и удобрениям. Фермерам не очень-то нравилось, когда он присутствовал при получении товара. Он с ходу определял, когда картофель рассортирован неправильно и когда к белокожей «Силезии» была подмешана желтая «Индустрия». В действительности Лаутербах был совсем не вредный. Взяток он не брал, не пил шнапса, так как считал себя блюстителем чистоты арийской расы от пагубного влияния этих разрушительных токсинов, — словом, спиртного он в рот не брал, равно как и не курил. Хлопнув фермера по плечу, он восклицал: «Негодный обманщик!» — и сбавлял цену на десять, пятнадцать, двадцать процентов, но фермеры не роптали: он носил свастику, травил отличные еврейские анекдоты, делился последними новостями о походах штурмовых отрядов в Бухрков и Лензан — короче говоря, был настоящим немцем, надежным товарищем, врагом евреев, всех иностранцев, репараций, социалистов и компартии. Это меняло все.
Нацистом Лаутербах стал тоже от скуки. Со временем стало очевидно, что и в Духерове, как и в деревне, заняться тоже особо нечем. Девушками он не интересовался, и поскольку церковная служба заканчивалась в половине одиннадцатого утра, а кино начиналось только в восемь вечера, промежуток между этими занятиями ему заполнить было нечем.
Другое дело у нацистов — там не до скуки. Он сразу же подался в штурмовики, в драках он проявил себя сообразительным молодым человеком: использовал свои ручищи (и то, что держал в них) почти с художественной точностью. Стремление Лаутербаха к полноценной жизни было удовлетворено: он мог пускать в ход кулаки почти каждое воскресенье, а по вечерам иногда и по рабочим дням. Его домом стала контора Клейнгольца. С сослуживцами, хозяином и хозяйкой, с прислугой, крестьянами он вел непрестанные разговоры о прошлом и будущем. Перед праведниками и грешниками он изливал свои медленные благочестивые речи, перемежая рассказ буйным гоготом, когда доходил до места, где описывал, как от него досталось советским прихвостням.
Сегодня он не заводил таких разговоров, поскольку все «старичье» получило новый заказ, и в конторе остался только Пиннеберг — как всегда, пунктуальный, он пришел ровно в восемь. Лаутербаху не терпелось рассказать, что штурмовики получили новые отличительные знаки.
— По-моему, это гениальная идея! До сих пор у нас был только номер. Знаешь, Пиннеберг, на правой петлице вышиты арабские цифры, а на воротнике двухцветная полоса. Говорю тебе, это просто гениально. Теперь сразу поймешь, к какому отряду принадлежит боец. Представляешь, как это будет выглядеть в жизни! Допустим, вижу я драку, где схлестнулись двое, и сразу смотрю на воротник…
— Ну да, — кивнул ему Пиннеберг, разбирая счета, пришедшие с субботней вечерней почтой. — Был ли заказ Мюнхен 387 536? — спросил он.
— Вагон с пшеницей? Да… А знаешь, у нашего груфа теперь в левой петлице звездочка.
— А что такое груф? — не понял Пиннеберг.
В 8:10 в конторе появился Шульц, третий холостой нахлебник. С его появлением уже никто не вспоминал ни про нацистские значки, ни про счета на пшеницу. Шульц — настоящий демон, гениальный, но такой ненадежный; Шульц быстрее подсчитает в уме, сколько стоят 285,63 центнера по цене в 3,85 марки за центнер, чем Пиннеберг на бумаге. Шульц редкостный распутник и большой охотник до женского полу, и единственный, кто смог поцеловать Марихен Клейнгольц, и не важно, что походя, поскольку слишком любвеобилен, но захомутать его никому не удалось.
Итак, в конторе появился Шульц. Черные набриолиненные лохмы нависают над желтым морщинистым лицо, в огромных черных глазах играет дьявольский огонь. Как и полагается местному моднику, в отутюженных брюках и черной широкополой шляпе (пятьдесят сантиметров в диаметре), с массивными кольцами на желтых от никотина пальцах. Появился Шульц — властитель сердец всех горничных, кумир официанток, которые ждут не дождутся его под дверями конторы по вечерам, готовые выцарапать друг другу глаза за счастье слиться с ним в танце.
Вот так обычно приходит Шульц.
— Здрасте! — бросил он с порога, аккуратно повесил пальто на вешалку и посмотрел на сослуживцев сначала оценивающим взглядом, затем сочувствующим и затем уже презрительным:
— Разумеется, вы ничего не знаете?
— Что с очередной телкой вчера перепихнулся? — спросил Лаутербах.
— Они в неведении. Ничего не знают. Сидят здесь, бумажки перекладывают, бухгалтерию ведут, понимаешь, а между тем…
— И что же?
— Эмиль… Эмиль и Эмилия вчера вечером в «Тиволи»…
— Что, он и ее с собой приволок? Да быть того не может!
Шульц сел:
— Клевером пора заниматься. Кто это будет делать, ты или Лаутербах?
— Ты!
— Клевер не мой конек, вон кто у нас эксперт-аграрий. В двух шагах от меня хозяин отплясывал с брюнеткой Фридой с багетной фабрики, и вдруг откуда ни возьмись наша старуха, так и протаранила его. Эмилия в халате, под которым, видать, была только сорочка.
— В «Тиволи»?
— Не завирай, Шульц.
— Это такое же вранье, как и то, что я сижу вот на этом самом месте! «Гармония» организовала в «Тиволи» семейный танцевальный вечер. Военный оркестр из Плаца — что надо! Рейхсвер — грандиозен! И вдруг наша Эмилия налетает на своего Эмиля, и с маху его по уху — так тебе, старый ты пьянчуга, так тебе, свинья, горлопанила она.
К чему вся эта бухгалтерия? К чему вся эта работа? В конторе Клейнгольца творились более важные дела: как не помусолить такую сенсационную новость. Лаутербах не сдавался:
— Давай сначала, Шульц. Значит, фрау Клейнгольц входит в зал… Не представляю… Через какую дверь входит? Когда ты ее увидел?
Шульц весь аж просиял от удовольствия:
— Что еще вам рассказать? Вы уж все знаете. Ну, вошла она через дверь, что ведет из коридора, лицо красное, ну ты знаешь, даже лилово-малиновое… Идет, значит…
В тот самый момент в контору вошел Эмиль Клейнгольц. Троица вмиг бросилась врассыпную, уселась по своим местам, перебирая бумажки. Клейнгольц остановился, глядя на их склоненные макушки.
— Что, бездельники?! — гаркнул он. — Бездельники! Уволю! И начну с…
Троица еще ниже опустила головы.
— …пожалуй, с рационализации. Если троим делать нечего, двое будут вкалывать. Что вы на это скажете, Пиннеберг? Вы у нас новенький.
Пиннеберг не проронил ни слова.
— Ну да, языки проглотили. А пока я не пришел, что было? Старуха, говорите? Малиновая, лиловая, а? Уволю! Сию же минуту уволю!
«Подслушивал, собака, — как один подумали все трое, белые от страха. — Господи, господи боже мой, что я говорил?»
— Вообще-то мы не о вас говорили, господин Клейнгольц, — промямлил Шульц себе под нос.
— Ну, а вы? Вы? — повернулся Клейнгольц к Лаутербаху.
* * *
Лаутербах не робкого десятка, в отличие от тех двоих, он один из немногих, кому вообще по барабану, есть у них место или нет. «Чтобы я испугался? При таких-то ручищах? Да я любую работу найду — хоть конюха, хоть грузчика. А тут служащий какой-то! Одно название чего стоит! Насмешка, а не название!»
Лаутербах не страшась смотрел в налитые кровью глаза хозяина:
— Слушаю вас, господин Клейнгольц.
Клейнгольц изо всех сил вдарил по деревянной перегородке, так, что она затрещала.
— Одного из вас, братцы, точно выгоню! Еще посмотрите… Но остальные чтоб не расслаблялись. Таких, как вы, полно бегает. А сейчас, Лаутербах, марш на склад и вместе с Крузе пересыпьте в мешки сто центнеров арахисовой муки. Той, что от Руфиске! А впрочем, нет, Шульц пойдет! Он выглядит как собственный труп, ему полезно будет мешки потаскать.
Шульц исчез, не проронив ни слова, и был счастлив, что удалось так легко сбежать.
— А вы, Пиннеберг, отправляйтесь на вокзал, да поживее. Закажите на завтра, не позднее шести утра, четыре двадцатитонных вагона, чтобы отправить пшеницу на мельницу. Все!
— Да, господин Клейнгольц, — пробормотал Пиннеберг и дал деру. Чувствовал он себя прескверно. Может, у Эмиля это просто с похмелья. Тем не менее…
Возвращаясь к Клейнгольцу с железнодорожного вокзала, он заметил на противоположной стороне улицы знакомую фигуру, знакомого человека… женщину… свою жену…
Он очень осторожно, медленно перешел на ту же сторону.
С сетчатой сумкой в руках Барашек шла впереди и не могла его видеть. Она остановилась у мясной лавки Брехта, рассматривая витрину. Пиннеберг подошел к ней совсем близко, предварительно бросив внимательный взгляд на улицу и дома, проверяя нет ли какой опасности.
— Так что у нас сегодня на обед, дамочка? — прошептал он ей на ухо и тут же прошел вперед. Через десять шагов он оглянулся — ее лицо сияло от радости. Если только фрау Брехт не заметила их из окна своей лавки, она могла его узнать, он не раз покупал у нее колбасу, подумал Пиннеберг. Ну что за безрассудство? С другой стороны, такая вот у него жена, и ничего он не мог с этим поделать. Похоже, кастрюли она покупать не стала — какая же она у него бережливая.
В конторе он застал хозяина. Тот сидел в одиночестве. Лаутербах еще не вернулся. Шульц тоже. «Скверно, — подумал Пиннеберг. — Прескверно!»
Но Клейнгольц даже не взглянул в его сторону. Подперев лоб одной рукой, он медленно передвигал пальцем вдоль страницы кассовой книги.
Пиннеберг прикинул в уме, чем ему лучше всего заняться. «Пишущая машинка, — решил он. — Это, пожалуй, самый разумный вариант в данной ситуации. Буду себе стучать, тогда он не станет приставать ко мне».
Но он был не прав. Не успел он напечатать: «Господа, прилагаем вам образец красного клевера урожая нынешнего года, качество гарантировано, всхожесть девяносто пять процентов, чистота девяносто девять процентов…» — как на плечо ему опустилась рука и над ухом раздался голос:
— Одну минуточку, Пиннеберг.
— Слушаю, господин Клейнгольц, — сказал Пиннеберг, убирая руки с пишущей машинки.
— Вы занялись клевером? Предоставьте это Лаутербаху.
— Я…
— С вагонами все в порядке?
— Да, господин Клейнгольц.
— Сегодня днем все будем заниматься пшеницей. И бабы мои пусть помогают: будут завязывать мешки.
— Да, господин Клейнгольц.
— Мария очень спорая в таких делах. Да и вообще она работница хоть куда. Красавицей ее не назовешь, но у нее полно других талантов.
— Разумеется, господин Клейнгольц.
Они сидели друг против друга, какое-то время в полном молчании. Клейнгольц наблюдал, произвели ли его слова эффект — такой же, как производит проявитель на пленку; теперь оставалось только ждать, что покажет изображение.
Пиннеберг так и не проронил ни слова, только сидел неподвижно и с беспокойством смотрел на сидящего напротив него в зеленом костюме и высоких сапогах хозяина.
— Ну что, Пиннеберг, вы надумали? — завел знакомую мелодию Клейнгольц, но теперь голос его звучал по-отечески нежно. — Ну так как же?
Как ни ломал настороженный Пиннеберг голову, решение не приходило ему на ум.
— А о чем я должен был подумать? — задал он довольно глупый вопрос.
— Об увольнении, конечно, — выдержав паузу, сказал хозяин, — о чем же еще! Вот вы на моем месте кого бы уволили?
Пиннеберга бросило в жар. Ну и сволочь. Ну и свинья! Так унижать человека!
— Простите, господин Клейнгольц, но этого я сказать не могу. — Он сильно разволновался, объясняя: — Не могу же я выступать против своих сослуживцев.
Клейнгольц был явно доволен.
— Ну, на моем месте, себя бы вы не уволили, разумеется? — продолжал измываться он.
— На вашем месте… Сам себя? Как же я…
— Ну, — сказал Эмиль Клейнгольц, поднимаясь, — уверен, что вы над этим подумаете. Согласно договору у вас впереди целый месяц. Если первого сентября я вас предупрежу, то первого октября уволю, правильно?
Клейнгольц вышел из конторы и отправился прямиком к жене — рассказать, как он поизголялся над Пиннебергом. Может, тогда разрешит пропустить рюмочку. Что сейчас как нельзя кстати.
ГОРОХОВЫЙ СУП, ПИСЬМО МАТЕРИ И СЛИШКОМ ЖИДКАЯ ВОДА
Как проснулась, Барашек сразу же выложила на подоконник постельные принадлежности — пусть проветрятся — и побежала по магазинам. Почему он не сказал, что приготовить на обед? Она же не знает! И понятия не имеет, что любит он.
Перебрав в уме все мыслимые варианты, в конце концов находчивый ум Барашка подкинул ей идею горохового супа. Его легко приготовить, и выйдет совсем дешево, к тому же останется на следующий день.
О, господи, как же повезло девушкам, которых учили готовить! Моя же мать всегда отгоняла меня от плиты. «Поди прочь, безруким здесь не место!»
Как же его варить, суп? Ну, вода. Кастрюля. Горох. Только вот сколько этого гороха надо? Думаю, полфунта на двоих за глаза достаточно — горох хорошо разваривается. Дальше. Соль. Зелень. Немного жира — ну, на всякий случай. И сколько мяса? И какое мясо? Говядину, конечно, говядину. Полфунта хватит. Горох очень питателен, а есть много мяса вредно для здоровья. Да, нужна еще картошка.
Барашек отправилась за покупками. Как же прекрасно по утрам, когда все сидят по своим конторам, пройтись по улице; воздух еще прохладный, хотя солнце уже сияет.
По Базарной площади курсировала большая желтая почтовая машина. Кто знает, может быть, там, за окном этой машины, сидит ее милый. Но он не сидел там, потому что десять минут спустя его голос раздался у нее за спиной, он интересовался, что у них будет на обед. Скорее всего, жена мясника что-то заметила, как-то странно она себя ведет, и за фунт суповых костей запросила тридцать пфеннигов, ну мыслимое ли дело, за голые кости, без щепотки мяса, их даром отдавать надо. Барашек обязательно напишет матери письмо и спросит, не жульничество ли это? А может, не стоит. Она сама со всем справится. А вот его матери она напишет. Ладно, вернусь домой, засяду за письмо, решила она.
Шаренхеферша точно бесплотный дух. Когда Барашек ходила за водой к ней на кухню, она не заметила, чтобы там что-то стряпали, не видно ни приготовленного, ни сырых припасов. К тому же кругом порядок, плита холодная, а из задней комнаты не доносилось ни звука. Барашек поставила варить горох. Интересно, а соль сразу класть надо? Нет, потом, когда сварится, так, наверно, лучше.
Вернувшись в комнату, она принялась за уборку. Раньше она и думать не думала, насколько тяжелая эта работа — уборка. Что же делать со всем этим старьем: бумажными розами и гирляндами, наполовину выцветшими, наполовину ядовито-зелеными, с полинялой мягкой мебелью, уголками, набалдашниками и завитушками? Со всем этим надо справиться до половины двенадцатого, чтобы успеть написать письмо. Милый, у которого обеденный перерыв с двенадцати до двух, вряд ли придет раньше чем без четверти час, он ведь собирался заглянуть по дороге в мэрию.
Без четверти двенадцать Барашек сидела за письменным столом орехового дерева, склонившись над листом желтой почтовой бумаги, которая сохранилась у нее со школьых времен.
Итак. Адрес: «Фрау Мария Пиннеберг. Берлин. Северо-запад, 40 — Шпеннерштрассе, 92,11».
— Матери нужно написать письмо и известить ее, что ты женишься, — настаивала Барашек. — Ведь ты единственный сын, и даже больше, единственный ребенок. Даже если ты не согласен с ней и не принимаешь ее образ жизни.
— Да ей должно быть стыдно, — отвечал Пиннеберг.
— Но, миленький, каково ей, если она уже двадцать лет как вдова!
— Не важно! Она не была одинока в эти годы.
— Ханнес, но и у тебя до меня были девушки.
— Нечего сравнивать.
— Что же нам скажет наш малыш, когда вырастет и прикинет, что даты его рождения и нашей женитьбы не совсем совпадают.
— О чем ты говоришь, нам наверняка неизвестно, когда родится малыш.
— Отлично известно. В начале марта.
— Откуда у тебя такая уверенность?
— Да, милый, да! Я-то знаю. И твоей матери я напишу письмо, не спорь.
— Делай что хочешь, просто я не хочу об этом больше говорить.
«Уважаемая госпожа» — ну не глупо звучит, а? Так не пишут. «Дорогая фрау Пиннеберг». — Но ведь это я. И как звучит, мне тоже не нравится. А Ханнес прочитает это письмо.
«Ах, ладно, — подумала Барашек, — если Ханнес считает, что я пишу только из вежливости, тогда не важно, как писать, но если я это делаю искренне, так уж напишу ей, как сама хочу. Итак…»
«Дорогая мама! Я ваша новая невестка Эмма, но все зовут меня Барашек, мы с Ханнесом поженились позавчера, в субботу. Мы счастливы и довольны, и стали бы еще счастливее, если бы вы порадовались вместе с нами. У нас все в порядке, только Ханнесу, к сожалению, пришлось оставить магазин одежды и перебраться в фирму, торгующую удобрением, что нам не очень нравится.
Вам шлют привет ваши Барашек и…»
Свободное место она оставила для него. «Тебе придется подписать это письмо, милый!»
У нее в запасе еще полчаса времени, и она достала книгу, купленную две недели назад у Викеля, с надписью на обложке: «Святое чудо материнства».
Она читала с таким вниманием и напряжением, что невольно даже морщила лоб: «Да, с появлением ребенка в семье наступают счастливые, светлые дни. Этой наградой Бог одарил природу в качестве компенсации за человеческое несовершенство».
Как Барашек ни старалась понять, что только что прочитала, уловить смысла этих слов она не могла. Чтение книги давалось ей с большим трудом, тем более, что, как ей показалось, к ее малышу это не имело никакого отношения. А вот стишок, который был напечатан в книжке, она прочитала несколько раз.
Житейская правда проста и ясна, Устами младенца глаголет она. Ребенок умен, словно царь Соломон, Пернатых язык понимать может он.Однако и стих этот Барашек тоже не поняла. Правда, ей он показался очень светлым. Теперь у нее случались мгновения, когда она по-настоящему чувствовала в своем теле драгоценную ношу. Она откинулась назад и все сидела и сидела с закрытыми глазами, повторяя слова:
Ребенок умен, словно царь Соломон, Пернатых язык понимать может он.«Должно быть, это самое прекрасное, что только есть на свете. И он должен быть счастлив, наш малыш!..»
— Ну что, обед готов? — услышала она доносящийся из передней голос Ханнеса. Быть может, она сама не заметила, как заснула; она стала часто уставать.
«Боже, наш обед!» — она не торопясь поднялась.
— А что, стол еще не накрыт? — поинтересовался он.
— Сейчас, милый, сию минуту. — И она устремилась на кухню. — Не возражаешь, если я принесу прямо в кастрюле? Могу, если хочешь, и в миске подать!
— А что у нас?
— Гороховый суп.
— Отлично. Да давай в кастрюле, чего уж. А я пока накрою на стол.
Вид у нее был испуганный, пока она наливала ему суп в тарелку.
— Что, жидковат? — озабоченно спросила она с тревогой в голосе.
— Надеюсь, будет в самый раз, — ответил он, разрезая на тарелке мясо.
Она попробовала.
— Господи боже мой, и правда жидкий! — не хотела она этого произносить, но само вырвалось. Как и следующее: — Соль, господи!
Он отложил ложку и смотрел на нее поверх стола, поверх тарелок, поверх большой коричневой эмалированной кастрюли, а она смотрела на него.
— Я так хотела, чтобы суп получился вкусным, — расстроилась Барашек. — Купила все, что нужно: полфунта гороха, полфунта мяса, целый фунт костей, суп должен был увариться!
Пиннеберг взял большой эмалированный половник и принялся водить им по кастрюле.
— Да тут одна гороховая шелуха! Сколько ты воды налила, Барашек?
— Это все из-за гороха! Не дал он никакой густоты!
— Так сколько ты воды налила? — повторил он.
— Полную кастрюлю.
— На пять литров воды всего полфунта гороха? Полагаю, Барашек, — произнес он нарочито загадочным тоном, — вода во всем виновата. Она, видишь ли, слишком жидкая.
— Ты считаешь, что я налила слишком много воды? — спросила она в полном отчаянии. — Но пять литров не слишком много на два дня.
— Да, целых пять литров… получается, даже на два дня многовато. — Он проглотил еще ложку и добавил: — Извини, Барашек, но этот суп — просто горячая вода.
— Родной мой, голодный мой! Что же делать? Давай я за яйцами сбегаю, можно приготовить жареную картошку и яичницу? Не думай — я умею.
— Ладно! За яйцами я сам сбегаю, — сказал он.
И ушел.
* * *
Когда он вернулся, Барашек сидела в кухне, а из глаз у нее лились слезы в три ручья, но лук, который она нарезала для картошки, был здесь ни при чем.
— Милый мой Барашек, — принялся он успокаивать ее, — вовсе это не беда.
Она бросилась ему в объятия:
— Дорогой, я никудышная хозяйка! А как бы мне хотелось, чтобы тебе было хорошо. И бедный малыш. Будет плохо питаться, не вырастет!
— А когда он не вырастет: сейчас или потом? — спросил он и рассмеялся. — А сама ты как думаешь, научишься ты готовить когда-нибудь или нет?
— Зачем ты надо мной смеешься?
— А суп… — проговорил он. — Суп совсем не плохой получился, там только воды многовато. Мы поставим его на плиту, и пусть он как можно дольше там стоит, лишняя вода выкипит, и тогда у нас будет настоящий вкусный гороховый суп.
— Правда! — воскликнула она, сияя от счастья. — Какой ты молодец. Если сегодня днем я так сделаю, за ужином мы по тарелке и съедим.
Они отнесли в комнату жареную картошку и яичницу из двух яиц.
— Ну как тебе? Получилось, как ты привык? У тебя есть еще немного времени, может, приляжешь на минутку? Ты выглядишь уставшим. Милый ты мой.
— Не стоит мне ложиться. Время-то у меня еще есть, просто, боюсь, не смогу я сегодня заснуть. Этот старый чурбан…
Он долго не мог решить, говорить ей обо всем случившемся или не стоит.
Он хорошо помнил, как в субботу ночью они договорились, что между ними не должно быть больше секретов. Потому он рассказал ей все. Даже на душе легче стало.
— Что теперь делать, ума не приложу? — сказал он. — Если я промолчу, первого числа он уволит меня, уж будь уверена. Если бы я раньше рассказал ему все по правде! Если бы сказал, что женат, может, и не выбросил бы он меня на улицу?
На это Барашек — дочь своего отца, считавшего, что работнику от работодателя хорошего не видать — возмущенно проговорила:
— Плевать он хотел на это. Раньше, может, попадались среди них приличные люди, но не теперь. Сам посмотри, сколько сейчас безработных ходят пороги обивают… На место уволенного быстро любого найдут — так они думают.
— На самом деле Клейнгольц не такой плохой, — сказал Пиннеберг. — Ну рубанул с плеча. Пожалуй, стоит ему объяснить. Скажу ему, что мы ждем малыша, поэтому…
Барашек возмутилась:
— И ты хочешь рассказать ему о нас! Этому шантажисту? Ну нет, милый. Ты этого не сделаешь, ни при каких условиях.
— Как ты себе это представляешь? Нужно же мне ему хоть что-то сказать.
— Я бы… — сказала Барашек призадумавшись, — я бы поговорила с теми двоими. — Может, он им тоже угрожал. Если вы будете действовать сообща… не уволит же он сразу всех.
— Неплохая идея, — согласился он. — Главное, чтоб парни не подвели. Лаутербах не обманет, для этого он слишком глуп, но вот Шульц…
Барашек верила в то, что трудящиеся должны быть солидарны друг с другом.
— Сослуживцы помогут тебе! Миленький, все непременно уладится. Я не перестану верить в то, что мы наконец заживем. Сам посуди — работы мы не боимся, экономны, и люди мы добрые, вот малыша ждем, и рады этому — почему же нам должно в жизни не повезти? В этом нет никакого смысла!
КЛЕЙНГОЛЬЦ УСТРАИВАЕТ СКАНДАЛ. КУБЕ ОТВЕЧАЕТ, ОСТАЛЬНЫЕ МОЛЧАТ. НОВАЯ НЕУДАЧА С ГОРОХОВЫМ СУПОМ
У фирмы «Эмиль Клейнгольц» склад для хранения пшеницы находится на старом чердаке, а у чердака множество изгибов и закоулков, в нем отсутствует даже мало-мальски приличное приспособление для засыпки мешков. Чтобы перевезти зерно, сначала надо взвесить мешки на десятичных весах, а потом через люк спустить вниз прямо в грузовую машину.
Ссыпать в мешки за один день шестнадцать сотен центнеров пшеницы — как такое Клейнгольцу только в голову пришло? И это при отсутствии четкого плана и должной организации работы. Пшеница на складе уже целую неделю, и даже две, этого времени хватило бы, чтобы начать ссыпать ее в мешки, но нет — надо все это сделать за один день!
На чердаке было не протолкнуться, на помощь в спешке собрали всех кого можно. Несколько женщин метут пшеницу к кучам, на трех весах ее взвешивают Шульц, Лаутербах и Пиннеберг.
Эмиль бегает без передыху. Настроение у него еще хуже, чем утром: Эмилия не позволила ему выпить ни капли, потому она и Мария остались дома. Даже отцовские чувства не устояли перед натиском гнева на тиранию жены. «Чтоб духа вашего там не было, стервы!»
— Вес мешка прибавили, сколько весит мешок, знаете, Лаутербах? Ну не идиот! Пустой мешок под два центнера муки весит три фунта, а не два! Значит, мешок с мукой должен весить ровно два центнера три фунта, господа. И чтобы лишнего не переложили. Я не намерен никому ничего отдавать даром. Я сам перевешаю, Щульц.
Когда двое мужиков взвалили на желоб мешок, тот развязался, и темно-желтые зерна пшеницы оказались на полу.
— Кто завязывал мешок? Вы, Шмидт? Черт возьми, вы что, совсем разучились это делать? Только вчера родились? Что вы на меня смотрите, Пиннеберг? Смотрите лучше на весы, у вас мешок переполнен. Говорил же вам, дуракам, сказал, ни грамма лишнего!
Но Пиннеберг только разозлился на Клейнгольца и стоял не сводя с него глаз.
— Не будьте идиотом, Пиннеберг! Не нравится, проваливайте. Шульц, кобель похотливый, отстаньте от Мархейнеке. Не хватало еще у меня на складе девок лапать.
Шульц только пробормотал что-то невнятное.
— Молчать! Ущипнул же Мархейнеке за задницу. Сколько у вас мешков?
— Двадцать три.
— Медленно работаете! Плохо! Предупреждаю: пока не погрузим восемьсот мешков, никто отсюда не выйдет! И никакого перерыва. Даже если до одиннадцати вечера провозитесь, и тогда еще посмотрим.
Августовское солнце до невозможности раскалило черепичную крышу, и мужчины остались только в рубашках и штанах, на женщинах было чуть больше одежды. В воздухе висел запах пыли, пота, сена, джутовой мешковины, но сильнее всего пахло потом… потом… потом. От распаренных тел исходил тяжелый дух животной плоти, и с каждым часом он распространялся все шире. Во всеобщей суматохе то и дело пронзительным гонгом звучал голос Клейнгольца:
— Ледерер, совсем, что ль, лопату держать не умеете? Возьмите ее как следует! Поднимай мешок аккуратнее, сукин ты сын, мордой вперед! Смотри, как надо…
Пиннеберг стоял у весов, механически опуская защелку:
— Еще немножко, фрау Фрибе. Еще. А вот это уже слишком много. Горсточку отсыпьте. Снимайте! Следующий! Хинрихсен, не зевайте. Теперь вы. Не то мы здесь до полуночи проторчим.
Все это время в его голове возникали отдельные картины: «Барашек в полном порядке… на свежем воздухе… белые занавески колышет ветерок… Заткнись, черт тебя дери! Что ты все орешь?.. Что ты за это место цепляешься! Боишься потерять? Благодарю покорно».
И опять зазвенел гонг:
— Что у тебя, Кубе? Сколько у тебя получилось из этой кучи? Девяносто восемь центнеров? А в ней было сто. Это пшеница из Никельсгофа. В куче было сто центнеров. Куда у вас два центнера подевались, Шульц? Я сам сейчас взвешу. Ну-ка, ставь мешок на весы.
— Усохла она здесь, жарища-то какая, — слышится голос старого седобородого рабочего Кубе. — Сырая была, когда пришла из Никельсгофа.
— Это я покупаю сырую пшеницу? Попридержи свой язык. Тоже мне умник нашелся. Вывез небось домой, мамаше, а? Еще раз поймаю! Растащили пшеницу, как мыши!
— Не позволю, хозяин, меня вором обзывать, — возмутился Кубе. — Я в союз пожалуюсь. Не позволю, вот и весь разговор. — Произнося эти слова, он отважно смотрел хозяину в лицо.
«Вот молодец, — подумал Пиннеберг. — В союз! Вот если бы и мы так! Но у нас не получится? Не-ет».
Клейнгольцу палец в рот не клади, Клейнгольц и не такое видал.
— Да разве я тебя вором назвал? Я и не думал. Мыши, они и крадут, поди откажись от корма, когда он кругом. Надо бы, Кубе, опять отравы подложить или привить им дифтерит.
— Это вы, господин Клейнгольц, только что сказали, что я брал пшеницу. Вон сколько свидетелей. Я пойду в союз. Пожалуюсь на вас, господин Клейнгольц.
— Ничего я не говорил. Ни слова вам не сказал. Что скажете, Шульц, я Кубе вором обзывал?
— Я не слышал, господин Клейнгольц.
— Видишь, Кубе? А вы, господин Пиннеберг, слышали?
— Нет, не слышал, — запинаясь, промямлил Пиннеберг, в душе обливаясь кровавыми слезами.
— Ну что, Кубе? — обратился к нему Клейнгольц. — Вечно ты склоки затеваешь. В фабрично-заводской комитет метишь?
— Вы бы поосторожнее с этим, господин Клейнгольц, — продолжал гнуть свое Кубе. — Снова вы за свое. Небось, понимаете, о чем я. Уже три раза мы с вами судились, и правда была на моей стороне. Я и в четвертый раз пойду. Мне, господин Клейнгольц, не о чем беспокоиться.
— Какой же разговорчивый ты стал, Кубе, постарел поди, сам не помнишь, о чем толкуешь, — Клейнгольц совсем разозлился. — Жаль мне тебя!
Клейнгольцу надоела эта перепалка. Кроме того, здесь стало и правда очень жарко, особенно когда все время бегаешь и на всех орешь. Клейнгольц решил спуститься вниз, передохнуть.
— Я собираюсь в контору. А вы, Пиннеберг, проследите, чтобы все работали. И никаких перекуров, поняли? Передо мной отвечаете!
Он спустился с чердака, и там тут же завязался оживленный разговор. Клейнгольц сам позаботился о том, чтобы в темах недостатка не было.
— Понятно, почему он сегодня так взбесился!
— Разогреет глотку — угомонится.
— Перекур! — завопил старый Кубе. — Перекур! Эмиль, вероятно, еще во дворе.
— Я очень вас прошу, Кубе, — обратился двадцатитрехлетний Пиннеберг к шестидесятитрехлетнему Кубе, — прошу вас не болтать больше о том, о чем господин Клейнгольц говорить не разрешил.
— Все по договору, господин Пиннеберг, — ответил ему бородатый Кубе, — по договору полагается отдых. Не может хозяин лишить нас отдыха.
— Но ведь мне за это достанется.
— А мне что за дело! — фыркнул Кубе. — Раз вы даже не слышали, как он меня вором обозвал!..
— Если бы вы оказались в моем положении, Кубе…
— Знаю, знаю. Если бы все рассуждали, как вы, юноша, мы бы у них на цепях сидели и за каждый кусок хлеба пели им псалмы. Ну, да вы еще молоды, и у вас все впереди. Вам еще предстоит испытать на себе, насколько далеко вы зашли со своей лестью. Перекур!
Но все и так давно разбрелись по углам. Только трое служащих стояли особняком.
— Можете продолжать, господа, — обратился к ним один работник.
— Эмиль непременно вас похвалит! — подхватил другой. — Или даст коньяку понюхать.
— Нет, Марихен он им даст понюхать.
— Всем троим? — По чердаку разнесся громкий хохот.
— Она и от троих не откажется.
Кто-то затянул песню:
Марихен, Марихен, красотка моя!Ее подхватили все остальные.
— Будем надеется, что нам не достанется, — сказал Пиннеберг.
— С меня хватит, — резко ответил Шульц. — Не хочу, чтоб меня при всех козлом называли! Вот возьму и Марию ребенком награжу и брошу. — Его губы скривились в злобной усмешке.
Его поддержал здоровяк Лаутербах:
— Вот бы подстеречь его как-нибудь ночью, когда он напьется, и надавать ему в темноте. Сразу шелковым станет.
— Слова все это, что мы ему с вами сделаем, — заметил Пиннеберг. — Работяги правы. Мы трусы.
— Ты, может, и трус, а я точно нет, — возмутился Лаутербах.
— И я не трус, — поддержал его Шульц. — Мне и самому эта лавочка уже опостылела.
— С этим надо что-то делать, — предпринял Пиннеберг первую попытку. — Разве он не разговаривал с вами сегодня утром?
Все трое в каком-то замешательстве устремили друг на друга недоверчивые взгляды.
— Слушайте, — продолжал Пиннеберг, ему было уже все равно, что они подумают. — Сегодня утром он мне все уши прожужжал о своей Марии, все нахваливал ее. А еще чтобы я к первому числу решил, самому мне уволиться или ждать, что он меня уволит. Это как-то связано с Марией — но я и сам не понял, как.
— Со мной он тоже говорил. Видите ли, из-за того, что я нацист, говорил, у него могут возникнуть проблемы.
— А со мной о том, что я по бабам бегаю.
Пиннеберг сделал глубокий вдох и спросил:
— И что?..
И они наперебой затараторили.
— Что «и что»?
— Сами-то вы что намерены ответить ему первого числа?
— А что тут ответишь?
— Ну, на Марию вы согласны?
— Это исключено.
— Пусть лучше увольняет.
— И тогда уж…
— Что «тогда уж»?
— Тогда мы трое можем сговориться.
— Это как?
— Например, дадим друг другу слово, что наотрез откажем Марии.
— Да не станет Эмиль даже заговаривать об этом, не полный же он дурак.
— Но не сможет же он только из-за Марии нас уволить.
— Вот и давайте условимся: если он уволит одного, остальные сами уволятся. Но только слово сдержим.
Лаутербах и Шульц задумались, прикидывая, чем каждый рискует и стоит ли давать такое обещание.
— Троих же он не уволит, — не унимался Пиннеберг.
— Вы правы, — согласился с ним Лаутербах. — Он не пойдет на это. Ладно, обещаю.
— Я тоже, — сказал Пиннеберг. — А ты, Шульц?
— Согласен.
— Кончай перекур! — взревел Кубе. — Ну что, господа, поработать не желаете?
— Значит, решено?
— Слово даю!
— Честное слово!
«Господи, вот Барашек обрадуется, — подумал Ханнес. — Целый месяц можно не волноваться». И троица направилась к весам.
* * *
Пиннеберг вернулся домой около одиннадцати вечера. Барашек уже спала, свернувшись клубочком в углу дивана. Лицо у нее было как у заплаканного ребенка, на веках еще не просохли слезы.
— Господи, наконец-то! Я так испугалась!
— Ну и чего ты испугалась? Что со мной такого могло случиться? Пришлось работать сверхурочно, такое счастье выпадает нам два раза в неделю.
— Я и правда сильно испугалась! И ты, должно быть, есть хочешь.
— Не то слово как. А что это у нас за запах?
— Не понимаю. — сказала Барашек и повела носом. — Боже! Мой гороховый суп!
Они стремглав бросились в кухню. Вонючий дым щипал им глаза.
— Окна! Быстро открывай окна! Чтобы все выдуло!
— Господи, газовый кран. Сначала надо выключить газ. Только вдохнув свежего воздуха, они отважились снять крышку с большой кастрюли.
— Мой ненаглядный гороховый суп! — запричитала Барашек.
— Сгорел!
— И мясо!
Они рассматривали кастрюлю, дно и стенки которой покрывала темная, зловонная, липкая масса.
— Я его в пять часов на плиту поставила, чтобы лишняя вода испарилась, — оправдывалась Барашек. — Ждала тебя к семи. А тебя все нет и нет, и мне так страшно стало, что я и думать забыла об этой дурацкой кастрюле!
— Кастрюля померла, — с грустью в голосе констатировал Пиннеберг.
— Может быть, ее еще отчистить получится, — задумчиво сказала Барашек. — Медной щеткой.
— Все это денег стоит, — вздохнул Пиннеберг. — Подумать только, сколько денег мы потеряли за последние дни. Кастрюли, медные щетки, обед — на эти деньги я мог три недели питаться… Ну вот, ревешь, а ведь это так и есть.
— Я так старалась, дорогой, — всхлипывала Барашек. — Только когда я за тебя боюсь, тут не до еды. Не мог прийти на полчаса раньше? Тогда бы мы выключили газ вовремя.
— Ну и ну, — только и мог сказать Пиннеберг и бросил крышку на кастрюлю, — будет нам уроком. Я… — Он решил сделать геройское признание: — Я ведь тоже иногда ошибаюсь. Поэтому тебе плакать не стоит… Ну а теперь дай мне, наконец, поесть. Я зверски голоден!
Приложение Жизнь и творчество Ханса Фаллады
1893 21 июля в Грайфсвальде в семье земского судьи Вильгельма Дитцена и его жены Элизабет Дитцен родился третий сын — Рудольф.
1899 Отца назначают советником апелляционного суда, семья переезжает в Берлин.
1909 Отца назначают советником имперского суда, семья переезжает в Лейпциг; Рудольф попадает на велосипеде в тяжелую аварию.
1911 Учеба в гимназии в Рудольштадте; тяжелая травма при замаскированной под дуэль попытке двойного самоубийства, в результате которой погиб друг Рудольфа — Ханс Дитрих фон Неккер.
1912 Лечение в нервной клинике в Танненфельде (Саксония).
1913 Учеба в сельскохозяйственном училище в Постерштайне (Саксония).
1914 Записывается добровольцем в армию, но через несколько дней признан по здоровью негодным к строевой службе.
1915 Практикант в имении Хайдебрек (Задняя Померания).
1916 Работа в Сельскохозяйственной палате в Штеттине,[5] затем в Берлине в картофелеводческой компании.
1917 Лечение от наркозависимости в Карлсфельде под Бреной. Затем работа главным кассиром в различных имениях и проч. в Мекленбурге, Передней Померании, Шлезвиг-Гольштейне, Силезии.
1919 Повторное лечение от наркозависимости в Танненфельде.
1920 «Юный Гёдешаль» (“Der junge Goedeschal”). Отныне пишет под псевдонимом Ханс Фаллада.
1923 «Антон и Герда» (“Anton und Gerda”). За растрату Дитцен приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения; до ареста работает секретарем в имении в Радахе под Дроссеном.
1924/25 Три месяца в тюрьме Грайфсвальда. По выходе на свободу — счетовод в Гуддерице на Рюгене и в Любгусте в Померании.
1926 За новую растрату приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в Центральной тюрьме Ноймюнстера.
1928 Работает в Гамбурге (надписывает конверты); член СДПГ; помолвка с Анной Иссель.
1929 Агент по сбору объявлений в Ноймюнстере, местный репортер в газете General-Anzeiger, 5.06 — женитьба на Анне Иссель; судебный репортер на «процессе Движения сельского населения».
1930 Получает место в издательстве Rowohlt-Verlag. Рождение сына Ульриха.
1931 «Крестьяне, бонзы и бомбы» (“Bauern, Bonzen, Bomben”). Переезд в Нойенхаген под Берлином.
1932 «Что же дальше, маленький человек?» (“Kleiner Mann — was nun?”). После выхода романа целиком посвящает себя литературному труду.
1933 Переезд в Беркенбрюк. Одиннадцатидневный арест в результате доноса. Покупка усадьбы в Карвице под Фельдбергом. Рождение дочери Лоры.
1934/35 «Кто однажды отведает тюремной похлебки» (“Wer einmal aus dem Blechnapf frißt”), «У нас когда-то был ребенок» (“Wir hatten mal ein Kind”), «Сказка о городском писаре, который летал в деревню» (“Das Märchen vom Stadtschreiber, der aufs Land flog”).
1936 «Старое сердце отправляется в путешествие» (“Altes Herz geht auf die Reise”), «Хоппельпоппель, где ты?» (“Hoppelpoppel, wo bist du?”).
1937 «Волк среди волков» (“Wolf unter Wölfen”).
1938 «Железный Густав» (“Der eiserne Gustav”), «Истории из Бедокурии» (“Geschichten aus der Murkelei”).
1939 «Маленький человек — большой человек, все смешалось» (“Kleiner Mann, großer Mann — alles vertauscht”).
1940 «Нелюбимый мужчина» (“Der ungeliebte Mann”). Рождение сына Ахима.
1941 «Человек стремится наверх: женщины и мечтатель» (“Ein Mann will hinauf: die Frauen und der Träumer”) [также под названием “Ein Mann will nach oben”], «Храбрый книготорговец» (“Der mutige Buchhändler”) [также под названием «Приключение Вернера Квабса» (“Das Abenteuer des Werner Quabs”)].
1942 «У нас дома в далекие времена» (“Damals bei uns daheim”), «Два нежных барашка, белые как снег» (“Zwei zarte Lämmchen weiß wie Schnee”), «За час перед сном» (“Die Stunde eh du schlafen gehst”).
1943 «Сегодня у нас дома» (“Heute bei uns zu Haus”), «Барчук фон Штраммин» (“Der Jungherr von Strammin”) [также под названием «Молодой господин — совсем взрослый» (“Junger Herr ganz groß”)]. По заданию имперской «Трудовой повинности» объезжает в звании майора аннексированные области Чехословакии и оккупированную Францию.
1944 Развод с Анной Дитцен; после ссоры, во время которой достал огнестрельное оружие, принудительно направлен в земельную лечебницу Альтштрелиц, где на материале тюремного дневника 1944 года пишет «Пьяницу» (“Der Trinker”) [первое издание под названием «В моей чужой стране» (“In meinem fremden Land”), 2009]; «Фридолин, нахальный барсучок» (“Fridolin, der freche Dachs”).
1945 Женитьба на Урсуле Лош; в конце войны назначен Советской военной администрацией бургомистром Фельдберга; нервный срыв и лечение в больнице, переезд в Берлин, работа по заказам газеты Tägliche Rundschau, переезд на улицу Айзенменгервег.
1946 Новые госпитализации, работа над «Пьяницей» (переработанная редакция опубликована в 1950/53), «Кошмар» (“Der Alpdruck”, опубликован в 1947) и «Каждый умирает в одиночку» (“Jeder stirbt für sich allein”, опубликован в 1947).
1947 5 февраля Рудольф Дитцен/Ханс Фаллада скончался в Берлине.
Примечания
1
Вильгельм Буш (1832–1908) — немецкий поэт-юморист и карикатурист. На его рисунках к стихотворению «Дырка в зубе» платок на голове у персонажа повязан таким образом, что на макушке торчит бантик, напоминающий заячьи уши.
(обратно)2
Сбор добровольно-принудительных пожертвований в пользу бедных.
(обратно)3
Кто будет жить, увидит (фр.).
(обратно)4
Отрывок. Полностью роман Ханса Фаллады «Маленький человек» выйдет в издательстве «Синдбад» в 2019 г.
(обратно)5
Ныне г. Щецин (Польша).
(обратно)
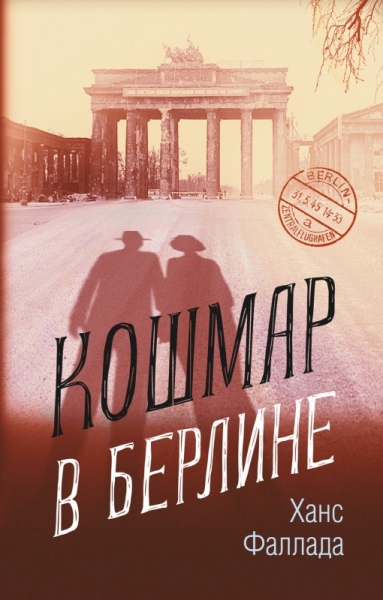
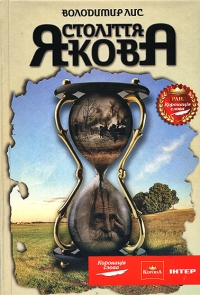


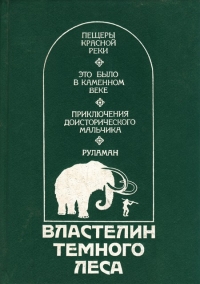
Комментарии к книге «Кошмар в Берлине», Ганс Фаллада
Всего 0 комментариев