Мишель Рио Мерлин. Моргана. Артур Трилогия
Мерлин Перевод Степана Никитина
Алисе
Я прожил сто лет. Пока живешь, столетие кажется вечностью, но потом, обернувшись назад, видишь, как оно сжимается в один краткий миг, в котором рождение мысли и зрелость ума, вдохновенная мечта и ее крушение — все это сливается в одно неизбывное воспоминание, без начала и конца. Я горько оплакиваю погибший мир и всех населявших его людей. Я единственный пережил его. Сам Господь Бог отходит в мир иной, и дьявол — вместе с ним. Жажда абсолютного, всегда двигавшая мной, обрела наконец в бездействии свой идеал: абсолютное одиночество. Мертвящую пустоту. К чему теперь скромность и недомолвки? Не должен ли я сказать: я сотворил мир и вот он мертв? А вся богоравная дерзость этого притязания меркнет перед его конечным итогом — смертью, и два значения слова «тщеславие» — гордыня и тщета, — стирая друг друга, приблизительно передают то ничтожество, в котором я завершаю свой путь.
А вокруг меня продолжается жизнь. Стоит мне переступить порог чудесной пещеры, которая вот уже пятьдесят лет дает мне кров и пристанище, и я вижу ее — в беспокойном движении или неподвижно застывшую — в мертвой материи, которая, я теперь это знаю, и есть наше конечное бытие. Мне случается разговаривать с деревьями и зверями. Они не знают ни прошлого, ни будущего и потому не ведают печали. Неразумные твари, они следуют бессмысленному животному закону. Их мир вечен, и в нем лишь следы моего мира возвещают о смерти.
Моя пещера находится почти на самой вершине скалистого холма, который возвышается над всей округой. От входа — с того самого места, где полвека назад Вивиана, стремясь подчинить меня своей власти, сотворила свои призрачные чары, не понимая, что я только того и хотел и что ее тело, а не ее сомнительное волшебство удерживало меня здесь, — открывается вид далеко на земли Беноика. На востоке, над грязно-светлым илом болотных топей с островками зелени и ярко поблескивающими лужицами воды, громоздятся черные развалины замка Треб. Его зловещие обуглившиеся башни, над которыми иногда взлетают стаи грифов — Бог весть в чем находящих себе пропитание, разве в воспоминаниях о пирах и сечах в далекие времена войны Клаудаса и короля Бана, — вырисовываются на фоне напоенной летним зноем, сверкающей лазури неба. Покрывшаяся мелкой сеткой трещин поверхность болот высыхает у кромки твердой земли, где раскинулся волнистый шатер Дольнего Леса, расцвеченный всеми оттенками сочного темно-зеленого. Местами частые и непроходимые заросли кустарника и мелкие деревца, споря между собой за каждый клочок земли, расступаются перед каким-нибудь древним исполином, который, поглощая своей широкой и густой кроной солнечные лучи, оставляет вокруг себя тенистые проходы, сдерживая напор хищной молодой поросли, жадно обступившей его в погоне за светом и жизнью. Растительное царство неуклонно подступает к самым моим ногам, цепляясь за каждую горсть земли, оставшуюся в углублении скалы; его волна понемногу мельчает и наконец замирает у самой вершины на голом и гладком камне. Внизу тусклые воды озера Дианы — словно гигантские крепостные рвы — разрывают сплошной ковер зелени и тихо плещутся о стены замка, воздвигнутого в прежние времена любовью, оплота учености и веселых утех, ставшего под действием разрушительного времени безмолвным прибежищем одинокой покойницы, величественным и нечаянным надгробием, под которым обрела свой вечный покой Вивиана. На севере, за лесом, за песчаными холмами и хаотическим нагромождением прибрежных скал, — море, омывающее обе Британии, разлилось, словно расплавленное серебро, то сверкая на солнце тысячами огненных бликов, то вдруг мрачнея от набежавшего облака, гонимого на материк сонным океанским бризом. Вдалеке, там, где море сливается с небом, какие-то неясные очертания поднимаются из вод. Авалон. Вечнозеленый и скорбный Insula Pomorum — Остров Плодов. Царство Морганы, остров колдуньи. Проплывая мимо, суеверные моряки и боязливые путешественники молча взирают на него со своих кораблей, считая его волшебной страной сладострастия и смерти, сказочным манящим адом, где царят злые духи и бродят тени несчастных, осмелившихся приблизиться к самой прекрасной и самой ужасной женщине под западным небом. Но я, воздвигший гробницу, где, обретя мир и покой после долгой страстной любви и непримиримой ненависти, навечно уснули брат и сестра, Артур и Моргана, я-то знаю, что остров пуст и что плоды дерев, бесконечным дождем осыпающиеся на землю, сгнивают, никому не нужные, без пользы удобряя пустынный дол.
Так, все зримые — насколько хватает глаз — следы присутствия человека говорят о смерти и разрушении. И я в конечном счете не устоял под бременем вечности и мира, уже почти вкусив бессмертия и безграничной власти духа, но скорбь моя тускнеет перед страданием более жестоким и человечным; когда одним взглядом охватываю я печальные места, где покоятся три самых дорогих мне существа. Ведь в конце концов смерть одного человека потрясает нас сильнее, чем гибель целого мира.
Дольний Лес полнится звонким пением птиц. Стая диких уток опустилась на поверхность озера Дианы, в вышине неба неподвижно повис ястреб, расправив на ветру крылья и высматривая добычу. Кабан шумно возится на своей лежке. Их мир вечен. А мой мир, не был ли он всего лишь беззаконным созданием моего ума? Быть может, человеческая мысль лишь скользит по поверхности мира вещей, не проникая внутрь него, и потому обречена на гибель и забвение? Быть может, воображение дано человеку лишь для того, чтобы примирить его с тем, с чем примириться невозможно. Я хотел заставить дьявола, по преданию породившего меня, служить Богу, то есть человеку. Но вот эти безжизненные тени растворяются в хаосе природы, которая стихийно и бессознательно, без усилия и без цели, торжествует в человеке и над человеком. А у меня цель была. Рожденная в крови, она в крови и потонула. Напоенная кровью земля Бадона и Камланна, где травы гуще и выше, хранит о ней память, как след, что остается на мертвой материи и в бездушном мире. Что же останется от этого соединения Бога и дьявола в памяти людей, в ком уживается светлая душа и мрачный хаос? Свирепость кротких, предательство верных, безрассудство мудрых, сладострастность благородных, прелюбодейство и кровосмесительство непорочных, бессилие могущественных, возвышенность целей и безнравственность средств… И моя собственная вещая слепота. Останется ли в памяти людей человеческая мысль близкой к победе или же поверженной в конечном итоге грубой силой вещей? То, что могло быть, или то, что было и что есть?
Наступала ночь. Солнце уже почти потонуло в западном море, и его последние лучи окрашивали в оранжево-золотистый цвет высокие прибрежные скалы. На востоке на чернеющем фоне неба факелом пылала Иска, построенная некогда римскими легионами, могущественная крепость силуров. На юге, очень далеко, еще видны были залитые косым светом заката едва выступающие над водой очертания берегов Думнонии. Морской ветер, свежий и легкий, гнал к востоку запах крови и пожарищ.
Равнина была мертва. Деметы, забрав с собой тела раненных и убитых в сражении товарищей и сняв с трупов своих врагов оружие и доспехи, отошли на холмы, где был разбит их лагерь. Изнуренные жестоким сражением, продолжавшимся без передышки двенадцать часов, они были молчаливы. Они даже не разжигали костров. Немногие ели, большинство же спало на голой земле — в полном вооружении, покрытые грязью и кровью — там, где сон настиг и свалил их.
Армии силуров более не существовало. Из пятнадцати тысяч воинов в живых не осталось ни одного. Бессчетной грудой они лежали на равнине. Другие сгорали в огне Иски. Некоторые — таких было очень мало, потому что почти все они отчаянно дрались до последнего, — лежали чуть поодаль — на дороге в Кардуэл, по которой пытались бежать и где их догнала и зарубила конница деметов.
Несильный морской ветер, дувший над равниной, не колыхал высокие травы, и по ним не бежали волнами длинные светлые тени. Здесь не осталось больше травы. Ковер из человеческих тел заменил собой растительный покров. Земля лежала без движения, небо было пустынно. Испуганные шумом битвы, птицы улетели далеко, а осторожные стервятники еще не успели появиться над этим чудовищным пиршеством мертвецов.
Лишь два движения нарушали воцарившееся спокойствие. Со стороны крепости языки пламени бросали причудливо скачущие блики на скопления тел, достигавшие в высоту иногда четырех футов и особенно плотные возле главных ворот, где сражение было самым ожесточенным и многолюдным. В этой пляшущей игре света и тени мертвые тела как будто начинали шевелиться, обретая в этом движении отвратительную видимость жизни. И еще огромный всадник, верхом на тяжелом боевом жеребце, одиноко ехал посреди мертвых тел по направлению к холму, откуда я, под присмотром своего учителя Блэза, целый день наблюдал за всеми перипетиями этой великой битвы. Он остановился в нескольких шагах от нас и снял шлем.
— Подай мне моего внука, — сказал он Блэзу.
Это был король деметов.
Он был коронован в возрасте шестнадцати лет, вскоре после ухода легионов, отозванных к границам на материке, которые не выдерживали натиска варварских орд. Он был высок ростом, могуч и по ловкости во владении оружием не имел себе равных. Союзники называли его «Львом», враги — «Дьяволом». К тому же, как ни странно, он знал грамоту. Воспитанный в церковной мудрости и воинских доблестях, он совмещал в себе ученого книжника и свирепого воина. Иногда в этом безжалостном воине просыпался мыслитель. То был хищник, наделенный разумом.
Блэз подтолкнул меня вперед к левому стремени короля, тот наклонился, поднял меня одной рукой и мгновение держал перед собой. Кровь запеклась на его покрытом грязью и потом лице, на черных волосах и седой бороде. Была в нем какая-то пугающая красота. С минуту он задумчиво разглядывал меня, развернул и посадил впереди себя, потом повернул коня, и мы спустились на поле брани.
Мы ехали среди мертвых тел, и тогда я увидел, отчего издали равнина казалась странно белой и словно испещренной маленькими червоточинками — тела павших были совершенно наги, и местами на них засыхали черные струйки крови. Лица воинов — безобразные кривляющиеся маски, выхваченные из самого пекла сражения одним взмахом резца мгновенной смерти, — запечатлели безудержную ненависть и безграничное страдание. Это был словно живой, многократно повторенный лик хаоса, выступавший здесь и там из моря мертвечины, рассеченной чудовищными ранами, который повергал в прах все, что Блэз говорил мне о человеке, о разумности его дел, о достоинствах его ума, о благородстве его чувств, о его способности любить и быть справедливым. Ужас пронизал меня до самых костей. Я дрожал. Дед положил мне на плечо свою огромную и ласковую руку:
— Ты должен привыкнуть, Мерлин. На свете есть только война и ничего, кроме войны.
Он остановил коня посреди равнины.
— Империя гибнет от своего «pax romana»[1]. Силы, пришедшие из мрака времен, разрушают величайшую цивилизацию, которую когда-либо знал мир. Потому что она забыла о войне. Меня воспитали римляне в святом учении Христа. Но вот что я понял: власть требует жестокости. Все, что живет, ведет вечную войну.
Стервятники уже приближались. Первые гонцы, не такие пугливые, как остальные их сородичи, уже летали, постепенно снижаясь, над полем, наконец садились поодаль на холмик из тел, не переставая следить за высокой фигурой всадника и его коня, клевали, снова выжидали и, несколько успокоенные неподвижностью единственного живого существа, возвышавшегося посреди распростертых на земле мертвецов, принимались за свой мерзкий пир.
— Они хорошо сражались, — продолжал король. — Это был их последний бой. Я разбил все их армии, так же, как сначала я разбил всех северных ордовиков: их последний воин погиб при Деве. Помни об этом: никогда не брать пленных. У силуров нет больше мужчин, способных носить оружие. Я отдам их женщин моим деметам. Это скрепит народы.
Эта победа делала его единственным владыкой Уэльса. Он намеревался напасть на Вортигерна, захватившего власть в могущественном королевстве Логрис, и возвратить Пендрагону, сыну Констана, трон, принадлежавший ему по праву. Двадцать пять лет назад, после того как умер Констан, а власть присвоил его главный военачальник, дед взял к своему двору Констановых сыновей: Пендрагона и его младшего брата Утера. Он воспитал обоих детей так, чтобы сделать из них послушных союзников и подчинить себе, при помощи армий Уэльса и Логриса, весь огромный остров бриттов, а также и земли тех, кто бежал от саксонских союзников Вортигерна и основал поселения в галльской Арморике, по ту сторону моря.
— Ты будешь моим наследником и наследником Пендрагона. И завещаешь своим потомкам всю Западную империю. Воюй, Мерлин. Воюй, чтобы завоевывать и чтобы сохранить завоеванное. Воюй, чтобы уничтожить своих врагов, а еще для того, чтобы властвовать над народами, потому что тот подданный, чью жизнь ты подвергаешь опасности рядом с собой, будет более тебе предан, чем тот, кто обязан тебе своим благосостоянием во время мира. На свете есть только война, Мерлин, — и ничего, кроме войны.
Он замолчал. Я чувствовал на себе его могучее и ровное дыхание. Потом он добавил:
— Сражайся сам. Научись владеть оружием. В своей армии будь лучшим воином и сражайся во главе ее. Будь сам своим главным военачальником. Презрение твоих солдат опаснее, чем ярость самого жестокого врага. Констан из Логриса поставил во главе своей армии Вортигерна. Вортигерн изменил, и армия не помешала ему. Она повиновалась своему командиру. При этом пусть в смертельной опасности рядом с тобой будут твои самые честолюбивые воины и твои самые могущественные союзники. Они лучше защитят твою жизнь, защищая свою. А если их убьют…
Он усмехнулся.
— Мертвые не предают.
Он повернул коня. Темная туча стервятников взлетела. Теперь их было бессчетное множество, они подкрались, как воры. Мы вернулись к холму, где ждал Блэз. Король опустил меня на землю и сказал ему:
— Возьми охрану и отвези Мерлина в Моридунум. Отведи его к моей дочери и оставь их одних. Настало время ему увидеть свою мать и кое-что узнать от нее о своем рождении. Завтра я начну осаду Кардуэла, столицы силуров — я сделаю ее столицей всего Уэльса и поселюсь в ней. Ты приедешь туда с моей дочерью и внуком. Тогда я торжественно, перед всем двором провозглашу Мерлина моим наследником. Ступай!
Он уехал в сторону холмов, где стояла его армия. Совсем стемнело, и пылающая Иска бросала отсветы на что-то огромное и живое, что-то черное, бесформенное, копошащееся, словно подергивался и колыхался саван, который накрыл мертвых. Стервятники вернулись.
Это происходило в четыреста пятидесятом году от Рождества Христова, или в одна тысяча двести втором от основания Рима. Мне было пять лет.
— Блэз, почему ты говорил мне, что моя мать умерла? Почему нас разлучили, если она жива, и почему она живет затворницей, словно мертвая? Повинна ли она в каком-нибудь преступлении или испытывает к человеческому роду такую сильную ненависть, что всякая связь с ним внушает ей отвращение? Потому ли, что у меня нет отца, я был лишен и матери? И не в моем ли рождении кроется этот грех или причина этой ненависти? Почему я читаю страх в глазах всех, кто видит меня, за исключением тебя и короля? Ты солгал мне, святой отец! И твоя святость, твоя ученость, твой авторитет учителя и достоинство твоей старости, отравленные ложью, внушают мне сомнения.
— Я предсказываю тебе, Мерлин, что ты будешь мудрецом и учителем среди людей, вечным старцем и лгуном. Я предсказываю тебе, что твой ясный ум и стремление к добру неизбежно заставят тебя лгать, лгать не самому себе, но другим — слепым и глухим, малым и блаженным. Потому что они — суть бесформенный и безликий материал, из которого можно вылепить святых праведников или закоренелых злодеев, и ложь — нередко лучшее для этого средство. Ты не любишь этот мир, и сказал мне, что хочешь выдумать другой. Но в каждой выдумке есть обман, и даже поиск истины не обходится без заблуждений. Как иначе убедить слабого в том, что у него есть права, сильного — что у него есть обязанности, и обоих — что права одного являются также и обязанностями другого, уравнивая их силу и возможности? Это хороший закон, но он никогда не соблюдается. Единственный истинный закон, Мерлин, — это закон твоего деда. А в том, что ты называешь моей ложью о твоем рождении, — я лишь выполнил приказ короля и в особенности волю твоей матери, которая была моей ученицей до тебя и которую я люблю больше всего на свете. Она скажет тебе об этом все, что сочтет нужным. Что же до страха, который ты внушаешь, я скажу тебе лишь то, что ты и сам можешь заметить. За пять первых лет твоей жизни ты узнал столько, сколько твоя мать узнала за двадцать лет, а я — за всю мою жизнь. В этом есть что-то — божественное или же дьявольское, — что смущает простых людей, которых больше всего пугает самобытность ума. Даже наши тяжеловесные мыслители, наши записные мудрецы, рядящиеся в глубокомысленность, а на самом деле являющиеся лишь старательным списком изреченной мудрости, и, я бы сказал, именно они-то — посредственности, ревниво оберегающие собственную исключительность и способные оценить достоинства лишь себе подобных, — больше всего боятся тебя и ненавидят. Таким образом ничтожество поддерживает самое себя. Все, у кого есть хоть какая-нибудь власть — безмозглые скоты или ученые мужи, — забросали бы тебя камнями или изгнали из страны, не будь ты любимым внуком самого грозного из королей. Твою мать также боялись и ненавидели, и, отвечая им презрением, она по своей воле затворилась от мира. Но если ты, Мерлин, хочешь его изменить, ты должен будешь вступить в бой с этими ничтожными царьками мира материального и бесплотного и использовать их в соответствии с твоим замыслом; и только убедив их в том, что они могут быть выше, чем они есть, тебе, возможно, удастся возвеличить их. Народ последует за тобой, потому что не столь ему важно понимать, сколько хочется верить. Помни только, что наш век короток и что благородная самоотверженность и вера не вечны и легко уничтожаются тем, что называется силой вещей, которая есть не что иное, как возвращение к истинному закону. Вот все, что я хотел сказать тебе о моей лжи, о том страхе, который испытывают другие, и о твоей собственной честолюбивой мечте — в надежде на то, что твой старый учитель стал теперь в твоих глазах немного менее достоин оскорблений.
Я впервые увидел свою мать. Ей было двадцать пять лет. Она стояла передо мной, высокая и ослепительно красивая, но с тем выражением холодной резкости и непреклонной властности на лице, которые я заметил и у короля. Она тоже рассматривала меня, не говоря ни слова.
Потом она посадила меня на свое ложе и села сама, на некотором удалении. Она заговорила мелодичным и ровным голосом — иногда только он ей изменял, и плавное течение ее речи прерывалось, выдавая какое-то сильное волнение, скрытое за внешней спокойной строгостью.
— Поскольку, по словам Блэза, ты за несколько лет превзошел его огромные познания и твой ум уже достиг той зрелости, когда никакая истина не может испугать его, я, с согласия короля, открою тебе то, что уже известно всем и что до сего часа скрывалось только от тебя. Для этого я должна рассказать тебе кое-что о себе, такой странной матери необычного ребенка, которого, несмотря на частые и подробные отчеты Блэза о твоей жизни и твоем воспитании, я никогда не могла себе представить.
Она в задумчивости посмотрела на меня. Потом в первый раз улыбнулась. И в эту минуту я полюбил ее.
— Ты уже знаешь, что я единственная дочь короля деметов. Поскольку королева не смогла произвести на свет других детей, мой отец возложил на меня свою последнюю надежду иметь прямого наследника мужеского пола, чтобы оставить ему все завоеванные им земли. Однако хотя он и видел во мне — как мужчина и государь — свою покорную подданную, во всем послушную его воле, но — поскольку я единственный человек, за исключением тебя, к кому он когда-либо испытывал любовь, — он способствовал моей склонности к наукам и дал мне наставника, известного своей ученостью во всех землях от западного моря и до Константинополя. Сделав это, он, сам того не зная, создал препятствие для выполнения своего замысла, поскольку дал мне возможность противиться его воле. Я очень рано решила посвятить свою жизнь премудростям науки, а не супругу и отбросила саму мысль о браке, как о тяжкой и унизительной обязанности. И потому я решительно отвергала всех являвшихся ко мне женихов, в том числе и Пендрагона, в отношении которого король был особенно настойчив, потому что такой союз помог бы его плану объединения бриттских королевств.
Его беспокойство и раздражение росли год от года, пока не достигли той степени, когда я начала уже думать, что он меня возненавидел и потому силой принудит покориться его желанию. Настал день, когда мне исполнилось девятнадцать лет…
Здесь она снова прервала свой рассказ, словно не зная, продолжать ли ей дальше.
— В тот день Блэз пришел ко мне и объявил: «Поскольку ты отвергаешь всех женихов, но сына ты все равно должна родить, ты родишь его от нечеловеческого существа — от Бога или дьявола. И поскольку Бог уже оплодотворил Марию и послал к людям своего сына, а это может произойти только один раз, то, выходит, отцом твоего ребенка будет Сатана. Уж здесь-то ты не сможешь отказаться, и твоя гордость, заставляющая тебя теперь пренебрегать государями этого мира как невеждами и малыми детьми, должна будет удовольствоваться государем познания. И не бойся родить бесенка, потому как это зачатие — не только воля короля, но также и воля Божия, который извлек же из грязи самое совершенное свое творение и единственное наделенное божественным разумом, — так неужели же он не сумеет извлечь даже из величайшей мерзости подобного союза создание еще более совершенное и еще более разумное». Я согласилась, хотя ужас обуял меня. Тогда Блэз сказал мне: «Он придет сегодня ночью. Я дам тебе напиток, который усыпит твою волю и рассудок. Оставь дверь открытой и погаси все лампы, как сделала бы по доброй воле неразумная дева. Затем ложись нагая на свою постель». Я так и поступила и скоро забылась глубоким сном. Помню только, как вдруг почувствовала непомерную тяжесть — на себе, и боль — внутри, потом, прежде чем снова погрузиться в небытие, я как в тумане увидела огромную тень, неподвижно и безмолвно стоявшую перед моей постелью. Я проснулась испачканная и в крови. Именно так ты и был зачат, Мерлин, сын дьявола, мой сын.
Я не помнил себя от страха. Моему измученному воображению поочередно являлись образы дьявола — то ярко-красного, как огонь, то черного, как ночь, то отвратительного, то прекрасного, то жестокого, то задумчивого, овладевавшего с яростью и нежностью, словно полновластный хозяин, белым и священным телом моей матери. И вдруг безумная круговерть остановилась, и я отчетливо увидал его лик. То был лик короля, моего деда.
Я не знал, был ли я избранником или изгоем, как не знал, сделает ли меня судьба первым или последним среди людей. Я только почувствовал, что, как бы она ни сложилась, я буду навсегда исключен из числа простых смертных, и я ясно ощутил тяжкий гнет одиночества.
— Как только ты родился, мой отец забрал тебя к себе во дворец и препоручил заботам кормилицы, потому что он непременно хотел самолично, с помощью Блэза, дать тебе воспитание, достойное государя. Он не пожелал держать все это в тайне, поскольку собирался перед всем миром объявить тебя своим законным наследником. К тому же длинные языки моих слуг разнесли слух о моей беременности, относительно которой не было единого мнения, была ли она просто греховной, и в таком случае я заслуживала смерти, или же сверхъестественной — тогда следовало обратиться к суду отцов Церкви, которые решили бы мою судьбу. Король устроил открытое разбирательство. Незадолго до того, как я предстала перед судьями, он пришел ко мне и сказал, чтобы я ничего не боялась, потому что он не допустит, чтобы мне причинили какое-нибудь зло. На суде Блэз был моим защитником и утверждал, что я была лишь орудием — орудием страдательным, что было чистой правдой, и слепым, что было ложью, — Божественного Провидения, чьей целью было создать из хаоса человека, способного победить хаос. И то ли его красноречие их убедило, то ли из-за страха, который им внушал король, но только судьи объявили меня невиновной и подтвердили, что твое рождение было доказательством победы Бога над мятежным разумом, а также и абсолютной победы веры над знанием. Таким образом, использовав эти лицемерные и подневольные свидетельства, король и Блэз смогли смыть позор, но не подавили глухое недоверие и плохо скрываемый страх, которые отделили меня от людей, окружив пустыней, в которой, быть может, живешь уже и ты. Я бросилась в изучение наук, но из пищи они сделались лекарством, отчего приобрели горький привкус и имели то странное действие, противоположное их подлинному призванию, что, постигая их, я не только не приближалась к истине, но безнадежно удалялась от нее. Потому что, равно неспособная как к вере, так и к знанию, я замкнулась в изучении случайных следствий, тогда как главные причины оставались мне недоступны. Я больше не знаю, кто такой король, — тот, кого я считала своим отцом. Я больше не знаю, кто такой Блэз, которого я считала разумом мира. И я не знаю, кто ты — Мерлин.
— Я твой сын, мама, и я люблю тебя.
Она приблизилась и, обхватив меня руками, крепко сжала в своих объятиях. Прижавшись головой к ее нежной груди, я вдыхал аромат ее тела. По тому, как вдруг судорожно вздрогнула ее грудь и дрожь сотрясла все ее члены, я почувствовал, что она плачет, но не мог постичь, что означали эти безмолвные слезы, взволновавшие меня до глубины души. Меня переполняла страсть, которая достигла предела, едва успев родиться, — страсть, которая, я знал, никогда уже не оставит меня и в которой я столь же ясно видел чистую любовь, сколь и безудержное желание слиться с ней: мой рано созревший в детском теле разум уже мог постичь природу этих вещей.
— Ты никогда больше не будешь жить в пустыне, потому что я заменю тебе всех людей, насколько я по своей природе и возрасту способен на это, — я стану твоим сыном и мужем.
Мы разделили с ней ужин. Потом я смотрел, как ее слуги готовят ее ко сну. И когда она возлегла на ложе, я разделся и лег рядом с ней. И до самой зари, когда меня наконец сразил сон, я в упоении гладил и ласкал ее тело, не уставая повторять «мама» — слово, неизвестное мне до сих пор. И она отвечала на мои ласки, покрывая меня поцелуями и произнося нежные слова любви.
И с тех пор я проводил возле нее каждую ночь, чувствуя себя одновременно любящим сыном и нежным возлюбленным.
Армии бриттов и саксов, построившись в боевые порядки, смотрели друг на друга в молчании, нарушаемом только ржанием коней и бряцанием мечей. Равнина то вспыхивала тысячью огней, которые отбрасывали сверкающие на солнце стальные доспехи, то вдруг небо закрывала плотная гряда хмурых туч, в которых глухо погрохатывал гром, и тогда земля и люди скрывались в сумрачной мгле. Все — на небе и на земле — было полно грозных предзнаменований.
— Это будет великая битва, мой юный принц, мудрое дитя, наш общий отец, — сказал мне весело Утер. — Даст Бог, военная удача будет не так переменчива, как небо. Сегодня вечером эта земля будет кроваво-красной, цвета саксонской крови — была бы на то воля Господня, а за мной дело не станет.
И он засмеялся. Утер больше всего на свете любил войну.
Почти все логрское королевство уже покорилось ему. Вортигерн погиб, заживо сгорев в своем лондонском дворце. В самом начале войны большая часть бриттских войск узурпатора при известии о том, что Пендрагон и Утер находятся вместе с моим дедом во главе вторгшейся армии, присоединилась к последней и провозгласила своим законным государем старшего сына Констана. Но Пендрагон хотел получить корону только из рук своего покровителя, короля Уэльса. За время войны он показал себя незаурядным вождем и мудрым стратегом, а Утер — непревзойденным воином, но оба беспрекословно повиновались власти и приказам моего деда, в наивысшей степени соединявшего в себе эти воинские доблести.
Отряды саксов, которые Вортигерн, боясь возвращения сыновей Констана и измены своих солдат, разместил на юге королевства и которые обосновались и благополучно простояли там более пятнадцати лет, не участвовали в войне и собрались теперь, чтобы встретить соединенные армии Уэльса и Логриса на равнине к западу от Венты Белгарум.
Мой дед поднял меч. Бескрайние ряды всадников всколыхнулись, за ними — пешие воины. Прямо на нас, построившись острым клином, двинулись саксы, словно хотели прорвать наши порядки в том месте, где находились вожди. Они испускали громкие крики и изрыгали проклятия и оскорбления. Планомерное безмолвное приближение правильных шеренг бриттов было еще ужаснее. Король во второй раз поднял меч. Всадники расступились. Они разделились на две равные части, открывая для удара саксонского клина плотные ряды пеших воинов. Конница бриттов во весь опор поскакала вокруг вражеской армии и замкнула окружение за ней. Это была сеть ретиария[2] против меча мирмиллона[3]. Резня началась.
В течение нескольких часов окружение удерживалось. Первые ряды саксов были изрублены в куски. Большинство воинов, стиснутые в середине своими же товарищами, были скованы и не могли броситься на врага. Наконец наброшенная сеть была прорвана в двух местах. Людской поток, вырвавшись из смертельных тисков, устремился наружу через проделанные бреши.
Мой дед и Пендрагон с несколькими сотнями конных деметов были отрезаны от Утера, который оставался с главными силами кавалерии и большей частью пехоты. Саксы воздвигли между ними непреодолимую преграду. Они ограничивались тем, что отбивали атаки Утера, приберегая всю свою ярость для двух королей, оставшихся без прикрытия. Эти последние скоро оказались в смертельной опасности. Деметы, на которых обрушились полчища врагов, стояли насмерть, не отступая ни на шаг. Пендрагон сражался доблестно. Но ни один воин не мог сравниться с королем Уэльса. Его огромный меч ломал шлемы и щиты, отрубал руки и ноги и кромсал черепа, на мгновение создавая вокруг него кровавую пустоту, которую немедленно заполнял новый, еще более яростный вал нападающих. Ловкий, могучий и неутомимый, он не один раз был ранен, но каждая рана, вместо того чтобы ослаблять его, казалось, только еще сильнее разжигала в нем воинственный дух. То была живая легенда — Лев и Дьявол, — и он убивал без устали.
Вдруг Пендрагон, пронзенный копьем в живот, рухнул на холку своего коня и соскользнул вниз. Мой дед спрыгнул на землю, встал впереди него и продолжал бой пешим. Видя это, Утер — он уже тысячу раз рисковал жизнью, пробиваясь им на помощь и безуспешно пытаясь прорвать рады саксов, — обернулся к своим воинам и закричал:
— Ко мне, заячьи душонки! Они убивают ваших королей! Сюда, грязные лежебоки! Пусть вас порубят на куски, трусливое семя! Вы, логры, тридцать лет служившие вонючему псу, умрите же за мужа! Алой кровью смойте черный позор ваших душ, если только и кровь ваша еще не отравлена предательством!
И с бешенством отчаяния бросился он в самую гущу вражеских рядов. Охраняемый в тылу самыми преданными деметами короля, я посильнее хлестнул моего коня и, прежде чем они успели меня остановить, направил его в прорыв, пробитый атакой Утера.
Оглушительный рев валлийцев и логров поглотил все вокруг. Я увидел, как они бегут на врага со звериной яростью, удесятеренной нанесенным им оскорблением. Это был ураган, и он смел все на своем пути. В рядах саксов началась паника. Бой отодвинулся на несколько миль, освободив то место, где, словно скала, стоял перед распростертым на земле телом Пендрагона мой дед.
Я остался один перед ним, посреди горы из мертвых тел — красноречивого свидетельства беспощадности, с которой, он защищался. Он был ужасен. Покрытый кровью с головы до ног, он, казалось, держался на ногах только благодаря нечеловеческому усилию и чудовищной воле. Его голова вздрагивала, как у смертельно раненного хищного зверя, который в отупении наступающей смерти собирает последние силы, чтобы продлить еще немного свою жизнь. При каждой судороге с его лица стекал и падал на траву кровавый дождь. Он воткнул меч в землю и оперся о него.
— Еще слишком рано, — прошептал он. — Спускаются тени. Слишком рано. Нужно преследовать их. Обещай мне, Мерлин.
— Я клянусь тебе, отец.
Он бросил на меня странный взгляд и упал замертво.
Мои стражи догнали меня. Они с плачем окружили тело короля — это были его самые старые товарищи, они были рядом с ним во все время его царствия. Я один не проливал слез и в смятении чувств, обуревавших меня, сам не знал, любил ли я или ненавидел этого человека.
Пендрагон был еще жив. Я велел перенести обоих королей в шатер и обмыть их раны. На ту рану, что Пендрагон получил в живот, было ужасно смотреть. Я сшил ее разошедшиеся края, но я достаточно понимал во врачебном искусстве, чтобы определить, что он был обречен. Он не издал ни единого стона. Мой дед был иссечен сотней ран, через которые — хотя ни одна из них и не была смертельной — жизнь вытекла вместе со всей его кровью. Их красная сеть пересекала белые нити его старых шрамов. И это гигантское истерзанное тело, словно побежденное наконец совершенное орудие войны, выражало собой со всей безобразной красноречивостью то вечное торжество грубой и жестокой силы, которым и была его жизнь.
Утер вернулся с наступлением ночи — с обессиленной, но победоносной армией. Он разбил саксов. Войдя в шатер, он, безмолвный и потрясенный, смотрел на двух королей, возлежащих на своих ложах. Пендрагон увидел его, сделал нам знак приблизиться и заговорил слабым голосом:
— Заботьтесь друг о друге и будьте каждый для другого одновременно сыном и отцом. Ибо один из вас ребенок телом, а другой умом. Вместе вы будете владеть миром. Утер, назначь Мерлина твоим наследником, как сделал я, получив корону. Такова была воля короля.
Сказав это, он умер. Утер упал на колени и горько зарыдал, как оставшийся один на свете сирота. Это было необычайное и ошеломляющее зрелище — видеть, как плачет такой великий воин. В этом был весь он, словно в подтверждение слов Пендрагона: тридцатилетний ребенок, неистовый и благородный — в войне и в скорби.
— Едва только родственники короля узнали о его смерти и о том, что на поле битвы ты провозглашен полновластным властителем Уэльса, они собрались в Кардуэльском дворце, не выказывая ни малейших признаков скорби, но наоборот — дух мятежа и предательства. Они заявили, что престол не может достаться ребенку и дьявольскому отродью, и объявили наследником племянника короля. А тот решил послать сюда с посольством своего сына, чтобы предложить королю Утеру союз и убедить войска Уэльса признать его власть. Они сделали это беспрепятственно, поскольку все верные твоему деду воины были с ним в походе на Логрис. Мне, одному из самых старых его слуг, удалось бежать, и я скакал целый день, чтобы известить тебя об этих событиях.
— Что сталось с моей матерью?
Гонец в нерешительности бросил на меня испуганный взгляд и опустил голову.
— Что сталось с моей матерью?
— Они убили ее, а также твоего и ее учителя, отца Блэза.
Я почувствовал, как рука Утера опустилась на мое плечо.
— Прикажи воинам готовиться в поход, — сказал я ему. — Пусть каждый конный посадит на своего коня одного пешего. Мы немедленно выступаем из Венты Белгарум. Я хочу, чтобы уже завтра мы были в Кардуэле.
С этими словами я вышел из его шатра и вернулся в свой, откуда выгнал всех своих слуг, потому что не мог никого видеть.
Я скакал всю ночь и половину следующего дня во главе армии, рядом с Утером, не проронив ни слова. Наконец мы подъехали к Кардуэлу. Люди и лошади были измучены, но, не давая им отдыха, я велел окружить город, чтобы ни одна душа не смогла выйти оттуда. Потом вместе с Утером и частью армии я въехал в город. Жители заперлись в своих домах, опасаясь бесчинств со стороны солдат. Они никак не участвовали в перевороте, но, по-видимому, опасались наказания за свою бездеятельность, однако я и не думал их наказывать, поскольку весь мой гнев обратился против моей собственной семьи.
Так — через пустой, будто вымерший город — мы подъехали к дворцу. Королевская гвардия, оставленная при дворе моим дедом и состоявшая исключительно из деметов, численностью в пятьсот человек, сложила оружие и покорилась. Я приказал убить всех до последнего человека. Никто из них не защищался и не издал ни единого звука. Все подставляли себя под мечи своих братьев, и те резали их, как свиней, с отвращением, говорившим о том, что они предпочли бы сопротивление. Все закончилось очень быстро, в страшной тишине, нарушаемой лишь свистом опускавшихся мечей и глухим шумом падавших на землю тел.
Я приказал осадить дворец и найти всех, кто в нем укрывался. Вскоре узурпатор вышел оттуда со своими родственниками и приближенными. Среди них было тридцать мужчин, столько же женщин и много детей. Увидев мертвые тела стражников, все они обнаружили явный испуг и отчаяние, ибо поняли, что пощады не будет. Вождь их, мертвенно-бледный, выступил вперед и приблизился к нам. Страх его, который он тщетно старался превозмочь, был омерзителен.
— Сын дьявола, — вскричал он, — если власть твоя и мудрость твоя не от отца твоего, но от Господа, что заповедал нам прощение, — пощади нас. Твое милосердие навсегда смоет с тебя все подозрения в глазах людей, но смерть наша только подтвердит нашу правоту, а тебя обречет на проклятие. Так пощади же нас, Мерлин! Пощади!
Возгласы неодобрения послышались в рядах деметов. Я повернулся к Утеру, лицо которого выражало отвращение и презрение, и сказал ему:
— Отправь в изгнание женщин и детей. Проследи, чтобы им не было причинено никакого вреда. Они не должны быть разлучены. Мужчин же убей всех до одного.
Я вошел во дворец, чтобы отыскать свою мать. Мертвый Блэз нес стражу у ее покоев. Он был приколочен к двери. В его широко отверстых глазах, подернутых дымкой смерти, еще не погас насмешливый огонек, но ему противоречил страшный оскал его рта, искривленного страданием и застывшего в нескончаемом последнем крике. Когда я толкнул дверь, он словно посторонился, чтобы пропустить меня. Моя мать лежала на полу перед своим ложем, лицом вверх. Белизна ее прозрачной кожи сливалась с белизной ее платья, посреди которого расплылось большое черное кровяное пятно; кровь запеклась и на полу вокруг ее бедер, окружая их, наподобие нимба. Я приблизился и всмотрелся в ее нежное и гордое лицо, сияния которого едва коснулась уже начавшаяся безобразная и тайная работа смерти, ведущая каждого человека к разрушению и забвению. Посередине черного пятна я увидел какой-то предмет, выступавший между ее ног. То был меч, всаженный по самую рукоять, — чудовищная жестокость, убийство и одновременно бесчестье. Рана эта была единственной — без сомнения, ее умертвили именно таким способом, дабы покарать за то, что она произвела меня на свет. Я схватился за меч и со страшным криком, так, словно он поразил мое собственное тело, вырвал его и отбросил далеко прочь. Зловонная жидкость потекла из раны. Я старательно обмыл свою мать и переодел ее, выбрав самую богатую одежду, какую только смог найти. Потом поднял ее и положил на постель. Я сел возле нее и оставался там, не отводя от нее глаз и неустанно вполголоса призывая ее, с чувством страстной любви, чистой и беззаконной, словно желая вернуть ее из холодной страны смерти в этот еще более холодный мир, где она оставила меня одного.
Вдруг я заметил, что почти уже не вижу ее, потому что настала ночь. И эта слепота, словно последний знак смерти, навсегда разлучившей нас, наконец вселила в меня ужас. Та необычайная решимость, которая прежде заставляла меня действовать и мыслить как бы отдельно от самого себя и притупляла осознание всего происходившего, или, вернее, его истинного значения, избавляя меня от самых невыносимых страданий, теперь оставила меня. Я разом почувствовал всю звериную жестокость жизни и погрузился в ад. Я бросился на тело матери и судорожно сжал его в своих объятиях, я безутешно плакал и безнадежно кричал, как может кричать и плакать лишь тот, кто на пороге своей жизни познал горечь утрат.
Так мир рухнул в первый раз. Мне было девять лет. Я чувствовал себя ребенком и стариком.
— Утер, соединившаяся кровь Уэльса и Логриса сплотила их не браком, не любовью и не общим потомством, но убийством, войной и смертью. И мы с тобой — единственные оставшиеся в живых дети смешанной крови от этого мрачного союза. Мы — дважды наследники двух родов: одних и тех же людей, связанных между собой двойственными узами — в зависимости от того, идет ли речь о кровном или духовном родстве. Потому что ты, брат Пендрагона, по своему характеру и уму — продолжение моего деда, а я, потомок этого грозного короля, — ближе к Пендрагону, разделявшему вместе с моей матерью и в соответствии с учением Блэза ту мысль, что истинная власть в большей степени основывается на знании, чем на силе. Между тем знание без силы бесплодно, а сила без знания в конечном счете разрушает сама себя. Я не воин. Я не гожусь для этого ни по своему возрасту, ни по своим наклонностям. А ты — величайший из воинов западного мира после смерти короля — не государственный муж, потому что можно завоевать мир, но не быть способным его построить. Поэтому мы и должны быть, следуя в этом мудрому совету Пендрагона, королем о двух головах. Но поскольку в глазах народа государь должен быть только один — им будешь ты. Я отдаю тебе Уэльс. Логрис, раздвинув свои границы, омываемый двумя морями — Ирландским и Галльским, — не имеющий себе равных среди бриттских королевств, сможет и дальше расширять свои владения, осуществляя тем самым мечту короля об объединении, а также и мою мечту, отличную от его.
— Но, Мерлин, коль скоро король, Пендрагон и я назначили тебя нашим общим наследником, почему бы тебе теперь же не вступить в свои права? Я буду твоим военачальником. Я буду воевать, а ты станешь строить, и вместе мы будем следовать каждый своему предназначению. Мне кажется, что, раз власть ничего не стоит без вечности, она должна принадлежать скорее терпеливому строителю, чем завоевателю, чьи победы призрачны и недолговечны.
— Нет. Мой дед был прав. Король сам должен быть своим военачальником. Да и потом, люди могут подчиняться только одному из себе подобных. В сознании народа я инородец. Они боятся меня. Это не того рода страх, что вызывает преданность, но тот, что порождает недоверие и ненависть.
— Если ты откажешься от престола, то кто будет править после меня?
— Новый человек. Воин, достаточно сильный и грозный, чтобы водворить наконец мир и остановить эту резню, идущую с тех пор, как стоит мир. Государственный муж, достаточно рассудительный, чтобы быть философом, достаточно искусный, чтобы убедить других в том, что они думают то, чего в действительности не думают, и хотят того, чего в действительности не хотят, достаточно прямодушный и справедливый, чтобы внушить уважение даже самым заклятым врагам. Мудрец с познаниями достаточно всеобъемлющими, для того чтобы наилучшим образом воспользоваться точными знаниями тех, кто не обладает необходимой широтой ума, и с их помощью из маленьких отдельных камешков выстроить огромное и стройное здание. Судья, достаточно милосердный, чтобы быть любимым. Человек, который сможет наконец примирить Бога с дьяволом, то есть разум с самим собой. Человек, которого я должен создать одновременно с миром, так как в противном случае этот мир погибнет, не родившись, ибо будет пуст. То будет твой сын, Утер. Но для того чтобы мечта воплотилась наяву, ты должен теперь же поклясться мне, что отдашь его мне с самого его рождения и что передашь мне все права родительства, все обязанности по его воспитанию, все преимущества отцовской любви.
— Почему ты не воспитаешь таким своего сына?
— Потому что у меня не будет детей. Неужели ты думаешь, что люди будут больше любить внука дьявола, чем его сына? Так принесешь ли ты мне клятву, которую я требую от тебя?
— Я клянусь тебе в этом, Мерлин, душой моего брата Пендрагона. И пусть моя душа будет проклята, если я нарушу эту клятву.
Я велел похоронить свою мать, деда и Пендрагона на том месте, которое саксы называют Стангендж — Каменные Столбы, что к северу от равнины, где оба короля нашли свою смерть. В древности люди воздвигли там круги из огромных камней, а теперь гигантское сооружение, превращенное мной в усыпальницу, должно было навсегда сохранить в людях память об этих троих мертвецах. Блэза предали земле в стране деметов.
Перед собравшимися войсками Утер был провозглашен королем Логриса и Уэльса. В мою честь он перенес столицу из Лондона в Кардуэл, а в память своего брата принял имя Утер-Пендрагон.
Не медля нимало отправился он в завоевательные походы против своих соседей. Я был рядом с ним. Так вступил на царство Утер, а вместе с ним и я.
Шел снег. Крепость мало-помалу становилась совершенно белой, как и город, раскинувшийся внизу. Внутри крепостных стен расхаживали вооруженные люди, чистили лошадей, по нескольку человек собирались погреться вокруг костров. Из башни, нависшей над главными воротами, я смотрел, как по девственно-чистому полотну, которое суровая работница-зима старательно набросила на окрестные поля и возвышенности, перекрасив их в один безнадежно-ослепительный белый цвет, медленно движется длинная и черная вереница всадников.
Вот к всадникам подъехали несколько наших дозоров. Они вступили в переговоры. Скоро, в окружении воинов Логриса, они продолжали свой путь, в то время как один из дозорных во весь опор поскакал по направлению к крепости. Я обернулся к Утеру и сказал:
— Это посольство бригантов.
Война продолжалась уже четыре года. Утер, одерживая повсюду победы, завоевал земли корновиев, коритан и икенов, расположенные по северным границам Логриса, а также далекую страну паризиев, где провел последнюю зиму и восстановил по моему совету древнюю римскую крепость Эбуракум, откуда он теперь готовился захватить обширную страну бригантов, простирающуюся до самой стены Адриана.
Солдат вошел, поклонился и сказал:
— Король бригантов и король оркнейцев просят принять их.
Утер молча кивнул, и солдат вышел. Вскоре два человека переступили порог комнаты. Один — могучий воин, почти такой же высокий и сильный, как Утер. Другой был совсем еще молод. Они посмотрели на меня с любопытством. Первый заговорил:
— Король Утер и ты, дитя, — должно быть, ты тот самый Мерлин, о котором говорит весь бриттский мир, — я Леодеган, король бригантов, а это принц Лот Орканийский. Он мой союзник против каледонийцев из Горры и пиктов, которые являются также и вашими врагами. Мы вместе предлагаем вам мир и союз во избежание кровавой и бессмысленной войны.
Утер смерил их долгим взглядом. На его лице нельзя было прочесть, о чем он думал. Наконец он ответил:
— Пока отдохните с дороги. Я пошлю за вами и дам свой ответ.
Как только они вышли, Утер с раздражением сказал мне:
— Что касается союза с Лотом, то я не вижу препятствий. Его владения слишком далеки и слишком малы, чтобы я захотел их присоединить, тем более что никогда не помешает заключить союз с врагом пиктов. Но Леодеган владеет большим королевством на моих границах, которое я мог бы легко подчинить силой, расширив таким образом Логрис до границ прежней империи. Меня беспокоит, когда возможная жертва предлагает дружбу; ведь мир, предложенный волку ягненком, не может не быть подозрительным. Но по-видимому, я не могу заключить раздельный союз. В конце концов это не имеет значения. Армия Лота немного значит для меня, и потом, если из-за удаленности и ограниченности его владений его полезнее иметь союзником, чем вассалом, то и в качестве врага он не доставит мне особых хлопот.
— Заключай союз, Утер.
Утер, с трудом сдерживая гнев, принялся раздраженно мерить шагами комнату. Но мало-помалу он успокоился и, улыбаясь, сказал мне со смесью нежности и неудовольствия:
— Я полагаюсь в этом на тебя, Мерлин, хотя ты и лишаешь меня радости сражения, а также верной победы.
Он велел позвать обоих королей, и я сказал им:
— Мы заключим договор на следующих условиях: ты, Леодеган, заручившись с юга прочным миром, будешь держать против Горры, вдоль стены Адриана, многочисленную и хорошо вооруженную армию, готовую отразить любое нападение, а также способную при необходимости ударить первой, когда мы решим разбить наших врагов на севере. А ты, Лот, со своей стороны, будешь беспокоить пиктов, так, чтобы поддерживать в них постоянное чувство опасности, которое заставило бы их отказаться от их обычных разбойничьих набегов и подумать о защите своей собственной земли. Мы дадим тебе новые корабли.
Леодеган и Лот приняли наши условия, и союз был заключен. Я решил, кроме того, оставить в Эбуракуме войска кантиаков из Логриса, а также подкрепление из нескольких отрядов ордовиков из Уэльса, чтобы, по мере необходимости, либо оказать Леодегану помощь, либо, в случае его измены, подавить его сопротивление. После этого мы отправились в долгий обратный путь.
Теперь Утер-Пендрагон присоединил или подчинил себе все земли к югу от стены Адриана, за исключением Думнонии, огромного полуострова, расположенного на крайнем юго-западе Британии. Он рассчитывал захватить ее после короткого отдыха в столице. Но король думнонейцев, предвидя эти намерения и не желая сражаться с непобедимым противником, ждал его в Кардуэле, куда он прибыл со своим двором и семейством, чтобы торжественно предложить Утеру союз, подчеркнуто и на все лады выражая свои добрые чувства и любовь к королю, — с тем чтобы тот не смог отвергнуть мир, предложенный с такой верноподданнической любезностью, хотя, может быть, и не от чистого сердца. Такой поворот дела привел Утера в ярость, и на этот раз я разделял его чувства, поскольку — кроме того, что здесь, в отличие от севера, нам не приходилось действовать осмотрительно, заручаясь поддержкой одних и откладывая завоевательные походы против других, учитывая близость Кардуэла и Думнонии, а также полное отсутствие в этой части страны враждебных нам народов, — мне не внушал доверия сам этот государь, известный своим вероломством, интригами и тем еще, как мало он ценил данное им слово, тогда как Леодеган и Лот показались мне людьми чести.
— Речи этого пса насквозь лживы, — сказал мне Утер после первого приема короля думнонейцев. — С самого начала своего царствия он был союзником Вортигерна, что, впрочем, не помешало ему разорвать союз, когда он понял, что победа будет на стороне твоего деда, а его медоточивые предложения мира лишают меня законного мщения и новых земель. Но я не попадусь в его ловушку. Я прилюдно нанесу ему оскорбление, и он будет вынужден начать войну.
— Это было бы необдуманно и могло бы показаться самочинством в глазах бриттских вождей, наших новых вассалов и союзников.
— Должно ли мне, сильнейшему, прислушиваться к их мнению? Ах, Мерлин! Мир твоего деда был проще и понятнее мне, чем твой. Как бы там ни было, не требуй от меня, чтобы я унизился до этого шута и кривил душой в ответ на его притворные заверения. Это не в моем характере, и я готов скорее разрубить его вот этим мечом, чем поцеловать в знак примирения.
— Он должен сам объявить тебе войну — из-за такой причины, которая заставила бы его забыть про всякое коварство и осторожность.
— Этот план, — отвечал со смехом Утер, — показался бы мне вздорным и легковесным, если бы его предложил кто иной, а не ты. Но пока он этого не сделал, как я должен отвечать?
— Скажи ему, что ты требуешь отсрочки, необходимой для того, чтобы он представил тебе неопровержимые доказательства своей преданности, потому что ты не можешь вдруг слепо доверяться человеку, который так долго был союзником самого заклятого врага твоего рода.
— Слава Богу, на это я могу согласиться без унижения. Да будет так.
Он направился к двери.
— Утер!
— Что еще?
— Рассмотри получше его жену, королеву Игрейну.
— К чему это?
— Делай, как я говорю.
— Хорошо, Мерлин, я рассмотрю ее.
Вечером на улицах и площадях города были устроены празднества, а в самой большой зале дворца Утер задал пир, на который созвал находившихся в ту пору в Кардуэле вождей и знатных мужей из разных городов своего королевства, а также иностранных послов. Короля Думнонии и его свиту он приказал посадить за самый дальний стол, выражая тем самым свою холодность и свои подозрения. Войдя в залу, король думнонейцев на мгновение переменился в лице от этого намеренного оскорбления, но немедленно принял самый любезный вид.
Когда же в залу вошла королева Игрейна, воцарилась тишина. Она была так прекрасна и так благородна, что не могла не вызвать всеобщего восхищения и любви. Утер раз взглянул на нее и не смог отвести глаз.
— Это союз львицы с шакалом, — сказал он мне.
— А в тебе, я полагаю, бьется львиное сердце?
— Как ты и задумал, мой мудрый Мерлин.
— Как я и задумал, любезный мой Утер.
С этой минуты и в продолжение всего пира Утер открыто ухаживал за Игрейной, от чего между Логрисом и Думнонией произошла война, которая продолжалась весь четыреста пятьдесят девятый год. В первом же сражении семья короля была взята в плен, но ему самому удалось бежать и с остатками своей армии укрыться в считавшейся неприступной крепости Тинтагель. Утер вошел к Игрейне, и так был зачат Артур. Осада Тинтагеля была долгой и трудной. Во время последнего приступа Утер убил короля, и гарнизон сложил оружие.
Страна думнонейцев была присоединена к Логрису. Утер стал приемным отцом обеих дочерей короля и Игрейны: Моргаузы, которой было тогда три года и которую он обещал в жены Лоту Оркнейскому для укрепления их союза, и двухлетней Морганы. Утер женился на Игрейне через пять месяцев после зачатия Артура.
Артур родился весной четыреста шестидесятого года, и Утер, верный своей клятве, отдал его мне на воспитание. Я дал ему кормилицу и поместил его в доме Эктора, человека простого и добродетельного, всецело мне преданного, — в стороне от королевского двора, в нескольких часах пути от города, так, чтобы иметь возможность постоянно видеть его. Эктор жил неподалеку от красивой и мощной крепости Камелот, в стране дуротригов, западной провинции Логриса, на самом краю земли, там, где полуостров Думнония присоединяется к Британии. Он был вдов, и у него был сын по имени Кэй.
Так в пятнадцать лет мне пришлось стать отцом, чтобы любить сына, воспитывать короля и создавать Человека.
Круглый Стол занимал целую залу в Кардуэльском дворце. Тяжелый и массивный, он был сделан из сердцевины дуба. Толстые лощеные доски, так плотно пригнанные друг к другу, что стыки между ними были едва заметны, опирались на обвязку из гигантских балок, к которым крепились ножки, похожие на маленькие резные колонны. Лучшие плотники и столяры Логриса многие месяцы, под моим руководством, работали на его постройке, собирая стол на том самом месте, где он должен был стоять, потому что его невозможно было сдвинуть с места — такой он был большой и громоздкий. Пятьдесят мест было за столом.
Пятьдесят один человек восседал за Круглым Столом. Среди них было три короля: Утер, Леодеган и Лот — и сорок семь бриттских вождей — по одному от каждого племени Логриса. От деметов, ордовиков и силуров с запада — из Уэльса. От думнонейцев с юго-запада. От дуротригов, белгов и регненсов с юга. От добуннов, катувеллаунов и атребатов из срединных областей. От корновиев, коритан и паризиев с севера. От кантиаков, триновантов и икенов с востока, а также от жителей Лондона, называемого также Августой, бывшего престола римского викария и первой столицы Логриса.
Я был пятьдесят первым.
— Короли и вожди, — сказал я им, — вы избраны сидеть за этим столом, поскольку облечены властью. Но вы не знаете ничего или почти ничего о том, что такое власть. Вам известны лишь ее простейшие условия: побеждать или быть побежденным, и ее первоначальные следствия: господство или порабощение, владение или отчуждение, радости жизни или смерть. Всё это знают и дикие звери, и в этом вы не отличаетесь от них, потому что данный человеку разум служит вам лишь для того, чтобы — при помощи сознательного расчета — умножить природную жестокость этого мира, отчего господство силы, слепая кровожадность, вражда, обман, охота и убийство — являющиеся естественными законами материи — превращаются в тиранию, безжалостность, ненависть, коварство, войну и хладнокровную резню. Таковы деяния разума, порабощенного материей. Но вы избраны еще и потому, что слывете справедливыми и честными в глазах ваших народов, а также потому, что — хотя в вас и слились дух и хаос, божественный закон под беззаконием и насилием — вам, может быть, удастся установить новый закон, новую власть, которая будет служить уже не одному человеку, ею обладающему, но всему человеческому роду, власть, которой должен будет подчиниться и сам король, какими бы ни были его добродетели и пороки. Война только еще началась. Но теперь это уже не война одного честолюбия против другого. Это война права против силы, света против тьмы, разума против природы, дьявола против людского невежества и Бога против своего собственного творения. Вы были орудиями смерти, а я сделаю вас орудиями вечности. Вы были ночной тенью, а будете солнечным днем без конца. Вы были раздором, а будете законом. Вы были ничем, а будете смыслом и разумом мира. Вы были железным веком, а приготовите век золотой, которого — я верю — никогда еще не было, но который — через вас, — может быть, настанет. Вы будете всем этим, ибо отныне вы — Круглый Стол.
Артур и Кэй сражались на легких деревянных мечах. Пятилетний Артур, стройный и ловкий, часто наносил восьмилетнему Кэю точные и быстрые удары, а тот, тяжелый и неповоротливый, немного медлительный, бил сплеча, не задумываясь, как будто рубил лес. В Артуре угадывались уже рослое и могучее тело его отца и красота Игрейны, от которой он взял правильный овал лица, светлую кожу, голубые глаза и густые темные волосы.
Кэй, раздраженный тем, как легко его побеждает ребенок, потерял всякое терпение и нанес боковой удар такой силы, что его противник, хотя и успел подставить меч, не сумел его отбить и сильно ушиб руку. Он не издал ни звука, но было видно, как трудно ему продолжать бой.
— Довольно, — сказал Эктор. — Кэй, ты опять злоупотребляешь своей силой; вспышка твоего уязвленного самолюбия доказывает лишь слабость твоего духа. Потому что ранний талант Артура — вместо того чтобы вдохновлять — унижает тебя и превращает честное соревнование в грубую и личную ссору. Уходи вон и не попадайся мне на глаза до вечера.
Кэй попросил прощения у Артура, который его с готовностью простил, и, пристыженный, ушел.
— Он не злой, — продолжал Эктор, обернувшись ко мне, — просто самолюбивый и порывистый.
— Не страшно, Эктор. И даже то, что ты называешь слабостью духа твоего сына, может оказаться полезным, если оно укрепляет дух Артура.
— Не всегда легко быть простым орудием, господин мой, как бы велика ни была цель. Я тоже отец, и Кэй иногда беспокоит меня. Быть может, ему будет дозволено получить хотя бы толику того учения, что так великодушно ты преподаешь Артуру?
— Кэй займет в Логрисе завидное положение, возможно, даже незаслуженно высокое. Однако даже по этой величайшей милости он не сможет получить королевского воспитания, и в еще меньшей степени, воспитания, данного этому королю. Это слишком тонкая алхимия, не терпящая присутствия инородных тел. В противном случае зачем бы я удалял Артура от двора? Ты говоришь, Эктор, что ты отец? Хорошо, я не мешаю тебе. К тому же ты мудр и добр — так воспитывай же своего сына и не беспокой меня. А теперь оставь нас одних.
После того как он ушел, Артур сказал мне с упреком:
— Эктор любит меня. И Кэй тоже, несмотря на свою вспыльчивость. Они для меня как отец и брат.
— Они только стражи твои, Артур. Утер и Игрейна — твои отец и мать по крови, а я — твой духовный отец. Такого рода разделение не ново в короткой истории Логриса и Уэльса. Привязанность Эктора, конечно же, нужна тебе, но не настолько, чтобы повлиять на твою судьбу.
— Для того ли ты отнял меня у моих родителей?
— Да, Артур. Ибо если хочешь владеть чьим-либо умом так, чтобы впоследствии он владел собой сам, нельзя воспитывать его посреди страстей. Твой отец — великий король, но в нем благородство неотделимо от жестокости, мудрость от безумия, расчет от безотчетного порыва — не мог же я взять какую-нибудь одну часть его, указав ее тебе в качестве образца, и отбросить, скрыв ее от тебя, другую, имеющую свое первобытное очарование. Поэтому-то он хотя и великий король, но не тот, что нужен для будущего мира, — в чем я как раз и вижу твое предназначение. Король деятельный и король-мечтатель — ибо праздная мечта бесплодна, а действие без мечты, сестры идеала, — бесцельно. Король, который возбудит страсти, но сам никогда им не поддастся, ибо в страстях есть покорность, а король подвластен лишь своей собственной воле. Но не чувствам. Любовь — наверное, самое благородное, что есть в человеке, само основание жизни и тайный смысл мира. Но как и все чувства, она недолговечна и непредсказуема. Правда не в чувстве, но в законе. И потому отныне и навеки назначение короля — блюсти закон.
— Я не уверен, что понимаю все это. Впрочем, если это моя судьба — я принимаю ее. Но моя мать, почему я разлучен с нею? Какая она, Мерлин? Можешь ли ты хотя бы описать мне ее?
Внезапно будущее Логриса и грядущее величие Круглого Стола словно померкло в моем сознании — передо мной сиротливо стоял маленький мальчик. И это взволновало меня, напомнив старинную боль, такой же бунт против Блэза и то, как — в возрасте Артура — я открыл для себя белый рай материнских рук.
— Каждый день она просит, чтобы я рассказал ей о тебе. Ты скоро ее увидишь. И будешь часто видеть. А теперь пойдем поохотимся, ты не против?
Он улыбался, весь озаренный внутренним светом. Среди детей человеческих я видел только одного ребенка, который превосходил его красотою: его единоутробную сестру Моргану.
— Почему люди умирают, Мерлин?
Моргана сидела под деревом, рассеянно перебирая на земле собранные целебные травы. Ее огромные зеленые глаза, блеск которых становился подчас невыносимым, были задумчивы и выражали зрелость ума, которая в соединении с глубокой печалью так странно сочеталась в этой маленькой семилетней девочке с нежностью и прелестью незакончившегося детства.
Нас окружал густой полумрак. Через широкий проем в лесной чаще, отлого спускавшейся к берегу, видны были залитые ярким солнечным светом стены Кардуэла и дальше — глубокий залив, который отделял земли силуров от страны белгов, расширялся к западу, пока совсем не терялся в Ирландском море.
— Почему люди умирают? — повторила Моргана. — Я еще так мала, но я все равно чувствую бег времени и смерть — так коротка жизнь.
— Конец одной жизни — это еще не конец времен, Моргана, а смерть одного человека — еще не смерть человечества.
— Но какое мне дело до того, что людской род бессмертен? — сказала она с гневом. — Ведь умру-то я, а не он. Ненавижу его. Человек — раб, смирившийся со своей судьбой, верящий, чтобы успокоить себя, всем тем глупостям относительно вечности, которые преподносят ему пустые мечтатели и лгуны. Во весь этот вздор о загробной жизни, про рай или ад на небесах, под землей или я не знаю еще где, про этих смешных или надменных богов Греции или Египта, жестоких — финикийских или карфагенских, самоустранившегося — еврейского или же безумного — христианского. Шумное скопище богов, открывающих своим приверженцам лишь глупость, безумие или извращенный вкус своих создателей. Неужели ты думаешь, что меня, Моргану, радует, что я буду увековечена таким человеком, чье единственное бессмертие в его неизменной глупости? Конец одной жизни — для нее самой — конец всего сущего; смерть не может быть этими нелепыми сказками, она — ужас, холод и ночь.
— Нужно постараться при помощи разума и своих рук построить крепость — защиту от холода и ночи, дом в пустоте. Нужно строить без устали, сколько есть сил. Это безусловный долг каждого, кто получил в удел разум, воображение и предвидение. Если эта попытка родит глупость или безрассудство — нужды нет. Мы должны побороть страх. Это вопрос собственного достоинства. Бессмертие человеческого рода, которое ты презираешь, — не что иное, как бессмертие этого состояния духа. Именно в этом и состоит связь и преемственность отдельных людей, рождающихся и умирающих в одиночестве, которое так страшит тебя. Именно в этом — вечность, а не в бессмертии одного тела или одного разума, о неизменности и вечной жизни которых ты мечтаешь, — даже если эти тело и разум, преисполненные гордости и высокомерия, принадлежат самому прекрасному, самому умному и проницательному и самому непокорному маленькому человечку, какой когда-либо рождался под солнцем. И наверное, даже это чудо творения не сочтет для себя дерзкой мою просьбу проявить хотя бы немного достоинства, о котором я говорил.
Она улыбнулась и скорчила гримаску в ответ на этот строгий комплимент. Потом как будто снова погрузилась в свои размышления. И вдруг сказала мне:
— Я думала о том, как устроена Вселенная.
— По-видимому, ты считаешь Птолемея жалким образчиком человеческого рода, а его «Географию» — нагромождением ошибок и заблуждений?
— И да и нет. Я думаю, как и он, что Земля круглая, потому что линия горизонта отступает по мере того, как мы хотим ее достигнуть, и потому еще, что на сфере, даже на самой маленькой, дороги не имеют конца. Так что наш мир может быть бесконечно велик в наших глазах и под нашими ногами — и ничтожно мал для нашего разума. Таким он видится мне. Потому что я думаю, что не он является центром Вселенной — но Солнце.
— Как ты пришла к этому заключению?
— После наших бесед об астрономии. Думаю, что ты и сам разделяешь это мнение, потому что ты больше настаивал на противоречиях птолемеевской системы, чем на ее внешней связности, хотя ты и представил мне эту космологию как вполне достойную веры, подкрепив ее философией Аристотеля, но умолчав, правда, при этом кое о чем, чтобы не испугать меня и не вселить ужас в мое сердце. Но я сама нашла этот ужас — путем умозаключений. Я полагаю, что все небесные тела — на разном расстоянии и с разной скоростью — вращаются вокруг Солнца, которое является неподвижным центром Вселенной, подобно тому как люди соединяются и движутся вокруг одного солнечного ядра, или центра притяжения, — каждый в зависимости от своих потребностей в движении, свете и тепле. И Земля, которую Птолемей считает центром Вселенной, не является исключением из общего правила и оказывается, таким образом, миром среди многих других миров. Она оборачивается вокруг Солнца за один день, двигаясь в таком направлении, что нам кажется, будто Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Это дневное обращение сопровождается меньшим и более медленным поперечным отклонением и приближением — двусторонним движением, середину которого составляет время равноденствий, а крайние точки — время солнцестояний, полный же период занимает один год. Этим объясняются смена времен года, изменения в пути следования Солнца по небу, а также изменения долготы дней и ночей. Луна тоже обращается вокруг Солнца, совершая пока неясное для меня движение, пересекающее путь Земли, так что она находится то выше, то ниже, иногда ближе, чем мы, к Солнцу, а иногда — дальше, и принимает различные очертания, в зависимости от того, какую часть ее поверхности мы видим освещенной солнечным светом. И именно различные положения, которые попеременно занимают Земля и Луна относительно Солнца, создают затмения. Что же касается тех причудливых миров, которые Лукан называет «stellae vagae», а Ксенофонт — πλάνητες άστέρες, или «блуждающими звездами», то их движение также может быть признано упорядоченным, если предположить, что они — как и Земля — вращаются вокруг Солнца — на расстояниях и со скоростями, не схожими между собой. Я придумала все это, основываясь на твоем учении, а также на том неудовольствии, с каким ты излагал мне разные успокоительные теории. Таким образом я поняла, что твердость духа весьма редко сочетается с твердостью ума, ибо ум размышляет и желает знать истину, чего бы это ему ни стоило, тогда как дух предается мечтам и страшится открытий ума, разрушающих радужные картины абсолютной вечности и блаженства, которым он поклоняется.
— Чего ты боишься, маленькая Моргана? Того ли, что солнечный очаг важнее, чем та жизнь, что греется в его лучах?
— Да, Мерлин. Ведь если очаг вечен, а люди смертны и преходящи — это значит лишь, что сам очаг лишен смысла и что конечная целесообразность, присваиваемая человеком каждой вещи — с точки зрения своего ничтожного и призрачного бытия, — в действительности ничего не стоит и является всего лишь обманом. А сам человек, как и все живое на Земле, — лишь мимолетная тусклая тень, которую горячая материя отбрасывает на материю холодную, оплодотворяя ее и рождая тем самым иллюзию жизни. Меня возмущает, что центр Вселенной лишен причины и смысла, тогда как одушевленное порождение случая, едва копошащееся под его ярким светом среди других тел, бесцельно блуждающих в пустынном пространстве, как раз способно постичь цель и что эта способность служит ему лишь для того, чтобы острее осознать свое собственное ничтожество. Из чего я и заключаю, что Бог, творец всего этого, если он существует, — в тысячу раз злее и безжалостнее дьявола. И я, Моргана, — жертва этой жестокости, ненавидя этого чудовищного Бога и этого глупого и лживого человека, которого ты защищаешь, — в ответ на вселенское зло сама буду жестокой и беспощадной, ибо я обречена на знание, страх, страдание и смерть.
И вдруг она горько и безутешно заплакала, как может плакать лишь ребенок, безраздельно отдавшийся своему горю, — Моргана — чудесная и необыкновенная маленькая девочка, проливающая детские слезы над вещами, недоступными человеческому разуму, хрупкое тельце с недетским умом, затерянным в головокружительных безднах. Я подошел и взял ее на руки. Она обхватила своими ручонками мою шею и положила голову мне на плечо.
— С тобой мне не страшно, Мерлин. Люби меня. Люби меня всегда, и я не умру.
Я почувствовал, как она в последний раз судорожно всхлипнула, потом успокоилась и заснула. Ее лицо, прижатое к моему плечу, было обращено ко мне. На щеках еще блестели бороздки от слез, но губы уже сложились в очаровательную улыбку. Ее длинные черные волосы ниспадали ей на спину. Она казалась безмятежной, хрупкой и беззащитной, вновь обретя свой возраст в забвении сна. И вдруг я почувствовал, что ничто больше не имеет значения, кроме этой ласковой и непокорной девочки, спящей у меня на руках. И этот миг абсолютной любви, омывший своим ослепительным и мимолетным светом мир, построенный на ухищрениях терпеливого разума и на слепой и искусственной вере, поверг в ничто Бога и дьявола, закон и хаос, добро и зло, ум человеческий и смерть — он был бессмертнее, чем само бессмертие.
Моргана спала. Я осторожно сел на коня, и ровным и медленным шагом мы вернулись в Кардуэл, залитый золотыми лучами заходящего солнца.
— Да будет проклят этот коварный и безжалостный враг, с которым я не могу сразиться с мечом в руке. Он поражает меня медленно, и я чувствую, как его железная длань сдавила мне сердце. Недуг точит меня, Мерлин, и если даже ты не в состоянии излечить меня, это означает лишь то, что настал мой час. Я умираю от праздности и мира, как осадная машина, источенная червями и покрывшаяся ржавчиной, которая в бездействии постепенно разваливается и приходит в негодность. Логрис непобедим, и его народы сплочены единым законом. Горра забилась в норы, пикты не осмеливаются больше высовываться из своих берлог. Саксонские ладьи избегают наших берегов. Мои подданные любят меня, благословляя за свою спокойную и счастливую жизнь, которая-то и убивает меня. «Мир Утера»! Какая насмешка, когда имя воина сытый народ соединяет с собственным благоденствием! Я оплакиваю закон короля, твоего деда. Это был лев среди волков. А ты сделал волков — псами, приближающими, сами не ведая того, приход нового мира, который ты строишь якобы для человека, но где есть только один человек — ты сам. Господство силы, бывшее законом твоего деда, хотя бы давало побежденному свободное право умереть или покориться, но господство разума, которое является твоим законом, ведет лишь к порабощению. Ты сделал меня, короля Утера, несомненного владыку Логриса, твоим добровольным рабом — тем самым ты нарушил естественный закон, посадив силу на цепь разума, отчего я и умираю. И неопровержимейшее доказательство моего рабства и твоей, сын дьявола, власти в том, что, зная обо всем этом, я не перестаю любить тебя. Это правда, что собаки любят своих хозяев. Но свободен ли ты, Мерлин, — единственный свободный человек в твоем мире?
— Ты говоришь: нарушение естественного закона — обуздание силы разумом. Но можно и перевернуть твои слова, ибо разум нуждается в силе, чтобы воплотить свои намерения, без нее он бессилен, о чем, со своей стороны, я могу только горько сожалеть; поэтому, мне кажется, справедливее было бы сказать, что они прикованы друг к другу. Благодаря чему я — не меньший раб, чем ты, а ты — так же свободен, как и я. Это взаимное подчинение силы и разума существовало уже в моем деде, чья мудрость была воспитана грубой силой, и в Пендрагоне, в котором их соотношение было обратным. Ты великий король, Утер, — единственный, кто подходит для этих смутных времен, и твое смятение является лишь отражением зыбкости и непрочности всех вещей. Прежний мир, о котором ты скорбишь, еще не ушел в прошлое. Его власть простирается на весь запад, отданный на растерзание свирепым и безначальным варварам, где имя Логриса займет место одряхлевшего Рима, доживающего свои последние дни. Артур осуществит мечту моего деда, а также и мою, — тесно связанные между собой, ибо он — законодатель с оружием в руках и воин, способный мыслить как государственный муж. А ты своими победами и в особенности этим миром, который ты презираешь, дал ему армию — армию не волков или псов, но людей, которые, сражаясь за короля, будут думать, что сражаются также и за самих себя, поскольку будут разделять с ним одну цель, плоды которой сами же и соберут. Я не знаю, можно ли назвать таких людей свободными — или же их следует назвать добровольными рабами. Не в том дело. Если ощущение свободы имеет то же действие, что и идеальная свобода, которую пока еще никому не удалось определить, то вопрос не имеет никакого значения, потому что золотой век еще далеко впереди. В чем я уверен — так это в том, что такая армия непобедима.
Утер в задумчивости некоторое время молчал. Его гнев прошел. Внезапно он спросил меня:
— Он хороший воин?
— Я думаю, только ты в Логрисе мог бы стать ему достойным соперником. А ему еще только пятнадцать лет. Он любит войну. Этого он получил от тебя в достатке. Он станет самым великим воином во всей бывшей империи.
— Скажи ему, пусть ни перед кем не опускает меча. Так он чему-нибудь научится и у меня.
— Я скажу ему.
— Тот ли он человек, какой тебе нужен? Тот, о котором ты говорил мне в начале моего царствия?
— Думаю, да.
Он снова замолчал. Его ослабила лихорадка. Наконец он снова заговорил:
— Мерлин, что будет после смерти?
— Этого не знает никто.
— Даже ты?
— Даже я.
— Но во что ты веришь?
— Я верю в обстоятельства и в поступки, способные на них влиять. А в остальном каждый волен устраивать собственное бессмертие по своему усмотрению.
Он с трудом поднялся.
— Помоги мне одеться. Я хочу выбраться из этой клетки.
Когда с одеванием было покончено, он спустился во двор замка и велел седлать своего лучшего коня.
Я отыскал его уже в сумерках, недалеко от Камелота — он лежал на дороге подле своего дрожавшего от усталости коня. Он был мертв.
Густая трава покрывала три кургана, в которых покоились тела моей матери, короля Уэльса и Пендрагона. Рядом с ними зияла свежая могильная яма, в которой был установлен большой каменный саркофаг.
Все происходившее теперь в Стангендже странно напоминало события двадцатилетней давности — под сенью тех же вечных гигантских камней.
Тридцать тысяч воинов стояли на равнине, построившись в правильные шеренги. Неподвижные, словно бронзовые статуи, молчаливые, скорбящие, они пришли в последний раз взглянуть на того, кто был их государем на время мира и предводителем на время войны, прежде чем земля навсегда поглотит его. Перед ними стояли все вожди Логриса, сыны Круглого Стола.
Тело Утера в полном вооружении несли два короля, Леодеган и Лот, потом его положили в саркофаг и накрыли тяжелой плитой, которую с трудом могли приподнять десять человек. Крышка глухо стукнула, и яму засыпали.
Я сделал знак Артуру, который до сих пор скромно стоял в стороне, и он вышел вперед и встал перед могилой своего отца, на виду у всех. Он в одиночку проделал весь путь из дома Эктора, который он впервые оставил, и присоединился к армии уже в Стангендже, перед самым погребением. О его существовании было известно, поскольку Утер объявил о рождении сына и о его удалении из Кардуэла, но никто не знал Артура в лицо. За исключением Эктора, Кэя, меня самого и нескольких слуг, только мать Игрейна могла иногда его видеть.
Одет он был просто — в тунику и плащ. Всего шестнадцати лет от роду, он был очень высок, и во всем теле его чувствовались сила, гибкость и изящество. Держался он уверенно и с достоинством. Его необыкновенной красоты лицо было сурово, а спокойные голубые глаза смотрели прямо, останавливаясь на открывавшемся его взору людском море без тени робости или высокомерия, так, как если бы они рассматривали каждого в отдельности. Я встал рядом с ним.
— Вот Артур, сын Утера-Пендрагона, внук Констана, наследник Логриса и Уэльса. Вот ваш король.
Наступило долгое молчание. Солдаты смотрели на него с любопытством, не скрывая своего восхищения перед блистательным величием воина, но и своих опасений перед человеком, почти еще ребенком, явившимся из неизвестности.
— Моя первая воля, — громко сказал Артур, — чтобы в сегодняшний день — день моего вступления на престол — не было никаких торжеств. Ибо вы знаете, кого только что потеряли — величайшего и любимейшего из королей, — но не знаете, кого получили взамен, и потому у вас, вероятно, больше оснований скорбеть, нежели радоваться. Моя вторая воля — чтобы торжеств не было также и завтра. Потому что завтра мы отправимся за море и покорим земли галльских бриттов.
Армия всколыхнулась в ошеломлении, ряды воинов вздрогнули. Леодеган и Лот высоко подняли свои мечи, выкрикивая имя Артура, — их примеру немедленно последовали вожди, а затем и все остальные. И это имя прокатилось по равнине — казалось, что его эхо должно было быть услышано по всей стране, перенестись через море и зазвучать на всем западе. В эту минуту здесь родилось что-то такое, о чем мир не забудет никогда.
И было это в первый день года четыреста семьдесят шестого от Рождества Христова, года окончательного крушения Римской империи под нахлынувшими ордами варваров, года падения Вечного города, осажденного Герулом Одоакром.
Тогда Артур впервые явился перед всем миром — в тот самый час, когда померк Рим.
На следующий же день, не заезжая в Кардуэл, где его в радости и скорби ждала вся семья, Артур сразу отправился в Дурноварию, что в земле дуротригов, а затем на южный берег Логриса, где стояла на якоре часть его боевых кораблей. Он взял с собой ровно половину своей армии и вождей, остальных же послал в провинции. Поскольку я решил быть рядом с ним в его первом походе, он поручил управление всеми делами Лоту Орканийскому, мужу своей сводной сестры Моргаузы, старшей дочери Игрейны, жившему в ту пору в Кардуэле вместе с женой и их первенцем Гавейном, которому было тогда еще несколько месяцев. Леодеган должен был вернуться в свою столицу Изуриум, чтобы вновь принять командование над всеми армиями Севера, стоявшими на страже логрских границ вдоль древней стены Адриана. Леодегану было шестьдесят три года, когда у него незадолго до этого от второго брака также родился ребенок. Это была девочка, и он дал ей имя Гвиневера.
Война длилась два года. Вскоре после высадки логрской армии на северный берег земли гонов вожди двух бриттских племен, переселившихся туда более тридцати лет назад из южного Логриса, — в те времена, когда на остров пришли саксы, вступив в позорный сговор с Вортигерном, — собрали всех своих воинов и присягнули Артуру, признав тем самым над собой власть рода Констана. Они были братья, оба ровесники Артура, и звали их Бан и Богорт. Но было много других — выходцев из Думнонии, откуда они бежали после вторжения Утера, — ненавидевших само имя Логриса и потому заключивших союз с местными племенами, чтобы остановить продвижение логрской армии. Артур одержал множество побед и окончательно разбил их на востоке страны в земле редонов, где они собрали свои последние силы. Во всех этих испытаниях молодой король показал себя отличным стратегом и грозным воином. Он сочетал в себе все воинские доблести Пендрагона и Утера, а соединение в нем самой безумной отваги и трезвого расчета, личного бесстрашия и осмотрительности искусного военачальника не могло не напомнить мне моего деда, с той лишь разницей, что Артур убивал без удовольствия и ему было ведомо сострадание. За короткое время он снискал благоговейную любовь своих солдат, все они боготворили его.
Потом он упрочил свои завоевания. Страну гонов на западе он отдал во владение Богорту, а более обширную срединную область Беноик — Бану, совершившему много славных подвигов на полях сражений. Во главе редонов он по моему совету поставил вождя по имени Кардевк, бывшего скорее мудрецом, нежели воином, ученого мужа, соединявшего в себе ученость греков и римлян с тайной мудростью древних друидов. Артур дал Логрису законы, стремясь в то же время — как я его учил — уважать обычаи покоренных народов; в каждой стране он оставил своих наместников и войско, возглавляемое верными ему людьми.
Таким образом, он уже в самом начале своего царствия смог совершить все те великие дела, к которым я готовил его, обретя в них случай показать свой талант вождя и законодателя, непоколебимую целеустремленность и великодушие — словно в предвосхищение своей великой судьбы. Он с легкостью вышел из всех испытаний. Я ждал от него неизбежной неловкости, свойственной начинающим. У него ее не было.
Моя мечта воплощалась.
В конце четыреста семьдесят седьмого года мы вернулись в Логрис, и Артур впервые в своей жизни въехал в Кардуэл, свою столицу.
Ночь была ясной, в безоблачной черной глубине зимнего неба полная луна лила на землю свой холодный белый свет. Темное море, зажатое между берегами страны силуров и землей думнонейцев, вздувалось огромными могучими валами, которые явились из неведомых далей вольного океана и, гонимые свежим и сильным западным ветром, разбивались у берега, на прибрежных отмелях, светлыми пенистыми брызгами. От коней шел молочно-белый пар, который сразу же растворялся в ветреном воздухе. Тяжелая ночная роса легла на высокие травы, и равнина, точно зеркальная гладь, засверкала тысячами серебристых огней. Там, на севере, сожженные некогда деметами и заново отстроенные Морганой, поднимались высокие каменные и деревянные стены Иски.
Моргана не явилась торжественно встречать победителя.
Мы были одни, молодой король и я; остановившись на дороге, идущей берегом из Кардуэла в Иску, мы дали отдых коням. Какой-то всадник направлялся к нам шагом. Мы молча смотрели, как он приближается. Длинные темные волосы наполовину скрывали его лицо, развеваясь черными змейками на морском ветру. Он подъехал совсем близко и спешился. Это была Моргана. На ней были простая мужская туника и плащ, и в этой грубой одежде она была необыкновенно прекрасна; ее удивительная, неизъяснимая красота поражала ум и сердце подобно внезапно открывшейся нам частице Вселенной, торжествующей, чудесной, неведомой.
— Ты не забыл меня, Мерлин? Это я, Моргана. Твоя маленькая Моргана.
Она подошла, обняла меня и положила голову мне на плечо, как обычно делала, когда была ребенком. Потом отстранилась и повернулась к Артуру.
— Вот — король Логриса, — сказал я ей, — твой брат.
Они внимательно смотрели друг на друга. Они были как день и ночь, соединенные вместе, и сияние дня тускнело перед сверкающим величием ночи. Моргана улыбалась. Но в зеленом блеске ее глаз я увидел что-то холодное и рассудочное, как будто затаенную мысль или трезвый расчет. И я сказал себе, глядя на этих двоих детей моего разума, что и Господь Бог, создавая человека, не знал, что его ожидает.
Камелот.
В память о годах своего детства, проведенных невдалеке отсюда, в доме Эктора, Артур построил второй Круглый Стол в крепости дуротригов. Приняв решение разослать своих наместников в разные концы государства, с тем чтобы не быть застигнутым врасплох и в силу необходимости утверждать повсюду свое присутствие, он в то же самое время решил установить Круглый Стол в каком-нибудь новом месте, связанном только с его именем, — месте суровом и ненаселенном, которое стало бы символом и воплощением нового идеала.
Второй Стол был больше первого, и за ним заседало еще больше достойных мужей. Там были не только старые вожди, служившие еще Утеру, но и их старшие сыновья, а также молодые вожди, избранные взамен погибших. Среди них было пять королей: Артур, Леодеган, Лот, Бан из Беноика и Богорт из страны гонов. Кроме того, сидеть за Круглым Столом Артур назначил еще нескольких человек, которые не были ни королями, ни вождями, но которым он хотел оказать этим честь; среди них был Кэй, сын Эктора.
Собрав их впервые в Камелоте, в моем присутствии, Артур сказал им:
— Это собрание является королевской особой во многих лицах. Я — лишь часть вас. Вы — настоящий Артур Логрский. Так разделил я свое тело за этим Круглым Столом, как это сделал Христос за столом Его Последней Вечери. Вы — смертные члены бессмертного тела. И это тело через насилие и любовь оплодотворит землю. Вы должны будете вспахать ее мечом, бросить в отверзтые раны ее семена вашей души и оросить их кровью вашей. И будет у вас два врага и две ночи, ибо поведете войну не токмо против мрака и невежества варварских народов, но и против той тьмы, что внутри вас. Осветит же пути ваши огонь страстной любви, зажженный пятьсот лет назад на Востоке и горящий теперь в Камелоте. И говорю я вам, что огонь этот станет пожаром, пожар — зарей, а заря — ярким светом нового дня, который воссияет над миром. И так — смертные — победите вы смерть. Но если вы отступитесь и предадите, то умрете, мы все умрем навеки, и неразгаданный бездушный мир сотрет наши следы.
— Моргана — это хаос, — сказал мне Артур. — Хаос, в котором исчезает всякий смысл, в котором с наслаждением тонет кропотливый и ревностный строитель, извечно и настойчиво стремящийся к цели. Моргана — это наваждение чувств, убивающее в человеке одержимость мечтой. Она — абсолютное настоящее, убивающее хрупкое будущее. Ее ум — опустошение и гибель всего живого, и я ненавижу его — и боготворю каждую частицу ее тела, малейшее его движение, подобное нескончаемому танцу очарования и смерти. И при этом я не могу не понимать, что ее тело — лишь нежнейшее и чудеснейшее воплощение ее ума, что оба они составляют единое и неразрывное целое и что обольстительность внешней оболочки, с которой ничто в природе не может сравниться, — лишь точное соответствие в тысячу раз более сильного соблазна, таящегося в коварном великолепии гениального и извращенного ума. И пока я в изнеможении пью из источника моей радости и страдания, пока я обретаю власть над ее сладостным и чувственным телом, я чувствую, как она обретает такую же власть над моей душой. Потому моя ненависть — всего лишь любовь, исполненная ужаса. И вот теперь я, Артур Логрский, государь Круглого Стола, дерзко взявшийся преподать хаосу урок войны, хаосу, в котором я не видел ничего, кроме чудовищной жестокости и всепожирающей ненависти, получил от хаоса в ответ проповедь любви. И это — другая война, в которой я чувствую себя беспомощным и безоружным. Слова любви теряют привычный смысл, мистическое откровение обретает вдруг плоть и кровь, бездна наслаждения сливается с бездной небытия. Моргана — это нежная река, которая уносит меня, тонущего и счастливого пловца, в никуда, в бессловесный простор морских волн. Я люблю Моргану, как любят женщину и как можно любить только Бога. Кто сможет разбить оковы из неразрывного слияния светлого тела и темной души?
— Сама Моргана, сколько я ее знаю.
Окровавленный ребенок выходил из прекрасного материнского тела. Его высвободившиеся ручки зашевелились, и я вложил в его ладошки два пальца, которые они цепко обхватили. Я потянул. Он крепко держался за меня. Так он и родился, с натужным криком, словно сам вырывался из материнской утробы в этот мир, схватившись за руки своего злейшего врага. Я принял его и, перерезав пуповину, поднял на свет и поднес к своему лицу. Он был тяжелый, хорошо сложенный, полный жизненной силы.
В задумчивости я смотрел на сына Артура и Морганы.
Как только она узнала, что беременна, Моргана закрыла для короля двери своего дворца. И Артур в отчаянии бродил ночи напролет по равнине и по песчаным берегам близ Иски. Опасаясь, как бы его безрассудство не обнаружило этой преступной связи, покрыв позором его самого, а через него и Круглый Стол, я пришел к Моргане и сказал:
— Теперь, когда ты осуществила свой замысел, породив дитя мрака из самого света, предназначенное затмить его, ты хочешь довести своего брата до безумия и обесчестить его. Но я увезу тебя далеко от Артура, за море — тебя и тот позор, что ты носишь во чреве. Ты оставишь здесь все, что ты знала и чем владела. Мы уедем одни, без провожатых.
И мы пересекли море и высадились на побережье Арморики. Я навестил короля Бана в его столице Беноике и попросил его предоставить в мое распоряжение богатый уединенный замок посреди его страны, в лесу Броселианд, называвшийся Дольним замком, а также сотню воинов и слуг, выбранных из самых надежных и преданных. Что он немедленно и исполнил. И я провел там подле Морганы все время, пока она не разрешилась от бремени.
Я смотрел на ребенка. Вот уже много месяцев я не раз думал о том, что должен буду убить его, как только он появится на свет. Но теперь я не мог на это решиться. Я держал его на руках и был неспособен причинить ему зло: он был сильнее меня — той силой, что нагие и беззащитные черпают в самой своей наготе и беззащитности. Я протянул его Моргане, и она прижала его к груди. Она была вся в крови и в поту, но никогда еще не казалась мне такой красивой. Я обтер ее тело влажным полотенцем. И продолжал в задумчивости, как зачарованный, смотреть на нее, не говоря ни слова.
— Почему ты не убил его? — спросила она у меня.
— Не существует неотвратимого и злого рока. Я — живое тому подтверждение, и к тому же чувствую какое-то родство с этим ребенком, как будто — общность происхождения. Так же, как я не могу быть полностью уверенным в том, что мне подвластна судьба Артура, так и ты не можешь надеяться окончательно предопределить будущее твоего сына. Таким образом, нет ничего неотвратимого ни в творении, ни в разрушении, поскольку на свете существуют две вещи, не поддающиеся самым тщательным расчетам предусмотрительного ума: душа и случай. И даже если тебе удастся сделать из этого существа совершенное орудие, служащее твоей ненависти к человеческому роду, оно сможет причинить вред только в том случае, если Артур и пэры Круглого Стола проявят безумие или слабость. А если они станут безумными или слабыми — так не все ли равно, в чем будет причина их гибели, потому что виновной тогда будешь не ты и не твой сын, но они сами.
— Сколько хитрых уловок, для того чтобы просто сказать, что ты не способен убить младенца.
— И уловка, и действительность могут в равной степени быть признаны истинными.
Она улыбнулась мне:
— Разве ты больше не испытываешь ко мне ненависти, Мерлин?
— Я буду всегда любить тебя, Моргана. Сильнее всего на свете. Ты мое дитя, а также и другая сторона меня самого. Но я сильнее тебя.
Так в году четыреста семьдесят девятом в Дольнем замке, который вскоре, из-за злодеяний Морганы, должен был получить печальное имя Замка В Долине Откуда Нет Возврата, родился Мордред.
— Государь, — поклонившись Артуру, сказал гонец, — вот что король Бан из Беноика, которому ты повелел следить за продвижением саксов, поручил сообщить тебе. Их военный флот, войдя в залив, разделяющий Уэльс и Думнонию, и продвинувшись до самого его конца, бросил якорь у пустынных южных берегов, в стране белгов, оставив без внимания противоположный берег силуров и богатый Кардуэл. Район высадки огромен — никогда в Логрисе не видали еще такой саксонской морской мощи, даже в правление их союзника Вортигерна. Флот состоит из пятисот судов. На каждом из них, нагруженном до предела, умещается сорок воинов. Из чего следует, что вся вражеская армия насчитывает двадцать тысяч человек. Они не взяли с собой коней, даже для своих вождей, — несомненно, для того, чтобы оставить больше места людям, и потому еще, что они, по-видимому, надеются найти их здесь в предстоящих сражениях и набегах. Они поставили временный лагерь, но он слабо укреплен, что говорит о том, что они не замедлят двинуться дальше — может быть, уже завтра.
— Хорошо. Скажи Бану, пусть не обнаруживает своего присутствия перед саксами. Сегодня ночью я присоединюсь к нему с моим войском. Пусть он найдет скрытное место для армии и вышлет мне навстречу проводника. Я подойду с юго-запада, со стороны моря.
Артур обернулся к тем, кто слушал сообщение гонца. В зале крепости Камелота собрались все члены Круглого Стола и все военные вожди Логриса, среди прочих король Леодеган, несгибаемый старик семидесяти восьми лет, Лот Орканийский и его старший сын Гавейн, которому тогда едва сравнялось пятнадцать лет и для которого это было первое сражение, Богорт Гонский, брат Бана, и Кэй, сын Эктора и товарищ детских игр Артура. Все это были грозные бойцы, цвет бриттского воинства, но Артур превосходил их всех ростом и телесной мощью. Он слыл непобедимым. Ему шел тогда тридцатый год. Он был все так же красив лицом, хотя черты его несколько посуровели под бременем государственных забот и какой-то тайной печали. Он утратил ту юношескую гибкость, что была у него в начале царствия, и теперь его более тяжелые и спокойные движения рождали ощущение огромной и укрощенной силы. Лицо его выражало смесь властности и задумчивой грусти. Он был добр и милостив с простыми людьми, сдержан со знатью. Народ боготворил его, вельможи — боялись, но не переставали любить. К тому времени он стал уже легендой.
Войска выстроились у крепостных стен и ждали приказа. Они состояли из постоянной королевской армии, насчитывавшей десять тысяч человек, и резервов, взятых из гарнизонов, размещавшихся в соседних городах: Моридунуме, Кардуэле, Кориниуме, Каллеве, Новиомагусе, Венте Белгарум, Дурноварии и Тинтагеле — и поспешно собранных, как только саксонский флот был замечен вблизи логрских берегов. В более удаленные города были посланы гонцы, чтобы, не оголяя чрезмерно крепостные гарнизоны и не забирая ни одного человека из армии бригантов, стоявшей на страже северных границ, собрать войско, которое должно было ускоренным маршем направиться к Камелоту. За более или менее длительный срок Артур мог набрать тридцать тысяч солдат, что составляло внушительную силу: такая огромная армия собиралась прежде лишь один раз — по случаю его восшествия на престол и погребения Утера. Но теперь в его распоряжении было только четыре тысячи конных и двенадцать тысяч пеших воинов, которых он решил вести в бой не откладывая, чтобы не допустить опустошения своих земель.
— Это не грабительский набег, — сказал он, — а захватническая война. У саксов нет верховной власти, их отряды действуют независимо друг от друга, каждый подчиняется своему вождю. Если их шайки смогли договориться между собой и объединиться, образовав такое многочисленное войско, — за всем этим непременно стоит далеко идущий план. И если они не высадились, как делали это в прошлом, на наши восточные или южные берега, следуя наиболее коротким морским путем, но обогнули их, борясь со встречными ветрами, если они обошли стороной Кардуэл и пристали к противоположному берегу — так это потому, что оттуда лежит самый близкий путь к Камелоту, и потому, что они в первую очередь хотят разрушить Круглый Стол, чтобы получить возможность прочнее закрепиться на теле Логриса, тем самым обезглавив его и поразив в самое сердце. Потому они придут сюда самой прямой дорогой так быстро, как только смогут. Они не имеют коней, и, чтобы покрыть расстояние, отделяющее берег от Камелота, им потребуется восемь часов. Вот что я решил. Между нами и саксами лежат Бадонские холмы. Ты, Леодеган, и ты, Лот, со всеми моими вождями и двенадцатью тысячами пеших воинов сегодня же ночью пойдете и станете на этих высотах. Там вы остановите неприятеля. Я же вместе с Богортом и Кэем во главе четырех тысяч конных воинов пойду на соединение с Баном к месту высадки, но буду при всем этом держаться на достаточном удалении, чтобы саксы не смогли раскрыть наше присутствие. Стремясь одним ударом разбить королевскую армию и разрушить Камелот, они оставят как можно меньше воинов охранять свои корабли. Может быть, тысячу. Самое большее, две. После ухода их основных сил я выжду три часа. За это время они как раз успеют дойти до Бадона и вступить в бой с Леодеганом и Лотом. В этот момент я и ударю. Внезапно окружив их лагерь и перебив охрану, я сожгу их военный флот. Если их войска, втянутые в сражение у Бадона, заметят дымы пожарища, они не смогут повернуться к вам спиной и возвратиться к берегу, потому что в таком случае им грозит сокрушительное поражение. Как только я подожгу корабли, я, ни минуты не медля, иду к Бадону и нападаю на них с тыла, замыкая тем самым тиски окружения. До моего подхода не пытайтесь атаковать сами, берегите свои силы, потому что вы будете в значительном меньшинстве. Удерживайте холмы и отражайте их удары. Но едва лишь завидите меня, смело бросайтесь в бой. Перебейте врагов или умрите сами. Если саксы все же выскользнут из наших клещей и сумеют добраться до берега, они найдут на месте своего гордого флота лишь несколько обгорелых досок и попадут в новую, еще более гибельную для них ловушку, поскольку тогда они окажутся уже прижатыми к морю, капкан захлопнется и вырваться из него будет невозможно.
— Сжигая их корабли, — сказал Леодеган, — ты лишаешь их всякой надежды на отступление и вынуждаешь сражаться до последнего человека. Они уже превосходят нас числом. Следует опасаться, как бы такая стратегия не усилила их воинскую доблесть, которая и без того велика, остервенением от полной безысходности и чтобы они не почерпнули в этом безнадежном положении силы, необходимые для победы. Потому что ярость и упорство в бою сдерживает всегда остающаяся возможность бежать.
— Я не хочу, чтобы они смогли бежать. Я хочу устрашающим примером охладить пыл саксов и подавить в них всякое желание совершать новые набеги — если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. А собрав такую многочисленную армию, что не в их обычаях и что не сможет скоро повториться, они дарят мне случай, которого я искал. Что же касается их воинской доблести, упорства и остервенения, я рассчитываю, что наше упорство и остервенение будут еще большими, ибо, сражаясь на своей земле, являющейся нашим последним оплотом, мы имеем еще меньше возможностей для бегства, чем они. Если мы потерпим поражение, оставшиеся в живых вожди восстановят армию из тех резервов, что движутся теперь к нам на помощь из городов, и продолжат беспощадный бой до тех пор, пока ни одного живого сакса не останется на нашей земле.
На мгновение он замолчал, потом спокойно добавил:
— Это значит, что мы не будем брать пленных.
Тридцать тысяч мертвых воинов устилали холмы Бадона. Далеко на севере черные клубы дыма от гигантского пожарища подымались над прибрежными песками, над тем местом, где на заре полегли три тысячи саксов и где догорал вражеский флот. Саксы были истреблены все до одного, а от армии Артура оставалось не более двух тысяч пеших и несколько сотен конных воинов, из которых не было ни одного, кто остался бы невредим. Из ста пятидесяти членов Круглого Стола уцелело около двадцати, и среди них король, Бан, Богорт, Кэй и Гавейн. Все старые вожди, помнившие Утера, были мертвы. Лот погиб. Леодеган испускал дух.
Артур, угрюмый и залитый кровью, бесцельно ехал по полю боя. Он подъехал туда, где стоял я, склонившись над распростертым на траве Леодеганом. Слез с коня и опустился подле него на колени.
— Какой бой, Артур! — с улыбкой сказал Леодеган. — Никогда еще не видал я такого боя, даже во времена Утера. Он был бы доволен. А ты сражался лучше, чем сражался бы он, будь он здесь. Ты сражался так, как никто другой, и мир навсегда запомнит этот день. Я счастлив умереть на глазах у такого великого воина; Мое время прошло и время таких, как я. Я отдаю тебе свою землю, страну бригантов, которую твой отец и Мерлин некогда оставили в моих руках, вопреки своим завоевательным стремлениям. Присоедини ее к Логрису. Я поручаю тебе также мою единственную дочь, пятнадцатилетнюю Гвиневеру.
Он посмотрел на меня:
— Мерлин, так, значит, и Лот и все люди старого мира мертвы?
— Да, Леодеган.
— Тогда твой мир действительно рождается сегодня из мертвого чрева насилия, бывшего законом того, другого мира. Ты остаешься его единственным творением и единственным свидетелем. Ты одновременно отец и — сирота. Ты как дерево, чьи корни не сходны с плодами. Ты же словно ствол, чуждый им обоим. Какое одиночество, Мерлин! Неужели так же одиноко и после смерти, там, куда я иду?
И он замер, навсегда обретя мир и покой. Тогда Артур обхватил руками страшную седую голову и прижал ее к себе. Он заплакал. Заплакал, как никогда не плакал за всю свою жизнь. И я чувствовал в этих внезапных слезах, кроме скорби, кроме ужаса от необходимости продолжать жить, в то время как повсюду вокруг воцарилась смерть, что открылась старая, незажившая рана, из которой хлынуло слишком долго копившееся страдание.
Бадон. Это было в четыреста девяностом году, в первый день лета: Солнце садилось за холмами, расцвечивая небо на западе в торжественный пурпур, словно бесконечное отражение пожарищ и пролитой крови. Все было безмолвно, погружено в забвение смерти и сна, в молчание изнеможения и оцепенения.
Артур плакал.
Через год после сражения при Бадоне Артур женился на Гвиневере.
Гвиневера была прекрасна. В свои шестнадцать лет она ничем не напоминала ребенка, являя собой все совершенства женщины. У нее были длинные и тяжелые золотые волосы, славившиеся во всей Британии, лицо с чертами правильными и немного холодными, которое более прельщало с первого взгляда, нежели по-настоящему очаровывало, и нежная белая кожа. Лицо ее выражало смесь благородства, безразличия, своенравия и скуки, входя в противоречие с той нежностью, грацией и чувственностью, которыми были преисполнены ее движения. Все существо ее внушало мысль о наслаждении — равнодушном и недоступном. Она испытывала удовольствие — не будучи при этом настолько мелочной или простодушной, чтобы показывать это, — чувствуя себя предметом всеобщего внимания и восторженного поклонения. Выше всего она ценила власть, роскошь и богатое платье. Поэтому когда она увидала Артура, соединявшего в себе все эти достоинства и бывшего к тому же самым красивым мужем на всем западе, она полюбила его так сильно, как только вообще могла любить.
Свадьбу отпраздновали в Изуриуме, столице королевства бригантов, которую Артур, в память о Леодегане, избрал одной из своих столиц. Празднества продолжались в Лондоне и наконец в Кардуэле. Здесь Артур, желая пышно завершить увеселения, задал в своем дворце большой пир. Он созвал туда всех королей, вождей и знатных людей Логриса и покоренных земель.
В самый разгар праздничной трапезы в залу вошли двое гостей и приблизились к самому королевскому столу. Оба были одеты в дорожные накидки, лица их были скрыты под широкими, низко опущенными капюшонами. Тот, что был выше, откинул свой капюшон, и все узнали Моргану. Ее красота была столь ослепительна, что все присутствовавшие там замолчали, затаив дыхание. Рядом с ней другие женщины казались уродливыми, словно уничтоженные этим прекрасным сиянием, и даже великолепие Гвиневеры, которая была вдвое ее младше, тускнело в сравнении с ее завораживающей красотой. Сильно побледневший Артур поднялся, пристально глядя на нее с выражением ужаса и несказанной радости на лице. И я понял, что внезапное появление Морганы было для него мигом райского блаженства, разжегшим с новой силой адскую пытку разлуки.
Моргана откинула капюшон со своего спутника. Шепот восхищения пробежал по зале. Это был ребенок лет двенадцати, и по красоте его стана и лица все догадались, что он — сын Морганы. Но я, перенесясь мыслью на двадцать лет назад, вдруг увидел перед собой маленького Артура, за тем лишь исключением, что у этого ребенка были более темные волосы и зеленые глаза, как у его матери. Он держался совершенно прямо, без какой бы то ни было робости, но и без высокомерия.
— Это Мордред — мой сын, — сказала Моргана Артуру. — Он вырос и был воспитан в Беноике, в стране короля Бана, посреди леса Броселианд, в уединенном замке, который мне дал Мерлин и который народ в страхе называет Замком В Долине Откуда Нет Возврата, потому что из всех, кто заблудился в тех местах либо отправился туда по своей воле — из похвальбы, любопытства, надеясь предаться сладострастию или страдая от любви, — ни один, кроме разве что Мерлина, не вернулся оттуда. Между тем именно в этом проклятом месте Мордред узнал от меня все то, что ум возвышенный и могучий может только пожелать узнать, и даже то, чего он, может быть, совсем и не желает знать, ибо истина нераздельна, она включает в себя в равной мере добро и зло, а знать наполовину — невозможно. Теперь настало время ему закалить свое тело и — поскольку он тебе родня — научиться у тебя боевым искусствам, равно как искусству войны и искусству власти. Я хочу, чтобы он служил тебе и стал членом Круглого Стола.
— Почему же отец не научил его всему этому? — надменно и гневно спросил ее один из вождей. — Рожден ли он в согласии с нашим законом или же тот, кто его породил, — одна из бесчисленных жертв, навсегда сгинувших в твоем волчьем логове? Этот вопрос не должен смутить тебя, раз ты пришла сюда прилюдно похваляться своими преступлениями — как если бы стояла над законом. Но берегись — хотя бы ты и была королевской крови. Никто в Логрисе, даже король, не стоит выше закона — так постановили Мерлин и члены Круглого Стола.
Артур взялся было за рукоять меча, но я удержал его и подошел к Моргане и Мордреду. И обратился к тому, кто только что говорил:
— Отец Мордреда и Моргана были связаны узами родства, если это известие может успокоить твою потревоженную добродетель. Я самолично пожелал разрушить эти узы и осудить этого человека на вечное забвение. Это означает, что его имя не будет произнесено. Тебе придется удовольствоваться тем, что сказано. Что же до того, что ты сказал о законе Логриса, — это вполне справедливо, и ты прав, пусть ты и кажешься мне взбесившимся псом, который вдруг набрасывается на своих хозяев. Вот мое решение. Мордред будет принят при дворе, с ним обойдутся в соответствии с его положением и воспитают так, как хочет его мать. И он станет впоследствии пэром Круглого Стола, если окажется достойным этого. Ты, Моргана, пренебрегавшая вот уже более десяти лет законом Логриса и испытывавшая терпение короля, равно как и Бана, который по своему благородству и из особого расположения к роду Артура считал тебя неприкосновенным гостем на своей земле, — ты навсегда отправишься в изгнание. Я даю тебе Авалон, цветущий вечнозеленый Остров Плодов, близ северных берегов Беноика. Отныне остров этот не является более частью Логриса, но переходит в твое полное владение и будет подвластен лишь твоему закону. Таким образом ты будешь защищена от правосудия Логриса, потому как не следует допускать, чтобы с сестрой короля обходились как с простой преступницей, а Логрис будет избавлен от твоих злодеяний и от позора, который ты навлекаешь на него. Но у тебя не будет больше права покидать это место, под страхом немедленной смерти без суда, потому что, когда ты, движимая дерзновенным и греховным желанием, приняла на себя одну всю ответственность за совершенные тобой дела, ты уже сама вынесла себе приговор. Что же касается тех, кто, может быть, падет жертвой твоей беспричинной и безумной ненависти к человеческому роду, то они должны знать, что с тех самых пор, как они ступят в твои владения, они лишаются покровительства и защиты законов Логриса, а их семьи — последнего законного оплота в борьбе с тобой в лице короля. Так что если в очерченных тебе границах посреди королевства Круглого Стола ты захочешь создать ад — ты вольна сделать это, но гореть в нем люди будут по доброй воле.
— Я принимаю твое решение, — сказала Моргана.
— Да будет так, — сказал Артур, и я едва узнал его голос.
После этого, не говоря больше ни слова, он внезапно встал и вышел вон.
— Говорила ли тебе что-нибудь обо мне твоя мать, Мордред?
— Да, государь. Она сказала мне, что ты ее воспитал. Что ты — единственный человек, кого она когда-либо любила. Что она любит тебя как отца, мужа и учителя и что ты любишь ее — как ребенка. Что ты — настоящий владыка Логриса, возносящий и низвергающий королей, и что ты создал Круглый Стол. Она сказала также, что ты помог мне родиться и еще — что ты мой враг.
Мы были одни в зале Кардуэльского дворца. Моргана привезла ко двору оружие против Логриса, которое она тщательно готовила в течение двенадцати лет. Но это оружие не сознавало само себя. Слишком умна была Моргана, чтобы ставить перед Мордредом какую-либо определенную цель, потому что тот, кто ищет какой-либо цели, рано или поздно обнаруживает себя. Несомненно, она медленно, каплю за каплей вливала в его душу смертельный и тайный яд, о котором он даже и не подозревал; она исходила из того правила, что используемые определенным образом чистые помыслы являются оружием более прочным и опасным, нежели самое коварное и обдуманное лицемерие. Поэтому Мордред должен был расположить к себе и ввести в заблуждение Артура, двор и меня самого не вопреки своим искренним чувствам, а именно благодаря им. Это была угроза гибели, которую несет в себе невинность, опасность предательства, таящаяся в самом прибежище верности. Но с другой стороны, я смог бы расстроить все эти планы именно в силу их двойственной природы.
— Мордред, а ты сам — враг мне и Логрису?
— Почему ты спрашиваешь, государь? Разве я здесь не для того, чтобы показать себя достойным Круглого Стола? А если бы я и был им — к чему тебе бояться ребенка, не имеющего ни власти, ни опоры?
— Знаешь ли ты, кто твой отец?
— Да, — Артур Логрский, король. Я также знаю, что должен сохранять это в тайне от всех, кроме тебя, потому что мои родители являются братом и сестрой, а это преступление в глазах людей.
— Ты сказал мне, что я люблю Моргану как ребенка. Ты просто повторяешь слова своей матери или ты вкладываешь в эти слова некий смысл?
Он смутился и опустил голову. Какое-то время он молчал, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Наконец ответил:
— Нет, я не вижу в этом никакого смысла. Ибо моя мать любила только одного человека, — но не меня, а для моего отца, если он знает о моем существовании, я могу быть лишь предметом позора и стыда.
— И ты страдаешь от этого?
Он помедлил с ответом.
— Да, Мерлин.
— Это пройдет. И потом, страдания делают самый совершенный животный организм — немного более человечным. Теперь, Мордред, я знаю, что я не враг тебе.
Перекличка и крики охотников, стук лошадиных копыт, лай собак наполняли Кардуэльский лес. Я ехал ровным шагом через густые заросли. В лесу я чувствовал себя хорошо. Двор тяготил меня, и я учащал эти прогулки, которые всегда приводили меня на ту самую поляну, где когда-то, еще ребенком, Моргана открылась мне со всей доверчивой детской непосредственностью, которая навсегда запала мне в душу.
Я был совсем недалеко оттуда, когда вдруг мой конь заржал и взвился на дыбы, всем своим существом выражая сильный страх. Я спрыгнул на землю, привязал его к дереву и вышел на поляну. Под деревом, прислонившись спиной к стволу, стояла молодая девушка в охотничьем костюме, державшая в руках обломок копья, который она занесла для удара. Она была высокого роста и производила впечатление весьма искушенной во всем, что касается телесных упражнений, и по части силы и ловкости способной даже потягаться с мужчиной на его законной половине, и в то же время в очаровательных и нежных линиях ее лица и шеи, роскошных длинных волосах, в изяществе стройных и сильных членов и прелестно развившейся груди — во всем угадывалось совершенство истинной женщины, скрытое под мишурным нарядом и манерами ложной мужественности. Это была Диана в напряжении всех своих сил. Она была бледна, но держалась уверенно, не выказывая ни малейшего испуга. В нескольких шагах от нее застыл кабан, чудовищных размеров секач, вооруженный острыми клыками, с всклокоченной шерстью, испачканной в крови, хлеставшей из раны, которая только сильнее разожгла его дикую злобу, — готовый броситься на нее всей своей огромной и неуклюжей тушей. Я встал между ним и охотницей и, не делая больше ни одного движения, так заговорил со зверем:
— Кабан, я знаю, что ты находишься на своей земле и что ты подвергся нападению и был ранен, хотя сам не нападал и не угрожал своему обидчику. И потому ты совершенно прав, защищаясь от прихотей и произвола жалкого создания, превратившего убийство в забаву, призванную в мирное время удовлетворять его ненасытную страсть убивать, которая во время войны заставляет его уничтожать себе подобных. Однако посмотри на все это глазами стоика. Сам рассуди, насколько чисто философская победа предпочтительнее любой другой, а также какую ничтожную славу ты обретешь, убив это тщедушное существо. Ты силен и могуч, а главная добродетель сильного — с презрением и вместе с тем со снисходительностью относиться к слабейшему, которого его собственная слабость сделала безумным рабом необузданных страстей. Поэтому откажись от праведного мщения и предоставь своего нелепого мучителя худшему из унижений: тому, что происходит от морального поражения, тем более уязвляющему человеческую гордость — как бы мелочна и извращенна она ни была, — что этот пример преподан ему неодушевленной тварью: так, как если бы сама природа указала разуму пути благородства и великодушия.
В это время кабан, сдержавший свой наступательный порыв, зачарованный и смущенный переливами моего голоса, повернулся и мелкой рысцой исчез в лесу. Я услышал за спиной смех и обернулся. Девушка подошла ко мне.
— Я благодарна тебе, высокочтимый Мерлин, за то, что ты спас меня, хотя еще никогда за всю мою жизнь я не была так оскорблена. Я вижу, что слава о тебе верна и что ты и в самом деле можешь убедить и очаровать диких зверей, равно как и их добычу.
— Я не знаю, кого из вас двоих — себя или кабана — ты подразумеваешь под словом «дикий», а кого — под словом «добыча», как не знаю я, кого и от кого я спас. Кто ты?
— Мое имя Вивиана. Я дочь Кардевка, короля редонов, которого ты некогда поставил во главе его народа по причине его учености и мягкого нрава. Он послал меня в Логрис на свадьбу Артура вместо себя.
— Странно. Ведь я помню, что Кардевк был безобразен, в то время как ты красива, и что он был мудр, в то время как ты проявляешь немного мудрости, подражая мужчине в том, в чем он менее всего разумен.
— Я унаследовала красоту моей матери, которая умерла сразу после моего рождения. Кардевк привил мне любовь к телесным упражнениям и научил меня обращаться с оружием и ездить верхом, воевать и охотиться, потому как он хотел иметь наследника мужского пола. А также он привил мне любовь к наукам и знаниям, потому как хотел иметь мудрого наследника. Я была его сыном, дочерью и учеником. И я почувствовала в себе непреодолимое желание в одно и то же время властвовать и повиноваться, быть независимой и любить, приобретать в свою собственность и принадлежать другому, желание порождать и давать жизнь — жизнь плотскую и духовную. И желание встретить тебя, Мерлин, того, в ком соединились сразу все противоположности. Потому как удовлетворение этого последнего желания — может быть, равносильно для меня удовлетворению всех остальных.
— Сдается мне, что ты никогда не бываешь скромна в выборе своих жертв, кто бы они ни были. Чего ты хочешь от меня?
— Я хочу, чтобы теперь ты преподал мне свою науку, как раньше мой отец. Так как он уже обучил меня всему, что знал сам.
— У меня уже было двое детей и двое учеников — лучшие, каких только отец и учитель могли бы пожелать. Одному я объяснил природу людей, то есть что есть власть и долг, потому что ему суждено было владеть миром. Другому я объяснил природу вещей, то есть единственное настоящее знание, — потому что я любил его. Но тебя не ждет великая судьба, а я не чувствую к тебе любви. Так зачем мне выполнять твою волю? Разве ты делаешь мне великую честь, беря меня в наставники? Если это так, то какой платой отплатишь ты мне за мои труды?
— Мне нечего предложить тебе, чего бы я не получила уже от тебя через моего отца, — разве что себя саму.
— Мне не нужен охотник.
Она сорвала с себя одежду, бросила ее к своим ногам и нагая встала передо мной. Тогда я увидел, что ее тело было еще прекраснее, ее плоть — еще обольстительнее, чем я предполагал. Она была высокомерна и в то же время словно испугана своим собственным поступком.
— Я не охотник, — сказала она мне гневно. — Я Вивиана. Посмотри на меня. Вот моя плата. Возьми ее. Если зрелость и умудренность ума можно купить свежестью и нежностью тела — возьми меня. Пусть это будет твоим первым уроком.
И я взял ее. После первой боли она отдалась наслаждению, даря его затем и мне. Я увидел, как несколько красных пятен крови окрасили ее белоснежные бедра. И вдруг все это напомнило мне другое тело и другую рану, не зажившую во мне до сих пор.
Волны желания, гребни ярости и провалы небытия — слились в один вихрь. Когда я опомнился, уже спустилась ночь. Лес чуть слышно шелестел под теплым морским бризом, и бледный свет полной луны лился на деревья. Я протянул Вивиане ее мужское платье, и она оделась. Я пошел за своим конем. Посадил ее позади себя. Она обвила руками мой стан, и я почувствовал, как ее тело прижалось к моему. Мы вернулись в Кардуэл, не проронив ни слова.
— Настало время, — сказал я Артуру, — мне расстаться с моим созданием и узнать таким образом, прочно ли оно или недолговечно, сможет ли оно жить само по себе или же зависит от воли и убеждения одного человека — как утверждал Утер. Итак, я оставляю тебя одного в твоем мире, который я отныне не считаю больше своим. В жилах живого дерева Круглого Стола текут новые соки. Ты старейший из его пэров, и тебе чуть больше тридцати. Ты разбил саксов. Горра в страхе просит мира, зная, что близок тот час, когда ты завоюешь его. Твой племянник Гавейн, отдавший тебе доставшуюся ему от Лота Орканию, держит под постоянной угрозой пиктов. Ты должен покорить их и укрепить свои владения на севере. Логрис — это светоч запада, горящий во мраке варварства, к которому обращаются все страждущие от насилия и произвола. Моргана — милый твоему сердцу злой гений — в изгнании. У тебя осталось всего два опасных врага: твои собственные страсти и Мордред. Но их обоих ты можешь сделать своими союзниками. Потому что страсти рождают как уныние — видящее повсюду лишь бессмыслицу и суету сует пустого тщеславия, которое сокрушает душу и сковывает тело, — так и действие, преобразующее мир. Что касается Мордреда, то если он сделается честолюбивым и потребует власти и почестей — в силу вашего тайного родства, поскольку ему известно, что он твой сын, — сделай так, чтобы он погиб. Но дай ему власть и почести — если он не хочет ничего для себя. Опасайся также его чрезмерной добродетели. Потому что всякому делу, каково бы оно ни было, угрожает предательство либо фанатичная преданность, и я не знаю, какое из этих двух зол Моргана решила использовать в Логрисе, чтобы разрушить его. Я же уеду далеко отсюда, в место уединенное и безлюдное, где ты не сможешь отыскать меня. Там я предамся наукам, созерцанию и праздности — трем добродетелям философа. Леодеган был прав. Я живу на земле величайшего одиночества — не только из-за предания о моем чудесном рождении, которое с первого же дня моей жизни отделило меня от прочих людей, но еще и потому, что я пришел из мира, который всеми силами помогал уничтожить и память о котором не дает мне покоя, заставляя страдать; в новом же мире, который я сам выдумал, я чувствую себя чужаком. После смерти Утера у меня оставалось только две любви и две родственные души на этом свете: Моргана, которая сама решила порвать с миром и обрекла себя на изгнание, и ты, чья судьба требует от меня перестать опекать тебя и удалиться. Так — в дополнение к предсказанию Блэза, говорившего, что я рожден из хаоса, чтобы победить хаос, — я вернусь в хаос. В хаос природы, неподвижного вещества и жизни без цели. Я уйду в забвение, по ту сторону добра и зла, и там примирюсь с самим собой. Но в чувствах и в помыслах моих я всегда буду с тобой, Артур, — до конца.
Когда Вивиана прибыла в Логрис, чтобы участвовать в празднествах по случаю свадьбы Артура и Гвиневеры, ее сопровождала многочисленная и блестящая свита. Когда же она решила возвратиться ко двору своего отца, в страну редонов, к ней присоединились многие жители Кардуэла, благородные мужчины и женщины, охотники и ученые, поэты и музыканты, которые пленились очарованием ее ума и ее тела и не желали уже с ней расстаться. Зная о том, что я собирался отправиться за море, чтобы скрыться в месте моего уединения, известном одному только мне, она предложила довезти меня до берегов Беноика. И мы переправились через море — проплыв неподалеку от Авалона, на который я не мог смотреть без скорбной грусти, — и высадились на северном берегу Арморики, в пустынной и хорошо укрытой от ветров бухте, вблизи самой красивой крепости короля Бана, которая звалась Треб. Наступала ночь, и Вивиана велела разбить на берегу большой лагерь, и все ее спутники весело собрались вокруг костров. Когда я увидел, что все приступили к угощению и предались веселью, я оставил лагерь и пешком углубился в ночь. Я держал путь к Дольнему Лесу, северная кромка которого находилась в часе ходьбы от берега. Я избрал его местом своего изгнания потому, что никто и никогда не заходил туда, ибо он внушал окрестным жителям суеверный страх. По местному поверью, пришедшему из глубины веков, этот лес являлся местом священным и заколдованным, куда попадали осужденные на проклятие и кару богов. Лес был такой густой и темный, что мне стоило большого труда прокладывать себе дорогу в его непроходимых зарослях. Прошло немало времени, прежде чем я выбрался из леса и очутился на огромной поляне, окруженной со всех сторон плотной стеной деревьев. У подножия высокого скалистого холма широко раскинулось озеро, и в черном зеркале его вод блестела луна. Посреди него виднелся поросший лесом остров. Я взобрался на вершину холма и оказался на ровной площадке перед входом в огромную и глубокую пещеру. Оттуда, с высоты, мне был виден весь Дольний Лес, тянущийся до самого южного горизонта, и моим взорам открылись голые песчаные холмы на западе и море на севере, и только на востоке взгляд упирался в укрепленные стены замка Треб. Около берега в темноте яркими пляшущими огнями горели костры моих спутников, мигая, когда их вдруг закрывали людские тела. Мне казалось, что я почти слышу их песни и смех. Это было словно последнее и грустное напоминание о мире людей, который я покидал. Рядом со мной равнодушная в своем неумолимом спокойствии дикая природа поднималась из леса, властно подступая к самой вершине горы. И я остался там, наслаждаясь видением ночи, проникаясь этой торжественной картиной, явившейся в сиянии ночных светил, и зная, что здесь я буду жить до скончания своих дней.
Собрав охапку листьев, я вошел в свое новое жилище. Внутри было сухо и чисто. В глубине я сложил несколько шкур и, устроив лежанку, лег на нее. Луна повисла над самым входом в пещеру, через который проникал ее холодный свет. Вдруг между мной и луной встала чья-то высокая и изящная тень, окруженная тусклым сиянием, похожим на померкший нимб. Вивиана прилегла рядом со мной.
— Так, значит, — сказал я ей с притворной строгостью, — с первой же минуты моей отшельнической жизни ты уже преследуешь меня мирским искушением и заставляешь, подобно Антонию из Гераклеополя, бороться с соблазнительными видениями плоти.
— Не прогоняй меня. Я хочу побыть с тобой еще несколько часов. Хотя бы до утра.
— Уверен, тебе не понадобится столько времени, чтобы взять надо мной верх.
Я привлек ее к себе, крепко обнял и добавил:
— Если бы Антония Анахорета искушали подобным образом, то, полагаю, он бы не устоял. Ну а я и не думаю противиться тебе.
И Вивиана продлила эти часы на всю ночь, на весь день и часть следующей ночи. Наконец нас сразил сон. Я почувствовал, как она отодвинулась от меня и встала с ложа, и проснулся. Она подошла к выходу из пещеры и стала совершать странные заклинания, в которых я без труда узнал противоречивую веру Кардевка, преисполненную суеверий древних друидов. Она взывала к галльскому богу Огмию, прося его — если ей не дано привязать меня к себе узами любви — помочь удержать меня в плену с помощью волшебных чар. И эта безнадежная и бесхитростная вера в соединении с глубоким умом, это уверение в любви, высказанное в проклятии, сделали свое дело: она добилась цели. Вивиана вернулась и легла рядом со мной, а я притворился, что только сейчас проснулся.
— Занимается день, Мерлин. Ты прогонишь меня?
— Но чего хочешь ты?
— Я хочу навсегда остаться рядом с тобой. Я не вернусь к своему отцу, я поселюсь со всем моим двором в Дольнем Лесу и сделаю его своим владением. Вместе с теми, кто захочет остаться и связать свою судьбу с моей, я построю замок на острове, что посреди озера. Мы сами станем землекопами, каменотесами, каменщиками, лесорубами и плотниками. Убежище твое будет неведомо никому, гора эта — заповедной, и одна только я смогу навещать тебя. Я буду любить тебя, а ты — меня учить. Вот чего я хочу.
Так Вивиана стала Владычицей Озера.
С тех пор минуло почти полвека.
Дни следовали за днями, не отмеченные больше великими деяниями людей и не сотрясаемые историческими смутами, но похожие один на другой, следуя неуловимой смене времен года, изменениям неба и воздуха и неприметным переменам в облике деревьев и повадках животных. Время подчинялось годовым кругооборотам, в которых решительно растворялась всякая конечная цель. Жизнь природы, поочередно то буйная и бьющая через край, то замирающая и сонно дремлющая, неистощимая и непостижимая, обретала смысл лишь в моих наблюдениях, с помощью которых я пытался проникнуть в ее тайну. Эта тайна была одновременно и тайной человека — той его темной стороны, которая борется с созданиями его ума и влечет его назад к изначальному хаосу — хаосу, в котором я постепенно научился видеть стройный порядок, составляющий естественный закон. И так я понял, что нас ставит в тупик и заставляет страдать отнюдь не противоположность абсолютной упорядоченности мысли абсолютному беспорядку и бессмысленности вещей, но противопоставление абстрактной внешней целесообразности — логики разума — и тайной, сокровенной целесообразности — логики бессознательного инстинкта, то есть противоречие двух законов, к примирению которых я стремился. Я изучал жизнь растений и их полезные и вредные свойства, тонкое различие между которыми зачастую было лишь вопросом меры — что материально объясняло давний спор церкви, видящей в добре и зле два непримиримо противоположных начала, и философии, для которой добро и зло — одно и то же начало, чья двойственность определяется количественным отношением. Я наблюдал также за животными, и скоро они не только перестали меня избегать, терпя мое присутствие, но и сами стали выходить мне навстречу во время моих прогулок по лесу, выпрашивая немного еды, прося успокоить боль от нанесенных им ран или ожидая от меня просто ласки. Избегая, как и я, подданных Вивианы, они, таким образом, отделили меня от человеческого рода — как еще раньше это сделали сами люди, но из других побуждений, — и теперь та самая чужеродность, которая отдалила меня от людей и окружила пустыней страха, наполнила мое одиночество нежной привязанностью лесных обитателей. Некоторые из них — и не самые маленькие — забирались даже на скалистую вершину, проводя ночь в моей пещере или укрываясь там, когда люди с озера устраивали охоту. Нередко случалось, что тяжелый кабан или огромный олень приходили и ложились перед моей лежанкой или, разделив со мной ужин из трав и кореньев, оставались сторожить вход в пещеру. Даже самые кровожадные и осторожные звери, волк и лиса, по-собачьи ласкались ко мне и лизали мне руку, принося иногда мясо своей еще теплой добычи, которое я вежливо отвергал. Я говорил со всеми, и мне казалось, что им нравилось это. Им была ведома фантазия, стремление к цели и любовь, а тем, что исключало их из нравственного закона и ограничивало их сознание простейшими истинами, была их полная неспособность заранее предвидеть и осознать собственную смерть, оттого что они ничего не узнавали об этом из смерти других. И потому они каждый день проживали своего рода вечность, не задумываясь и не придавая этому значения, покорные бесконечности круговорота. И в этом сходстве неосознанного бессмертия и Бессмертия, о котором мечтает абсолютное сознание человека, я увидал безнадежную никчемность разума.
Еще была Вивиана. Она часто навещала меня, и, как она того и хотела, я целиком посвящал себя ей, отдавая все свои силы ее телу и духу, извлекая из обоих все большее и большее наслаждение. Со временем тело и ум ее созревали, и сама она становилась все более обольстительной и мудрой, обретая с возрастом новое вдохновение. Она успешно боролась с холодом и равнодушием старости, посягавшими на мое тело и мой дух, говоря, что время не имеет власти надо мной из-за моего происхождения.
Через нее до меня иногда доходили еще известия о мире и Логрисе, поскольку она время от времени оставляла Дольний Лес и ненадолго отправлялась в империю Артура или же посылала туда гонцов с поручением привезти ей последние новости из внешнего мира. Некоторые события имели на ее жизнь непосредственное влияние. Так, в четыреста девяносто третьем году, в скором времени после нашего прибытия в Дольний Лес, король Клаудас, владыка обширной страны к югу от Арморики, называемой Пустынная Земля, начал войну против Бана из Беноика и его брата Богорта из страны гонов. Эта война продолжалась семь лет и завершилась на рубеже веков победой Клаудаса и гибелью Бана и Богорта. Артур, который вместе с Мордредом и Гавейном вел в это время на севере Британии ожесточенную и упорную войну против пиктов, не смог прийти на помощь своим союзникам. И Клаудас сделался властелином трех королевств. Вивиана приняла в Озерном замке сына Бана, Ланселота, а также сыновей Богорта: старшего, Лионеля, и Богорта, названного в честь отца, ибо он родился в тот самый день, когда тот погиб в бою. Вивиана стала приемной матерью троих детей и взяла на себя заботу об их воспитании. Она предложила мне ради них нарушить свое уединение и преподать им науки. Я отказался. Она мне часто о них рассказывала, спрашивая моего совета, и я побуждал ее воспитать их воинами и мудрецами, преданными делу Артура и Круглого Стола, как в прежние времена король Уэльса воспитал Пендрагона и Утера в преданности моему делу. И спустя некоторое время она отвезла их в Кардуэл и представила Артуру, а тот дал им армию и в поддержку Мордреда, чтобы отвоевать их наследные владения. Вторая война с Клаудасом началась в пятьсот двадцатом году. Ланселот и Мордред совершили в ней много славных подвигов, так что невозможно было решить, кто из двоих был лучшим воином и кто — лучшим стратегом. Клаудас потерял все завоеванные им земли, свою собственную страну, а в конце концов и жизнь. Ланселот стал королем Беноика, Лионель — королем Гонским, а Богорт — королем Пустынной Земли; так власть Логриса распространилась на значительную часть Галлии. Три юных государя стали пэрами Круглого Стола. Они навестили свою приемную мать, и по этому случаю в Озерном замке было устроено большое празднество. На следующий день Вивиана с радостью и тревогой сообщила мне, что Ланселот воспылал страстной любовью к женщине, которая на двадцать лет его старше, и также любим ею. Этой женщиной была королева Гвиневера.
После этого смуты и волнения оставили Арморику. Артур захватил Горру и разбил пиктов и скоттов, живших в стране Далриада. И там снова Мордред и Ланселот прославились своей воинской доблестью и неустрашимостью в бою, своей безраздельной верностью королю и великодушием к побежденным врагам. И как прежде был «мир Утера», так теперь наступил «мир Артура».
Безмятежное и невозмутимое спокойствие Дольнего Леса как будто разлилось по всему Логрису. Времена года чередой сменяли друг друга. Мои волосы постепенно белели, и, когда я оборачивался и смотрел назад, моя жизнь казалась мне бесконечной, а мое рождение — навсегда затерявшимся где-то во мраке времен. В светлой дымке тех далеких, ставших легендой времен, когда родилась моя мечта, блуждали тени тех, кого я так любил и кто лежит теперь у Каменных Столбов. Однако я не чувствовал в своем теле никакой усталости, тогда как спокойная и печальная отрешенность мало-помалу завладевала моим все еще деятельным умом, погруженным в изучение материи и времени в поисках всемирного закона. Я все еще любил Вивиану, ее ставшее еще более нежным, более чувственным и ласковым тело, достигшее своего расцвета, немного отяжелевшее и уступившее возрасту, вечную юность ее ума, жаждущего наслаждений и познания. Озерный замок опустел, а она и не старалась заменить умерших, словно желая, чтобы история ее крошечного королевства закончилась вместе с ее жизнью.
Несокрушимый Логрис и легендарный Круглый Стол воплотились в почти божественном триединстве: Артур, Мордред и Ланселот. Три поколения, являвшие собой лучшие образцы человеческой породы. Между тем благородные узы, скреплявшие этот тройственный союз, уже подтачивала кое-где разъедающая ржавчина, которая до сих пор не давала себя знать в чрезвычайных условиях непрекращавшихся походов и войн, подавляемая тем необъяснимым великодушием силы, которое поддерживает постоянная необходимость рисковать своей жизнью рядом со своим ближним и ради него. Этой разъедающей ржавчиной были: кровосмешение, супружеская неверность и ложь. Но мир стоял, как и прежде, империя Артура держалась непоколебимо, как если бы Бог и дьявол соединили свои усилия, чтобы сотворить совершеннейший из миров, когда-либо бывших на земле. И этот мир, основы которого заложил я, был в своем роде величественным продолжением моей собственной двойственной природы. Быть может, в конце концов я бы и победил.
Прекрасная мечта рухнула по мановению руки. Богопротивная любовь Гвиневеры и Ланселота внезапно открылась и сделалась всем известной. Началась междоусобная война. Артур и Ланселот выступили войной друг против друга в Арморике, оставив правителем Логриса Мордреда, не захотевшего вмешиваться в этот спор. Но вскоре он — с обидой и гневом видя, как безрассудная страсть и беспутство торжествуют над разумом и законом, — возненавидел Артура и Ланселота за их безумие и за ту ничтожную причину, которая толкнула их — что борзых кобелей — к войне и которая делала их в его глазах недостойными Круглого Стола. Позорная эта война разбудила в нем старинную горечь и злобу против плотского греха, плодом и жертвой которого он явился в этот мир. Таким образом, именно его беззаветная верность привела его к измене. Он всенародно открыл свое происхождение и былой грех короля, провозгласил себя законным государем Логриса и велел казнить Гвиневеру. Артур, заключив перемирие с Ланселотом, возвратился в Британию во главе своей армии.
Отец и сын готовы были растерзать друг друга.
Моргана торжествовала.
Тогда я покинул Дольний Лес и вернулся в мир.
Когда я приехал в Камланн, все было кончено.
Мой конь осторожно продвигался вперед, с опаской ступая меж распростертых на земле тел, шарахаясь в сторону, когда в море мертвой человечьей плоти что-то вдруг начинало шевелиться, содрогаемое последними мучительными движениями жизни. Картина чудовищного апокалипсиса, открывшаяся моему взору, и бренные останки некогда великого мира, обнаруженные мною по возвращении, вернули меня к началу всего, напомнили мне другого всадника, другое поле, устланное телами убитых, и то, как давным-давно, в незапамятные времена, я впервые столкнулся со смертью в столь полном и грандиозном ее воплощении. Я как будто слышал этот строгий, любимый и ненавидимый мной голос — того, чей закон наконец восторжествовал: «На свете есть только война, Мерлин, — и ничего, кроме войны». И в кровавом свете утренней зари, и в сгущавшихся закатных сумерках, обступивших с двух сторон ослепительное и мимолетное сияние дня — дня Круглого Стола, — я увидел память и предвестие бескрайней ночи.
Нагромождение тел становилось плотнее вокруг вождей, где разгорелся самый ожесточенный бой. Изрубленные, в богатых одеждах, испачканных и разбитых доспехах, они лежали на земле, соединившись в отвратительном братстве смерти, как некогда были едины в своей мечте о более совершенном мире, прежде чем их разделила самая беспощадная ненависть, которую только может породить самая преданная любовь. Почти все лица были мне незнакомы, но некоторых из них я все же узнал — из тех, кого помнил по временам их юности, когда они заменили за Столом своих отцов, павших на холмах Бадона. Я давал имена этим мертвенным ликам, на которых пересекались отметины, начертанные временем и оставленные мечом, и где, словно на восковых масках, навсегда застыло выражение отрешенно-безмятежного спокойствия или уродливый оскал ярости и страдания: Гавейн, Сагремор, Ион, Карадос, Лукан, Ивейн… Старик с белоснежными волосами и бородой, липкими от спекшейся крови, лежал на спине с открытым черным и беззубым ртом, как если бы бросал небу свои последние проклятия. И в этом совершенном воплощении старческой немощи и отчаяния с большим трудом различил я тяжелые, грубоватые и веселые черты Кэя, молочного брата Артура. Верного Кэя. Я знал, что в сражениях он никогда не оставлял короля, и поэтому стал искать поблизости его тело. Я нашел Мордреда. На мгновение я принял его за Артура. Но в его неподвижных глазах, чуть подернутых дымкой смерти, обращенных к небу и словно всматривавшихся в пустоту, я узнал знакомый зеленый огонек глаз Морганы. Его спокойное, не тронутое мечом лицо в обрамлении длинных седых волос, которые одни выдавали его возраст, сохранило всю свою красоту и устояло в схватке со временем. Мордред — изменник от избытка преданности, злодей от чрезмерной добродетели, совершенный плод того мира, который я создал и который он разрушил именно благодаря своему совершенству. Его руки судорожно обхватили клинок, глубоко вонзившийся ему в живот, сжимая его с такой силой, что лезвие разрезало ладони. Это было замечательное оружие, самое прекрасное в Логрисе. Когда-то я сам преподнес меч Артуру в день его коронации. Это был его меч. Так, отец убил своего сына. Но, без сомнения, и сын не остался в долгу перед отцом, потому что ничто, кроме смерти, не могло вынудить Артура расстаться с чудесным мечом. Я снова принялся за свои поиски, но так и не нашел того, что искал. Тогда я спешился, выдернул меч из тела Мордреда и привязал его к своему поясу. Потом, охваченный какой-то неосознанной любовью, я обхватил его руками и перекинул через круп своего коня. Тело было большим и очень тяжелым, но я почувствовал, что мои иссохшие члены нисколько не потеряли своей силы. И при виде такой прочности жизни, крепко державшейся во мне — знамения бессмертия посреди всеобщего разрушения, проклятия сознания, обреченного на вечное одиночество в пустыне забвения, — сердце мое горестно сжалось в неизбывной тоске.
Я продолжил свой путь и поднялся на высоту, с которой видны были окрестные камланнские поля. На севере — от края и до края земли — тянулась Адрианова стена, скрываясь далеко на востоке, залитая последними лучами заходящего солнца. На юге был разбит огромный лагерь. Туда я и направился. По мере того как я подъезжал к нему, я видел движущиеся фигурки людей. Одни беспокойно сновали взад и вперед. Другие, согнанные в кучу, сидели на земле. Казалось, что они были связаны. Очевидно, все же кто-то остался в живых — ничтожные победители и побежденные в этой чудовищной бойне. Несколько человек вышли мне навстречу. Один схватил под уздцы моего коня.
— Кто ты? — спросил он меня.
— Я — Мерлин.
На мгновение наступило общее замешательство; охваченные ужасом, они словно потеряли дар речи. Потом один старый воин вышел вперед и поцеловал край моего плаща.
— Я узнаю тебя, государь. Я был в сражении при Бадоне, незадолго до твоего исчезновения. Но ты не можешь знать моего имени, я — лишь один из тысяч твоих солдат, чье лицо и тело исказило время, не властное над тобой.
— Я тоже узнаю тебя. Ты был возле Леодегана, когда он умер.
Он заплакал. И в слезах его была благодарность и как будто облегчение, как если бы повергнутый и ставший неузнаваемым мир вдруг обрел смысл, как если бы то, что он с ужасом считал концом всего, оказалось лишь очередным поворотом. «Народ последует за тобой, потому что ему не столь важно понимать, сколько хочется верить», — вспомнились мне слова Блэза.
— Успокойся, — сказал я ему. — И отвечай мне. Ты был за Мордреда или Артура?
— За Артура, потому что я не изменяю своему королю.
— Где король? Он мертв?
— Ранен. Между жизнью и смертью. Он в своем шатре.
— А все вожди?
— Погибли.
— Перенесите Мордреда в королевский шатер.
Они были растеряны, но беспрекословно повиновались. Я вошел в шатер. Могучее тело покоилось на ложе, покрасневшем от крови. Оно было обнажено до пояса — широкая рана рассекала грудь. В нем читалась одновременно сила и старость. Мышцы, поддерживаемые постоянными трудами, были выпуклыми, но время сделало их узловатыми, лишило той совершенной, полной и изящной соразмерности, какая свойственна молодому телу. Вытянувшееся исхудавшее лицо, почти такое же белое, как и пышные седые волосы, обрамлявшие его, сохраняло, несмотря на морщины, правильную красоту черт. Он был исполнен необыкновенного достоинства и благородства. Это был Артур, тот же самый и немного другой. Некоторое время я молча смотрел на него. Он слабо дышал, глаза его были закрыты. Лекарь неотлучно сидел у его ног. Я велел ему выйти. Рана начала гноиться. Я надрезал ее, от чего у короля вырвался стон, промыл ее, снова зашил и наложил новую повязку, которую изготовил из всего, что сумел найти в лекарских запасах. Туго перевязал его. Потом силой вставил меж губ Артура носик бурдюка и наполнил водой его рот. Сначала он поперхнулся и выплюнул воду, смешанную с кровью. Потом стал с жадностью пить. Открыл глаза и посмотрел на меня. Он протянул мне руку, и я сжал ее в своей. И это пожатие двух крепких старческих рук было как будто знаком старинного договора, подкрепленного слишком поздно и не имеющего теперь другого смысла, кроме несбыточной грезы на смертном одре. Завет бескорыстной любви на пороге небытия. Я держал его руку до тех пор, пока Артур не впал в беспамятство, забывшись тяжелым сном. Тогда я встал и посмотрел на лежавших рядом отца и сына. И вышел из шатра.
Перед входом стояла стена людей. Здесь собрались все, кто остался в живых. Их было, может быть, несколько тысяч. Они ждали. Я сказал им:
— Освободите пленных и верните им оружие.
Они словно остолбенели. Никто не шелохнулся и не издал ни звука.
— Посмотрите на север.
В наступающей ночи было видно, как над твердыней Адриана засветились тысячи маленьких огоньков.
— Это стервятники. Они прилетели вкусить мертвого тела Логриса. И это только начало. За ними слетятся другие. Мы должны драться здесь. Отступать бессмысленно, к тому же король не выдержит еще одного перехода. Каждый человек будет на счету. Делайте, что я говорю.
Они освободили пленников, и недавние враги перемешались.
— Теперь сосчитайтесь и пересчитайте коней.
Их было почти пять тысяч, а коней немного больше.
— Сколько вас было перед сражением?
— В десять раз больше, чем теперь. Двадцать тысяч с Артуром и тридцать с Мордредом. Все мужчины Логриса.
Говорил ветеран Бадона.
— Возьми с собой десять человек, — сказал я ему. — Поезжай туда и посмотри, что это за люди. Скажи мне, кто они и сколько их. Да поторапливайся.
Через час он вернулся.
— Это армия мятежной Горры. Они не принимали участия в нашей войне, ожидая своего часа. Там много пиктов, есть также скотты. Их по меньшей мере двадцать тысяч, а может быть, и больше. Они стоят лагерем. Утром они будут здесь, и тогда в Логрисе не останется больше ни одного воина.
Я снова собрал своих людей и сказал им:
— Пусть все без исключения воины со всеми конями идут до ближайшего леса. Пусть каждый из вас срубит по десять кольев толщиной в ладонь и в восемь футов длиной и привезет их сюда. Вы должны успеть все это сделать до конца второй стражи.
И к шестому часу ночи пятьдесят тысяч кольев огромной горой были сложены перед лагерем.
— Сколько там на поле лежит вождей Круглого Стола? — спросил я у ветерана Бадона.
— Все, кроме короля и Мордреда — они лежат здесь — и трех государей Арморики. Итого сто сорок пять вождей.
Тогда я обратился к толпе, собравшейся при свете факелов:
— Этими кольями вы заградите всю Камланнскую равнину. Вот что вы сделаете: вы вобьете их в землю через каждые три фута, так, чтобы выступающий конец приходился на высоту человеческого роста, — по триста десять кольев вместе, выстроенных в десять шеренг по тридцати одному колу в каждой. Расстояние между шеренгами должно быть шесть футов. Каждый такой отряд должен отстоять от другого на десять шагов, и перед каждым вы вобьете по одному отдельному колу. Всего должно быть сто сорок пять отрядов, расставленных в линию на общем расстоянии в четыре тысячи шагов. К каждому из кольев, составляющих шеренгу, вы привяжете мертвого воина, а к каждому отдельно стоящему колу — вождя. Вы должны привязать их за щиколотки, за колени, у пояса и за плечи, так, чтобы они стояли совершенно прямо, а еще вы привяжете их волосы к вершине кола, так, чтобы их головы были гордо и высоко подняты. Вы воткнете в землю деревянные рукояти копий и к каждому древку прикрепите руку воина. Возьмите все веревки, какие вы найдете в лагере и, если их будет недостаточно, используйте для этого ткань шатров, одеяла и даже одежду. Вы должны успеть до зари.
Я остался у изголовья Артура. Незадолго до конца четвертой стражи бадонский ветеран пришел сказать мне, что люди закончили свою работу. Я вышел из шатра и увидел построенную в безукоризненном порядке, стоящую на огромном поле самую большую армию, какая когда-либо только собиралась на земле Логриса. На востоке над холмами показалось солнце, и логрская сталь засверкала тысячами огней в свете наступившего утра. Тогда я велел утомленным воинам седлать коней и выстроиться в одну линию позади мертвецов. Затем неспешным шагом объехал эту мертвую армию, восставшую, чтобы защитить гибнущий мир. Окровавленные. У одних не хватало руки или ноги, у других было сплошное кровавое месиво вместо лица. Но все они, привязанные к своим шестам, стояли твердо, как будто готовые к бою, воодушевленные какой-то ужасной решимостью, непобедимые. Гавейн, казалось, улыбался, а Кэй изрыгал свои бесконечные проклятия.
Враг появился на том самом холме, откуда я накануне обозревал окрестные поля. Его стройные, плотно сомкнутые шеренги вдруг застыли в неподвижности. Повисла глубокая тишина. Они увидали перед собой огромную армию Логриса, стоявшую поперек Камланнской равнины. Я галопом подскакал к ним и остановил коня перед вождями. И крикнул им:
— Посмотрите на меня. Я — Мерлин. Я вернулся из страны, откуда нет возврата, чтобы призвать к жизни воинов, павших при Камланне. Вот они стоят перед вами — как и прежде братья. Они ждут вас. Логрис и Круглый Стол бессмертны. Вы же умрете страшной смертью.
Я выхватил меч Артура и поднял его над собой. Его лезвие сверкнуло в солнечных лучах. Тогда пять тысяч конных логров испустили старинный боевой клич Утера: «Пендрагон!» И крик этот был так силен, что казалось, будто кричали пятьдесят тысяч глоток. Он прокатился по равнине и заполнил собой все вокруг. И ужас обуял врага. Охваченный паникой, он отхлынул в беспорядке, каждый прорубал себе дорогу ударами меча, всадники скакали по телам пеших воинов. С высоты холма я видел, как толпы людей устремляются разом к проходам в стене, сталкиваются и давятся, разбиваясь, подобно бурной реке, вздувшейся от схлестнувшихся вод перед слишком узкой для нее горловиной. И вскоре на равнине Камланна не осталось больше ни одного вражеского воина, кроме задавленных и затоптанных в ужасном бегстве.
Приветствуемый ликующими криками, я вернулся в лагерь. Логры радовались как дети, казалось позабыв о своей скорби, как если бы их товарищи, гниющие, словно казненные у своих позорных столбов, были живы и могли разделить их торжество. Тогда, шатаясь, из своего шатра вышел Артур. Он, как зачарованный, смотрел на свою армию, восставшую из мертвых. Через повязку кровь сочилась из его ран, заливая грудь и живот. Он сделал шаг вперед и рухнул замертво.
На следующий день на заре из Арморики прибыл Ланселот с Лионелем, Богортом и двенадцатью тысячами воинов. Когда он увидал трупы Артура и Мордреда, то обезумел от горя. Он повалился наземь и, не помня себя, без конца повторял имя Артура.
В восьмом часу ветер повернул и задул с юга. Все более усиливавшееся смрадное зловоние мертвечины, изгоняемое прежде ветром к востоку, достигло вдалеке бегущего врага и заставило его вернуться назад. Увидев, каким образом он был обманут, он приготовился осадить лагерь. Тогда я сказал Ланселоту, с которым прежде не обменялся ни словом, так велик был гнев и презрение, которое я испытывал к нему:
— Логрис мертв, поэтому всякое сражение становится бессмысленным. Возвращайся в свою страну.
— В этом сражении для меня будет смысл: я найду в нем смерть, потому как я не хочу больше жить.
И была вторая битва при Камланне. Ланселот сражался во главе своих войск и логрских воинов, чье ликование сменилось отчаянием. Он разбил армию Горры, пиктов и скоттов, но сам был убит, равно как Лионель, Богорт и большая часть их людей. Из воинов Логриса ни один не остался в живых.
Я принял начальство над безутешно скорбящими солдатами, мы предали огню тела Мордреда и вождей, и, оставив стоящих мертвецов заботиться о своих лежащих собратьях и забрав с собой тела четырех королей, мы пустились в обратный путь в Арморику. Не доплыв немного до побережья Беноика, я велел высадить меня с телом Артура на песчаный берег Авалона.
И было это в пятьсот тридцать девятом году. Тогда, на полях Камланна, мир рухнул во второй раз.
Авалон был пуст и безжизнен. Корабли арморикских бриттов, испуганных мрачной легендой, связанной с островом, быстро уплывали к южному горизонту, туда, где вставала из вод тонкая полоска берегов Беноика.
Я пошел по петляющей тропинке через яблоневую рощу; ветви яблонь, отягощенные сочными зелеными плодами, напрасно сулили богатый урожай — его никогда не коснется рука человека, тление поглотит его, и даже птицы никогда не прилетят полакомиться им. Потому что там не было птиц. Ни одной живой души — ни на земле, ни в небе. Ничто не нарушало гнетущей, удушливой тишины, разлитой вокруг. Я медленно продвигался вперед, неся на плечах тело Артура, и шорох моих тяжелых шагов необыкновенно гулко отдавался в повисшем безмолвии. Сам воздух был недвижим, и ровный ветер, дувший с моря, проносился над этим бескрайним фруктовым садом, скрытым за высокими стенами береговых скал, не извлекая при этом ни одного звука, даже самого легкого, в пышной роскоши разросшихся дерев.
Я вышел на широкую поляну, на которой стоял укрепленный замок. Крепостные ворота были открыты, я вошел во двор, потом — в богато убранные залы. Вдалеке был виден высокий человек, который, казалось, ожидал меня. Я сделал к нему несколько шагов.
— Остановись, Мерлин.
Я вздрогнул, узнав прекрасный, ничуть не изменившийся голос Морганы. Длинная свита, бывшая на ней, полностью скрывала ее лицо. Я осторожно опустил на пол тело Артура.
— Артур и Мордред — твой брат и твой сын — убили друг друга и в своем падении увлекли за собой Логрис и Круглый Стол. Я пришел сюда, чтобы воздвигнуть усыпальницу для Артура, в месте, недоступном варварскому осквернению.
— Хорошо, Мерлин. Тебе придется свершить этот труд одному, ибо я ничем не смогу помочь тебе. Я уничтожила все и всех, кто приближался ко мне, и теперь осталась одна. Возьми все орудия, какие найдешь. Все необходимое тебе возьми из моего замка. Разрушь его до основания, если потребуется. Я позабочусь о твоей пище и о том, чтобы ты ни в чем не нуждался. Но не пытайся ни подойти ко мне, ни заговаривать со мной, даже издали. Когда достроишь усыпальницу, поставь внутри не один, а два саркофага. А потом уходи.
И она исчезла в недрах своего замка.
Пять долгих лет я работал день за днем, останавливаясь, чтобы передохнуть, только в короткие ночные часы, разделяющие то время, когда я уже больше не видел своей руки, и то, когда я снова начинал ее различать. Я собрал сложные леса и сделал машины, способные поднимать на большую высоту тяжелые камни. Я забрал из крепостной стены и из замка все дерево и весь камень, какой смог использовать для строительства, а недостающее вырубил сам в древесных стволах и граните скал. Я построил одну прямоугольную залу, высокую и просторную, вроде кельи, окруженную снаружи резными колоннами, так что они полностью скрывали стены. Внутри ее было свободно, там был лишь голый и гладкий камень, и, как в пещере, малейший звук отзывался долгим эхом. Свет проникал туда только через большие двери с двумя тяжелыми, окованными железом, деревянными створками. Посредине я вырезал в камне две гробницы, как меня и просила Моргана. На стенах — за исключением той, в которой был вход, — высек историю Логриса: на левой стене — сотворение, на дальней стене — его торжество, а на правой — его гибель. Потом сделал еще девять каменных обелисков высотой в десять футов, шириной в пять и толщиной в три ладони. И на каждом из них вырезал выпуклое изображение. Я расставил их вдоль стен, отступив от каждой на два шага, так, чтобы изваяния голов были обращены в сторону гробниц. Перед стеной сотворения я поставил четыре таких обелиска, изображавших моего деда, мою мать, Пендрагона и Утера. Перед стеной славы я поставил только один обелиск, на котором представил Артура. А перед стеной гибели выстроил в ряд четыре оставшихся камня с изображениями Морганы, Мордреда, Вивианы и Ланселота. Я потратил несколько месяцев упорного и настойчивого труда, прежде чем добился точного воспроизведения их лиц, таких, какими они запечатлелись в моей памяти, прежде чем они стали похожи на свои оригиналы в тот миг их жизни, который моя память избрала, чтобы навсегда сохранить их черты. Своего деда я изобразил таким, каким он был после битвы при Иске, свою мать — во время нашей первой встречи, Пендрагона — в Венте Белгарум, а Утера — в день его коронации. Лицо Артуру я сделал прекрасным и суровым — как во времена Бадона. Я представил Моргану — в Замке Долины Откуда Нет Возврата, после ее родов, Мордреда — с безмятежной маской смерти на лице, как на Камланнской равнине, Вивиану — охотницей, такой, какой она явилась мне в Кардуэльском лесу, и безутешное лицо Ланселота, которого я видел всего лишь один раз, незадолго перед его последним боем.
И, работая как одержимый, безжалостно отбрасывая все, что казалось мне приблизительным или неумелым, воздвигая здание такого совершенства и красоты, каких я никогда прежде не достигал ни в мыслях, ни в действительности, исправляя в мертвом и неподвижном веществе те изъяны, которые не мог уничтожить в живом теле и в живой душе, я ясно и отчетливо, на своем опыте, осознал, почему человек с незапамятных времен живет в большей степени легендой и преданием, чем историей, и почему в его сердце поэзия в конечном счете берет верх над властью. Потому что легенда неустанно возводит здание бессмертия, лживость и порочность которого тщится доказать история. И я, который на вершине своего могущества заставил историю признать бессмертие Круглого Стола, я строил теперь, в своем ничтожестве, памятник своему собственному поражению, который останется, возможно, самым прекрасным и самым вечным из того, что я сделал — используя в качестве строительного материала легенду, камень и слова, чтобы навсегда остановить и увековечить ускользающее прошлое, побежденную мечту и мертвую плоть.
За эти пять лет я ни разу не видел Моргану. Каждый день у дверей залы замка, служившей мне жилищем и строительной мастерской, я находил простую, обильную и хорошую пищу, равно как и все необходимое для поддержания чистоты моего тела, а иногда и новую одежду. Но в последнее время, когда моя работа подходила уже к концу, пища появлялась все реже и все хуже приготовленная, и все чаще я замечал несколько кусочков, упавших на пол возле блюд, как если бы приготовление и принесение пищи требовало все более мучительного усилия. В последние два дня не было уже ничего.
Когда мой труд был завершен, я, забывшись, долгое время любовался им, охваченный вдруг бесконечной усталостью и почти безжизненным спокойствием при виде этого исхода, не оставлявшего после себя никакой надежды и обещавшего в будущем лишь пустоту абсолютного одиночества.
В одну из гробниц я положил высохшие останки Артура. Затем, пренебрегши запретом, все же отправился в замок, вернее, в то, что от него оставалось, в поисках Морганы. Я вошел в богато убраные покои. В глубине, на ложе неподвижно лежал человек. Я подошел ближе. Тело лежащего было длинным, и тонкая и богатая ткань платья только подчеркивала его изящную и болезненную хрупкость. Лицо его — будто ссохшийся череп Медузы — было ужасно. Ввалившееся, изборожденное временем, опустошенное ненавистью, невыносимым страданием и чрезмерными наслаждениями, в обрамлении тяжелых вьющихся прядей, похожих на белоснежных шелковистых змей. И когда я смотрел на эту чудовищную печать, которую время наложило на лицо красивейшей женщины запада, мне вдруг почудилось, что я увидел обнажившуюся душу Морганы. Она открыла глаза, и я узнал их яркий зеленый свет — такой же, как всегда. Она чуть слышно прошептала:
— Я не хотела, чтобы ты видел меня такой.
Я поднял ее на руки и прижал к своей груди, как делал, когда она была маленькой девочкой. Она снова заговорила:
— Я не знаю больше ничего о добре и зле, о любви и ненависти, о мечте и о небытии. Я знаю только, что я умираю. Но с тобой, Мерлин, мне не страшно.
И, как когда-то в Кардуэльском лесу, она заснула у меня на руках, теперь уже навсегда. И внезапно — сраженный временем, усталостью и скорбью — я заплакал второй раз в своей жизни.
Я прожил сто лет.
Во мраке усыпальницы Моргана покоится возле короля — своего брата, своего возлюбленного и врага. Они наконец примирились, окруженные каменными призраками, бывшими некогда светлой зарей, ясным днем и закатом Логриса и Круглого Стола.
В опустевшем Озерном замке, в большой зале, на хладном камне лежит тело. Я стер слова, начертанные на стене моей пещеры. Напрасный труд — они навсегда запечатлены в моей памяти: «Ланселот мертв, а ты исчез. Огмий оказался бессилен. Если ты вернешься, мой любимый обманщик, то знай, что я сама положила конец своим дням — пустым и постылым. Оставь меня там, где найдешь. Пусть весь этот замок будет моей отверстой могилой. Я жила свободной, и после смерти я хочу оставаться свободной. Даже там, в пустыне одиночества, я боюсь заточения».
Я прожил сто лет.
Я живу в мире, придуманном Морганой, в мире ее мечты — одинокий, на блуждающей планете, бессмысленно и бесцельно греющейся в лучах безжизненного светила.
Я живу в одном из миллионов возможных миров.
А Моргана живет во мне, в мире моих грез — необыкновенная маленькая девочка, негодующая и мятежная, рассуждающая под высоким деревом, маленькая девочка, мирно спящая у меня на руках по дороге в Кардуэл.
Это в конечном счете все — что у меня есть.
Я смотрю на Дольний Лес, замок на Озере Дианы, на крепостные стены Треб, на Авалон, на небо и на море. И я не вижу ничего, кроме трех гробниц и смерти человека — и торжествующей силы лета.
Моргана Перевод Елены Мурашкинцевой
От автора
Поскольку «Моргана» являет собой некий антипод Круглого Стола, воплощая темную изнанку его основателя, я перенес из «Мерлина», написанного десять лет назад, около двадцати страниц — общих для обоих повествований, хотя некоторые пришлось слегка изменить. Главным образом, это полезные для понимания «Морганы» диалоги, в переделке которых не было нужды, а также отдельные описания. Помимо резонов чисто практических, такая перекличка между двумя текстами отражает двойственность их появления на свет: в романе Моргана порождена Мерлином, потому что он ее учитель; в моей же писательской работе книга о мятеже порождена книгой об утопии.
Я использовал римские меры, исходя из обоснованного или неоправданного предположения, что кельтские королевства унаследовали их от римской империи. «Фут», «миля» и «фунт» представляют собой перевод римских терминов, но слово «югер» остается латинским, поскольку в музыкальном отношении оно звучит гораздо лучше, чем французское «жюжер» — для моих ушей это просто какофония. Вот чему соответствуют римские меры:
Фут = 0,29 м
Миля (тысяча шагов) = 1480 м
Югер = 25 аров, или 2500 м²
Фунт — 0,327 кг
Кардуэл (460–478)
Военачальники бриттов выстроились в полумраке вдоль стен. Здесь были победители и побежденные: вожди Логриса и Уэльса, а также вожди завоеванных Утером или принужденных войти в союз земель, которые явились из страха перед королем или из любви к нему, — сыны всех племен громадной страны, лежащей к югу от стены Адриана и объединенной вновь силой оружия, как некогда это сделали римские легионы. Они ожидали в большой зале Кардуэльского замка, их лица, одежда, оружие то появлялись в бликах света, то пропадали в темноте, и это чередование смутных контуров с четкими линиями усиливало исходившее от них звериное начало — дикость, оцепеневшую в неподвижном безмолвии.
В середине залы, на самом свету, стояли две маленькие девочки в белых туниках — дочери Игрейны, находившиеся под неусыпным присмотром двух королей из числа союзников. Старшей, Моргаузе, было три года — ее держал за руку Лот, юный принц Орканийский. Младшей было два, и она стояла одна, широко раскрыв свои громадные зеленые глаза. Ее охранял могучий воин в расцвете сил — Леодеган, король бригантов.
Моргана.
Створки огромных дверей распахнулись, и в залу хлынул боковой поток света, проложивший бледно-золотую дорожку на полу, которая соединилась со срединным потоком света, проникавшим сквозь высокие окна. Трубачи приставили ко рту свои изогнутые букцины, и варварские звуки вонзились в уши, заполнив собой все пространство. Через порог переступили трое. Первый — гигантского роста воин с благородными чертами лица, излучавшего мощь и свирепость дикого зверя, проницательность полководца и природное великодушие. Великий король Утер. Утер-Пендрагон, завоеватель. Вторая — королева Игрейна, красивейшая женщина Британии, которую Утер похитил вместе с двумя дочерьми в самом начале войны между Логрисом и Думнонией, которой он овладел задолго до того, как убил ее супруга-короля при осаде Тинтагеля. Ее округлый живот указывал на последние месяцы беременности. И третий — почти равный Утеру ростом юноша лет пятнадцати, чье пленительное лицо осеняла какая-то извечная печаль, а в глазах светился необыкновенный ум, способный, казалось, проникнуть в тайну любого живого существа и любой вещи материального мира. Все бриттские племена почитали, боялись, а порой и ненавидели его, ибо, не уступая Утеру властью, он превосходил его мудростью и решимостью. Его называли Мерлином и еще «сыном дьявола» — за таинственное и внушающее ужас появление на свет, за раннюю зрелость и нечеловеческие познания. Называли его также «творцом королей», потому что именно он утвердил Утера на троне Логриса, а затем Уэльса — своего наследственного владения. И это он поставил Леодегана с Лотом во главе их племен.
Утер остановился в центре залы, Игрейна встала рядом, а Мерлин — прямо перед ними. Он произнес:
— Утер-Пендрагон, отдаю тебя Игрейне. Игрейна, отдаю тебя Утеру.
По его знаку двое рабов принесли жаровню и кубок, до краев наполненный водой. Игрейна провела рукой над огнем и смочила ее в воде, согласно древнему римскому обряду.
— Где ты Гай, там я Гайа[4].
Утер поцеловал ее в лоб. Затем, склонившись над Моргаузой и Морганой, которых подвели к нему Лот и Леодеган, он возложил руки на их головы.
— Принимаю этих детей, дочерей Игрейны, как своих собственных. С этого мгновения они священны для вас как наследницы дома Констана. Любой знак неуважения к ним будет караться смертью.
Моргауза сняла со своей головы и поцеловала руку короля, как ее научили. Моргана сделала то же самое, но затем повернулась к Мерлину, схватила его правую руку и возложила себе на голову, подняв к нему лицо. Мерлин погрузил взор в большие зеленые глаза.
И улыбнулся.
Моргана шла на крики Игрейны, эхо которых разносилось по залам Кардуэльского замка. И чем ближе подходила она к источнику боли, тем короче делалось эхо, а крики становились все более пронзительными и душераздирающими. Столпившиеся у дверей в покои ее матери стражники, служанки и рабыни с поклоном расступились перед ней. Моргана переступила порог и замерла на месте. Обнаженное тело Игрейны корчилось на ложе. Сам король крепко и бережно держал ее, а Мерлин принимал роды. Он извлек показавшееся между бедрами крохотное окровавленное тельце, поднял ребенка к свету и сказал:
— Красивый, большой и тяжелый.
Измученная Игрейна протянула руки, но Мерлин, даже не взглянув на нее, обратился к Утеру:
— Настал час исполнить данное тобой некогда слово. Ты обещал отдать его мне в тот самый миг, когда он родится.
— Так забирай его! — гневно отозвался король.
— Кормилица уже здесь. Это рабыня Эктора, чей дом находится рядом с Камелотом, крепостью дуротригов. Там и будет воспитан Артур, ибо я даю ему это имя.
Мерлин направился к двери, держа на руках ребенка, которого завернул в простыню, и остановился перед Морганой.
— Это твой брат, — сказал он ей. — Будущий король грядущего мира, подобного которому не было никогда.
Моргана взглянула на новорожденного с ужасом и отвращением.
— Ты будешь его учить, Мерлин?
— Да.
— А меня ты тоже будешь учить?
— Да, Моргана.
Сверкающие зеленые глаза пристально смотрели на Артура.
— Стоит ли он страданий моей матери?
— Это бессмысленный вопрос, не имеющий ответа.
— Почему женщины должны рожать в муках?
— Не знаю.
— Я ненавижу его за это.
— Разве он виноват?
— Тогда кто же?
— Быть может, мы когда-нибудь поговорим об этом…
— А пока я буду ненавидеть его.
Моргана смотрела на огромный стол, который занимал целую залу и был построен лучшими плотниками Логриса под руководством Мерлина. Тяжелый и массивный, он был сделан из сердцевины дуба. Толстые лощеные доски, так плотно пригнанные друг к другу, что стыки между ними были едва заметны, опирались на балки, к которым крепились бесчисленные, искусно сработанные ножки, походившие на маленькие резные колонны. Его собрали прямо в зале, потому что он был слишком велик, чтобы пройти в самую широкую и высокую дверь, и так тяжел, что его невозможно было бы сдвинуть с места. Пятьдесят мест было за столом.
В залу вошли мужчины, и Моргана спряталась за занавеской. Пятьдесят человек встали вокруг стола, каждый перед своим местом. Среди них было три короля: Утер, король Логриса и Уэльса, превосходивший всех ростом и властностью, двое его союзников — Леодеган, король бригантов, и Лот Орканийский, а также сорок семь бриттских вождей, представлявших все племенные союзы: от Тинтагеля и Моридунума на западе до Лондона, называемого также Августой, бывшего престола римского викария и первой столицы Логриса, и Дуровернума, города кантиаков, на востоке; от Новиомагуса, города регнансов на юге, до Петуарии на севере, принадлежавшей паризиям.
Мерлин вошел последним, и в зале воцарилось молчание. Он был пятьдесят первым, и для него места не было. Подав всем знак садиться, он заговорил, расхаживая медленным шагом вокруг стола:
— Короли и вожди, вы избраны сидеть за этим столом, поскольку облечены властью. Но вы не знаете ничего или почти ничего о том, что такое власть. Вам известны лишь ее простейшие условия: побеждать или быть побежденным, и ее первоначальные следствия: господство или порабощение, владение или отчуждение, радости жизни или смерть. Все это знают и дикие звери, и в этом вы не отличаетесь от них, потому что данный человеку разум служит вам лишь для того, чтобы — при помощи сознательного расчета — умножить природную жестокость этого мира, отчего господство силы, слепая кровожадность, вражда, обман, охота и убийство — являющиеся естественными законами материи — превращаются в тиранию, безжалостность, ненависть, коварство, войну и хладнокровную резню. Таковы деяния разума, порабощенного материей. Но вы избраны еще и потому, что слывете справедливыми и честными в глазах ваших народов, а также потому, что — хотя в вас и слились дух и хаос, божественный закон под беззаконием и насилием — вам, может быть, удастся установить новый закон, новую власть, которая будет служить уже не одному человеку, ею обладающему, но всему человеческому роду, власть, которой должен будет подчиниться и сам король, какими бы ни были его добродетели и пороки. Война только еще началась. Но теперь это не война одного честолюбия против другого. Это война права против силы, света против тьмы, разума против природы, дьявола против людского невежества и Бога против собственного творения. Вы были орудиями смерти, а я сделаю вас орудиями вечности. Вы были ночной тенью, а будете солнечным днем без конца. Вы были раздором, а будете законом. Вы были ничем, а будете смыслом и разумом мира. Вы были железным веком, а приготовите век золотой, которого — я верю — никогда еще не было, но который — через вас, — может быть, настанет. Вы будете всем этим, ибо отныне вы — Круглый Стол.
И девочка Моргана, восхищаясь Мерлином, полюбила его еще сильнее и больше, чем когда бы то ни было, возжелала быть его ученицей и сравняться с ним, ибо чувствовала в себе мощную жажду познания и смутно ощущала две противоборствующие и неразрывно связанные силы — творить и разрушать.
Моргана вошла в залу, размерами почти равную тронной или зале Круглого Стола. Это была библиотека Мерлина, принадлежавшая только ему, запретные для всех покои Кардуэльского замка, где он работал и куда порой наведывался лишь один Утер. Стен не было видно за громадными полками, на которых громоздились рукописные сочинения в виде кодексов на дощечках и томов — папирусных свитков. Здесь же находились карты, измерительные инструменты, макеты прикладной механики и тела механики небесной, а также разобранные на части скелеты людей и животных, показывающие строение их тел. В середине залы стоял большой мраморный стол, на котором не было ничего — ни бумаг, ни вещей. Возле него стоял Мерлин, строгий и прекрасный, излучающий немыслимое сочетание мудрости, опыта, быть может, даже страдания и юношеского блеска своих семнадцати лет. С высоты своего роста он устремил на подходившую к нему без всякого страха Моргану благожелательный взгляд. Девочка остановилась прямо перед ним.
— Итак, Моргана, — сказал Мерлин, — ты будешь моей первой ученицей. Ты старше Артура на два года, и его обучение начнется лишь тогда, когда он достигнет твоего возраста. Оно будет отличаться от твоего. Я открою ему природу людей, потому что его удел властвовать над миром, ибо Логрис займет место уходящего в прошлое Рима. Природа людей есть власть и долг, иными словами, закон духа.
— Значит, ты сделаешь его душой и властелином Круглого Стола, в котором воплотилось твое понятие о законе?
— Ты уже знаешь это?
— Да, Мерлин. Я спряталась в зале и слышала твои слова, обращенные к королям и вождям. Я поняла, что ты хочешь создать новый мир и нового человека, которыми будет управлять один великий закон — твой.
— И да, и нет, — сказал Мерлин. — Я измыслил закон, который существует и помимо меня, который выше и меня, и короля. Он подчиняет себе как того, кто его создал, так и того, кто его применяет. Это правый закон в двойном значении слова — справедливости и правосудия.
— А что ты откроешь мне, Мерлин?
— Закон вещей, иными словами, истинное познание. Природу мира и материи — одушевленной и неодушевленной.
— Ты считаешься с законом вещей. Не потому ли твоему закону духа дана возможность одержать над ним верх? Я убедилась, что в своей речи перед сообществом Стола ты опирался не на веру, а на разум.
Мерлин посмотрел на нее с удивлением.
— Нет сомнения, — сказал он, — что лучше всех поняла мои слова четырехлетняя девочка, которая спряталась, ибо не имела никакого права находиться там. Полагаю, для меня будет радостью и честью обучать ребенка, обнаружившего столь раннюю зрелость ума.
— Разве не говорят о тебе, что ты постиг всю мудрость Блэза, своего наставника, чья слава достигла Константинополя, в возрасте пяти лет? Ведь это правда?
— Быть может. Разве это важно?
— Тогда не говори мне о ранней зрелости, Мерлин. Мне четыре года, а я не знаю ничего. И даже тебе не утолить мою жажду познания.
Мерлин улыбнулся ей.
— Я могу, во всяком случае, попытаться, — сказал он. — Итак, приступим.
Он усадил Моргану перед пустым столом на стул, подложив для нее несколько подушек.
— Нет другой науки, кроме греческой, — сказал он. — Римляне были просто наследниками и комментаторами греков. Хотя некоторые восхваляют космологию халдеев и вавилонян, они были скорее астрологами, чем астрономами. Египтяне до воцарения эллинской династии Лагидов, подобно другим восточным народам, путали познание с религией, а наблюдения — с суевериями. Греки первыми отделили физику от метафизики, философию — от веры, медицину — от магии. Среди них появились первые скептики и первые теоретики. Это было единственное в своем роде странствие духа, не имевшее предшественников и пока не давшее последователей, которые, возможно, появятся в далеком будущем, ибо восторжествовавшее на всем цивилизованном западе христианство убило философию и возродило религию. Хуже того: если в языческих культурах философия и религия существовали бок о бок и терпели друг друга, то христианство провозгласило познание врагом веры — врагом, которого следует уничтожить, поставив перед взаимоисключающей аксиомой.
Широким жестом он обвел библиотеку.
— Здесь вся греческая наука. Труды эти были собраны моим дедом, королем деметов и других племен Уэльса. Это был самый великий и самый свирепый воин западного мира, но одновременно самый просвещенный властитель, ценивший лишь одну вещь — знание. Он начал создавать эту библиотеку для себя самого, продолжал ради своей дочери, моей матери, и завершил для меня — своего наследника. Ему помогал советами Блэз, который был наставником моей матери, перед тем как стать моим. Он послал в обе римские империи отряды переодетых торговцами воинов, имевших при себе и золото, и мечи: рукописи, которые нельзя было купить за золото, они добывали воровством или убийством. Искали они не только в двух столицах, Риме и Константинополе, но во всех местах, где трудились, писали и оставили следы своих сочинений величайшие ученые греческого мира: в Великой Греции это Тарент, Элея, Кротона, Локры, Агригент и Сиракузы; в самой отчизне греков — от Пелопоннеса до Понта Эвксинского — Афины, Фивы, Коринф, Элида, Олимпия, Спарта, Стагиры, Абдера, Аполлония, а также острова Тасос, Эгина, Хиос, Самос, Кос, города Эрес на Лесбосе и Солес на Крите; в азиатской Греции — Гераклея, Никея, Кизик, Лампсак, Пергам, Клазомены, Колофон, Эфес и Милет, Книд и Перга; в Африке — Кирена и Александрия. Отыскав, скупив или украв, они привезли сюда эти рукописи, составляющие истинную сокровищницу мысли. Равной ей по богатству в мире больше нет, а в прошлом превосходила ее лишь древняя александрийская библиотека Птолемеев, сгоревшая по вине римского солдафона, жалкого деспота в политике и скверного писателя — Цезаря из рода Юлиев, которого должен проклясть любой философ, разумеется, если может так поступить сообразно философии своей. Это уничтоженное пожаром святилище греческого познания было почти полностью восстановлено здесь, ибо нам удалось собрать все сочинения, которые разошлись по римскому миру. Ты станешь изучать их, Моргана, и, быть может, продолжишь труды этих прославленных мужей — единственных истинных героев человеческого рода, а также и мои труды, ибо я — их единственный наследник. По убеждению моему, тебе достанется лучшая часть из того, что предназначено мною для тебя и Артура, ибо высшую славу — единственную, которую стоит ценить, — дает человеку не власть, не обладание и даже не утверждение справедливости. Ее дает лишь познание. И если имеется у Вселенной некая конечная цель, то я убежден, что таковой может быть лишь разум.
— Разве нельзя считать справедливым и логичным, Мерлин, что обогащенный познанием разум должен обладать и властью?
— Большинству людей знание чуждо, они действуют и проявляют себя в поступках своих, подчиняясь скорее чувствам, нежели разуму. Для управления они предпочитают кого-то из своих: солдаты — военачальника, простонародье — справедливого и доброго покровителя, знать — хранителя ее привилегий, ученые же, увы, слишком часто — не философа, а мецената. Артур будет королем, воином и философом. Задачей его будет склонить чувства своих подданных — часто даже помимо их воли — к разуму, задачей его будет тайно подчинить их истине, при внешнем уважении к самым дорогим для человека иллюзиям. И, как я сказал тебе, в истине знания заключена справедливость, а в истине власти — правосудие. В этом назначение Стола — и цель воспитания Артура.
— Но если истина вещей жестока, Мерлин, как может быть доброй истина людей? Да и можно ли примирить справедливость с правосудием? И стало быть, этого немыслимого примирения нельзя достичь, если не прибегнуть к слепой вере за счет ясности рассудка? И способна ли вера долго сопротивляться порядку вещей?
— Это величайший и важнейший из всех вопросов, Моргана. И то, что ты с такой ясностью постигаешь его в самом начале обучения, уже преисполняет меня гордостью за подобную ученицу. Мы будем изучать два высших проявления рассудка — знание и выбор, в их взаимосвязи и порой в противоречии. Но сейчас слишком рано. Тебе предстоит многое узнать.
— Хорошо, Мерлин. Но одно то, что ты предназначил для нас — для Артура и для меня — разное обучение, желая преподать ему закон людей, а мне закон вещей, уже содержит в себе частичный ответ на это великий вопрос…
Мерлин опустился на одно колено, чтобы его лицо оказалось вровень с лицом девочки. Он вглядывался в изумительные зеленые глаза, в которых, казалось, читал поразительные для столь юного и хрупкого существа ум и волю, но также тревогу и даже страх.
— Я уже знаю, что в тебе заключена часть меня самого, Моргана. Несомненно, ты — идеальная ученица, о которой наставник может лишь мечтать. Возможно, ты — дитя моего духа. Любимое дитя моего духа…
— Возложив твою руку себе на голову, — сказала она, — я приняла решение. Ты будешь для меня важнее отца, настоящего отца, который умер, и короля, который удочерил меня. Важнее даже моей матери Игрейны. Ибо жажда познания, которую, как я сказала, тебе не утолить, это еще и жажда любви. Сможешь ли ты утолить эту жажду? Я одинока в мире, который не понимаю, и я пришла к тебе, чтобы ты исцелил меня от невежества и одиночества. Ты можешь это сделать, Мерлин?
Мерлин нежно поцеловал ее в лоб.
— Значит, — сказал он, — даже в тебе чувство и разум с самого начала нерасторжимы. Как видишь, чем сложнее мотивы, тем труднее отыскать закон, будь то закон людей или вещей.
И тогда Моргана впервые улыбнулась.
Мерлин сказал Моргане:
— Заниматься мы будем несколькими ключевыми вопросами, ответ на которые следует искать в соответствующих отраслях познания. И первый вопрос таков: лежит ли в основе любой науки наблюдение или то, что мы познаем при помощи чувств, или же абстрактное рассуждение и его логический инструмент — математические науки, согласно не вполне точному определению Аристотеля. Греки считали математику высшей отраслью познания, и мы должны будем изучить такие сочинения, как «Начала» Еквклида и «Арифметику» Диофана — двух мыслителей из Александрии, равно как «Исчисление песчинок» Архимеда из Сиракуз и его трактаты о круге, сфере и цилиндре, трактат «О конусах» Аполлония из Перги… если ограничиться пока лишь самыми главными трудами. Что же касается основ науки, о них рассуждали не только афиняне Платон и Аристотель, но и пифагорейцы, а также Гераклит из Эфеса, Парменид из Элеи, Эмпедокл из Агригента и Анаксагор из Клазимен. Второй вопрос: состоит ли материя из четырех элементов — воды, земли, воздуха и огня, как представлялось это большинству философов; или же состоит она из вечных, неделимых и взаимозаменяемых частиц, или атомов, как утверждали Левкипп из Милета и Демокрит из Абдеры, а вслед за ними Эпикур из Самоса и его ученики, среди которых наиболее знаменит римлянин Лукреций; или, согласно выдвинутой Платоном доктрине, состоит она из изначальных геометрических фигур, образующих четыре простых тела и все сложные тела, чье родство определяется, таким образом, не химией, а математикой. Следовательно, мы должны рассмотреть, как тела создаются и обретают форму, преображаются, распадаются и движутся — последнее породило долгий спор о среде и пустоте, в котором главную роль играли Аристотель и Демокрит. Ведающие этим отрасли познания суть физика и механика. Мы рассмотрим также особенности живой материи, чем занимаются биология и медицина, где особую славу снискал Гиппократ со своими учениками, а также Гален. Третий вопрос: являет ли собой Земля неподвижный центр Вселенной. Эту теорию защищали все философы, за исключением двоих: Аристарх из Самоса утверждал, что Земля вращается одновременно вокруг собственной оси и вокруг Солнца, подобно всем прочим планетам, и после него этот тезис поддержал его единственный и дальний ученик — халдей Селевк. Системой мира — как геоцентрической, так и гелиоцентрической — ведает астрономия, которая идеально подходит для применения математических методов. В лагере сторонников геоцентризма мы уделим главное внимание Платону и его системе сфер, Эвдоксу из Книда и Аристотелю, теории о вращении вокруг оси, занимающей особое место в общей концепции геоцентризма и выдвинутой Гераклидом из Понта, моделям эпициклов и эксцентров, предложенным Аполлонием из Перги, Гиппархом из Никеи и Птолемеем из Александрии, которые, следуя идеям Платона, пытались объяснить внешне беспорядочное блуждание планет и объяснить эту аномалию, преобразовав посредством математического расчета такое перемещение, обусловленное задержками, остановками и ускорением, в единственное допустимое равномерное движение по кругу. Система мира включает в себя также описание Земли, или географию, и мы познакомимся с трудами Птолемея, равно как с картами Эратосфена из Кирены, который опирается на систему параллелей и меридианов. Он же определил размеры Земли посредством столь же прекрасного, сколь простого математического метода. Четвертый вопрос: определяется ли ход вещей вмешательством Бога или богов, кто стоит у истоков творения и влияет на происходящее в мире события? И лежит ли в основе всего идея — универсальная идея, как утверждает Платон? Подчинено ли все конечной цели, расположенной на единственной в своем роде лестнице, которая начинается с бесконечно малого и восходит к Богу, — подобный порядок и иерархия, предложенные Аристотелем, идеально согласуются с космологией и философией христианской церкви. Допустима ли во Вселенной, полностью подчиненной законам физики, некая случайность, которая позволяет человеку обрести свободу воли и собственную нравственную цель, а именно: победить страх познанием? Эпикур называет это «отклонением», дарующим невозмутимость, или атараксию. Или же никаких целей нет, и все сущее — чистая механика? Вот в самых общих чертах то, что необходимо для познания, производимого разумом, а следовательно, для человека, обладающего этим разумом.
— Невежество порождает страх, который порождает суеверие, — сказала Моргана. — Вот почему я жажду познания. Слова твои усилили желание, но также и страх. Ведь если познание открывает природу вещей, не открывая конечной цели или, хуже того, открывая, что цели не существует, то не порождает ли оно еще больший страх, чем невежество? Невежественный человек ищет спасения в суеверии. Но где искать спасения тому, кто овладел познанием, которое уничтожает надежду на спасение?
— В сомнении, — ответил Мерлин.
— Почему люди умирают, Мерлин?
Моргана сидела под деревом, рассеянно перебирая на земле собранные целебные травы. Их окружал густой полумрак. Через широкий проем в лесной чаще, отлого спускавшейся к берегу, видны были залитые ярким солнечным светом стены Кардуэла и дальше — глубокий залив, который отделял земли силуров от страны белгов, расширялся к западу, пока совсем не терялся в море, которое римляне именовали Ибернийским, а саксы — Ирландским.
— Почему люди умирают? — повторила Моргана. — Я еще так мала, но я все равно чувствую бег времени и смерть — так коротка жизнь.
— Конец одной жизни — это еще не конец времен, Моргана, а смерть одного человека — еще не смерть человечества.
— Но какое мне дело до того, что людской род бессмертен? — сказала она с гневом. — Ведь умру-то я, а не он. Ненавижу его. Человек — раб, смирившийся со своей судьбой, верящий, чтобы успокоить себя, всем тем глупостям относительно вечности, которые преподносят ему пустые мечтатели и лгуны. В весь этот вздор о загробной жизни, про рай или ад на небесах, под землей или я не знаю еще где, про этих смешных или надменных богов Греции или Египта, жестоких — финикийских или карфагенских, самоустранившегося — еврейского или же безумного — христианского. Шумное скопище богов, открывающих своим приверженцам лишь глупость, безумие или извращенный вкус своих создателей. Неужели ты думаешь, что меня, Моргану, радует, что я буду увековечена таким человеком, чье единственное бессмертие в его неизменной глупости? Конец одной жизни — для нее самой — конец всего сущего; смерть не может быть этими нелепыми сказками, она — ужас, холод и ночь.
— Нужно постараться при помощи разума и своих рук построить крепость — защиту от холода и ночи, дом в пустоте. Нужно строить без устали, сколько есть сил. Это безусловный долг каждого, кто получил в удел разум, воображение и предвидение. Если эта попытка родит глупость или безрассудство — нужды нет. Мы должны побороть страх. Это вопрос собственного достоинства. Бессмертие человеческого рода, которое ты презираешь, — не что иное, как бессмертие этого состояния духа. Именно в этом и состоит связь и преемственность отдельных людей, рождающихся и умирающих в одиночестве, которое так страшит тебя. Именно в этом — вечность, а не в бессмертии одного тела или одного разума, о неизменности и вечной жизни которых ты мечтаешь, — даже если это тело и разум, преисполненные гордыни и высокомерия, принадлежат самому прекрасному, самому умному и проницательному и самому непокорному маленькому человечку, какой когда-либо рождался под солнцем. И наверное, даже это чудо творения не сочтет для себя дерзкой мою просьбу проявить хотя бы немного достоинства, о котором я говорил.
Она улыбнулась и скорчила гримасу в ответ на этот строгий комплимент. Потом как будто снова погрузилась в размышления. И вдруг сказала:
— Я думала о том, как устроена Вселенная.
— По-видимому, ты считаешь Птолемея жалким образчиком человеческого рода, а его «Географию» и «Математическое построение»[5] — нагромождением ошибок и заблуждений?
— И да и нет. Я думаю, как и он, что Земля круглая, потому что линия горизонта отступает по мере того, как мы хотим ее достигнуть, и потому еще, что на сфере, даже на самой маленькой, дороги не имеют конца. Так что наш мир может быть бесконечно велик в наших глазах и под нашими ногами — и ничтожно мал для нашего разума. Таким он видится мне. Потому что я думаю, что не он является центром Вселенной — но Солнце.
— Как ты пришла к этому заключению?
— После наших бесед об астрономии. Думаю, что ты и сам разделяешь это мнение, потому что ты больше настаивал на противоречиях птолемеевской системы, чем на ее внешней связности, хотя ты и представил мне эту космологию, подкрепив ее философией Аристотеля, как вполне достойную веры, чтобы не испугать меня и не вселить ужас в мое сердце. Но я сама пришла к этому ужасу — путем умозаключений. Я полагаю, что все небесные тела — на разном расстоянии и с разной скоростью — вращаются вокруг Солнца, которое является неподвижным центром Вселенной, подобно тому как люди соединяются и движутся вокруг одного солнечного ядра, или центра притяжения, — каждый в зависимости от своих потребностей в движении, свете и тепле. И Земля, которую Птолемей считает центром Вселенной, не является исключением из общего правила и оказывается, таким образом, миром среди многих других миров.
Она привела доводы в подтверждение своих гелиоцентрических прозрений, вдохновленных такими же догадками Аристарха из Самоса, но отличных от них. Восхищенный Мерлин все же отметил про себя несколько ошибок, но ничего не сказал, решив дать ей возможность исправить их самой посредством наблюдений и расчетов. Моргана завершила свое рассуждение следующими словами:
— Я поняла, что твердость духа весьма редко сочетается с твердостью ума, ибо ум размышляет и желает знать истину, чего бы это ему ни стоило, тогда как дух предается мечтам и страшится открытий ума, разрушающих радужные картины абсолютной вечности и блаженства, которым он поклоняется.
— Чего же ты боишься, маленькая Моргана? Того ли, что солнечный очаг важнее, чем та жизнь, что греется в его лучах?
— Да, Мерлин. Ведь если очаг вечен, а люди смертны и преходящи — это значит, что сам очаг лишен смысла и что конечная целесообразность, присваиваемая человеком каждой вещи — с точки зрения своего ничтожного и призрачного бытия, — в действительности ничего не стоит и является лишь обманом. А сам человек, как и все живое на Земле, — лишь мимолетная тусклая тень, которую горячая материя отбрасывает на материю холодную, оплодотворяя ее и рождая тем самым иллюзию жизни. Меня возмущает, что центр Вселенной лишен причины и смысла, тогда как одушевленное порождение случая, едва копошащееся под его ярким светом среди других тел, бесцельно блуждающих в пустынном пространстве, как раз способно постичь цель и что эта способность служит ему лишь для того, чтобы острее осознать свое собственное ничтожество. Из чего я и заключаю, что Бог, творец всего этого, если он существует, — в тысячу раз злее и безжалостнее дьявола. И я, Моргана, — жертва этой жестокости, ненавидя этого чудовищного Бога и этого глупого и лживого человека, которого ты защищаешь, — в ответ на вселенское зло сама буду жестокой и беспощадной, ибо я обречена на знание, страх, страдание и смерть.
И вдруг она горько и безутешно заплакала, как может плакать лишь ребенок, безраздельно отдавшийся своему горю, — чудесная и необыкновенная маленькая девочка, проливающая детские слезы над вещами, недоступными человеческому разуму, хрупкое тельце с недетским умом, затерянным в головокружительных безднах. Мерлин подошел и взял ее на руки. Она обхватила своими ручонками его шею и положила голову ему на плечо.
— С тобой мне не страшно, Мерлин. Люби меня. Люби меня всегда, и я не умру.
Он почувствовал, как она в последний раз судорожно всхлипнула, потом успокоилась и заснула. На ее щеках еще блестели бороздки от слез, но губы уже сложились в очаровательную улыбку. Длинные черные волосы ниспадали ей на спину. Она казалась безмятежной, хрупкой и беззащитной, вновь обретя свой возраст в забвении сна. И Мерлин вдруг почувствовал, что ничто больше не имеет значения, кроме этой ласковой и непокорной девочки, спящей у него на руках. И этот миг абсолютной любви, повергнув в ничто закон и хаос, добро и зло, ум человеческий и смерть, превосходил все грезы о бессмертии.
В 470 году, на рассвете того дня, когда Моргане сравнялось двенадцать лет, она одиноко стояла в библиотеке, где Мерлин восемь лет, не жалея усилий, обучал ее и где она проводила собственные исследования. Она уже была очень высокой, и ее стройная фигура, очаровательная надменность манер, восхитительные черты удлиненного лица свидетельствовали о медленном исчезновении детской мягкости и неопределенности: в этой девочке уже видна была женщина несравненной красоты, не имеющей себе равных в Логрисе и во всем западном мире, превосходящей даже красоту ее матери Игрейны. Зеленый блеск ее глаз стал еще более ярким и одновременно холодным. Роскошная пышность ее длинных черных волос создавала разительный контраст с почти прозрачной, молочной бледностью безупречной кожи, и это сочетание черного с белым словно испускало свет, отбрасывавший тень на ее белоснежное и очень простое платье без рукавов.
В библиотеку вошел Мерлин.
— Итак, — сказал он, — ты сама выбрала этот день, чтобы изложить мне основанное на моем обучении и твоих исследованиях понимание мира и освободиться тем самым от моей опеки. Ты станешь философом, который в поисках истины будет подчиняться лишь собственной воле. Могу только одобрить это, но тебе всего двенадцать лет. Не слишком ли рано?
— У меня достаточно аргументов для построения моей теории, Мерлин. В дальнейшем аргументы эти можно подтвердить или опровергнуть посредством наблюдений и расчетов, а это я в состоянии сделать без помощи наставника, пусть даже такого, каким являешься ты в моих глазах — безмерно превосходящим всех познаниями и мастерством в искусстве майевтики[6].
— Что ж, слушаю тебя.
Мерлин сел за мраморный стол, на котором было разложено несколько предметов. Моргана заговорила своим грудным музыкальным голосом, способным очаровать любого слушателя. Речь ее текла неторопливо и ровно.
— Я начну с самого малого, постепенно продвигаясь к самому большому в физике, астрономии, этике, и выводы каждой части будут непосредственно влиять на аргументы части последующей, включающей предыдущую в себя. Что касается состава материи, то я прежде всего изучила самое распространенное учение, а именно учение о четырех элементах, или простых телах, которые — по отдельности или смешавшись в различных пропорциях — служат исходным материалом для любого живого существа или неодушевленной вещи. Если вода может испаряться в воздухе, а воздух — сгущаться в облако и проливаться дождем, это означает, что оба тела, не будучи одинаковыми, что видно простым глазом, содержат все же сходные части, позволяющие им переходить друг в друга. Из чего я заключаю, что вода и воздух не принадлежат к числу элементов, или простых тел, — это сложные тела. Земля представляет собой тело еще более сложное: она состоит из множества частей — от самых разнообразных скал всех видов, форм и размеров до плодородных почв, возникших при разложении животных и растений, которые сами также сложные тела. Что до огня, то и он не элемент и даже вовсе не тело, а зримый облик сгорания какого-нибудь тела. Тело может существовать без огня, но огонь не может существовать без тела, из чего ясно видно, что огонь — не что иное, как тело, достигшее определенной стадии жара. Решающим же доказательством служит то, что огонь, будь он простым телом, должен был бы всегда иметь одинаковый зримый облик и одинаковое воздействие, тогда как легко заметить, что истекающая из вулкана лава дает мало света и выделяет сильнейший жар, а пламя лампы дает много света и выделяет куда меньший жар. Из этого следует, что свойства огня — это свойства сгорающего объекта. Вот почему я полностью отвергла учение о четырех элементах и аргументы его сторонников, которые сочла противоречивыми и ошибочными независимо от того, идет ли речь об упрощении, когда главным признают один из элементов, как это делали с водой и воздухом Фалес и Анаксимен — оба из Милета, или об усложнении, как это делал Эмпедокл из Агригента, установивший различие между некими «корнями», чего я постичь не в состоянии. Я отвергла и выдвинутую Платоном теорию треугольников как базовых составляющих материи в силу одного, но вполне логичного довода, ибо сложение — будь оно даже многократным — лишенных субстанции геометрических фигур не может привести к возникновению какой бы то ни было субстанции, а значит, не может из них возникнуть ни одно существо и ни одна вещь. Наконец, я изучила и подвергла критическому разбору атомистическую теорию Левкиппа из Милета и особенно Демокрита из Абдеры. Она покоится на двух главных основаниях: самих атомах и пустоте, необходимой, согласно Демокриту, для их передвижения и сцепления между собой. Атомы будто бы представляют собой первичные неделимые частицы универсальной материи. Формы и размеры их будто бы бесконечно разнообразны; взаимодополняемые сцепляются, образуя тем самым все существа и все вещи, тогда как не взаимодополняемые не сцепляются. Они будто бы вечны, то есть не имеют ни начала, ни конца, ибо, в отличие от всех других вещей, которые их посредством создаются и пересоздаются, неделимы, а потому не могут прийти из небытия или в небытие вернуться — логический постулат, четко сформулированный Анаксагором из Клазомен и Парменидом из Элеи. Они будто бы не имеют веса, что позволяет им, вместо того чтобы вертикально падать на один уровень пустоты, двигаться в этой пустоте во всех направлениях, сцепляться для создания материи и разделяться для ее распада. В принципе я готова принять гипотезу о том, что атомы существуют и что они неделимы, ибо, если отвергнуть это их свойство, придется отвергнуть всю гипотезу. Но вслед за Эпикуром из Самоса я уточняю, что эта неделимость должна быть чисто физической, а не математической, ибо математическому делению поддается любая величина, сколь бы малой она ни была. Эпикур отказывается также от понятия о бесконечном разнообразии размеров атомов, заменив его понятием о неопределенном разнообразии, что одобряю и я, поскольку эти размеры неизбежно располагаются в ряду от предельно малых в физическом смысле до предельно больших, невидимых для глаза. Что касается их сочетания, перемещения и форм, определяющих соединение или отсутствие такового, проверить это опытным путем я не могу, так как они незримы — и только воображение подсказывает мне, что одинаковые атомы соединяются, образуя однородные тела, взаимодополняемые связывают различные однородные тела, образуя разнородные или сложные тела, но соединения не происходит, если нет одинаковых или взамодополняемых атомов. Однако главное и наиболее плодотворное из моих критических суждений относится к проблеме веса атомов. Я уже сказала, что Демокрит вынужден был этим пренебречь, поскольку отсутствие веса служит необходимым условием для передвижения атомов в пустоте и для сцепления их между собой. Но я могу опровергнуть Демокрита с помощью того же логического довода, который применила по отношению к базовым фигурам Платона: сложение — будь оно даже многократным — лишенных веса атомов не может привести к появлению весомого объекта. Эпикур пытался разрешить это противоречие, признав наличие веса у атомов, и, чтобы объяснить возможность их сцепления, выдвинул свою знаменитую теорию «отклонения», согласно которой отдельные атомы будто бы перемещаются без всякой причины — вещь немыслимая с точки зрения как логики, так и физики, доказывающая лишний раз, что он, как ты и говорил мне, подчиняет законы этих двух наук своей моральной философии о свободе воли. Я могу разрешить это противоречие между сцеплением и весом только с помощью предположения, что атомы притягиваются друг к другу — это составляет их основное и общее свойство, сцепляются же они благодаря сходству и взаимодополняемости. В этом случае их вес и направление их движения не имеют большого значения, ибо они неизбежно соединяются в силу взаимного притяжения. Я назвала этот способ естественного соединения атомов, образующих однородные или слившиеся воедино разнородные тела, законом сильного притяжения. Опыты ясно показывают, что сцепившиеся атомы можно с большей или меньшей легкостью оторвать друга от друга, ибо атомы воды разделяются свободно, тогда как атомы самых прочных камней разделить почти невозможно, но это ничего не меняет в естественном законе, общем для всех тел, будь то простые или сложные, живые или неодушевленные, мыслящие или лишенные разума: атомы притягиваются друг к другу, чтобы образовать их, и сливаются, чтобы сделать их прочными. Период же разъединения составляет естественный срок существования этих тел — если он не укорачивается при внешнем, физическом или химическом, воздействии. Обратимся теперь к пустоте — второму необходимому условию атомистической теории. Я сразу же отвергла Аристотелево понятие эфира как уловку, недостойную великого ума, ибо этот выдуманный им пятый элемент позволяет разрешить все противоречия при отсутствии каких бы то ни было доказательств, ведь он говорит только, что по своим свойствам эфир отличается от других элементов. Платон также противопоставил ему гипотезу естественной пустоты, утверждая, что четыре земных элемента являются небесными, то есть универсальными, и что движение — при условии, что оно спонтанное и циклическое — возможно в заполненном пространстве. Но этот постулат вступает в противоречие с самыми простыми и очевидными наблюдениями. Хотя Аристотель уверяет в своем труде о динамике, что для движения необходима среда, все опыты показывают, что среда не только не способствует движению, но, напротив, оказывает ему сопротивление, из чего можно заключить, что вызванное импульсом движение продолжается в пустоте до тех пор, пока не возникает препятствие в виде среды. В связи с этим я не могу постичь смысл долгого спора о том, обладает ли воздух весом или нет, когда каждый из его участников опирался на противоречивые результаты опытов с сосудом, где сначала создавали пустоту и куда затем пропускали воздух, не понимая по слепоте своей, что воздух слишком легок и существующие измерительные инструменты просто не в состоянии определить вес столь малого его количества. Однако же, по мнению моему, вопрос этот легко разрешить путем следующего рассуждения. Любое препятствие — это тело. Любое тело имеет вес. Любая, как уже было доказано, создающая препятствие среда — это одновременно среда и тело. Любая среда, будучи телом, имеет вес. Воздух, создающий препятствие, будучи средой и, следовательно, телом, имеет вес. Вес этот чрезвычайно мал, ибо атомы воздуха легче атомов воды и не так прочно сцеплены, однако воздух имеет вес. Из чего я заключаю, что принцип, который Архимед из Сиракуз вывел в отношении тела, погруженного в воду, применим также и к телу, находящемуся в воздухе: если тело тяжелее веса вытесненного им воздуха, оно падает; если легче — поднимается вверх. Итак, одна лишь пустота не имеет веса и не образует препятствия. Некоторые, хотя и рассуждают о движении в теоретической пустоте, отрицают, подобно Платону, существование естественной пустоты и говорят об универсальности четырех элементов. Однако путем простого и очевидного наблюдения, о котором я говорила, легко убедиться, как отличается движение земных и небесных тел. Небесные тела находятся в постоянном и равномерном движении, чего никогда не происходит на земном пространстве, где сопротивление среды — какой бы она ни была — замедляет и в конечном счете прекращает движение, продолжительность которого зависит от веса этой среды. Это означает, что небесные тела не встречают никакого препятствия, следовательно, движутся в пустоте. Мне могут возразить, что при вертикальном падении движение не только не замедляется, но все более ускоряется в зависимости от расстояния. На это я отвечу, что в данном случае движение, не будучи равномерным, как у небесных тел, подчиняется закону, к которому я еще вернусь и который никоим образом не противоречит закону о сопротивлении среды. Сторонники положения о способствующей движению среде могут также сказать мне, что вес среды — не препятствие, но именно вес находящегося в движении тела заставляет его падать. Я отвечу им, что начатое импульсом движение любого плавающего тела, чей вес уничтожается воздействием воды и которое перемещается в двух средах одновременно — в воздухе и в воде, замедляется и прекращается сопротивлением обеих сред. Обращусь вновь к вертикальному движению. Одну из основ греческой физики и астрономии составляет утверждение, что все тела устремляются в падении к центру Вселенной. Эта аксиома, которую Евклид из Александрии называл также «общим мнением», получила наибольшее распространение: ее отстаивали величайшие умы, от Платона и Аристотеля вплоть до Птолемея, хотя на самом деле она является всего лишь предположением — и притом весьма спорным. Из аксиомы этой был выведен силлогизм, который также может быть поставлен под сомнение: все тела устремляются в своем падении к центру Вселенной; все тела устремляются в своем падении к центру Земли, перпендикулярно ее поверхности; следовательно, центр Вселенной — это центр Земли. Исходя из моей собственной атомистической теории, которую я уже изложила тебе, я создала совсем иную концепцию. Нет никаких оснований предполагать, будто атомы утеряли свое главное свойство взаимного притяжения вследствие того, что заняли определенное положение в результате сцепления, образующего тела. Из этого я делаю вывод, что сами тела — все тела без исключения — сохраняют, в полном согласии с логикой, свойство составляющих их атомов и притягиваются друг к другу, хотя и в меньшей степени, чем атомы, поскольку сила притяжения в данном случае ведет не к слиянию, а к сближению. Я называю это законом слабого притяжения тел, вытекающим из закона сильного притяжения атомов, которые в совокупности составляют в моих глазах первый и основной закон материи — универсальный закон притяжения. И при помощи простой математической логики легко прийти к следующему заключению: чем больше атомов, иными словами, чем массивнее, плотнее и тяжелее само тело, тем значительнее и действеннее становится его способность слабого притяжения, вытекающего из сильного притяжения атомов. Следовательно, осуществляемое телом притяжение зависит от его веса — и это еще один закон. Большей частью тела, даже расположенные рядом, слишком малы и легки, чтобы обрести необходимую для перемещения и сближения силу слабого притяжения, но это никоим образом не означает, будто они лишены такой возможности. Однако если речь идет о Земле — теле гигантском, составленном из бесчисленного множества атомов, — логично предположить, что осуществляемое ею и пропорциональное ее весу слабое притяжение отличается чудовищной силой, поэтому она притягивает к своему центру все окружающие ее тела меньших размеров. Даже и в этом случае притяжение взаимно, но до такой степени несоразмерно, что мельчайшее тело не может сдвинуть величайшее ни на один дюйм, тогда как второе притягивает к себе первое неотвратимо. И, поскольку столь же логично предположить, что притяжение меняется в зависимости от дистанции между двумя телами, чем ближе находится малое тело от великого, тем большей становится скорость первого и сила притяжения второго. Подобная зависимость подразумевает, что всегда есть дистанция разрыва на определенном расстоянии, за пределами которого тело — каким бы оно ни было громадным — перестает осуществлять слабое притяжение, дальность же этого расстояния зависит от веса тела. Так объясняю я вертикальное движение и падение тел на землю, равно как и неподвижность их после того, что я назвала сближением, когда закону притяжения не препятствуют ни начатое импульсом или же самостоятельное — если речь идет о живых существах — движение, ни выведенный Архимедом закон среды. На основе моей собственной теории о материи и универсального закона о притяжении можно заключить, что ложным является утверждение, будто бы все тела устремляются в падении к центру Вселенной, ибо всякое очень тяжелое тело становится отдельным центром притяжения для более легких тел, но само оно может притягиваться другим, еще более тяжелым телом. И Вселенная, несомненно, достаточно велика, чтобы даже самые тяжелые тела не осуществляли слабого притяжения по отношению друг к другу — именно это я назвала дистанцией разрыва. Если звезды представляют собой небесные тела, во что я твердо верю, хотя и не могу доказать, причем тела гигантские, ведь мы их видим, хотя они очень далеки, это означает, что такие неподвижные тела должны находиться за пределами дистанции разрыва, иначе они упали бы друг на друга. И существование этой дистанции разрыва между неподвижными телами неизбежно подводит меня ко второму объяснению того, почему небесное тело не падает на другое даже тогда, когда разделяющее их расстояние не выходит за дистанцию разрыва: они обращаются вокруг друг друга. Насколько мне известно, греческие философы не задавались вопросом, почему одно тело обращается вокруг другого, считая это круговое движение неоспоримой и недоказуемой аксиомой небесной механики. Какая нить привязывает одно тело к другому, неподвижному по отношению к нему, заставляя его обращаться вокруг него, ведь тело, которое перемещается в пустоте, не встречая никакого препятствия, в принципе должно равномерно продвигаться вперед? Это и есть только что описанный мной закон слабого притяжения тел, который именно здесь находит сферу для самого широкого и очевидного применения. Если какое-нибудь небесное тело постоянно обращается вокруг другого, неподвижного по отношению к нему и, как я уже доказала, более тяжелого, то это означает, что разделяющее их расстояние меньше дистанции разрыва и они осуществляют взаимное притяжение: центробежная сила — сила, дающая одному телу импульс равномерного продвижения вперед и тем самым отдаляющая его от неподвижного тела, — сталкивается с силой притяжения, отчего обе они взаимно уничтожаются, иными словами, достигают равновесия. Именно это равновесие и позволяет одному телу обращаться вокруг другого. И я вывожу второй закон, вытекающий из первого закона о притяжении: любое небесное тело, совершающее круговое движение, обращается вокруг другого, более тяжелого тела, которое притягивает его к себе и находится с ним в состоянии равновесия, основанного на взаимном уничтожении силы притяжения и силы центробежной. Я не могу сделать математический расчет этих сил, но я прибегла к очень простым опытам, привязав к оси нитями разной длины несколько разновесных сфер, которые стали обращаться вокруг нее на различной скорости. И я пришла к заключению, что победа центробежной силы, иными словами, обрыв нити, над силой притяжения обусловлена весом и скоростью сферы, равно как и ее удалением от оси, ибо, поскольку сопротивление нити слабеет по мере того, как она удлиняется, точно так же слабеет и взаимное притяжение двух тел по мере того, как они удаляются друг от друга. Я представляю это так: если какое-нибудь небесное тело, равномерно продвигаясь вперед в соответствии с законом движения в пустоте, сближается с более тяжелым телом на такое расстояние, где начинает действовать их взаимное притяжение, иными словами, преодолевает дистанцию разрыва, то либо сила притяжения превосходит центробежную силу и движущееся тело падает на неподвижное; либо обе силы взаимно уничтожаются и равномерное продвижение вперед движущегося тела становится обращением вокруг неподвижного; либо сила притяжения уступает центробежной силе и движущееся тело продолжает свое равномерное продвижение вперед, более или менее изменив первоначальное направление из-за кратковременного воздействия притяжения. При отсутствии двух этих условий — притяжения и равновесия ничто не может заставить одно небесное тело обращаться вокруг другого. Закон этот, хоть и выведенный только посредством логических умозаключений, имеет основополагающее значение для дальнейших моих рассуждений об астрономии и о природе Вселенной. Главную — физическую и математическую — проблему греческой астрономии изложил Платон: Земля — неподвижный центр Вселенной; в движении всех обращающихся вокруг нее небесных тел наличествуют аномалии, тогда как все небесные тела должны обращаться вокруг нее единообразным и упорядоченным образом, ибо движение подчинено физическому закону, который может быть просчитан математически, — если же признать отклонения реальными, закона не существует, но подобное допущение принять невозможно; следовательно, отклонения или аномалии лишь внешне кажутся таковыми; а значит, нужно разрешить аномалию, иными словами, внешне беспорядочное движение должно быть преобразовано в реальное — единообразное, упорядоченное и поддающееся математическому расчету. Аномалии эти суть таковы: изменения расстояния от Солнца, что выражается в неравномерности времен года; изменения расстояния от Луны, соответствующие изменениям ее вида и размера; попятные движения планет, которые останавливаются и удаляются, вновь останавливаются и возобновляют прежнее движение, прежде чем в очередной раз обратиться вспять, причем аномалия эта осложняется тем, что ни одно попятное движение не совпадает с последующим как по виду, так и по продолжительности. Платон прекрасно изложил проблему, но был не в силах разрешить ее в рамках своей астрономической системы о восьми небесных сферах, как не способен сделать это и его ученик Евдокс из Книда со своей «гиппопедической» моделью концентрических сфер, имеющих разнонаправленные полюса и вращающихся в противоположные стороны, которая совершенно не соответствует наблюдениям за видимым движением планет и не учитывает изменения в их обращениях вспять, равно как и различия в расстоянии между небесными телами, что не позволяет найти приемлемое объяснение неравномерности времен года, видимые изменения диаметра Луны и свечения планет. По причине такого же противоречия между теорией и наблюдением, предварительным расчетом и действительным событием отвергла я ложные усовершенствования Каллиппа из Кизика, всего лишь добавившего сферы, и Аристотеля, придумавшего новую небесную механику, которая включает в себя «ограниченные» сферы. Что же касается системы эпициклов и эксцентров, предложенной Аполлонием из Перги, улучшенной Гиппархом из Никеи и еще более Птолемеем из Александрии, то и она, будучи несомненным триумфом математических наук, будучи доведена — благодаря Птолемею — до невиданного прежде уровня сложности и изощренности, все же не соответствует наблюдениям. В этой системе эпицикл представляет собой второй круг, где перемещается небесное тело, тогда как центр самого эпицикла перемещается по главному кругу, который называется выводящим и в центре которого находится Земля. Эксцентр же представляет собой главный круг, где небесное тело перемещается вокруг Земли, но, поскольку Земля не является центром круга, расстояние небесного тела от Земли постоянно меняется. Предположительные выводы из этой системы не совпадают с наблюдениями, и одного этого достаточно, чтобы усомниться в ее достоверности, однако ее сторонники всегда готовы заявить, что, благодаря достигнутому со времен Аполлония и Птолемея прогрессу в исчислении, в принципе можно добиться полного совпадения и временные изъяны в отдельных моделях движения никоим образом не доказывают, что система в целом ошибочна. Я же приведу довод, которым эта система окончательно уничтожается. Итак, создатели ее утверждают, что небесные тела в своем ограниченном эпициклом движении обращаются вокруг не другого тела, а некоего абстрактного геометрического центра — иными словами, пустоты. Однако это попросту невозможно — согласно выведенному мной второму закону, которым круговое движение объясняется притяжением и равновесием. Если допустить, что движения по эпициклу подчиняются некоему математическому закону, подтвержденному наблюдением (чего нет), то они не подчиняются никакому физическому закону — иными словами, являются равномерными и при этом спонтанными, что также невозможно принять. Нельзя удовлетвориться математическим обоснованием в ущерб физическому. Следовательно, остается выбрать одно из двух. Либо Земля действительно центр Вселенной: тогда Луна и планеты перемещаются по эпициклам вокруг более тяжелого, чем они, Солнца, которое перемещается по главному выводящему кругу вокруг более тяжелой, чем оно, Земли. Либо Земля не центр Вселенной: тогда движущиеся небесные тела перемещаются не вокруг нее, а вместе с ней — вокруг другого, более тяжелого тела. Первое совершенно не подтверждается наблюдением. Второе приводит нас к теории Аристарха из Самоса, которая заключается в двух простых предположениях. Первое гласит, что Земля делает полный оборот вокруг своей оси за двадцать четыре часа: следовательно, неподвижные звезды не обращаются вокруг нее, а остаются на своем месте — их видимое движение точно такое же. Аристарх здесь всего лишь повторяет мысль, высказанную Гераклидом из Понта, который вместе с тем считал Землю центром Вселенной — хотя и находящимся в движении. Второе гласит, что Земля — одна из планет: вместе с другими она перемещается вокруг Солнца, неподвижного центра Вселенной, и совершает свое круговое обращение за один год. Теория эта вполне совместима с выработанной мной концепцией материи и движения, равно как и с вытекающими из нее двумя основополагающими законами. Я изучила все астрономические наблюдения, имеющиеся в твоей библиотеке и сделанные на протяжении более пяти веков, чтобы сравнить их и сверить друг с другом, опираясь в особенности на Гиппарха и Птолемея. Я также осуществила собственные наблюдения с помощью угломеров и астролябий, которые ты предоставил в мое распоряжение. Включив эти наблюдения в систему Аристарха, я сделала множество расчетов с целью точно определить, как Земля, Венера и Марс обращаются вокруг Солнца, а также соотношение их между собой. Этих расчетов оказалось достаточно, чтобы я могла заключить следующее: теория эта удовлетворительна в плане законов физики, поскольку в ней учитываются притяжение, равновесие и равномерное перемещение в пустоте; она удовлетворительна и в плане математическом, поскольку при четко установленном пути прохождения предварительные расчеты соответствующих положений становятся гораздо проще в сравнении с теми, которых требуют системы Аполлония и даже Евдокса; наконец, она удовлетворительна в плане соотношения обоих, поскольку делает возможным полное совпадение между расчетом и наблюдением, а самая сложная проблема, суть которой заключена в объяснении видимых попятных движений и их изменчивости при равномерном движении, оказывается разрешенной.
Большая сфера, стоявшая в центре мраморного стола, обозначала Солнце, а три маленькие сферы — Землю, Венеру и Марс. Заглядывая в свиток с записями наблюдений, расчетами и схемами обращений трех планет, Моргана воспроизвела пути их прохождения и различные положения относительно друг друга, наглядно показывающие попятные движения двух последних относительно Земли. Затем она продолжила:
— Аристарх не разрешил проблему неравномерности времен года, и, за неимением лучшего, я приняла одно умозаключение из системы Аполлония — мысль об эксцентрическом круге применительно к прохождению Земли вокруг Солнца, поскольку это простое, равномерное и круговое движение удовлетворительным образом объясняет названную проблему. Доказав физические и математические достоинства теории Аристарха, а также полную совместимость ее с моей собственной теорией материи и движения, я постараюсь теперь опровергнуть доводы его хулителей — доводы такой силы, что их поддерживали, обрекая тем самым Аристарха на полное одиночество в истории астрономической мысли, величайшие умы греческой философии и науки, а именно: Архимед, Аполлоний, Гиппарх и особенно Птолемей. Я сразу отвергаю самое распространенное обвинение религиозного толка, выдвинутое невеждами, среди которых оказался стоик Клеант из Ассоса: этот лжефилософ желал предать Аристарха суду за нечестивое утверждение, будто Земля находится в движении и занимает второстепенную позицию, не являясь священным центром Вселенной. Тем самым он опустился до уровня худших христианских суеверий — уровня слепых адептов веры, чья нетерпимость равна лишь их тупости, подобных этому псу Тертуллиану, облаивающему науку, или, пример совсем недавний, Августину, который провозглашает опасность научной пытливости, дабы еще более утвердиться в своих убеждениях добровольного слепца. Итак, я перейду к возражениям ученых, ибо только они достойны опровержения. В их основе лежит физика Аристотеля. Первое представляет собой аксиому о падении тел к центру Вселенной, каковым признается Земля, а я уже доказала ложность этого утверждения. Второе касается вращения Земли вокруг своей оси: если бы это было так, мы бы увидели последствия этого в падении тяжелых предметов, которое не могло бы быть вертикальным, или в прохождении таких плавающих в воздухе объектов, как облака, которые смогли бы перемещаться только на запад, ибо Земля в своем вращении всегда быстрее, чем они, движется на восток. Выдвигается довод, будто окружающий Землю воздушный слой остается неподвижным и независимым от ее движения. Однако, поскольку воздух имеет вес и притяжение Земли воздействует на него так же, как на все другие весомые объекты, он неизбежно вовлекается в любые перемещения Земли. В этом случае поведение падающих или плавающих в воздухе объектов нисколько не меняется. Третье возражение касается вращения Земли вокруг Солнца: суть его в том, что звезды никак не смещаются. Если бы Земля перемещалась по громадному кругу вокруг Солнца, наблюдатель должен был бы заметить изменения в положении звезд, поскольку его собственное положение заметным образом меняется. Однако в одной точке неба можно увидеть одни и те же звезды на тех же местах, без каких бы то ни было изменений в любое время года, и это полное отсутствие смещения означает, что Земля — неподвижный центр Вселенной. Но сам Аристарх предвидел этот довод и опроверг его чрезвычайно простым образом: если расстояние от Земли до звезд достаточно велико для того, чтобы в сравнении с ним описываемый Землей круг сократился до обыкновенной точки, изменения в положении земного наблюдателя становятся несущественными, поэтому он и не замечает смещения звезд. Полагаю, мне удалось доказать, что все эти возражения лишены основы и вероятия, однако же именно они послужили причиной того, что величайшие математики и астрономы ожесточенно отстаивали теорию, совершенно несовместимую с наблюдением, иными словами, с реальностью. И я спрашиваю себя, нет ли за этими прекрасными научными рассуждениями чего-то иного, сходного с анафемой Клеанта или отклонением Эпикура, когда моральные соображения рядятся в научное познание ради дорогой его сердцу концепции о свободе воли. Это подводит меня к этике. Итак, я провозгласила: атом, притяжение, равновесие, движение, гелиоцентризм. Мы состоим из материи — разумеется, мыслящей, но все же материи, которой суждена такая же участь, как и материи вообще, из чего следует, что сознание по необходимости жестоко. И некоторые из наших свойств, которые нам кажутся особенными, несвойственными другим объектам природы, — такие, например, как способность испытывать любовь, самую желанную потребность нашего сознания и лучшую пищу для наших размышлений, — исходят из законов природы, но отнюдь не дарованы нам божественным промыслом, ибо в притяжении тел похотью, или даже душ взаимным влечением, или же их обоих страстью всего лишь проявляется великий закон притяжения материи. Поэтому, Мерлин, при всех порожденных невежеством и неопытностью ошибках в моей теории Солнца, которую я изложила тебе пять лет назад в Кардуэльском лесу, этические мои понятия не изменились, — напротив, приобретенные с тех пор знания и опыт лишь укрепили меня в убеждении, что они верны. Есть лишь одно, также укрепившееся, исключение — моя любовь к тебе. На этом я и закончу.
Мерлин долго в молчании смотрел на нее.
— Речь твоя, — произнес он наконец, — превыше всяких похвал, не по соображениям нравственности, но по силе ума, и, полагаю, во всей человеческой истории ни одному наставнику не доводилось испытывать такого удовлетворения и такой гордости талантом своего ученика. Хотя я излагал тебе самые противоречивые теории с нарочитым беспристрастием, сам я всегда был сторонником атомизма и гелиоцентризма. Твой тезис об универсальном законе притяжения — основа всех твоих рассуждений — восполняет лакуну, которую я всегда ощущал, и доказывает, как далеко ты обогнала меня в своих исследованиях. Поэтому ни к чему говорить, что мне нет нужды предоставлять тебе независимость, которую ты сама только что провозгласила и которую никто в мире не смог бы у тебя отнять. Одно лишь слово об этике. Без сомнения, мы обитаем на второстепенной планете, но это не означает, будто сознание — самый ценный и самый страшный наш дар — тоже второстепенно. И защищаемая Эпикуром свобода воли возможна при полном подчинении материи законам — даже если человек, не желая быть слепцом, принимает лишь эту механику абсолютного принуждения. Для сознания выбор возможен, и, говоря тебе это, я не удаляюсь от закона природы, ибо выбор этот обусловлен самостоятельной, нравственной и умственной силой духа, лежащей в основе свободы воли, что сравнимо с самостоятельной физической силой живых существ, которая позволяет им преодолеть общий закон инерции, связанный с притяжением Земли и сопротивлением среды, ибо они ходят, плавают и летают в избранном ими самими направлении. Поэтому мой выбор таков: я хочу построить мир согласно закону, который полагаю справедливым. И если твой выбор будет тем, что ты называешь личным злом, порождением зла универсального, ибо в твоих глазах жестокость сознания есть ответ на жестокость закона природы, у тебя может появиться искушение разрушить создаваемый мною мир. И в этом случае мы станем врагами. Но в заключение повторю твои слова: я тоже люблю тебя, Моргана. Больше всего в мире. И при всех сомнениях в том, что сулит нам грядущее, так пребудет вовеки.
Едва лишь выйдя из-под опеки Мерлина, Моргана отправилась к королю Утеру-Пендрагону и сказала ему:
— Отец, я хочу покинуть твой замок и Кардуэл.
— Почему, Моргана?
— Мерлин завершил обучение мое, что и печалит меня, и радует. Он сказал мне, что отныне я сравнялась с ним в познаниях. Но я хочу быть ему ровней во всех сферах духа. Мерлин создает сейчас новый мир — не для тебя и даже не для Артура, который будет не владыкой, а только главной опорой его. Он создает этот мир для человека вообще — свободного человека, что, на мой взгляд, скорее плод воображения, нежели существо из плоти и крови. Ибо здесь, в Логрисе, все люди из плоти и крови, включая тебя самого, склоняются перед этой волей, этим могучим одиноким духом, и я думаю, что в своем мире один лишь Мерлин свободен. Все вершится по его плану. План этот приводит меня в восхищение, но для меня совершенно неприемлем, и я могу сравняться с Мерлином, только если буду жить в собственном мире. Чтобы создать его, я должна удалиться из места, где вся власть принадлежит Мерлину, иначе помимо воли уподоблюсь пленнице. К чему выходить из-под его опеки в сфере познания, если он держит меня в подчинении своей властью? Знаю, что ты способен понять это, отец, ибо стал рабом Мерлина больше, чем кто бы ни было другой: ты целиком подчинил силу свою его уму, хотя сам — человек старого мира, завоеватель, величайший воин запада, безжалостный вождь на войне и могучий государь, чью волю никто не смеет оспаривать. И я чувствую, что сила твоя часто бунтует в тщетной попытке высвободиться из этого железного ярма. Именно из-за борьбы противоречивых устремлений в твоей душе Мерлин не может сделать тебя владыкой своего мира, тогда как Артура готовит к этому с первых дней его жизни. Я же не буду подчиняться никому — даже Мерлину, при всей любви и уважении к нему.
Утер посмотрел на нее со смешанным чувством любви, восхищения и горечи.
— Я в самом деле способен понять это, Моргана, — сказал он, — как и то, что ты сравнялась с Мерлином в мудрости и умении проникать в тайны других людей. Стало быть, лишь ты в состоянии пренебречь его волей. Я этого не могу, хотя о бунтарстве моем ты догадалась. Но тебе я помогу. Куда ты хочешь отправиться?
— Я хочу восстановить Иску, бывшую римскую крепость рядом с Кардуэлом, которой завладели силуры, пока ее не сжег во время завоевания Уэльса король деметов — дед Мерлина. За ее стенами я воздвигну замок по своему плану и стану творцом моего собственного королевства в самом сердце твоего. От тебя я жду, что ты дашь мне мастеров, ремесленников и подручных, дабы завершить строительство в течение двух лет, а для обустройства моего — воинов, служанок и рабов, на чью верность можно полностью положиться. Они перейдут под мою власть, выйдя из-под твоей. Ты сделаешь это, отец?
— Сделаю, Моргана.
В начале 473 года завершилось строительство крепости Иска, которая стала такой прекрасной и могучей, какой не была никогда во времена римлян и силуров. Поселившись там со своими подданными, Моргана держалась в стороне от двора и продолжала научные исследования. И из всех обитателей Логриса только Мерлин получил право являться туда без приглашения.
В конце 475 года Утер скончался, не вынеся мирной и праздной жизни. В первый день 476 года тело его перевезли из Кардуэла на равнину Вента Белгарум, где двадцатью годами раньше он уничтожил войско саксов, завершив долгую битву, в которой сложили голову его старший брат Пендрагон Логрский и король Уэльса, дед Мерлина. Чуть позже Мерлин сделал его владыкой обоих королевств. К северу от этой равнины находится странное место, где люди сгинувших бесследно племен поставили кругом каменные столбы. Саксы дали ему имя Стангендж. Мерлин превратил этот безвестный монумент в усыпальницу: там уже покоились его мать, дед и Пендрагон — Утер был похоронен рядом с ними, в каменном саркофаге. И перед армией, собравшейся, чтобы воздать последние почести своему вождю в дни войны и королю в дни мира, Мерлин возвестил о воцарении подростка, которому едва минуло шестнадцать лет, унаследовавшего от матери красоту, от отца по крови — высокий рост и мощную стать, а от духовного отца — мудрость и решимость, выказанные им в речи перед королями и пэрами Круглого Стола, а также всеми бриттскими воинами. Так Артур впервые явил себя миру. На следующий день, взяв с собой половину армии и флота, он вместе с Мерлином отправился на завоевание галльской Арморики. Война эта длилась два года, и к исходу ее воины прониклись благоговением к Артуру, который соединял в себе достоинства непобедимого вождя и мудрого, справедливого, великодушного короля. Во главе трех королевств он поставил местных союзных вождей: Бан получил Беноик, его брат Богорт — страну гонов, Кардевк — земли редонов. Арморика стала провинцией Логриса. В конце 477 года Артур вернулся в Кардуэл, где отпраздновал военный триумф и впервые познакомился с членами своей семьи, ибо в детские годы только его матери Игрейне разрешил Мерлин несколько раз повидаться с ним в Камелоте. Она и представила их ему — всех, кроме его единоутробной сестры Морганы, которая, не пожелав присутствовать при его воцарении в Стангендже, отказалась и праздновать его возвращение в Кардуэл и воинский триумф.
Ночь была ясной, в безоблачной черной глубине зимнего неба полная луна лила на землю свой холодный белый свет. Темное море, зажатое между берегами страны силуров и землей думнонейцев, вздувалось огромными могучими валами, которые явились из неведомых далей вольного океана и, гонимые свежим и сильным западным ветром, разбивались у берега, на прибрежных отмелях, светлыми пенистыми брызгами. От коней шел молочно-белый пар, который сразу же растворялся в ветреном воздухе. Тяжелая ночная роса легла на высокие травы, и равнина, точно зеркальная гладь, засверкала серебристыми огнями. Там, на севере, поднимались высокие каменные и деревянные стены Иски.
Мерлин и Артур были одни; остановившись на дороге, идущей берегом из Кардуэла в Иску, они дали отдых коням. Какой-то всадник шагом направлялся к ним. Они молча смотрели, как он приближается. Длинные темные волосы наполовину скрывали его лицо, развеваясь черными змейками на морском ветру. Он подъехал совсем близко и спешился. Это была Моргана. На ней были простая мужская туника и плащ, и в этой грубой одежде она была необыкновенно прекрасна; ее удивительная, неизъяснимая красота поражала ум и сердце подобно внезапно открывшейся частице Вселенной, торжествующей, чудесной, неповторимой.
— Ты не забыл меня, Мерлин? Это я, Моргана. Твоя маленькая Моргана.
Она подошла, обняла его и положила голову ему на плечо, как обычно делала, когда была ребенком. Потом отстранилась и повернулась к Артуру.
— Вот король Логриса, — сказал ей Мерлин, — твой брат.
Они внимательно смотрели друг на друга. Они были как день и ночь, соединенные вместе, и сияние дня тускнело перед сверкающим величием ночи. Моргана улыбалась. Но в зеленом блеске ее глаз Мерлин увидел что-то холодное и рассудочное, как будто затаенную мысль или трезвый расчет. И он сказал себе, глядя на этих двоих детей своего разума, что и Господь Бог, создавая человека, не знал, что его ожидает.
Камелот.
В память о годах своего детства, проведенных невдалеке отсюда, в доме Эктора, Артур построил второй Круглый Стол в крепости дуротригов. Приняв решение разослать своих наместников в разные концы государства, с тем чтобы не быть застигнутым врасплох и в силу необходимости утверждать повсюду свое присутствие, он в то же самое время решил установить Круглый Стол в каком-нибудь новом месте, связанном только с его именем, — месте суровом и ненаселенном, которое стало бы символом и воплощением нового идеала.
Второй Стол был больше первого, и за ним заседало еще больше достойных мужей. Там были не только старые вожди, служившие еще Утеру, но и их старшие сыновья, а также молодые вожди, избранные взамен погибших. Среди них было пять королей: Артур, Леодеган, Лот, Бан из Беноика и Богорт из страны гонов. Кроме того, сидеть за Круглым Столом Артур назначил еще нескольких человек, которые не были ни королями, ни вождями, но которым он хотел оказать эту честь; среди них был Кэй, сын Эктора.
Собрав их впервые в Камелоте, в присутствии Мерлина, Артур сказал им:
— Это собрание является королевской особой во многих лицах. Я — лишь часть вас. Вы — настоящий Артур Логрский. Так разделил я свое тело за этим Круглым Столом, как это сделал Христос за столом Его Последней Вечери. Вы — смертные члены бессмертного тела. И тело это через насилие и любовь оплодотворит землю. Вы должны будете вспахать ее мечом, бросить в отверстые раны ее семена вашей души и оросить ее кровью вашей. И будет у вас два врага и две ночи, ибо поведете войну не токмо против мрака и невежества варварских народов, но и против той тьмы, что внутри вас. Осветит же пути ваши огонь страстной любви, зажженный пятьсот лет назад на Востоке и горящий теперь в Камелоте. И говорю я вам, что огонь этот станет пожаром, пожар — зарей, а заря — ярким светом нового дня, который воссияет над миром. И так — смертные — победите вы смерть. Но если вы отступитесь и предадите, то умрете, мы все умрем, и неразгаданный бездушный мир сотрет наши следы.
И Моргана, которая слушала Артура из соседней залы, как некогда внимала Мерлину во время учреждения первого Стола, улыбнулась — удовлетворенно и презрительно.
Артур проходил через залы дворца в замке Иска, следуя за домоправительницей, повелевавшей слугами и рабами. Она открыла ему спальные покои, отступила в сторону, пропуская его внутрь, и, закрыв за ним двери, удалилась. Моргана возлежала на ложе триклиния, перед низким столиком с драгоценной посудой, чья королевская роскошь лишь подчеркивала простоту блюд, приготовленных для вечерней трапезы. Молодая женщина была одета в длинное платье без рукавов: прикрывающие плечи полоски ткани скрещивались на груди, собираясь над поясом в складки. На ногах у нее были сандалии из тонкой кожи, подвязанные к лодыжкам ремешками. Артур не мог отвести от нее взора, безмолвно любуясь властной и опасной красотой, так поразившей его в их первую встречу на дороге из Кардуэла в Иску. Она также вглядывалась в него, с одобрением рассматривая прелестное лицо, в котором узнавала некоторые черты своего, унаследованные от их матери Игрейны, оценивая стройность его высокой фигуры, сочетавшей воинскую мощь с изяществом юности. На нем были короткая туника и длинный, распахнутый на груди плащ — алого цвета и расшитый золотом, что указывало на его положение вождя и триумфатора, подобно римской, украшенной пальмами тоге. Обут он был в легкие калиги — сапожки из мягкой кожи. Моргана жестом предложила ему возлечь на правое угловое ложе. Артур расстегнул фибулу, державшую плащ, который соскользнул на пол, но на ложе не возлег, а просто сел. Моргана, приподнявшись на локте, последовала его примеру.
— Надеюсь, — сказала она, — ты не будешь на меня в обиде за скудость трапезы, которую я пригласила тебя разделить со мной. Это ужин не короля, а философа.
— Наш общий наставник, — ответил Артур, — научил меня презирать радости чревоугодия. Я добавил к этому воздержанность воина. Цену в моих глазах имеет не пища, а то, с кем делю ее.
— Король, воин и философ. Так говорил о тебе Мерлин. Твоя слава воина и короля за короткий срок утвердилась во всем западном мире. Но философ ли ты, Артур?
— Странный вопрос задает ученица Мерлина ученику Мерлина.
— Почему же? Можно ведь оказаться плохим учеником. Вот я — плохая ученица. Мерлину так и не удалось научить меня любви к справедливости, которая лежит в основе его творения и представляет собой разновидность любви к человеку. Он не сумел научить меня обыкновенной терпимости и не сумел даже подавить ненависть в моем сердце. Ибо что такое хрупкая справедливость человека перед громадной несправедливостью мира вещей, точнее говоря, перед полным отсутствием справедливости в их механике, абсолютным равнодушием к справедливости их вечных физических законов? Выслушав твою речь при учреждении второго Круглого Стола в Камелоте и сравнив ее с речью Мерлина при учреждении первого в Кардуэле, я пришла к выводу, что и ты — плохой ученик.
— Почему же?
— Речь Мерлина зиждилась на законе, твоя — на вере. Он выступал как политик, ты — как мистик. Его устами говорил философ, твоими — сектант. Он поставил во главу угла власть, основанную на силе: это реальность, которая одна только и дает возможность достичь власти — быть может, власти закона. Ты поставил во главу угла ничтожную пустышку, самые суетные предубеждения духа и рассудка — а это либо суеверие, если ты веришь в свои слова, либо риторическое украшение, если ты в них не веришь. Ты был красноречив, но воздействие риторики мимолетно, поэтому твой мир показался мне таким фальшивым, хрупким и многоречивым, что я даже порадовалась. Могу дать совет: пусть философ в тебе призовет на помощь короля и воина, ибо поддержать ложную идею могут только скипетр и меч.
Она говорила с добродушной, почти сострадательной иронией, и эта безмятежность делала ее еще более обольстительной. Артур смотрел на нее в смятении — недоверчиво и вместе с тем восторженно. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить.
— Мерлин предназначил мне не такое обучение, как тебе, и из закона вещей я знаю только то, без чего нельзя обойтись. Ты создала на основе этого закона собственную этику, позволяющую прибегать к вымыслу. Но этика изначально принадлежит закону людей, которому Мерлин обучил меня при самом первом изложении своего плана. Ибо этика неразрывно связана с властью — это необходимость, а не свобода воли. Следовательно, в силу непреложности еще одного закона каждой концепции власти соответствует собственная, а не какая-то другая этика — концепция же моей особой власти принадлежит не мне, а Мерлину. Всякая власть над людьми основана либо на силе, как в старом мире, либо на справедливости. Справедливость проистекает из метафизики: это единственный способ возвысить закон и вырвать его из рук самого хранителя — короля, который должен подчиняться ему вопреки личным своим интересам. Все добытое им посредством силы и во имя личного интереса может быть отнято у него — что не вызовет никакого возмущения — другой силой, исходящей из других интересов. Но опасно вступать в противоборство с высшим, необходимым и универсальным законом, уже утвердившимся в людских душах. Из этого следует, что я не могу разделить закон людей и метафизику. И я не вижу здесь ни суеверия, ни риторического украшения, хотя тебе доставляет удовольствие обвинять меня в подобных изъянах содержания или формы.
Моргана улыбнулась.
— Быть может, — сказала она, — ты не такой уж плохой ученик, как мне показалось. Тем не менее остается истиной, что речь твоя по сути своей запятнана суеверием и проникнута хаосом. Суеверием, потому что ты сказал: «Так разделил я свое тело за этим Круглым Столом, как это сделал Христос за столом Его Последней Вечери». Хаосом, потому что ты произнес слова о «страстной любви», а по убеждению Мерлина, которое я нахожу справедливым, закон и страсть взаимно исключают друг друга. Из этого следует, что вся речь твоя более походит на религиозное откровение, чем на политическое или даже метафизическое рассуждение. Откровение и метафизика не родственны, но враждебны друг другу, ибо первое — готовый ответ самозваного провидца, который подобными ухищрениями ввергает верующего в рабство, тогда как вторая — вопрос мыслителя, ведущий к сомнению, которое может стать источником свободы воли. Именно в этом главное различие между священником и философом. Когда откровение становится господствующей религией, священник — этот выскочка, находящийся в полном согласии с миром, — занят лишь тем, чтобы охранять источник своей власти и наживы, чем утверждает невежество. Философ, по природе своей бескорыстный и терпимый, намеренно устраняется из экономических отношений мира и обращается к разуму, стремясь сделать его более открытым. От твоей речи разило священником, но метафизика слышно не было, философа же — и подавно. Вера подобна силе: другая вера может ее отвергнуть и сместить, поскольку она, как и сила, основана на произволе. Но разум живет так же долго, как рассудок. Можно попытаться удушить его и даже внешне преуспеть в этом, однако он не умирает. Хотя сейчас твой еврейский бог заткнул рот моим греческим ученым, настанет день, когда человек вернет им способность говорить. Поэтому я и говорю тебе, что мог бы стать прочным Круглый Стол Мерлина, а пришедший ему на смену твой — нет. И я, Моргана, смогу уничтожить его, если пожелаю.
— Этот еврейский бог не мой, — сказал Артур, — и Мерлин не воспитывал меня в этой религии, навязанной старой Империи, напротив, особенно предостерегал меня против нее в своем общем обзоре религий. Я принял в качестве своего кредо высказанную им мысль, что Бог либо не существует, либо является чем-то иным. Если Он существует, то замысел Его бесконечен, но непостижим. И величайшая ошибка, наихудшая глупость всех откровений состоит именно в том, что люди пытаются постичь этот замысел, что ведет лишь к уродливым образам, отражающим природу самого человека, его желания, страхи, часто слабоволие или жестокость — в образах этих, на которые ставят свою печать время и место, тривиальные представления скрыты под покровом идеала. Как видишь, обвинения твои не слишком обоснованны. Но в одном ты, возможно, права: слова о разделении тела моего — это риторическое украшение, несомненно, пустая и, быть может, вредоносная фигура стиля. Но как мог я сказать воинам Стола то, что говорю сейчас тебе о побуждениях моих? Ведь во всем западном мире нет другого столь блестящего ума. Даже наука в объяснениях для несведущих должна прибегать — по крайней мере, в начале своего педагогического воздействия — к фигурам стиля. Мне чуждо суеверие Христа, будь оно порождено им самим или же рвением его учеников. Но я всей душой воспринял его философию, в моих глазах лучшую из всех, которые создавались во благо человека, — этику любви, ибо именно она возвышает закон. Ибо я думаю, в отличие от тебя и, возможно, в отличие от самого Мерлина, что страстная любовь при определенных условиях может служить оплотом закона, а не хаоса, стремящегося к его уничтожению. Впрочем, твои суждения о страсти ставят под сомнение твое право судить ее, ибо ты сама испытываешь страстную ненависть, которая по твоим же собственным словам создает искаженное представление о людях и возможностях их закона. Твои познания велики, Моргана, но ты, кажется, философ в еще меньшей степени, чем я. Однако зачем двум плохим ученикам быть врагами? Любовь и желание я ощутил в тот самый момент, когда ты предстала предо мной на дороге в Иску. И наш сегодняшний спор нисколько не умалил эти чувства — напротив, укрепил их.
— Ты не боишься, что страстная любовь, вопреки утверждениям твоим, окажется не чем иным, как хаосом? Ты не боишься погибнуть, увлекая за собой Логрис и Стол, если дашь мне возможность уничтожить тебя, как я об этом уже говорила?
— Мерлин научил меня побеждать любой страх, и я не боюсь ничего и никого, Моргана, — ни тебя, ни себя самого.
— Посмотрим.
Она встала, подошла к нему и начала раздевать его, пока он не предстал перед ней полностью обнаженным. Тогда она разделась сама. И каждый жадно вглядывался в тело другого.
— Ты прекрасен, Артур, — сказала Моргана. — И я тоже хочу тебя. Плоть моя не для услады мужчин. Я хочу тебя, как мужчина хочет женщину, и, по крайней мере, в этом мы равны. Я не отдаюсь тебе. Я беру тебя.
И в течение всей ночи оба вкусили такое наслаждение, что сама Моргана целиком растворилась в нем. Таким образом, невзирая на замыслы свои и намерения, она подарила Артуру — с безоглядностью, изумившей ее вплоть до раздражения — частицу той любви, которая предназначалась одному лишь Мерлину.
— Моргана — это хаос, — сказал Мерлину Артур. — Хаос, в котором исчезает всякий смысл, в котором с наслаждением тонет кропотливый и ревностный строитель, извечно и настойчиво стремящийся к цели. Моргана — это наваждение чувств, убивающее в человеке одержимость мечтой. Она — абсолютное настоящее, убивающее хрупкое будущее. Ее ум — опустошение и гибель всего живого, и я ненавижу его — и боготворю каждую частицу ее тела, малейшее его движение, подобное нескончаемому танцу очарования и смерти. И при этом я не могу не понимать, что ее тело — лишь нежнейшее и чудеснейшее воплощение ее ума, что оба они составляют единое и неразрывное целое и что обольстительность внешней оболочки, с которой ничто в природе не может сравниться, — лишь точное соответствие в тысячу раз более сильного соблазна, таящегося в коварном великолепии гениального и извращенного ума. И пока я в изнеможении пью из источника моей радости и страдания, пока я обретаю власть над ее сладостным и чувственным телом, я чувствую, как она обретает такую же власть над моей душой. И вот теперь я, Артур Логрский, государь Круглого Стола, взявшийся преподать хаосу урок войны, получил от хаоса в ответ проповедь любви. И это — другая война, в которой я чувствую себя беспомощным и безоружным. Слова любви теряют привычный смысл, бездна наслаждения сливается с бездной небытия. Моргана — это нежная река, которая уносит меня, тонущего и счастливого пловца, в никуда, в бессловесный простор морских волн. Кто сможет разбить оковы из неразрывного слияния светлого тела и темной души?
— Сама Моргана, насколько я ее знаю.
В середине 478 года Моргана поняла, что беременна, и закрыла для короля ворота своего замка. Она была удовлетворена, потому что беременность входила в ее разрушительные планы, но вместе с тем испугана — потому что не забыла потрясших ее в детстве мук Игрейны во время появления на свет Артура. И еще она испытывала грусть, потому что влечение к единоутробному брату лишь возросло благодаря наслаждению — кроме того, она чувствовала к нему непонятную любовь и пыталась бороться с ней, чтобы сохранить свободу выбора и свободу действий, однако не отрицала ее, ибо никогда не позволяла себе отвергать истину, какой бы та ни была.
Артур, обнаружив перед собой запертые ворота крепости Иска, повелел открыть ему, но слуги Морганы отказались это сделать, поскольку не так страшились пренебречь приказом короля, как ослушаться и прогневить свою госпожу, которую боготворили и одновременно боялись. Обвинив их в измене Логрису и королю, Артур пригрозил срыть крепость до основания и перебить всех ее обитателей. Они пришли в ужас, но все равно не подчинились. В тот же день Артур повел в Иску отряд воинов, взяв с собой осадную машину: это был громадный таран, увенчанный медной головой и привязанный цепями к платформе на колесах, которую тянули волы и сопровождали около сотни слуг. Но на полпути перед ними встал Мерлин.
— Ты не имеешь права, — сказал он Артуру, — брать штурмом Иску, иначе сам окажешься вне закона. Ибо резиденция Морганы обладает неприкосновенностью по указу Утера — за исключением того случая, когда кто-либо из ее подданных совершит преступление, подлежащее королевскому суду. Если таковое и совершилось, полагаю, состоит оно вовсе не в посягательстве на твою власть — речь идет совсем о другом. Прежде чем преступить указ Утера, поразмысли о том, что это за преступление и кто истинный его виновник.
Хотя Артур был преисполнен гнева и печали, он отступил — не столько перед законом, сколько перед Мерлином. Жестом приказав своему отряду возвращаться в Кардуэл, он яростно пришпорил боевого скакуна и умчался в противоположную сторону. Целых три дня он не появлялся ни в Кардуэле, ни в Камелоте, и Мерлин отправился искать его в окрестностях Иски, на равнине и в песчаных дюнах. В сумерках он остановил коня на вершине холма, откуда открывался вид на побережье и море, которое на западе отливало кровью в огненных лучах огромного солнца, уже наполовину погрузившегося в волны. Он заметил большую лошадь, бродившую на свету в поисках редкой здесь травы. Это был жеребец Артура. Подъехав к нему, Мерлин взял его за повод и повел к небольшой, врезавшейся в берег бухте, где рассчитывал найти короля. Действительно, Артур оказался там: он лежал на песке и слабым голосом повторял, словно не в силах умолкнуть, имя Морганы. Его прекрасное лицо осунулось от голода, бессонных ночей и страданий. Охваченный жалостью Мерлин отвязал от седла бурдюк с водой и поднес носик к иссушенным жаждой, потрескавшимся губам короля. Тот стал жадно пить. Затем поднял взор на Мерлина. В нем угадывались глубочайшая душевная рана и беспредельное отчаяние, которые заставляют человека оцепенеть от горя, не давая ему возможности даже вопить или кататься по земле, но в самой безмерности этой муки было нечто целительное. Мерлин, подобно любящему отцу, приподнял королю голову и поцеловал в лоб. И Артур, очнувшись наконец, судорожно обнял его, как если бы после долгой агонии в одиночестве встретил родственное существо.
— Прости меня, отец, — прошептал он. — Я недостоин править твоим миром и даже жить в нем. Ибо без Морганы мир этот для меня пустыня, а я стал рабом страсти, хотя говорил ей, что сумею с этой страстью совладать. Моргана победила меня дважды. Победила духом, потому что ее проницательный разум сломил мою слепую гордыню и еще потому, что ядовитый разум свой она обратила в дурман, без которого мой разум не может обойтись и которым он упивается, хотя должен был бы его отринуть, и это нектар для моей души, жаждущей лишь этого зелья. Победила телом, потому что обуревает меня ненасытный голод по нему — мое тело гибнет, лишившись ее плоти. Хаос во мне победил твой план, осуществить который ты поручил рабу, не сумев вовремя разглядеть его. Прости меня, отец.
— Мне нечего прощать тебе, Артур, — сказал Мерлин, — ибо я не чувствую никакого разочарования, если не считать собственного легкомыслия в качестве наставника. Хотя Моргана тщится любой ценой открыть закон вещей, она восстает и против него в той самой мере, в какой познает, ибо считает его несправедливым и жестоким из-за малости своей и неизбежности ухода. Не в силах победить этот непреложный закон, она мстит человеку, который, обретя цель, хочет, невзирая ни на что, утвердить свою свободную волю в другом законе — законе духа, что в ее глазах выглядит утопией, несостоятельной по определению. Если же ты подумал, что мой закон создан ради того, чтобы уничтожить закон вещей и заменить закон природы новой реальностью духа, ты совершил, двинувшись с противоположного конца, такую же ошибку, как Моргана, которая полагает, будто один закон неизбежно сокрушает другой. Вы оба, сами того не ведая, на собственном опыте доказали ложность подобного утверждения. Ибо Моргана, стремясь к познанию и проводя несравненные по гениальности исследования, воплощает помимо воли торжество духа, замыслы которого тщится уничтожить. Тебя же обуревает страсть, которую ты называешь хаосом, тогда как в реальности это наивысшее проявление того, что берет исток в законе природы, но не уничтожает закон людей — напротив, вдохновляется им. Когда прекращаются варварские раздоры, рождается влечение к другому и становится любовью. Никогда в замысле моем не противопоставлялись два закона — твой и тот, что чудится Моргане. И не было у меня намерения уничтожать один из них: мне хотелось совместить механику и свободу воли — примирить разъединенное суеверием с зари времен, когда рассудок породил страх. Уничтожить — опасаясь самоуничтожения — следует не страсть, Артур. Нужно уничтожить внушенный ею страх: страх полностью отдаться ей, когда Моргана тебя приняла, — и страх навсегда лишиться ее теперь, когда она тебя отвергла. Не бойся ничего: пусть живут в тебе и цель, и страсть — и деяния, и муки. Не отрекайся ни от Стола, ни от Морганы. Быть может, это вершина утопии.
Нос галеры рассекал черноту спокойных волн. В барашках пены перед форштевнем отражались огненные блики ясного неба, где всходила полная, круглая и громадная луна, казавшаяся совсем близкой. Ночь солнцестояния была теплой, а морской бриз так усилился, что на согнувшейся от ветра до самой палубы мачте развернули большой квадратный парус. Три ряда весел бесшумно, неторопливо и слаженно ударялись о воду, подернутую сильной зыбью, которая зародилась на далеких просторах великого западного океана. Иногда из трюмов судна доносился хлопок хлестнувшего по спине каторжника бича, раздавался крик боли, слышалась брань стражника. Одни матросы сновали по палубе, другие отдыхали, привалившись к борту и поглядывая на Моргану — украдкой, с испугом и вожделением.
Она стояла рядом с Мерлином на корме триремы, недалеко от мостика, где капитан крепко держал штурвал и пристально вглядывался в темноту, не желая доверить кому бы то ни было управление кораблем со столь прославленными пассажирами на борту.
Отыскав Артура, Мерлин сразу же отправился в Иску к Моргане и, чтобы она больше не оставалась в поле зрения короля — подобно ране, начинающей вновь кровоточить при каждой встрече и способной ввергнуть его в неисцелимое уже безумие, покрыв несмываемым позором, — осудил ее на временное изгнание в Арморику, отдаленную область королевства Беноик. Но он любил ее, а потому изъявил желание отправиться вместе с ней и остаться подле нее на все время беременности — оставив сверх того за собой право решить судьбу ребенка, которого, как он знал, Моргана намеревалась превратить в оружие против Логриса и Круглого Стола. В тот же день они добрались верхом до Дурноварии, портовой столицы племени дуротригов на юге Британии, где стоял на якоре боевой флот Артура. Мерлин нанял одну из трирем и покинул побережье Логриса еще до рассвета. Плавание заняло весь день и часть следующей ночи. Наконец показались северные берега Арморики. Мерлин попросил капитана править не к порту Беноик, от которого получило свое название королевство Бана, а к стоявшей среди болот и лесов одинокой крепости Треб, где их прибытие могло бы остаться незаметным.
В первых рассветных лучах на западе появилась громадная стена, словно эти неслыханные укрепления возникли прямо посреди моря. Ровная, почти горизонтальная вершина вздымалась над волнами на сто пятьдесят футов, у основания разбивались в белесую пену бурлящие волны, чьи мерные и звучные удары стихали на внезапно возникающих отмелях.
— Авалон, — сказал Мерлин Моргане, — Остров Плодов. Суеверные племена, некогда населявшие Арморику, считали это место священным и заколдованным. От континента его отделяет опасный пролив, а на суше — лес, который называют Дольним. Таким образом, остров, вода и лес составляют вместе то, что галлы именовали «неметон» — запретная и пустынная земля. А ведь скрытый этими скалами остров — настоящий сад, здешние воды кишат рыбой, а лес с его гигантскими деревьями напоен ароматами и полон дичи. Я знаю это, ибо нарушил неприкосновенность «неметона» во время завоевания Арморики.
— Мерлин, — сказала Моргана, — Иска так и не стала полностью мне подвластна, что доказывается твоим решением о моем изгнании. Если когда-нибудь я захочу иметь независимое королевство, ты отдашь мне Авалон?
Ничего не ответив, Мерлин отвернулся, охваченный какой-то невыразимой печалью.
Через несколько часов показались высокие стены крепости Треб, вздымавшиеся над хаотическим нагромождением гранитных скал. Галера встала на якорь у входа в бухту с песчаным берегом. Пожитки переселенцев сгрузили в лодку, затем они сами спустились туда и вскоре высадились на сушу. Лошадей свели в воду по трапу, и они поплыли к берегу, где матросы поймали и взнуздали их, перед тем как навьючить поклажей. Чуть позже галера развернулась и вышла из бухты в открытое море, держа курс на Логрис, а ее пассажиры направились к крепости.
Так Моргана двадцати лет от роду вступила в свою вторую жизнь. И с самого начала ощутила она гнет великой печали. Ибо рядом с ней был человек, которого она любила больше всего на свете, — но именно он осудил ее на изгнание. Она знала, что материнство ее — акт не творения, а уничтожения. И ей казалось, что она с бесповоротной неотвратимостью вступила на долгую тропу одиночества.
Долина Откуда Нет Возврата (478–491)
Мерлин возвестил о своем прибытии перед вратами замка Треб. Распоряжавшийся в отсутствие короля управитель поторопился открыть ему, встревоженный неожиданным визитом верховного владыки Логриса, «творца королей», который после войны в Арморике посадил на трон Беноика самого Бана. Когда же управитель увидел Моргану, тревога его сменилась страхом. Он проводил обоих путешественников в самые роскошные покои крепости. Там Мерлин приказал послать вестника в Беноик и передать Бану, чтобы тот как можно скорее прибыл в Треб. Этот молодой воин был ровесником Артура: сражаясь бок о бок с королем, он завоевал великую славу и проявил такую доблесть в сражениях, такую мудрость стратега, такое великодушие к побежденным, что завоевал расположение Мерлина, дружбу Артура и место за Круглым Столом, получив также самые прекрасные и обширные земли Арморики.
— Король Бан, — сказал ему Мерлин, — я знаю, что в самом сердце Беноика, в большом лесу, прозываемом Броселиандским и занимающем немалую часть как твоих владений, так и земель твоего соседа Кардевка, короля редонов, у тебя есть названный Дольним летний замок, который стоит посреди громадной поляны, расчищенной и возделанной по твоему приказу. Я хочу, чтобы ты отдал его мне на срок, пока еще мною не определенный. Это будет резиденция принцессы Морганы: ей пришлось удалиться из Кардуэла, Камелота и даже Логриса по причине, о которой тебе не следует знать. Сверх того, ты отдашь мне, кроме уже заселивших эту местность людей, сто воинов, служанок и слуг из числа самых надежных и верных — они должны подчиняться Моргане, как тебе, и даже более, чем тебе, ибо целиком перейдут под ее власть, выйдя из-под твоей. Готов ли ты исполнить мою просьбу?
— Государь, — сказал Бан, — все достояние мое — власть, земли, богатства — получено мною от тебя и Артура Логрского. Будет только справедливо, если ты распорядишься им по своему усмотрению.
— Благодарю тебя. Завтра же мы отправимся в Броселианд.
Вечером Моргана пригласила Бана в свою спальню. Он вошел и застыл перед ней, не в силах оторвать взгляд от ее совершенного по красоте тела, ибо она лежала на постели почти обнаженная.
— У меня к тебе личная просьба, — сказала она ему. — Я хочу, чтобы ты отсылал ко мне в Дольний замок всех преступников, приговоренных к смерти твоим судом. Не тревожься, справедливой кары они не избегнут. Я сама убью их, но так, чтобы от этого была польза. Они нужны мне для опытов по биологии и медицине. И мне потребуется вскрывать человеческие тела, как учили Герофил из Калхедона и Эрасистрат из Кеоса, а вслед за ними Руф и Гален.
— Почему они нужны тебе живыми? Неужели ты хочешь превратить свою медицинскую залу в пыточную камеру, взрезая живую человеческую плоть? Названный тобой великий Гален из Пергама, отстаивая необходимость вскрытия трупов, восставал против подобных опытов, ибо считал их бесполезными и жестокими. И я уверен, что сам Мерлин разделяет эту точку зрения.
Моргана улыбнулась:
— Для воина ты чересчур учен и слишком чувствителен. Тебе ли давать мне урок научной этики? И мне ли отчитываться перед тобой? Неужто я, Моргана, должна оправдываться в замыслах своих и деяниях перед жалким корольком завоеванной страны, безвестным племенным вождем, получившим трон лишь по милости моей семьи?
Оскорбленный до глубины души, Бан побледнел, но ему удалось совладать с гневом и унижением. Он ответил спокойно:
— Я не учен, а просто любопытен. Единственная моя наука состоит в том, что я умею читать и писать по-гречески и по-латыни. Этим я удовлетворил свое любопытство, но сохранил интерес к философской этике, о которой должен размышлять любой человек, облеченный ответственностью власти, какой бы жалкой она тебе ни казалась. Твоя семья подарила мне трон, но не купила этим мою свободу и мою совесть. Я знаю, что в твоей власти лишить меня трона и даже жизни. Ты думаешь, меня это пугает? Можешь забрать и трон мой, и жизнь мою, и все мои владения — мне все равно! Но речь, как ты сама сказала, о личной просьбе, которая идет вразрез с моей ответственностью — единственной подлинной ответственностью власти по отношению к другим людям, не исключая и преступников. Если я отрекусь от этой ответственности, то могу отречься и от трона, который потеряет всякую значимость. Пока же я, жалкий королек, сижу на этом дарованном мне троне, у меня есть право и обязанность требовать от тебя отчета в делах такого рода.
Моргана взглянула на него с любопытством.
— Мне следовало знать, — сказала она, — что Мерлин не мог сделать дурной выбор, следуя собственной логике власти, и ты кажешься мне достойным защитником его мира. Поэтому я дам тебе объяснение. Они нужны мне живыми, потому что предназначенные для вскрытия тела не должны иметь повреждений, вызванных пыткой или разложением. Это означает, что мне нужно производить опыты сразу после смерти. Я убью их, сохранив в целости плоть и костяк, что невозможно при обезглавливании или повешении: они умрут мгновенно и, следовательно, безболезненно. Если я обещаю тебе это, будут ли удовлетворены твои отцовские чувства по отношению к отребью человечества и исполнишь ли ты мою просьбу?
— Да, принцесса Моргана.
Он поклонился, намереваясь удалиться.
— Не уходи, — сказала Моргана. — Я не хочу оставаться одна в первые часы моего изгнания. Ты кажешься мне достойным мужем, а наслаждение способно исцелить печаль, от которой томится сейчас и тело мое, и дух. Желаешь ли ты провести со мной ночь? Я задаю этот вопрос потому, что твои суровые понятия о моральной ответственности могут относиться не только к преступникам, но и к тебе самому.
Бан приблизился к ложу. Проснувшись на следующее утро возле обнаженной Морганы, он ощутил такую всепоглощающую любовь к ней и такой порожденный этой любовью страх, какого не смогли бы внушить ему ее гордость и властность. Он спросил:
— Смогу ли я навестить тебя в Броселианде?
— Нет, разве что я сама тебя приглашу. Я намерена превратить Дольний замок в запретное и неприкосновенное место, на что дает право дарованная мне Утером королевская привилегия. Преступивший границу заплатит жизнью. Да и зачем тебе навещать меня?
— Как ты можешь спрашивать после подобной ночи?
— Подобной ночи? О чем ты говоришь? Если о наслаждении, которое ты мне доставил, то я могу получить его от любого другого мужчины. К таким вещам следует относиться с насмешкой или, по крайней мере, с эпикурейской снисходительностью. Если о любви, то тебя ослепило честолюбие, и ты возомнил о себе больше, чем заслуживаешь. Ибо любовь есть достояние духа, за которым следует, не опережая его, тело. В наслаждении я женщина, а таковых, полагаю, в Беноике достаточно. Но в любви я Моргана. И питаю любовь лишь к двум живым существам — Мерлину и Артуру, отцу и брату. Первый отверг меня, не переставая любить. Второго отвергла я, не переставая любить. Эта страсть души образует нерасторжимую связь между нами: чувствами мы пребываем в любви, духом пребываем во вражде. На кону стоят наши жизни — и даже участь мира. При чем здесь ты? Я ценю твою мужскую и королевскую гордость, Бан, но презираю смешное тщеславие самца. А теперь оставь меня. Кто знает, быть может, когда-нибудь мы еще раз доставим наслаждение друг другу?
После дневного перехода на лошадях Мерлин, Моргана, их небольшая свита из нескольких слуг из Иски, а также отданные Баном сто воинов и пятьдесят рабов обоего пола достигли опушки Броселианда и разбили лагерь в тени первых деревьев — вырвавшихся за кромку леса гигантских дубов. На следующий день отряд, двинувшись в путь с рассветом, последовал по довольно широкой просеке и через шесть часов, ближе к полудню, вступил во владения Дольнего замка. Это была огромная поляна, которая представляла собой почти идеальный круг периметром в три с половиной мили и площадью в более чем восемьсот югеров. Злаковые поля, пастбища для скота, виноградники, огороды и сады с проложенными повсюду оросительными каналами, которые вели начало от полноводной реки, окружали замок. Занимая по меньшей мере пять югеров, он включал в себя хозяйственные постройки и господскую резиденцию, где удобная практичность деревенского жилища сочеталась с роскошью городского дома. Ухоженный парк отделял ферму от двухэтажного дворца с галереями и колоннами на фасаде. Через весь парк проходил извилистый канал, снабжавший водой фонтаны, водоемы и рыбные садки. Большая водонапорная башня, которую заполняли с помощью хитроумного гидравлического механизма, обеспечивала доступ проточной воды на все этажи и во все помещения дворца.
С первых же дней изгнания Моргана решила укрепить свою вотчину, лишенную каких бы то ни было оборонительных сооружений, чтобы материальным образом утвердить независимый, запретный и неприкосновенный характер этого места. Согласно ее плану, по периметру лес следовало выкорчевать на пятьсот футов, обнести расчищенную площадь глубоким внешним рвом, из вырытой земли создать насыпь с дозорным путем, оградив ее палисадом из выкорчеванных деревьев. Расстояние от верха ограды до нижней точки рва должно было составлять двадцать футов. Под насыпью предполагалось отрыть два туннеля, облицевать их камнями и закрыть решетками там, где река входила во владение и выходила из него, провести земляные работы на сухом русле и затем открыть проходы, чтобы вода затопила ров. В сплошном палисаде должен был быть только один вход — высокие и массивные ворота, открывающиеся на лесную просеку.
Моргана желала построить эти укрепления в кратчайшие сроки, но имела в своем распоряжении лишь сотню воинов, поскольку слуги и рабы были заняты на полевых работах и в замке. Она потребовала и получила от Бана тысячу землекопов, сто дровосеков и плотников, десять каменщиков и двух кузнецов, а также обоз с продовольствием для их пропитания, ибо ей не хотелось тратить на них собственные запасы и ставить тем самым под угрозу свою независимость. Итак, каждому землекопу предстояло отрыть участок рва длиной в восемнадцать, шириной в двадцать и глубиной в восемь футов, а также возвести соответствующую часть насыпи. Каждому плотнику предстояло соорудить семьдесят восемь футов ограды. Две команды, состоявшие из пяти каменщиков и одного кузнеца, должны были создать два туннеля. К концу первого месяца дровосеки срубили деревья и ободрали с них кору, землекопы выкорчевали и обожгли пни, преобразившись в угольщиков, чтобы создать запас топлива, каменщики закончили работу над сводами, а кузнецы приварили решетки. Моргана отослала каменщиков. За второй месяц землекопы отрыли ров и возвели насыпь, плотники обтесали бревна и доски, необходимые для постройки ограды. Моргана приказала залить ров водой. В течение третьего месяца все ее работники строили ограду, вкапывая колья на вершине насыпи, прибивая к ним доски и укрепляя их поперечинами. Затем Моргана отослала всех землекопов и большую часть плотников, оставив только самых искусных из них, чтобы они — вместе с кузнецами — соорудили ворота. Они так прекрасно справились с этим делом, что она решила не отсылать их, сохранив на своей службе. Когда все работы были закончены, она разделила воинов на шесть караульных отрядов, каждый из которых должен был обходить дозорный путь по насыпи на протяжении четырех часов — как ночью, так и днем.
Лишь теперь Моргана ощутила усталость и одиночество. Живот у нее сильно округлился, и это очень ее встревожило. В самом начале строительства Мерлин отбыл в Логрис, поскольку считал свою помощь бесполезной, а систему обороны полагал бессмысленной умственной забавой, ибо реальной необходимости в ней не было и она имела скорее символическое значение. Моргана послала к Мерлину вестника с просьбой вернуться к ней.
Два месяца прошли после возвращения Мерлина в Дольний замок. Февраль 479 года только начинался, зима была в самом разгаре. Снег до сих пор не выпал, и все вокруг словно застыло от холода, смягченного далеким дыханием океана, который окружал Арморику с трех сторон. Оцепенение это было уютным и благостным, потому что люди ни в чем не испытывали нужды, а запасено у них было великое множество всего, что необходимо для жизни и даже сверх того. Всякая деятельность почти замерла — лишь караульные продолжали столь же ревностно нести неусыпную службу, да Моргана вновь приступила к научным исследованиям, в которые вовлекла Мерлина, освободившегося от забот о власти и возобновившего давно прерванные размышления, опыты и труды. Она была на девятом месяце беременности, но огромный живот не наносил ущерба ее красоте. Двигалась она несколько неуклюже, словно утеряв глазомер, и, поскольку при Кардуэльском дворе ни у кого не было столь благородной осанки и столь изящной поступи, она порою расстраивалась по-детски до слез и бросалась в объятия Мерлина, который утешал ее с нежной насмешливостью. Она говорила ему, что, не будь у нее такого мерзкого брюха, это время было бы самым счастливым в ее взрослой жизни, а он вспоминал восхитительные беседы юного наставника и маленькой девочки в самом начале ее ученичества.
Однажды перед главными воротами появилась группа людей. Это был первый обоз смертников, которых Бан обещал прислать Моргане. Их было около дюжины — закованных в цепи, тощих и грязных, одетых в лохмотья, дрожащих от холода. Охраняло их столько же воинов короля. Моргана приказала открыть ворота и ввести за ограду преступников, которых тут же препоручила собственным стражам, не позволив ни одному человеку из прежней охраны ступить в пределы своего владения. Она велела им немедля возвращаться в Беноик, и они подчинились безропотно, хотя и не без горечи, ибо надеялись передохнуть и сытно поесть. Но страх оказался сильнее: они знали, что при любой попытке ослушаться или просто выразить неудовольствие им придется пополнить ряды пленников и разделить их участь. Моргана негодовала из-за того, что смертники дошли до такого физического истощения, ибо собиралась вскрывать лишь тела, находившиеся в хорошем состоянии. Задержка приводила ее в раздражение. Она приказала тщательно вымыть пленников, накормить до отвала и одеть в новую теплую одежду. Затем их отвели в подземный эргастул[7], в котором не было ни единого человека, ибо ее рабы отличались непоколебимой верностью и были прекрасно вымуштрованы — ей редко приходилось наказывать их, и они свободно расхаживали по всему владению.
Среди смертников была одна женщина, которую Моргана приказала отделить от остальных. Когда служанки вымыли, переодели и накормили пленницу, она призвала ее к себе для допроса. Ее звали Бондука, она родилась двадцать два года назад на земле Беноика, но сама была бриттского происхождения: ее семья покинула земли логских белгов и нашла убежище в Арморике после того, как сорок лет назад узурпатор Вортигерн поселил в том краю саксов. Лишившись мужа, она впала в чудовищную нищету и, видя, как ее двое детей трех и четырех лет медленно угасают от голода, убила их, чтобы избавить от мучений. Ее схватили, когда она хоронила их, и королевское правосудие приговорило ее к смерти. Она просила позволения оправдаться перед лицом самого Бана, который был великодушен и добр по отношению к беднякам, но в этой милости ей было отказано. Путь из Беноика в Долину оказался для нее куда ужаснее, чем для других осужденных, ибо она не только страдала, подобно им, от холода и голода, но подвергалась постоянному насилию, переходя от одного стражника к другому и даже к товарищам по несчастью. Несколько раз она пыталась покончить с собой, но ей не дали этого сделать, поскольку охрана не желала лишиться единственного удовольствия, а командир, сверх того, должен был, согласно распоряжению короля, передать принцессе Моргане всех пленников живыми. Моргана объявила ей, что милует ее и берет к себе в услужение — на правах свободной, а не рабыни. Бондука припала к ее ногам и стала их целовать. Моргана с досадой отослала ее прочь.
— Стало быть, и тебе не чужда человечность? — спросил Мерлин.
— Я могу сострадать только женщинам. Однако было бы любопытно препарировать ее и изучить внутреннее устройство женского тела в сравнении с мужским. Но я всегда смогу это сделать, когда умрет какая-нибудь служанка или рабыня. Впрочем, я сумею извлечь пользу из этой ситуации, ибо дух справедливости и мои научные устремления совпали, предоставив в мое распоряжение здоровое тело прямо сейчас.
Она послала за удалявшимися стражниками всадника, который держал в поводу вторую лошадь. Быстро поравнявшись с людьми Бана, вестник сказал их командиру, что принцесса Моргана желает вручить ему послание для короля. Он сможет поесть и отдохнуть в замке, а лошадь останется при нем, так что ему будет нетрудно догнать воинов, которые должны продолжить свой путь. Командир согласился с радостью. Когда же он оказался перед Морганой, та приказала схватить его и раздеть догола. У него было мощное и грубое тело, с крепким костяком и хорошо развитыми мускулами. Моргана была довольна. Ему она сказала просто:
— В моих владениях изнасилование карается смертью.
Затем она приказала вымыть его и обрить ему все волосы — на голове, на лице и на теле. Его привели в медицинскую залу и привязали к столу для вскрытия, который был сделан из мрамора, а не из дерева, слишком легко впитывавшего кровь. Моргана отослала всех прочь, дозволив остаться только Мерлину. Сбросив с себя одежду, чтобы не запачкать, она подошла к столу. В руке у нее была длинная и очень тонкая металлическая игла. Нащупав между ребрами место, где находилось сердце, она приставила туда иглу и быстрым движением пронзила грудь. Из крохотной раны на ее руки хлынула кровь. Жертва издала лишь короткий хрип, и все было кончено. Острым ножом она разрезала путы и начала снимать с мертвеца кожу.
А Мерлин задумчиво смотрел, как эта обнаженная, великолепная и изуродованная беременностью женщина пятнает кровью свою белизну, словно вскрывая саму смерть в поисках тайны жизни — жизни, вызревающей в ее собственном чреве.
Окровавленный ребенок выходил из прекрасного материнского тела. Его высвободившиеся ручки зашевелились, и Мерлин, вложив в его ладошки два пальца, которые они цепко обхватили, потянул. Так Мордред и родился, с натужным криком, словно сам вырывался в этот мир, схватившись за руки своего врага. Мерлин принял его и, перерезав пуповину, поднял на свет и поднес к лицу. Он был тяжелый, хорошо сложенный, полный жизненной силы.
Мерлин в задумчивости смотрел на сына Артура и Морганы. Вот уже много месяцев он не раз думал о том, что должен будет убить ребенка, едва тот появится на свет. Но теперь не мог на это решиться. Он держал на руках существо, которое было сильнее его — той силой, что нагие и беззащитные черпают в самой своей наготе и беззащитности. Он протянул его Моргане, и она прижала его к груди. Она была вся в крови и в поту, но никогда не выглядела такой красивой. Он обтер ее тело влажным полотенцем. И продолжал смотреть на нее, не говоря ни слова.
— Почему ты не убил его? — спросила она.
— Неотвратимого рока не существует. Я — живое тому подтверждение, и к тому же чувствую какое-то родство с этим ребенком, как будто — общность происхождения. Так же, как я не могу быть полностью уверенным в том, что мне подвластна судьба Артура, так и ты не можешь надеяться окончательно предопределить будущее своего сына. Таким образом, нет ничего неотвратимого ни в творении, ни в разрушении, поскольку на свете существуют две вещи, не поддающиеся самым тщательным расчетам предусмотрительного ума: душа и случай. И даже если тебе удастся сделать из этого существа совершенное орудие, служащее твоей ненависти к человеческому роду, оно сможет причинить вред только в том случае, если Артур и пэры Круглого Стола проявят безумие или слабость. А если они станут безумными или слабыми — так не все ли равно, в чем будет причина их гибели, потому что виновной будешь тогда не ты и не твой сын, но они сами.
— Сколько хитрых уловок, для того чтобы просто сказать, что ты не способен убить младенца.
— И уловка, и действительность могут в равной степени быть признаны истинными.
Она улыбнулась.
— Ты больше не испытываешь ко мне ненависти, Мерлин?
— Я буду всегда любить тебя, Моргана. Ничто не заставит меня отречься от того, что я сказал тебе, слагая с себя опеку над тобой. Ты мое дитя, а также и другая сторона меня самого. Но я буду сражаться с тобой.
Она отдала ему Мордреда.
— Держи его подальше от меня. Я не хочу заниматься им, пока он не достигнет возраста обучения, но учить его буду сама. Найди среди моих служанок и рабынь женщину, у которой есть молоко, пусть она станет его кормилицей. Он начнет свою жизнь так же, как начал ее Артур, и, быть может, судьба его окажется столь же славной.
Первое весеннее тепло согревало все живое и пробуждало растительный мир. Мерлин и Моргана стояли перед воротами, выходившими в лес. Конюх держал в поводу рослого, уже оседланного жеребца.
— Ты вернешься навестить меня, Мерлин? — спросила Моргана.
— Нет. Разве что тебе будет грозить смертельная опасность. Но я вновь призову тебя в Логрис, когда Артур окончательно исцелится от недуга, которым ты стала для его души.
Моргана улыбнулась.
— Быть может, этого никогда не произойдет, — сказала она. — Ты не слишком высокого мнения обо мне, если думаешь, будто можно исцелить рану, нанесенную моими словами, моей любовью и моей плотью.
— Тем не менее я так думаю. Меня же твое отсутствие не исцелит, однако не сможет — как и присутствие твое — довести до безрассудства.
Моргана положила голову ему на плечо и сомкнула руки вокруг его стана.
— Я не вернусь в Иску, Мерлин, — сказала она, — как и в любое другое место Логриса. Здесь я познала свободу, которую не хочу терять, и обменяю это крохотное королевство лишь на более обширное, более надежное — такое, как Авалон. Ибо я предпочитаю настоящий остров посреди моря островку земли, зажатому между владениями Артура или Бана. В Кардуэл я вернусь лишь для того, чтобы привезти туда Мордреда, когда обучение его завершится. Но отныне и впредь я никогда и никому не стану давать отчета — даже тебе.
Мерлин сжал ее в объятиях и прикоснулся губами к ее волосам. Затем резко высвободился, вскочил в седло и пустил коня в галоп. Моргана провожала его взглядом, пока он не исчез за деревьями Броселианда. И она заплакала так, как не плакала с семилетнего возраста — в Кардуэльском лесу. Но тогда она нашла утешение и прибежище в объятиях Мерлина, которых теперь лишилась, и ей казалось, что она потеряла это последнее прибежище — более надежное и более мощное, чем любая крепость, защищавшая ее от мира и от себя самой. И что Мерлин оставил ее во власти демонов — навечно.
Моргана, объявившая войну человеческому роду, по отношению к подданным своим проявляла неукоснительную и грозную справедливость. Никогда не карая без причины, она соразмеряла наказание с проступком, и молить ее о пощаде было бесполезно. На своих землях она сама вершила правосудие, но занималась также и врачеванием, которое одно лишь свидетельствовало о некотором снисхождении к людям. Благодаря своим исследованиям она достигла невиданного прежде уровня в познании человеческой физиологии и химического состава растений, поэтому ее хирургические операции и лекарственные снадобья почти всегда оказывались благотворными, отчего подвластный ей маленький народ проникся к ней религиозным благоговением. Это обожествление привело к тому, что внушаемые ею любовь и ужас окончательно слились воедино, превратившись в безоговорочную преданность и нерушимую верность. Воины, которых дал ей Бан, готовы были умереть за нее, отражая нападение любого врага — пусть даже им пришлось бы сразиться с прежним своим господином. Так Моргана в дополнение к искусству убеждать, обольщать и вызывать страх овладела искусством внушать к себе любовь. С каждым годом благосостояние Дольнего замка возрастало, а плодородие земель достигло такой степени, что Моргана уступала излишки урожая королю Бану в обмен на припасы и товары, которые нельзя было произвести в ее угодьях. Несмотря на эту оживленную торговлю, никогда подданные Бана — будь то вестники, воины или вожатые обоза — не допускались за крепостные ворота. Когда Моргана желала снестись с королем, она посылала к нему в сопровождении самых могучих бойцов Бондуку, которую сделала не только личной служанкой и управительницей замка, но также посланницей и иногда подругой своих ночей, ибо та отличалась красотой и чувственностью. Моргана научила ее доставлять себе столь же великое наслаждение, какое ощущала от близости с мужчиной. Признательность и преданность Бондуки не знали границ, но вдобавок она прониклась к своей повелительнице любовной страстью, которой предалась целиком — телом и душой, ибо подобного чувства она еще не испытывала ни к одному живому существу. И проведенные в восторженном обожании ночи с Морганой стали для нее источником бесконечного счастья и мистического наслаждения — тогда как другие, более частые ночи вдали от госпожи обращались в томительную разлуку, похожую на изгнание.
В этих владениях чужакам, будь они из Беноика или других земель империи Артура, следовало страшиться Морганы. Мало кто осмеливался проникнуть за крепостные стены, ибо это означало неминуемую смерть. Но такая же кара ожидала даже тех, кто без особой надобности бродил поблизости и попадался в руки вооруженной стражи. Бан во всеуслышание провозгласил Дольний замок независимым, запретным и неприкосновенным местом, поскольку Моргана обладала королевской привилегией и не подчинялась законам Беноика. Для большинства такого предупреждения оказалось достаточно — люди старались не заходить в эту часть Броселианда. Зато сюда потянулись бежавшие от правосудия Логриса преступники, которым казалось, будто они обретут надежное убежище именно благодаря дарованной Моргане привилегии: избежав относительной опасности — тюрем и галер Артура, они отправлялись в подземный эргастул замка, где их ждала верная гибель. Находились также воины и вельможи, ослепленные жаждой славы, обладания и наслаждения: им хотелось добиться любви самой прекрасной и самой знатной женщины западного мира — в надежде возлечь на одном с ней ложе они попадали на ее стол для вскрытия. Некоторые из них сразу пополняли ряды смертников, другие получали краткое удовольствие, которым Моргана дарила их за красоту и за которое приходилось платить величайшим унижением, — но домой ни один из них не вернулся.
И, поскольку никто не знал, жизнь или смерть нашли в Долине пришедшие туда люди, получила она двусмысленное названия Долины Откуда Нет Возврата.
В течение первых четырех лет своей жизни Мордред лишь один раз увидел мать. Он был отдан на попечение кормилицы и нескольких рабов: ему отвели самую дальнюю комнату, где его держали взаперти, когда Моргана занималась различными делами во дворце и окрест. Выходить на прогулку в сад ему разрешали лишь тогда, когда она удалялась в свои покои, к которым он никогда не приближался. Так Моргана желала оградить себя от заложенной в нем изначально сыновней привязанности, способной повредить ее будущим наставлениям, ибо возникающая между учителем и учеником страстная любовь — которой она сама некогда воспылала к Мерлину, и чувство это сохранилось у нее до сих пор, став источником всех ее противоречий, — неизбежно должна была ослабить, смягчить и даже исказить то, что она собиралась внушить ему: железные в своей несокрушимой абстрактности идеалы, подобные мысли, никогда не соприкасавшейся с реальностью. Впрочем, она получала о нем подробные известия от Бондуки: та часто навещала его и выказывала ему нежную привязанность, которая несколько смягчала ее скорбь, связанную с утратой собственных детей.
Когда Мордреду исполнилось четыре года, Моргана велела привести его к себе. Она рассматривала его с удовольствием, ибо это был чудесный ребенок. Рослый и сильный не по годам, он взял от матери громадные зеленые глаза, очень темные волосы и ослепительную белизну кожи, а за детской пухлостью и расплывчатостью линий уже угадывались мощная красота тела Артура и благородство его черт. Нельзя было сказать, на кого он походил больше, ибо обольстительной прелестью лица — за исключением глаз, унаследованных только от Морганы, — он был обязан обоим родителям, которых одарила красотой их общая мать Игрейна. Мордред смотрел на Моргану с робким восхищением.
— Я принцесса Моргана, твоя мать, — сказала она ему. — Твой отец — великий король Артур Логрский, самый могучий государь западного мира после падения Империи. Мы с ним единоутробные брат и сестра, ибо родились от одной матери Игрейны. Поскольку в этой части света плотская любовь между столь близкими родственниками строжайше запрещена и плоды ее считаются греховными, люди не должны знать, кто твой истинный отец, и тебе нельзя никому говорить о нем, за исключением Мерлина, которому эта тайна известна. Сам Артур не ведает о твоем существовании. Мерлин откроет ему это лишь в тот день, когда ты появишься при его дворе. Ты — потомок еще трех королей: короля Думнонии, моего природного отца, короля Логриса Утера-Пендрагона, моего приемного отца, и короля Уэльса Мерлина, моего духовного отца — самого важного для меня. Некогда он уступил в дар Утеру свой трон и отказался от власти, дабы прочнее воцариться в человеческих душах. Твой дед Мерлин учредил Круглый Стол, ставший законом для Логриса и логрской империи. Твой отец Артур — его опора, глава и дух. Для Мерлина, который знает о твоем существовании и который помог тебе появиться на свет, ты — предмет постоянных тревог, ибо он думает, что я хочу сделать тебя врагом Стола. Для Артура, если бы он знал о тебе, ты стал бы, несомненно, предметом стыда и муки. Но ты будешь, напротив, самым ревностным служителем Стола. В глазах Мерлина ты превратишься из врага в самого мощного его хранителя, в глазах Артура ты станешь предметом не стыда, а гордости. При твоем рождении Мерлин сказал мне, что он чувствует себя подобным тебе, ибо родился, как и ты, вследствие преступления, именуемого кровосмесительной связью. Невежественный народ решил, что непонятная беременность его матери объясняется кознями злых сил, — вот почему получил он прозвище «сын дьявола». Созданный злом, он создал благо Логриса и всех людей: он — величайший из всех человеческих существ. Подобный ему по рождению, согласно его собственным словам, ты сможешь уподобиться ему и по судьбе, способствуя исполнению его великого замысла даже больше, чем Артур. Ты будешь служить человеку — Артуру, но прежде всего идее — Круглому Столу Мерлина. Если же эти два служения вступят в противоречие друг с другом, всегда выступай за идею против человека, за Круглый Стол против собственного отца. Ты узнаешь от меня о законе духа и души в самом чистом его виде — это идеал и долг. Но не узнаешь ты ни о законе вещей или истинном познании, ни о законе существующих в мире вещей людей, или власти, ибо последние два закона могут нанести ущерб первому. Этот закон должен утвердиться в тебе не только силой собственной правоты, но также силой отторжения от своей противоположности. Поэтому я покажу тебе зло. Ты узнаешь, что отличает меня от других, и я покажу тебе себя. Ибо ночь — наилучшая защитница света.
И постепенно она превратила Мордреда в ледяного приверженца абстрактного идеала, суть которого составляли благо — столь же смутное, сколь желанное, справедливость — рожденная не милосердием и пониманием, а голым расчетом, умозрительная любовь — неотделимая от духа и полностью лишенная природного, иначе говоря, плотского влечения. Ибо она внушила ему веру в абсолютное противостояние двух начал: тело воплощает беспорядок, произвол и жестокость — с ним должна бороться и сразить его душа, которая заключает в себе логику, красоту и благость чистой идеи. Она вскрывала при нем трупы и показывала совокупления рабов — и тем самым заставила его возлюбить все нематериальное, навсегда отвратив от плотского и чувственного, которое казалось ему мерзостным и унизительным. Используя приемы самых отъявленных христианских мракобесов, она создавала фанатика веры — заклятого врага любого познания, которое могло бы ее поколебать. Она подолгу говорила с ним о Круглом Столе, умышленно искажая некоторые выражения из речи Артура и полностью умалчивая о речи Мерлина.
— Твой отец сказал: «Вы — Артур Логрский. Так разделил я свое тело за этим Круглым Столом. Вы — смертные члены мистического бессмертного тела». Но ты, Мордред, превосходишь любого пэра Стола, ибо создан плотью самого Артура, и ответственность твоя столь же велика, как его. Он сказал также: «Если вы отступитесь и предадите, то умрете, мы все умрем, и неразгаданный бездушный мир сотрет наши следы». Предать могут все, не исключая и самого Артура. Все, кроме тебя, ибо ты станешь высшим хранителем, неподкупным защитником духа Стола. И любой его пэр, кем бы он ни был, станет злейшим твоим врагом, если поддастся слабости, разврату или измене.
Она внушала ему, что женщины тесно связаны с законом вещей, с телом и похотью, с постоянством природы в душе и в идее — и незаметно превратила женщину если не во врага, то в существо, которому нельзя доверять.
Таким образом, в наставлениях своих она всегда пребывала между истиной и ложью. Ибо она правдиво объясняла Мордреду причины своего мятежа против детерминизма материи, обрекающей людей на жалкое существование и исчезновение. Средство же для исцеления предлагала фальшивое — идеал и веру, которых сама не имела, но надеялась, что порожденный этой приманкой фанатизм окажется более разрушительным, чем ее собственное отчаяние.
В середине 490 года Бан известил ее о том, что на холмах Бадона недалеко от Камелота произошла великая битва между войском Артура и саксонскими захватчиками, которые высадились на землях Логриса с самой большой армией, какую когда-либо видели в Британии. Все саксы до последнего человека были истреблены, но Артур заплатил за победу дорогой ценой. Он потерял большую часть своих воинов, павших в сражении, а из пэров Круглого Стола в живых осталось только двадцать. Среди них, помимо Бана, были его брат Богорт Гонский, молочный брат короля Кэй, сын Моргаузы и Лота Орканийского Гавейн, а также сам Артур. Погиб король бригантов Леодеган — страж Морганы во время ее удочерения. Погиб и Лот, равно как все прочие вожди времен Утера. За Столом оказалось сто тридцать свободных мест. Узнав об этом, Моргана решила ускорить обучение Мордреда и как можно скорее представить его ко двору, где началась бы вершиться судьба, которую она ему предназначила.
Через год после сражения при Бадоне Артур женился на Гвиневере, дочери Леодегана.
Гвиневера была прекрасна. В свои шестнадцать лет она ничем не напоминала ребенка, являя собой все совершенства женщины. У нее были длинные и тяжелые золотые волосы, славившиеся во всей Британии, лицо с чертами правильными и немного холодными, которое более прельщало с первого взгляда, нежели по-настоящему очаровывало. Лицо ее выражало смесь благородства, безразличия, своенравия и скуки, входя в противоречие с той нежностью, грацией и чувственностью, которыми были преисполнены ее движения. Все существо ее внушало мысль о наслаждении — равнодушном и недоступном. Она испытывала удовольствие — не будучи при этом настолько мелочной или простодушной, чтобы показывать это, — чувствуя себя предметом всеобщего внимания и восторженного поклонения. Выше всего она ценила власть, роскошь и богатое платье. Поэтому когда она увидала Артура, соединявшего в себе все эти достоинства и бывшего к тому же самым красивым мужем на всем западе, она полюбила его так сильно, как только вообще могла любить.
Свадьбу отпраздновали в Изуриуме, столице королевства бригантов, которую Артур, в память о Леодегане, избрал одной из своих столиц. Празднества продолжались в Лондоне и наконец в Кардуэле. Здесь Артур, желая пышно завершить увеселения, задал в своем дворце большой пир. Он созвал туда всех королей, вождей и знатных людей Логриса и покоренных земель.
В разгар праздничной трапезы в залу вошли двое гостей и приблизились к самому королевскому столу. Оба были одеты в дорожные накидки, лица их были скрыты под широкими, низко опущенными капюшонами. Тот, что был выше, откинул свой капюшон, и все узнали Моргану. Ее красота была столь ослепительна, что все присутствовавшие там замолчали, затаив дыхание. Рядом с ней другие женщины казались уродливыми, словно уничтоженные этим прекрасным сиянием, и даже великолепие Гвиневеры, которая была вдвое ее младше, потускнело. Сильно побледневший Артур поднялся, пристально глядя на нее с выражением ужаса и несказанной радости на лице. И Мерлин понял, что внезапное появление Морганы было для него мигом райского блаженства, разжегшим с новой силой адскую пытку разлуки.
Моргана откинула капюшон со своего спутника. Шепот восхищения пробежал по зале. Это был ребенок лет двенадцати, и по красоте его стана и лица все догадались, что он — сын Морганы. Но Мерлин, перенесясь мыслью на двадцать лет назад, вдруг увидел перед собой короля в этом возрасте.
— Это Мордред — мой сын, — сказала Моргана Артуру. — Он вырос и был воспитан в Беноике, в стране короля Бана, посреди Броселиандского леса, в уединенном замке, который дал мне Мерлин и который народ в страхе называет Замком В Долине Откуда Нет Возврата, потому что из всех, кто заблудился в тех местах либо отправился туда по своей воле — из похвальбы, любопытства, надеясь предаться сладострастию или страдая от любви, — ни один, кроме разве что Мерлина, не вернулся оттуда. Между тем именно в этом проклятом месте Мордред узнал от меня все то, что ум возвышенный и могучий может только пожелать узнать, и даже то, чего он, может быть, совсем и не желает знать, ибо истина нераздельна, она включает в себя в равной мере добро и зло, а знать наполовину — невозможно. Теперь настало время ему закалить свое тело и — поскольку он тебе родня — научиться у тебя боевым искусствам, равно как искусству войны и искусству власти. Я хочу, чтобы он служил тебе и стал членом Круглого Стола.
— Почему же отец не научил его всему этому? — надменно и гневно спросил ее один из вождей. — Рожден ли он в согласии с нашим законом или же тот, кто его породил, — одна из бесчисленных жертв, навсегда сгинувших в твоем волчьем логове? Этот вопрос не должен смутить тебя, раз ты пришла сюда прилюдно похваляться своими преступлениями — как если бы стояла над законом. Но берегись — хотя бы ты и была королевской крови. Никто в Логрисе, даже король, не стоит выше закона — так постановили Мерлин и члены Круглого Стола.
Артур взялся было за рукоять меча, но Мерлин удержал его и подошел к Моргане и Мордреду. И обратился к тому, кто только что говорил:
— Отец Мордреда и Моргана были связаны узами родства, если это известие может успокоить твою потревоженную добродетель. Я самолично пожелал разрушить эти узы и осудить этого человека на вечное забвение. Это означает, что его имя не будет произнесено. Тебе придется удовольствоваться тем, что сказано. Что же до того, что ты сказал о законе Логриса, — это вполне справедливо, и ты прав, пусть ты и кажешься мне взбесившимся псом, который вдруг набрасывается на своих хозяев. Вот мое решение. Мордред будет принят при дворе, с ним обойдутся в соответствии с его положением и воспитают так, как хочет его мать. И он станет впоследствии пэром Круглого Стола, если окажется достойным этого. Ты, Моргана, навсегда отправишься в изгнание. Я даю тебе Авалон. Отныне этот остров не является более частью Логриса, но переходит в твое полное владение и будет подвластен лишь твоему закону. Таким образом ты будешь защищена от правосудия Логриса, потому как не следует допускать, чтобы с сестрой короля обходились как с простой преступницей, а Логрис будет избавлен от твоих злодеяний и от позора, который ты навлекаешь на него. Но у тебя не будет больше права покидать это место, под страхом немедленной смерти без суда, потому что, когда ты, движимая дерзновенным и греховным желанием, приняла на себя одну всю ответственность за совершенные тобой дела, ты уже сама вынесла себе приговор.
— Я принимаю твое решение, — сказала Моргана.
— Да будет так, — сказал Артур.
После этого он внезапно встал и вышел вон.
В эту ночь Артур покинул ложе Гвиневеры. Оседлав лошадь, он поскакал в Иску, где Моргана, не желавшая останавливаться в Кардуэльском замке даже на краткое время пребывания в Логрисе, вновь увиделась со своими бывшими подданными, которые встретили ее с ликованием. Войдя в спальные покои и заметив, что она возлежит на триклинии перед столом, он застыл на месте, не сводя с нее глаз и словно заново переживая мгновение первого своего визита, тринадцать лет назад. Он зарыдал безудержно, не стыдясь слез, в которых словно бы растворилась броня, выкованная из сплава могучих чувств — властного долга, свирепой решимости и неутоленной горечи. В одно мгновение исчезла исполненная тоски и безнадежного ожидания вечность. Перед ним была Моргана — и женщина казалась еще более прекрасной, еще более желанной, чем девушка. Она тоже рассматривала его. Артур изменился. Он был все так же красив лицом, хотя черты его несколько посуровели под бременем государственных забот и какой-то тайной печали. Он утратил ту юношескую гибкость, что была у него в начале царствия, и теперь его более тяжелые и спокойные движения рождали ощущение громадной и укрощенной силы. Исходившие от него благородство и властность не имели себе равных. Он был добр и милостив с простыми людьми, сдержан со знатью. Народ боготворил его, вельможи — боялись, но не переставали любить. В сражении с саксами при Бадоне он совершил подвиги, затмившие деяния Утера и короля Уэльса, которые до него считались величайшими воинами западного мира. Он обрел там славу непобедимого вождя. При жизни и еще совсем молодым он стал легендой. Увидев его слезы, Моргана ощутила смятение и нежность — чувство, неведомое ей прежде. Она встала и подошла к нему. Он опустился на колени и прижался головой к ее животу, крепко обхватив бедра руками.
До самого утра они любили друг друга, получив такое наслаждение, какого не испытывали никогда и которое им не суждено было испытать вновь. На рассвете Артур ушел. За всю ночь ни один из них не произнес ни единого слова.
Моргана разглядывала библиотеку Мерлина, которая не изменилась со времен ее детства: каждый свиток, каждая книга, каждый инструмент напоминали ей о счастливых мгновениях приобщения к науке и бесед с наставником.
— Отныне она твоя, — послышался голос за ее спиной.
В залу вошел Мерлин.
— Я отдаю ее тебе, — сказал он. — Ты увезешь ее в Авалон. Мне она больше не понадобится, поскольку я тоже намерен покинуть двор и Логрис. Но мое изгнание будет добровольным. Я поселюсь в Дольнем лесу, недалеко от тебя, недалеко от твоего острова, которые вместе составляют, как ты, наверное, помнишь, пустынное, проклятое и священное место — убежище для человека, утомленного властью, философа-скептика, который превыше всего ценит мир и одиночество. И это также убежище для мятежной принцессы. Таким образом нас, хотя и разделенных опасным проливом и двумя несхожими изгнаниями, которые ни в чем друг с другом не согласуются и между которыми не может быть примирения, все же соединит суеверие мира, рассудок и любовь.
— Я благодарна тебе за Авалон, Мерлин. Ты не забыл о моем желании, высказанном на судне, которое уносило нас в Беноик, и позднее, в моем Дольнем замке. Но твой последний дар я принять не могу. Эта библиотека — самое ценное, что только есть в мире. Она дороже всех островов и всех королевств: расстаться с ней — худшая из потерь, как если отсечь частицу самого себя, ведь это подпора не для тела, а для рассудка.
— Истинный философ в конце концов должен научиться ходить без костылей, какими бы они ни были, — с улыбкой возразил Мерлин. — Эта великая подпора больше не нужна мне, ибо отныне я буду изучать только жизнь дикой природы, пользуясь единственным инструментом — моим рассудком, умозрительным и свободным. Я перестану говорить, читать, записывать. Изо дня в день я буду лишь учиться запоминать то, что само западет в память, и верить, что не запавшее мне в память было недостойно запоминания. Поэтому прими без колебаний эту подпору, которой ты всегда пользовалась гораздо лучше меня. Не я оказываю тебе услугу, но ты мне.
— В таком случаю, я принимаю твой дар, прекраснейший и величайший из всех даров, который когда-либо один человек предлагал другому.
Моргана на мгновение умолкла. Затем произнесла:
— Мерлин, когда все будет кончено, когда Стол будет разрушен, когда погибнет Логрис и Артур останется нагим и одиноким, пусть он приезжает в Авалон. Я приму его и буду любить. Скажи это ему.
— В этом «когда» заключена вся твоя гордость, Моргана. Я заменю «когда» на «если», иными словами, превращу уверенность в возможность, а возможность — в маловероятное предположение.
— Пустая игра слов, за которой ничего не стоит, раз ты уходишь. Но это не имеет значения. Ты скажешь ему?
— Да. А если он погибнет в борьбе?
— Привези мне его тело, если сам будешь жив.
— Я сделаю это.
Моргана собрала своих подданных из Иски и Кардуэла — всех, кто пожелал сопровождать ее в новое изгнание в Авалон. Их набралось около тысячи мужчин, женщин и детей: среди них были вожди и воины, ремесленники и крестьяне, ученые мужи и невежды, работники и слуги, свободные и рабы, — некоторые отправлялись в путь налегке, другие решились взять с собой всю семью. Моргана отправила в Арморику двух гонцов: одного в Долину Откуда Нет Возврата, чтобы тот передал Бондуке распоряжение обеспечить перевозку людей и имущества из Броселианда в порт Беноик; второго к королю Бану, чтобы попросить у того суда, необходимые для переправки ее подданных в Авалон.
Для путешествия Морганы Артур и Мерлин сами снарядили в порту Кардуэл большую часть логрского флота. Трюмы галер были забиты до отказа: помимо роскошных и многочисленных вещей принцессы, спутники ее, которые уже не надеялись вернуться, захватили с собой припасы, семена, скот, домашнюю утварь, оружие, одежду — все, кроме стен своих домов. Кроме того, на борт погрузили громадное количество всевозможных материалов — камни, дерево, железо — с целью сразу же начать на острове строительство. Так, были здесь уже обтесанные каменные плиты для возведения дворца. Порт был настолько загроможден богатыми и жалкими пожитками участников этого исхода, что, невзирая на множество судов, предполагалось сделать несколько ходок туда и обратно.
Моргана, появившись на корме командной галеры, дала сигнал к отплытию. Толпа на берегу разразилась оглушительными рукоплесканиями. Три ряда весел с безупречной согласованностью опустились в воду, и галера направилась к выходу из порта. За ней двинулись остальные, взяв курс на запад, к Ибернийскому морю и в открытый океан. Так Моргана отправилась в вечное изгнание — и вступила в третью свою жизнь. Из трех отдаленных друг от друга окон замка Мерлин, Артур и Мордред, словно разделенные разными чувствами к ней, среди которых, однако же, преобладала любовь, следили за тем, как она постепенно удаляется от них — навсегда.
— Настало время, — сказал Мерлин Артуру, — мне расстаться с моим созданием и узнать таким образом, прочно оно или недолговечно, сможет ли оно жить само по себе или же зависит от воли и убеждения одного человека — как утверждал Утер. Итак, я оставляю тебя одного в твоем мире, который я отныне не считаю больше своим. В жилах живого дерева Круглого Стола текут новые соки. Ты старейший из его пэров, и тебе чуть больше тридцати. Ты разбил саксов. Горра в страхе просит мира, зная, что близок тот час, когда ты завоюешь его. Твой племянник Гавейн, отдавший тебе доставшуюся ему от Лота Орканию, держит под постоянной угрозой пиктов. Ты должен покорить их и укрепить свои владения на севере. Логрис — это светоч запада, горящий во мраке варварства, к которому обращаются все страждущие от насилия и произвола. Моргана — милый твоему сердцу злой гений — в изгнании. У тебя остаются всего два опасных врага: твои собственные страсти и Мордред. Но их обоих ты можешь сделать своими союзниками. Потому что страсти рождают как уныние — видящее повсюду лишь суету сует пустого тщеславия, которое сокрушает душу и сковывает тело, — так и действие, преобразующее мир. Что касается Мордреда, то если он сделается честолюбивым и потребует власти и почестей — в силу вашего тайного родства, поскольку ему известно, что он твой сын, — сделай так, чтобы он погиб. Но дай ему власть и почести — если он не хочет ничего для себя. Опасайся также его чрезмерной добродетели. Потому что всякому делу, каково бы оно ни было, угрожает предательство либо фанатичная преданность, и я не знаю, какое из этих двух зол Моргана решила использовать в Логрисе, чтобы разрушить его. Я же уеду далеко отсюда, в место уединенное и безлюдное, где ты не сможешь отыскать меня. Там я предамся наукам, созерцанию и праздности — трем добродетелям философа. Я живу на земле величайшего одиночества — не только из-за предания о моем чудесном рождении, которое с первого же дня моей жизни отделило меня от прочих людей, но еще и потому, что я пришел из мира, который всеми силами помогал уничтожить и память о котором не дает мне покоя, заставляя страдать; в новом же мире, который я сам выдумал, я чувствую себя чужаком. После смерти Утера у меня оставалось только две любви и две родственные души на этом свете: Моргана, которая сама решила порвать с миром и обрекла себя на изгнание, и ты, чья судьба требует от меня перестать опекать тебя и удалиться. Так — в дополнение к предсказанию Блэза, говорившего, что я рожден из хаоса, чтобы победить хаос, — я вернусь в хаос. В хаос природы, неподвижного вещества и жизни без цели. Я уйду в забвение, по ту сторону добра и зла, и там примирюсь с самим собой. Но в чувствах и в помыслах моих я всегда буду с тобой, Артур, — до конца.
Авалон (491–544)
Стоя в одиночестве на окружавшей Авалон гранитной скале, Моргана разглядывала свое королевство. Остров почти правильной овальной формы, простиравшийся на шесть миль с востока на запад и на четыре с севера на юг, походил на крепость, построенную титанами. Скала — колоссальное, созданное самой природой укрепление, чья плоская вершина образовала огромный дозорный путь над океаном, на высоте в сто пятьдесят футов, — представляла собой вертикальную и почти гладкую стену. Лишь кое-где были видны присущие граниту выемки и трещины, в которых гнездились морские птицы. С северо-западной стороны, откуда налетали самые сильные ветры и вздымались волны, рожденные в неведомых глубинах безбрежного океана, море ярилось даже в штиль, вскипая бурунами на отмелях и безуспешно пытаясь прорваться сквозь стену, преграждавшую ему путь. А в штормовую погоду чудовищные валы свирепо таранили бесстрастный гранит гигантского оборонительного фасада: неудержимая лавина вступала в великолепную и ужасающую схватку с неприступной крепостью: море сражалось со скалой так, что пенистые брызги проливались дождем на вершине и солоноватые капли оседали на почве вплоть до находившихся в самом низу земель. За выступом высотой в несколько десятков футов начинался пологий спуск к срединной плодородной долине, где в изобилии росли деревья и злаковые растения, орошаемые многочисленными ручьями, которые брали начало в источниках на склонах. Во всей стене окружностью более шестнадцати миль зияла лишь одна брешь: оползень посреди южной стороны создал в выемке гранитной скалы тихую бухточку с песчаным берегом, куда только и могли заходить суда, не рискуя сесть на мель или наскочить на риф, тогда как разлом в самой скале представлял собой глубокое ущелье — единственный проход к внутренним угодьям, постепенно сужавшийся книзу и образовавший, благодаря неровностям склона, некое подобие хаотической лестницы, особенно опасной наверху. Именно этим путем прошла Моргана, желая охватить взором сразу весь остров. Через это ущелье сбрасывались в бухту излишки воды из ручьев, слившихся в единую реку, которая пробила себе русло в граните. В бухте сейчас происходила разгрузка галер из флотилий Артура и Бана: разбившись на группы по десять, суда подходили к берегу, а затем налегке отправлялись в Логрис или в Беноик за новым грузом, тогда как их место занимали те, что ожидали своей очереди в открытом море. Моргана следила, как похожие на муравьев люди суетятся на пятидесяти триремах Артура и двадцати галерах Бана, на песчаном пляже и в ущелье — вплоть до южных ступенек, ведущих к внутренним землям, где ее подданные из Долины Откуда Нет Возврата разбивали временный лагерь. Около пятисот человек, многим из которых пришлось преодолеть священный страх перед Авалоном, высадились на берегу прежде Морганы, и, когда та ступила на остров, Бондука вышла вперед со словами:
— Добро пожаловать в свои владения, королева Моргана.
У повелительницы Авалона оказалось примерно полторы тысячи подданных: шестьсот мужчин, из них половина — воины, столько же женщин и триста детей. Здесь были все сословия — от аристократа до раба. Имелись также представители всех ремесел. Но сейчас каждый из переселенцев превратился в грузчика: с помощью матросов они выгружали на берег привезенное из Логриса и из Беноика имущество — будь то личное, общинное или королевское. Моргана перевела взор к открытому морю, на запад, где громадный солнечный диск медленно опускался в прозрачном небе за далекую линию горизонта, прочертив на воде между собой и королевой подрагивающую, неясную полоску света, которая усеяла золотыми бликами стену Авалона. И она увидела, как возникшая с севера, в нескольких милях отсюда, галера пересекла эту сверкающую дорогу, а на корме появилась высокая фигура человека, которого она мгновенно и с содроганием узнала: он стоял, повернувшись к острову, и его черный силуэт четко вырисовывался на ослепительном фоне волн. Галера двигалась прямо к тому месту на побережье Беноика, откуда за песчаным берегом Треба начинался Дольний лес. Моргана не сводила с нее печального взора, пока она не скрылась в тени прибрежных рифов. Надвигавшийся с востока мрак постепенно охватывал Авалон, и лишь запад еще светился оранжевым ореолом исчезнувшего солнца. Разгрузочные работы прекратились из-за темноты. Двадцать опустевших галер остались на якоре в бухте. Перед выходом из ущелья, на расчищенной и выровненной для временного лагеря площадке зажигались костры, слышались песни и смех. У южной линии горизонта, словно светоносное эхо, появились огоньки другого лагеря, разбитого на побережье Беноика. Моргана вздрогнула и обернулась, почувствовав чье-то присутствие. Перед ней стояла Бондука с одеялами в руках. Ссадины и царапины показывали, что во время подъема она несколько раз падала.
— Королева Моргана, — сказала она, — в сумраке спускаться опасно. Придется провести ночь здесь.
Моргана сжала ее в объятиях. Такие проявления чистой любви случались очень редко, и Бондука пришла в восторженное смятение. Обе женщины улеглись под выступающей скалой и, крепко обнявшись, чтобы согреть теплом другого тела окоченевшую в океанской ночи плоть и оцепеневшую в одиночестве душу, заснули: Моргана — в тоске утраты, Бондука — в блаженстве обожания.
На следующее утро, как только солнце поднялось достаточно высоко, чтобы осветить западный склон оползня, Моргана в сопровождении Бондуки спустилась вниз по ущелью и впервые оказалась на внутренних землях. Сразу же за бесплодным гранитом скалы начинались плодородные почвы, где во множестве произрастали самые разнообразные деревья, среди которых больше всего было яблонь. Через разлом можно было разглядеть их первые ряды с песчаного берега и даже из открытого моря, о чем всегда рассказывали моряки, которым доводилось проходить мимо острова, куда высаживаться они не смели и лишь боязливо поглядывали на брешь в стене, скрывавшей тайну этого священного и проклятого места. Поэтому и получил Авалон имя Insula Pomorum, или Остров Плодов. Отдав последние распоряжения по устройству лагеря, Моргана удалилась в свой шатер, поставленный в стороне от других: он был очень просторным, а убранство его роскошью и удобством могло потягаться с дворцом. В это же убежище снесли и всю библиотеку Морганы, заботливо упакованную в сундуки.
К середине дня завершилась разгрузка оставшихся двадцати галер Артура, и они вышли в море, взяв курс на Логрис, а вслед за ними корабли Бана отправились в порт Беноик за сложенным на причале последним имуществом обитателей Долины Откуда Нет Возврата. И вплоть до следующего дня море оставалось пустынным. Затем вновь появились галеры Артура: их разгружали в первую очередь, и в течение нескольких дней вся логрская флотилия из пятидесяти судов, отданных в распоряжение переселенцев, непрерывно курсировала между Кардуэлом и Авалоном, куда в несметных количествах перевозились обтесанные камни, дерево и металл, необходимые для строительства королевской резиденции Морганы, которая должна была превзойти дворцы Иски и Долины, чтобы вместить сокровища обоих. Все эти материалы загромождали песчаный берег, ущелье и даже окрестности лагеря. Когда последние частички будущего дворца оказались на берегу, в бухте стояло десять галер, в том числе и командная. Моргана, вызвав к себе командира флотилии, сказала ему:
— Переведи всех моряков на пять своих кораблей. Пять других, в том числе и твой, я оставлю себе для моих собственных надобностей.
— Я не могу это сделать без разрешения короля. У меня нет полномочий…
— Зато они есть у меня, и советую тебе не оспаривать их, если ты дорожишь своей головой. Эти корабли нужны мне для того, чтобы Авалон мог торговать с другими странами и для спасения жителей его в случае опасности. Я дам тебе послание к Артуру, которое освободит тебя от ответственности.
Командир поклонился, и вскоре половина флотилии, где разместились экипажи всех десяти судов и гребцы-каторжники, навсегда покинула побережье острова. В укрытой от ветров бухте осталось пять трирем: каждая из них могла принять на борт триста человек — моряков, гребцов и пассажиров. Так Авалон обзавелся торговым флотом, который в случае нужды мог стать военным, ибо все галеры были боевыми судами.
Моргана решила сразу же обследовать Авалон и составить его полное описание. Она собрала отряд из геометров, архитекторов, землемеров и строителей, назначив «смотрителя вод» и «смотрителя дорог», которым было поручено определить водные запасы острова и возможности для создания системы стоков и дорог. По ее приказу отряд должны были сопровождать земледельцы — для оценки качества земель, а также тридцать воинов — для защиты от возможных нападений зверей или людей и для расчистки дороги в девственном лесу. Она сама возглавила экспедицию, намереваясь установить все разновидности дикой фауны и флоры, ибо никто не мог сравниться с ней познаниями в этих областях.
Совсем немного отойдя от ущелья, они обнаружили тропинку, бежавшую между деревьями и ведущую на север. Когда они прошли по ней две мили, перед ними открылась большая поляна, которая, вероятно, находилась в самой середине острова. Там стояла приземистая грубая хижина, сложенная из обмазанных глиной кольев и более всего напоминавшая жилище отшельника. Они увидели, как в подлесок метнулась какая-то тень, и Моргана приказала двум воинам схватить беглеца. Они вскоре вернулись, волоча бесформенное существо в лохмотьях, которое вырывалось и выкрикивало проклятия. Его бросили к ногам Морганы, и та с омерзением, не лишенным ужаса, признала в нем женщину, чья безобразная немощь была вызвана либо преждевременным увяданием из-за болезни и нужды, либо невероятно дряхлым возрастом. Лысое темя цвета слоновой кости, усеянное коричневыми пятнами, обрамляли жалкие прядки длинных, белесовато-желтых волос. Изборожденное глубокими дряблыми морщинами лицо утратило свои черты, превратившись в отечную маску омерзительно красного цвета, гноящиеся глаза почти исчезли за опухшими веками, из-за полуоткрытых губ виднелись беззубые, ссохшиеся десны. Ее хилое согбенное тело едва прикрывал драный плащ, и сквозь дыры проглядывала ужасающая кожа, ниспадавшая складками, как у наполовину опустевшего мешка, изъеденная язвами и запачканная нечистотами, — пергаментная бесплотная оболочка с волосяными пучками, напоминавшими сорняки на заброшенном поле. Моргана, увидев сотворенное жестоким временем злодейство, почти задохнулась от ненависти и отчаяния — это был яростный протест души и тела, неизбежное следствие выстраданного и осознанного мятежа. И, будучи не в силах истребить само время, она почувствовала искушение уничтожить ту, что была одновременно и жертвой его, и красноречивым воплощением. Но ей удалось совладать с собой.
— Кто ты? — спросила она старуху.
— А ты кто? И как посмела ты нарушить священные запреты? Вторгнуться на мои земли?
— Отвечай королеве Моргане, когда она тебя спрашивает, вонючая тварь! — сказал один из воинов, замахнувшись мечом.
Моргана жестом остановила его. Старуха смотрела на нее во все глаза.
— Ты красива, королева Моргана, — прошамкала она. — Нет тебе равных, не было прежде и никогда не будет. Я хранительница острова, колдунья и жрица Авалона. Если ты пришла занять мое место, тебе я его уступлю.
Она вглядывалась в лицо Морганы. Внезапно лицо ее сморщилось, и изо рта вылетел отвратительный квохчущий звук. Она смеялась.
— Займи мое место, — произнесла она. — Ты будешь хранительницей острова… после меня. После… много лет спустя… ты будешь такой, как я… как я!
С этими словами старуха осела на землю. Моргана ногой развернула ее. Она была мертва. Моргана долго, в молчании, смотрела на нее, словно желая проникнуться ужасной тайной времени. Наконец она сказала:
— Похороните ее прямо здесь. На месте ее дворца я возведу свой. Отныне я королева Авалона не волей Мерлина, а по праву законной наследницы.
В последующие годы все свое время и необыкновенные способности Моргана использовала на то, чтобы разумным образом обустроить Авалон. Землемеры подтвердили ее первоначальные оценки, установив точные размеры острова: длиной он был ровно в шесть миль с востока на запад, шириной в четыре мили с севера на юг и окружностью в шестнадцать миль. Площадь его равнялась двадцати тысячам югеров: бесплодный гранитный пояс занимал пятую часть, следовательно, оставалось целых шестнадцать тысяч югеров пригодной для обработки и необычайно плодородной земли, которая могла бы прокормить в десять раз больше людей, чем поселилось на острове. Полям и скоту ничто не угрожало, поскольку здесь не было никакой дикой фауны — только морские птицы, гнездившиеся на внешней стороне скалы.
Работы начались сразу по возвращении экспедиции, исследовавшей внутренние земли, в начале осени 491 года. Моргана велела проложить широкую и прямую дорогу между ущельем и срединной поляной, затем расширить и выровнять саму поляну, с тем чтобы приступить к возведению дворца. Она приказала сколотить как можно больше повозок, куда впрягали лошадей или быков, и перевезти все необходимые материалы, которые были сложены огромной грудой возле песчаного берега. Она хотела, чтобы дворец был построен до наступления холодов, и тогда ее подданные смогли бы разместиться в гораздо более удобном и надежном месте, чем лагерь из полотняных шатров. Это было вполне возможно, учитывая громадные размеры здания: его обращенный на юг фасад длиной в тысячу футов должен был иметь три этажа высотой в шестьдесят футов и коньковую крышу в триста футов. И, поскольку все детали будущего дворца были заранее подготовлены в Логрисе — камень к камню, доска к доске, черепица к черепице, а на месте оставалось лишь заложить фундамент, замесить известковый раствор и скрепить отдельные части, строительство завершилось к середине осени, задолго до предусмотренного срока. Это был самый красивый и самый большой дворец, какой когда-либо видели в Британии или в Арморике. Все население острова поместилось там, хотя поначалу пришлось занять и королевские покои — Моргана оставила себе только просторный библиотечный зал, где она ела, спала и трудилась.
С конца осени и всю зиму люди по ее распоряжению занимались расчисткой острова, подготовкой полей и рытьем ирригационных каналов — эти жизненно важные работы необходимо было закончить до наступления весны и посева яровых. Все земли, расположенные к северу от дворца и составлявшие восемь тысяч югеров или половину полезной площади, оставили под лесом, который основательно расчистили, сохранив пригодные для обработки породы и выкорчевав все остальное. В результате каждое из уцелевших деревьев получило столько света и пространства, что смогло разрастись во всей мощи и великолепии. Четыре тысячи югеров в юго-западной части были предназначены для злаковых полей, огородов, виноградников и фруктовых садов. Равная площадь на юго-востоке была отведена под луговые травы для животноводческих ферм. На межевой черте между полями оставили много деревьев, чтобы укрепить почву и не допустить осыпей, ибо весь остров имел небольшой уклон с севера на юг, что способствовало циркуляции воды в каналах и сбросу ее в реку, протекавшую по ущелью и впадавшую в южную бухту.
После расчистки северного участка и корчевки южного осталось великое множество срубленных деревьев, которым Моргана нашла тройное применение, сделав запас стволов для ремесленной обработки, дров для обогрева и древесного угля, полученного при обжиге веток. Плотницкий материал и топливо оказались в таком изобилии, что обеспечили все потребности острова на много лет вперед. Равным образом, привезенной из Долины Откуда Нет Возврата провизии вполне хватило бы, чтобы дождаться первых урожаев, не испытывая ни в чем нужды.
Когда к концу зимы эти работы были закончены, земледельцы и скотоводы приступили к своим трудам, а все прочие подданные Морганы обратились в строителей. На внутренних склонах скалы — южном, западном и восточном — появились открытые карьеры по добыче камня, расположенные рядом с площадками для будущих построек. На юге, в непосредственной близости от ущелья, возвели громадное строение со многими мастерскими — кузнечными, оружейными, пильными, плотницкими и столярными, волочильными и дубильными… Вокруг мастерских возникла первая деревня, где обитали мастера, подмастерья и работники — все со своими семьями. На западе построили ферму и деревню для земледельцев, на востоке — еще одну ферму и деревню для скотоводов. По мере того как заселялись деревни, дворец пустел, и наконец в нем остались только слуги королевы, смотрители общественных служб — вод, дорог и счетов, учителя школы, разместившейся в восточном крыле, и большая часть воинов, главный пост которых находился именно здесь. Командовали ими трое: один отвечал за людей, второй — за боевые орудия, третий — за галеры. За правосудие и целительство никто не отвечал, ибо, как и в Долине Откуда Нет Возврата, только одной Моргане принадлежало право судить и врачевать, казнить и спасать.
Через поля, луга и леса вели многочисленные тропинки, проложенные по мере необходимости — для удобства тех, кто ими часто пользовался. Но Моргана, желая соединить мастерские, фермы и деревни с дворцом, велела построить по римскому образцу три большие и прямые дороги — южную, восточную и западную. Они образовали греческую букву тау, перекладиной которой служил дворец, окруженный четырехугольником собственной дороги, куда вливались три другие. Каждая из них была шириной в двадцать футов. Сначала почву срыли вплоть до гранита, который залили известковым раствором, образовав подушку или основание дороги. Сверху уложили бут из довольно крупных камней, также залитых известковым раствором, затем создали сердцевину из мелкой гранитной крошки, песка и извести, наконец, внешнее, или выпуклое, покрытие из тщательно обтесанных и пригнанных друг к другу гранитных плиток. Слегка изогнутым это покрытие делали для того, чтобы на дороге не скапливалась влага, а по обеим сторонам были проложены желобки на случай сильного дождя: вода, которую земля была уже не способна впитать, струилась по ним в ущелье и изливалась в бухту, как это происходило с переполненными каналами, берущими начало из источников.
Для снабжения дворца питьевой водой Моргана выбрала один из этих источников — самый верхний, возникший из гранитной трещины на северной скале. Она сама сделала чертежи и возглавила строительство акведука, который забирал воду из этого источника и, на высоте в пятьдесят футов над землей, отводил через лес к резервуару, откуда ее доставляли на все этажи здания.
Таким образом, внутренние земли острова были полностью обустроены. Поля, сады и виноградники приносили обильный урожай, скот плодился и размножался, мастерские после очень напряженной в связи с этим обустройством работы стали производить товары сообразно уменьшившимся потребностями острова: отныне ремесленников заботило не количество, но лишь качество изделий и усовершенствование приемов труда. Ее мастера достигли в некоторых областях непревзойденного искусства. Например, Моргана, руководствуясь сделанными Архимедом во время осады Сиракуз заметками, измерениями и чертежами, а также найденным в библиотеке Мерлина трактатом Филона Византийского, нарисовала военные и осадные машины, тяжелые метательные орудия, мощь которых и точность стрельбы ей удалось, благодаря своей гениальности, многократно увеличить. В сооружении этих машин принимали участие ремесленники сразу нескольких отделений мастерской — кузнецы, оружейники, столяры и плотники, волочильщики канатов и дубильщики кож. Чтобы добиться предусмотренных Морганой улучшений, они с неукоснительной точностью применяли сделанные ею расчеты веса и расстояния к имеющимся у них материалам и инструментам. В скором времени мастерская Авалона стала производить орудия еще невиданной прочности и мощи: катапульты и онагры метали более тяжелые снаряды точнее и дальше, чем прежде; баллисты и скорпионы метко поражали цель с дистанции, превышавшей обычное расстояние в три или четыре раза…
Видя, сколь изобильны запасы съестного на острове и как велико превосходство его в вооружении, а также в качестве всех изделий мастерской, которая могла производить в несколько раз больше товаров, чем требовалось Авалону, учитывая равным образом, что человек с зари времен более всего жаждет есть и убивать, сознавая, наконец, что на этом маленьком клочке суши нет полезных ископаемых, Моргана задумалась о своих отношениях с внешним миром, что привело ее к двум выводам — острову следовало вести торговлю и готовиться к войне. Для строителя по духу это означало создание портовых и оборонительных сооружений.
Она начала с обустройства бухты, приказав перегородить ее дамбой, идущей от западной скалы к восточной, где был оставлен узкий проход, через который в порт могла войти только одна галера. Основу дамбы составила выступающая из воды огромная груда гранитных плит, куда затем сложили плотными рядами обтесанные камни и залили их известковым раствором. Дамба длиной в пятьсот и шириной в тридцать футов даже в прилив возвышалась над водой на пятьдесят футов и была способна защитить остров от самых страшных штормовых волн, которые, впрочем, никогда не надвигались прямо с юга и лобового удара не наносили. Затем Моргана велела возвести на берегу пристань и дебаркадеры, образовавшие вместе с дамбой границы портовой гавани — более пятисот футов с востока на запад и триста футов с севера на юг. Ее флотилия из пяти трирем разместилась здесь превосходно. На утоптанной площадке перед портом и вплоть до входа в ущелье Моргана распорядилась построить склады для приема и отправки товаров, а также рыболовные причалы. По ее приказу мастерская приступила к изготовлению рыбачьих лодок, ибо она желала увеличить запасы продовольствия, добавив к плодам земледелия и скотоводства дары моря — рыбу, моллюсков и ракообразных.
Потом она занялась оборонительными сооружениями, которые должны были сделать остров, представлявший по природе своей самую мощную крепость всего западного мира, совершенно неприступным. Ущелье размером в сто пятьдесят футов внизу и в двести пятьдесят наверху, было глубиной в сто тридцать футов, и его основание находилось примерно в двадцати футах над уровнем моря. Моргана приказала закрыть вход громадной стеной из огромных гранитных плит — тщательно вытесанных, подогнанных друг к другу и скрепленных между собой особо надежным известковым раствором. Стена была толщиной в двадцать футов. На ее вершине был проложен дозорный путь, соединявшийся с дозорным путем скалы. Внизу она имела два отверстия: одно — с низким сводом и забранное крепкой решеткой, через которую воды реки сбрасывались в портовую гавань; второе — квадратное, высотой и шириной в пятьдесят футов, предназначенное для монументальных ворот. Их сделали двухстворчатыми — каждая створка толщиной в три фута, высотой в пятьдесят и шириной в двадцать пять. Они были дубовыми, с железными поперечинами, и весили четыреста тысяч фунтов. Чтобы подвесить их на десять огромных петель, замурованных с каждой стороны стены, пришлось построить мощные подъемные машины. По завершении этой работы все убедились, что закрытые створки идеально прилегают друг к другу, а ворота в целом — к квадратному отверстию. Моргана изобрела механизм, состоявший из вбитых в каждую створку крюков и соединявшей их цепи, которая прикреплялась к рычагу — его мог без усилий поворачивать один мужчина или даже ребенок. Таким образом, изнутри эти ворота открывались со смехотворной легкостью, тогда как снаружи их не смог бы даже поколебать самый мощный из существующих осадных таранов. К внутренней стороне стены были пристроены две широкие деревянные лестницы, чтобы обеспечить быстрый и удобный доступ к дозорному пути и вершине скалы. Наконец, Моргана усилила оборону острова, обустроив и сами природные укрепления Авалона окружностью в шестнадцать миль. В принципе, к острову можно было подобраться только в одной точке — через южную бухту. Везде волны бились о вертикальную стену, прорываясь сквозь рифы, куда не рискнул бы заплыть ни один корабль. А если бы какой-нибудь из них и отважился, то нападавшим пришлось бы, стоя на уходящей из-под ног палубе галеры, которая в любой момент могла налететь на скалу или риф, поднимать лестницы или закидывать крюки с веревками на вершину высотой в сто пятьдесят футов, а затем карабкаться наверх в полном вооружении, затрудняющем подъем. Все это в совокупности делало невозможным штурм в любом месте, кроме ущелья. Тем не менее Моргана приказала расчистить и выровнять верхушку скалы, расширив дозорный путь до ста футов, чтобы по нему могли проехать поставленные на колеса тяжелые боевые машины, которые, таким образом, легко перемещались туда, где в них возникала необходимость. Она также велела построить на этом пути пять боевых постов: по одному на восточной, северной, западной стене и два — на южной, по обе стороны ущелья. В каждом караульном помещении размещались метательные орудия, запас снарядов к ним и гарнизон из двадцати воинов, которые должны были постоянно наблюдать за морем во всех направлениях. Эти сто человек, составлявшие треть армии Авалона, несли караульную службу на скале в течение трех дней, затем их сменяла другая сотня, а они возвращались во дворец.
Теперь, почувствовав свою позицию неуязвимой, Моргана была готова возобновить отношения с внешним миром. В скором времени ее торговля начала процветать. Она обменивалась товарами не только с Британией и Арморикой, но и со всем бурлящим западным миром, который больше всего жаждал получить ее несравненные военные машины: с Галлией франка Хлодвига, с Италией остгота Теодориха, недавно победившего герула Одоакра — завоевателя Рима, с Испанией вестготов, а также с Восточной Римской империей со столицей в Константинополе. Она продавала зерно, вино, скот, тяжелое и легкое вооружение, кожу и шерсть, роскошную мебель и изысканные ювелирные украшения. Покупала она железо и все металлы от олова до золота, строительный камень — известняк и мрамор — для замены гранита из собственных карьеров там, где его нельзя было использовать, пеньку для мастерской, льняную ткань для одежды и убранства, даже шелк с Дальнего Востока, поступавший из Константинополя и предназначенный лишь для нее одной, наконец, те редкие продукты, которых не было в Авалоне, — оливковое масло и пряности. И, поскольку вывозимые ею товары ценились намного дороже привозных, остров благоденствовал и ее подданные ни в чем не знали нужды. В порту всегда царило большое оживление, но предосторожности ради чужеземные галеры впускали туда лишь по одной, сами же сделки совершались за воротами, в которые не дозволялось входить никому из приезжих. Почти вся торговля происходила именно таким образом, но иногда — изредка — Моргана отправляла в море и свои галеры.
А вскоре, как она и предполагала, ей довелось изведать также опыт войны.
Поскольку на острове одних товаров было в избытке, тогда как других недоставало, Моргане почти сразу пришлось задуматься о своих отношениях с внешним миром — именно поэтому она предприняла гигантские работы по строительству оборонительных сооружений. Еще одной причиной стала война, которую Клаудас, владыка Пустынной Земли, могучего королевства на юге Арморики, в 493 году объявил Бану Беноикскому и его брату Богорту Гонскому. Армия Клаудаса числом и мощью превосходила объединенные войска Бана и Богорта, и, несмотря на совершенные ими в сражениях подвиги, неприятель постепенно захватывал их земли. Они послали вестников к Артуру, но тот вел ожесточенную войну против своих последних врагов — каледонцев из Горры и пиктов. Бок о бок с ним сражались племянник Гавейн и четырнадцатилетний Мордред, который уже выказал необычайные способности воина и стратега, сочетавшиеся с безраздельной преданностью Круглому Столу. Итак, Артур не сумел помочь своим союзникам. В середине 496 года Бан с несколькими соратниками был осажден в крепости Треб, а Богорт с остатками своей армии отступил к западной оконечности Арморики, упиравшейся в океан, откуда стал совершать свирепые набеги на захватчиков, в течение долгого времени оказывая сопротивление Клаудасу. Незадолго до этого Моргана завершила строительство последних оборонительных сооружений и создала пять караульных постов на дозорном пути вдоль скалы, окружавшей весь остров.
Однажды ночью Бондука разбудила ее и сказала, что караульные южного поста прислали гонца, который просит, чтобы она срочно прибыла к воротам Авалона. Отправившись туда верхом, Моргана поднялась на дозорный путь. Вдали виднелось яркое пламя, которое отбрасывало на море неясные и жуткие длинные отблески. Треб полыхал, словно факел. Моргана немедля распорядилась привести остров в состояние полной боевой готовности. Из караульных помещений доставили военные машины, тяжелые метательные снаряды, баллисты и катапульты со всем их снаряжением. Триста воинов регулярной армии выстроились на дозорных путях вдоль стены и южной скалы над воротами, вскоре к ним присоединились шестьсот добровольцев, обучившихся владеть оружием, и резервный отряд, состоявший из остальных мужчин и такого же количества приведенных Бондукой женщин — не меньше половины из тех, что населяли Авалон. Все они в тревожном молчании стали ждать рассвета.
Наконец солнце осветило небо, море и побережье Беноика, поглотив зарево пожара, но сделав видимыми густые клубы дыма. От берега отошла небольшая барка с квадратным парусом, почти касавшимся воды, и медленно направилась к острову. Когда она была примерно в середине пути, на юго-востоке показалась военная трирема, гребцы которой усиленно работали веслами, явно стремясь догнать ее. Эта трирема вышла из порта Беноик, уже давно захваченного войсками Клаудаса. Она быстро приближалась к барке и должна была пройти рядом с выступающим из воды рифом. Моргана знала, на каком расстоянии он находится от ближайшего к нему островного берега — в пределах досягаемости ее боевых машин. Она сверилась со своими записями: тяжелые орудия размещались на скале, и снаряды летели с высоты сто пятьдесят футов над уровнем море, что увеличивало зону поражения. Лично установив прицел, она определила силу натяжения четырех катапульт в соответствии с дистанцией и весом камней, выбрав самые тяжелые. Орудийные расчеты заняли свои места, и, когда галера, почти настигшая барку, оказалась на одном уровне с рифом, Моргана приказала поразить цель. С великолепной согласованностью и ужасающей силой катапульты выстрелили, издав один-единственный сухой щелчок, и четыре словно спаянных между собой, куска гранитной скалы описали в воздухе огромную дугу. Все они попали в трирему, почти полностью разрушив ее. Один камень как тростинку разрубил мачту, которая обвалилась вместе с парусом и реей, повредив палубу и убив несколько человек. Другой вдребезги разнес корму, увлекая за собой рулевого, мостик и штурвал. Еще два угодили в борт судна, сломав множеств весел и сделав две пробоины прямо над ватерлинией. Поскольку именно в этот момент мачта рухнула набок, трирема так наклонилась, что в пробоины с шумом хлынула вода, быстро затопившая трюмы. Судно пошло ко дну, а девятьсот воинов и воительниц Морганы издали торжествующий вопль, приветствуя свою королеву. Их безграничная уверенность в том, что они могут победоносно отразить нападение любого врага, подтверждалась мощью боевых орудий с поразительной и невиданной доселе точностью стрельбы, мгновенной гибелью большой военной галеры, столь же уязвимой для катапульт Морганы, как жалкий рыбачий ялик — для обычной катапульты, неприступностью острова благодаря гигантским — природным и рукотворным — укреплениям, а также неограниченным ресурсам, позволяющим выдержать самую долгую осаду, но прежде всего — гениальной прозорливостью властительницы Авалона.
Между тем барка, пройдя через узкий восточный вход в гавань, направилась к берегу и вскоре застыла у пристани. На землю ступили женщина с ребенком на руках и мужчина, походивший одновременно на моряка и на слугу. Женщина была одета в длинную тунику и роскошно вышитый плащ. Густые золотистые кудри ниспадали на ее плечи. С виду ей казалось около двадцати лет. Она была очень высокого роста и так прекрасна собой, что затмевала королеву Гвиневеру, на которую походила возрастом и лучезарной красотой. Ребенку было не больше года.
Беглецы остановились перед громадными воротами Авалона. Моргана, стоявшая на дозорном пути над стеной, смотрела на них сверху.
— Кто ты? — спросила она молодую женщину.
— Я Вивиана, дочь короля редонов Кардевка, властелина третьего королевства Арморики, дарованного ему Артуром Логрским. Меня также называют Владычицей Озера, и я делю с Мерлином его добровольное изгнание.
Спустившись к воротам, Моргана велела приоткрыть одну из створок и вышла наружу одна. Она встала перед Вивианой, и какое-то мгновение обе они безмолвно разглядывали друг друга, тогда как с них не спускали глаз столпившиеся на укреплениях защитники крепости, зачарованные встречей двух этих женщин. Моргана перевела взор на младенца:
— Это твой сын… от Мерлина?
— Нет, это Ланселот, сын короля Беноика. Бан погиб прошлой ночью во время штурма и пожара Треба. Когда я побывала у него вскоре после рождения Ланселота, то обещала ему забрать и усыновить его дитя, если он потерпит поражение в войне с Клаудасом. И я оставила у него одного из своих подданных — вот этого человека, что стоит рядом со мной, дабы он мог иметь гонца, который не побоится пройти через Дольний лес в мой Озерный замок и предупредить меня. Бан послал его ко мне перед самой осадой Треба, ибо знал, что ему предстоит последнее сражение и гибель. Крепость была окружена со всех сторон, кроме моря, поскольку высокие стены и нависающие над водой скалы делают как штурм, так и бегство невозможными. Мы подошли на этой барке к подножию скалы, и по условленному сигналу ребенка спустили к нам в корзине, привязанной к веревке. Но враги увидели нас и не позволили нам высадиться на берег, двигаясь по песчаному берегу параллельно с курсом нашей барки. Мы не могли вернуться в Дольний лес и Озерный замок, поэтому я решила просить убежища на твоем острове, королева Моргана.
— Не зная меня? И ведая лишь то, что любой пришелец, кто бы он ни был, карается в Авалоне смертью? Разве не доходили до тебя распространившиеся по всей Британии, Арморике и далеко за их пределами слухи о моем законе?
— Я знаю тебя, Моргана. Я научилась узнавать тебя каждый раз, когда навещала Мерлина в его убежище — дикой пещере в горах над моим замком, куда дозволено входить только мне. Ибо ты никогда не покидаешь его и останешься в нем до самой смерти. Это он, узнав о том, что я отправляюсь в Треб, велел мне укрыться у тебя, если дорога в мой замок будет перекрыта. Неужели он послал нас — меня и этого мальчика — на смерть, потому что ошибся в Моргане?
Моргана, охваченная внезапной печалью, отвела взгляд в сторону Беноика. Но она быстро справилась с собой.
— Ты надеешься растрогать меня этой неуклюжей риторикой? Какое значение имеет для меня твоя жизнь и жизнь этого мальчика? Ты вдвойне заслуживаешь смерти, ибо не только вторглась незваной на мою землю, но вторжением своим втянула меня в войну, которой я наверняка смогла бы избежать. Что же касается Мерлина, мне будет приятно доказать ему, что и он способен ошибиться — хотя бы один раз.
— Твоя риторика ничуть не лучше моей. Ты втянулась в войну сама, иначе просто позволила бы галере догнать нас, а не стала бы топить ее.
— Любой корабль, который подходит к Авалону без приглашения, должен быть потоплен. Я вовсе не спасала тебя, а просто доказала непреложность своего закона.
— В таком случае, отчего было не пустить ко дну и мою маленькую барку? Или не стоило тратить на нее камень? Что ж, убей меня, если таково твое желание. Но пощади мальчика. Если для тебя не имеет значения его жизнь, то какое значение может иметь его смерть? У тебя нет причин убивать его, ведь он ни в чем не виноват. Вторгнуться можно лишь по собственной воле. Я привезла его сюда, мне одной и должно умереть. В тебе нет доброты, Моргана, но все говорят о твоей справедливости.
— Ты не боишься смерти?
— Напротив. Ибо я прожила совсем мало, и мне хочется жить, потому что я страстно влюблена. Но я очень рано научилась преодолевать страх.
— Ты не умрешь, Вивиана. По двум причинам. Первая не слишком важна и лежит на поверхности. Я не хочу, чтобы этот жалкий завоеватель Клаудас подумал, будто я опасаюсь его и желаю искупить убийство его охотничьих псов, расправившись с их добычей. Вторая гораздо глубже, ибо коренится во мне. Ты — женщина, а я стараюсь не причинять зла женщинам, если могу избежать этого.
— И ты можешь избежать этого, Моргана?
— Когда я говорю, что могу, это почти всегда означает — хочу.
— Значит, ты не хочешь моей смерти?
— Пока нет. Пока я хочу одного — тебя.
Вивиана пристально взглянула на нее. Подобно всем, кому доводилось встречаться с Морганой, она вдруг поняла, что на нее уже подействовало — помимо воли — колдовское очарование, породившее желание и любовь, невзирая на тщетные попытки воспротивиться абсолютной власти, которая исходила как от этой женщины, так и от ее слов.
— По словам Мерлина, гордость побуждает тебя пренебрегать волей других людей, презирать или подавлять ее. Так будет ли мне позволено сказать, что я тоже хочу тебя?
— Да, — ответила Моргана с улыбкой. — Но воля твоя все же будет стеснена. Не мною. Посмотри на море.
С юго-востока к Авалону медленно и опасливо приближались десять длинных галер, державшихся на большом расстоянии друг от друга. На борту их было множество воинов. Моргана распорядилась впустить беглецов и закрыть ворота. Ланселота она вручила Бондуке с приказом отнести его во дворец. Затем поднялась, в сопровождении Вивианы, на крепостную стену, чтобы подготовиться к обороне. И протянула Вивиане табличку, где были указаны правила наводки тяжелых метательных орудий.
— Если тебе удалось хоть что-нибудь почерпнуть из познаний Мерлина в математике, — сказала она с усмешкой, — ты должна разбираться в подобных расчетах и использовать их.
Вивиана взяла табличку и стала изучать ее.
— У тебя есть точные ориентиры, указывающие расстояние? Бакены или рифы?
— Нет. В этом направлении нет. Здесь слишком глубокое море.
— Тогда установи для всех орудий дистанцию в две тысячи футов. Катапульты и онагры заряди камнями весом в сто двадцать фунтов, баллисты и скорпионы — огненными стрелами. Прикажи орудийным расчетам взять на прицел три первые галеры, расположенные на одном уровне. Сигнал подам я.
— Ровно две тысячи футов?
— Да. С поправкой в десять или двадцать футов. Ибо длина этих галер составляет от ста пятидесяти до двухсот футов.
— Десять иди двадцать футов на две тысячи? Запас невелик. Быть может, в этом больше тщеславия, чем уверенности? Больше надежды на счастливый случай, чем на точность расчета?
— Сейчас увидишь. Когда я была охотницей, меня прозвали Дианой, но Мерлин исцелил меня от этой страсти. Главное же достоинство охотника — умение верно определять расстояние.
— Что ж, посмотрим.
Моргана проверила заряды и прицел всех орудий. Вдоль стены и на двух южных постах стояли десять машин для метания камней — это были катапульты и онагры, а также двенадцать баллист и скорпионов, которые заряжались длинными и тяжелыми — иногда воспламененными — стрелами. Она распорядилась доставить сюда несколько орудий с восточного и западного постов, оставив прочие на месте на тот случай, если вражеский флот попытается приблизиться к ним под прикрытием южных укреплений и достичь гавани, держась как можно ближе к скалам, что могло бы уменьшить убойную силу машин.
— Пли! — вскричала Вивиана.
Двадцать два тяжелых орудия одновременно выпустили снаряды, которые устремились вверх со свистом, заглушившим звон резко отпущенных веревок и скрежет колес при отдаче. Когда в верхней точке описанной камнями и стрелами дуги их компактная масса разделилась натрое, чтобы поразить намеченные для них три цели, Моргана поняла, что расчет Вивианы был точен — не понадобилось даже запаса в десять футов. Ужасающий ливень из камней и стрел обрушился на три первые галеры, которые в мгновение ока развалились и запылали. На развороченных палубах валялись трупы, а уцелевшие — среди них много раненых и получивших ожоги — бросались в море. Моргана тут же распорядилась зарядить машины вновь, и, когда четыре галеры второго ряда, безуспешно пытавшиеся развернуться или остановиться, но увлеченные вперед инерцией своего помноженного на скорость веса, миновали отметку двух тысяч футов от острова, приказала взять их на прицел и произвести еще один залп. Два корабля погибли сразу, двум другим, невзирая на сильные повреждения и многочисленные потери среди команды, наполовину уничтоженной снарядами и огнем, удалось сделать поворот, выйти из зоны поражения и присоединиться к трем последним, которые находились довольно далеко и сумели вовремя изменить курс. Пять галер ушли по направлению к порту Беноик, но половина вторгшейся в воды Авалона флотилии пошла ко дну, оставив после себя густые клубы черного дыма. С укреплений острова раздался мощный победный клич — рев девяти сотен глоток. Моргана с улыбкой смотрела на Вивиану. Подойдя к ней, она обняла ее и поцеловала в уста. Вивиана ответила таким же страстным поцелуем. Крики многократно усилились. Жители Авалона бурно приветствовали объятие этих двух поразительных женщин, воплощавших мудрость, силу, красоту и нанесших врагу столь сокрушительное, столь молниеносное поражение. Они радовались любовному порыву своей королевы, чью обольстительность еще больше подчеркивали нежданная нежность и светоносное очарование соратницы — совершенно непохожей на нее, однако не меркнущей при сравнении. Благоговение народа отражало также и его собственные чувства — ощущение уверенности и безопасности, ведь в ходе двух коротких сражений никто не погиб и даже не был ранен, тогда как враги потеряли шесть боевых галер и более тысячи человек — воинов и матросов.
По случаю победы был устроен большой пир. Шестьсот женщин и детей, остававшихся в крепости и пришедших из деревень, стали выносить из дворца припасы и разводить костры вдоль дозорного пути на скалах. Однако караульные бдительности не теряли ни на одно мгновение. Стемнело. По небу плыли тяжелые облака, изредка оставляя просветы, и громадная водная гладь казалась то черной бездонной пропастью, то зеркалом, отражающим неясные серебристые блики, которые возникали по прихоти скользящих по небу облаков. В один из просветов, когда восходящая луна озарила волны своим холодным белым светом, Вивиана, занявшая пост на стене рядом с Морганой, сказала:
— Что-то виднеется в море у входа в бухту Беноик.
От налетевших облаков вновь сгустился непроницаемый мрак, в котором можно было различить лишь пляшущие на скале огоньки. Затем луч света побежал по морю, озаряя его постепенно, как если бы с него медленно снимали огромный черный покров.
— Барки! — воскликнула Вивиана. — Множество барок без мачт и парусов. Они идут к нам на веслах.
— Ночная атака, — сказала Моргана. — Посредством маленьких, низко сидящих на воде, очень подвижных суденышек, которые не сближаются друг с другом, чтобы снизить убойную силу моих орудий.
Она немедля призвала к себе командира галер. Он должен был возглавить атаку пяти трирем, протаранив и потопив как можно больше барок. Для каждой из трирем Моргана выбрала капитана, рулевого и экипаж из семидесяти воинов: шестьдесят гребцов и десять палубных матросов. Триста шестьдесят защитников крепости — одни мужчины, и почти все из регулярной армии, — быстро поднялись на борт. Моргана дала последние наставления их командиру:
— Многие барки, быть может, половина или даже больше, ускользнут от тебя и доберутся сюда. Будет сражение на суше. Когда ты увидишь, что в море нет ни одного ялика — пошли ли они ко дну или же сумели причалить к берегу, — ни в коем случае не возвращайся в порт. От тебя и твоих людей здесь пользы не будет, вы настолько уступаете врагу числом, что в рукопашной схватке вас перебьют всех до единого. Враги же, разгромив вас, захватят или сожгут галеры. Я не желаю, чтобы хоть один корабль Авалона был взят, уничтожен или хотя бы поврежден. Твое дело преградить выход из бухты на расстоянии по меньшей мере в три тысячи футов. Если атакующие, как я убеждена, потерпят неудачу при штурме наших стен, им придется вновь выйти в море. Ты будешь поджидать те барки, которые спасутся от моих орудий. Я не стану использовать машины как после их захода в порт, так и до выхода из него, потому что хочу сохранить наши укрепления. Чтобы не мешать моим залпам, ты и должен держаться на некоторой дистанции. Преследуй и топи всех, кто останется на плаву. Ни один из воинов, посланных Клаудасом против меня, не должен вернуться в Беноик. Это отвадит его от других атак. Человек сто возьми в плен. Они нужны мне для вскрытия. Всех остальных убей стрелами или дай им утонуть. Ступай!
Триремы одна за другой вышли из гавани и разошлись в разные стороны, перекрыв водное пространство с востока на запад, ибо вражеские барки числом около сотни, которые подошли ближе и были уже хорошо видны, образовали в том же направлении обширный полукруг, постепенно сжимавшийся вокруг порта. Моргана приказала, чтобы оставшиеся пятьсот сорок защитников — двести сорок мужчин и триста женщин — перенесли в крепость весь инвентарь с пристани, складов и рыболовных причалов, включая лодки, которые выволокли на сушу и погрузили на повозки. Затем ворота были закрыты и каждый занял свое место на укреплениях. В открытом море сражение уже началось: галеры настигли вражеские ялики, значительно уступавшие им в скорости. Протаранив своим острым носом легкие суденышки, триремы почти не замедляли ход и топили оказавшиеся под их днищем обломки. Сброшенные в воду люди большей частью тонули либо из-за неумения плавать, либо под тяжестью вооружения. Другие, уцепившись за доски, пытались сбросить с себя все лишнее. Таким образом, каждая галера уничтожила от шести до десяти барок, но примерно шестидесяти удалось ускользнуть, и они продвигались к Авалону, войдя в установленные Морганой пределы. Подчиняясь ее приказу, галеры прекратили преследование и занялись вылавливанием тех, кто барахтался в воде и кому предстояло закончить жизнь на столе для вскрытия. Затем они заняли позицию вокруг гавани. Моргана дождалась момента, когда вражеские барки подошли настолько близко, что им пришлось сгрудиться и они стали представлять такую же удобную мишень, как большие корабли. Она приказала стрелять, когда Вивиана сказала ей, что флотилия находится на расстоянии в тысячу футов. Двадцать барок разнесло в щепки, а весь их экипаж погиб. Но сорок лодок все-таки вошли в порт и выстроились вдоль пристани, куда волной хлынули воины, торопясь укрыться за парапетом дебаркадеров или же в складских помещениях и на рыболовных причалах. В каждой барке было около тридцати человек, — следовательно, число нападавших составило примерно тысячу двести воинов. Их вождь расставил лучших лучников таким образом, чтобы они держали под прицелом все укрепления на крепостной стене и на скале, стреляя в тех защитников, которые осмеливались высунуться. Среди авалонцев появились первые раненые. Моргана приказала своему войску оставаться в укрытии. Вивиана, вооружившись луком, заняла позицию в середине дозорного пути на крепостной стене, откуда был превосходный обзор на весь порт. Она попросила добровольцев взбегать на укрепления, привлекая к себе внимание вражеских стрелков, и спрыгивать вниз, едва лишь те натянут тетиву своих луков. И, поскольку сама она не уступала лучшим лучникам империи, то убила одного за другим всех, кто стоял на виду, тогда как уцелевшие стрелки попрятались. Хорошо понимая, что ворота нельзя пробить никаким тараном, вождь нападавших крикнул своим людям, чтобы они стаскивали ко входу в крепость и поджигали все деревянные части складов и портовых сооружений, какие только можно найти. Моргана считала маловероятным, что противнику удастся развести такой костер, от которого займутся огнем дубовые ворота толщиной в три фута и укрепленные железными поперечинами. Тем не менее она решилась прибегнуть к средству, которого ей хотелось избежать, хотя оно и было подготовлено заранее. Она распорядилась установить на самом краю скалы, возвышавшейся над внешними пристройками, где большей частью укрылись нападавшие, огромные куски гранита — теперь оставалось лишь слегка подтолкнуть их, чтобы они рухнули вниз. Убедившись, что рыболовные причалы и склады в любом случае обречены на разрушение, она решила обратить это обстоятельство в свою пользу. По ее сигналу защитники крепости привели в действие рычаги, и гранитные глыбы, самая маленькая из которых весила больше десяти тысяч фунтов, разом обрушились на лепившиеся к подножью скалы постройки, пробив крыши и обвалив стены. За этим последовал оглушительный и ужасающий вопль: несколько сотен человек ринулись из-под обломков, под которыми осталось гораздо больше убитых и покалеченных. Вождь, занимавший позицию на пристани с меньшей частью воинов, попытался остановить и построить охваченных паникой людей, но внезапно упал замертво — горло ему пронзила стрела Вивианы. Беглецы между тем начали под градом стрел запрыгивать в лодки. Их было пять или шесть сотен — едва ли половина из числа тех, кто высадился в Авалоне. Бросив десять из своих барок, они разместились в оставшихся тридцати и вышли из порта, усиленно работая веслами. Занимался день, и в рассветных лучах Моргане было легко выбрать ближайшие к острову мишени. Мгновенно перезаряжаемые катапульты с баллистами и онагры со скорпионами стреляли без передышки, и почти каждый залп поражал цель. Только восьми лодкам удалось ускользнуть, обойдя остров с восточной стороны, где они оказались вне пределов досягаемости. Моргана не сочла нужным перемещать свои орудия, ибо уцелевшие в смятении увидели поджидавшие их в открытом море галеры. Наступило мгновение затишья — особенно жуткого после разгрома на острове и перед завершающей бойней. Тогда, налегая на весла с энергией отчаяния и страха, гребцы направили свои барки прямо к побережью Беноика. Но триремы догнали их и безжалостно потопили. Как и хотела Моргана, ни один из воинов, посланных против нее Клаудасом, не вернулся назад. Разъяренному завоевателю пришлось смириться с тем, что законный наследник Беноика Ланселот, сын погибшего короля, остался в живых, что сулило в будущем неизбежные мятежи на захваченных землях. Столкновение с Авалоном и с его грозной королевой стоило ему шести галер, к которым следовало добавить и еще две, практически выведенные из строя, около сотни легких судов и, главное, более четырех тысяч воинов. Эти потери, наряду с теми, которые он понес из-за яростного сопротивления Бана, до такой степени ослабили его армию, что Богорт, оттесненный с остатками своих войск в западную часть земли гонов, еще несколько лет успешно ему противодействовал.
В Авалоне Моргана сразу же по окончании битвы устроила прямо на крепостной стене нечто вроде медицинской залы под спешно установленными навесами, которые защищали раненых от лучей восходящего солнца. Их было около тридцати, и все они более или менее серьезно пострадали от стрел. Еще до начала первой атаки Моргана велела принести из дворца свои хирургические инструменты, лечебные отвары, чистое белье и корпию. Прежде всего следовало надрезать — и порой глубоко — те места, где засели стрелы с зазубренным концом, чтобы затем осторожно извлечь их. Просто вырвать их было нельзя — это могло чрезмерно расширить рану и вызвать смертельное кровотечение. Вооружившись длинным и острым ножом, Вивиана под удивленным и одобрительным взглядом Морганы произвела несколько операций с ловкостью, почти не уступающей искусству самой королевы, но с большей нежностью, ибо сильнее ощущала человеческое страдание, хотя было очевидно, что она достигла высокой ступени познаний в теории и практике хирургии. Воины и воительницы Авалона с восхищенным изумлением глядели на этих двух женщин, преклоняясь перед красотой и мудростью обеих: они обожествляли их, как сестер, хотя раньше испытывали такие чувства лишь по отношению к Моргане. Но с одним различием: их благоговение перед Вивианой было свободно от страха, поскольку она казалась им близкой и доступной, тогда как в благоговении перед Морганой любовь сочеталась со священным ужасом, словно в первой они видели женщину, наделенную божественными качествами, а во второй — богиню, принявшую человеческий облик.
Когда были извлечены все стрелы, обе целительницы обнаружили, что все раны так или иначе воспалены. Вивиану это встревожило. Но Моргана сказала ей:
— Наверное, ты считаешь воспаление болезнью, симптомы которой греки и римляне описывали в словах «calor», «rubor», «dolor», «tumor»[8]. Но ты ошибаешься, как и они. Это не болезнь. Заражение — вот болезнь. Воспаление же полезно, потому что с его помощью тело защищается от заражения. Воспаление следует вызывать, и я убедилась, что некоторые растения обладают свойством усиливать эту защиту, что ведет к быстрому выздоровлению. Я сделала из них кашицу, которую мы наложим на раны. Воспаление либо изгонит заражение истечением гноя, либо сосредоточит его во внутреннем гнойнике, когда же истечение прекратится или гнойник прорвется, тело будет здорово.
Вивиана посмотрела на нее с восхищением.
— Познаниями в медицине, — сказала она, — ты превосходишь самого Мерлина.
— Мерлин — демиург, — с улыбкой ответила Моргана. — Редко бывает так, чтобы творцам хватало времени для занятий фармакопеей. Древо их познаний и замыслов столь обширно, что они не могут уделять внимания всем крохотным веточкам.
Вивиана расхохоталась. И этот безудержный, восхитительный смех взволновал Моргану. Она с удивлением осознала, что Вивиана дарит ей умиротворение и душевное спокойствие, какие прежде она испытывала лишь рядом с Мерлином. И желание ее обострилось благодаря зарождающейся любви.
Они перевязали раненых и оставили их на попечение женщин, которых Моргана обучила начаткам медицинской гигиены.
— Думаю, никто не умрет, — сказала она.
Они пошли посмотреть, как возвращаются галеры. Защитники крепости, распахнув настежь обе створки ворот, хлынули на площадку перед пристанью: одни рыскали по развалинам складов и рыболовных причалов, чтобы прикончить раненых и снять оружие с мертвых, другие толкали повозки с лодками, желая спустить их на воду, третьи толпились на причале в ожидании трирем. Моргана приказала им грузить тела в барки — как собственные, так и доставшиеся от врагов. Мертвых следовало выбросить в открытом море, чтобы избежать гниения и возможной эпидемии — а также с целью сберечь топливо, ибо для сожжения всех павших понадобилось бы огромное количество дров. Барки уже начали сновать туда и сюда, когда в порт под приветственные клики вошла флотилия во главе с командной галерой. Каждая трирема причалила к своему дебаркадеру. Члены экипажа — все без единой царапины — сошли на берег, ведя с собой сотню бледных и испуганных пленников, выловленных из воды. Моргана распорядилась отвести их во дворец и поместить в эргастул. Она объявила, что сегодня вечером все могут отдыхать, но уже завтра должны начаться восстановительные работы на складах и рыболовных причалах. Тем ста воинам, что несли караульную службу на скале до нападения, она велела вернуться на свой пост, а других послала за носилками для раненых, лечение которых намеревалась продолжить во дворце. Ей подвели коня, и она вскочила в седло. Затем взглянула на Вивиану и протянула руку, чтобы помочь той взобраться на круп позади нее. Вивиана приняла это приглашение. И когда обе женщины внезапно вознеслись над толпой, раздались оглушительные рукоплескания, которые не стихали вплоть до их прибытия во дворец. Подданные Морганы выстроились в ряд по обеим сторонам южной дороги, образовав нечто вроде почетного караула, и, едва завидев продвигавшуюся неторопливым шагом лошадь с двумя всадницами, падали ниц, как во время религиозного обряда, выкрикивали слова благодарности, обожания и признательности, величали именами, которые могли относиться к Моргане или к Вивиане — или к обеим: великая королева, Богиня-Мать, Кибела, Рея, Афродита и Артемида, богиня Авалона и богиня Озера, Афина и Немезида… И еще долго после того, как они исчезли во дворце, слышались восторженные вопли. Моргана и Вивиана вымылись в личных термах королевы, примыкавших к ее покоям, и каждая смогла оценить великолепие обнаженного тела другой. До вечера они не выходили оттуда, чередуя омовения, любовные ласки и минуты отдыха, когда терзающее их желание возрождалось вновь тем сильнее, чем полнее удовлетворялось в яростной страсти или в томительном наслаждении. Любовное чувство, рожденное войной, росло на дрожжах плотской радости.
Затем Моргана отправилась в медицинскую залу навестить раненых, состояние которых нашла удовлетворительным, а Вивиана пошла взглянуть на Ланселота, отданного на попечение Бондуки. Они вновь встретились в триклинии, где возлегли для вечерней трапезы. Вивиана многое знала о Моргане, ибо ее великая судьба, познания, красота, чарующий и грозный характер были известны почти всему западному миру. Знала она и интимные стороны ее натуры из рассказов Мерлина о своей гениальной ученице и духовной дочери — более мятежной и одновременно более близкой ему, чем другой его ученик и духовный сын Артур. Моргана же не знала о Вивиане почти ничего и начала расспрашивать ее.
— Моя мать умерла при моем рождении, — сказала ей Вивиана. — Мой отец Кардевк, получивший от Мерлина королевство редонов, все племена которых объединил Артур после завоевания Арморики, не захотел жениться вновь, и я — его единственное дитя. Он воин и желал иметь наследника-сына, поэтому привил мне любовь ко всем телесным упражнениям, научил обращаться с оружием и ездить верхом, воевать и охотиться. Но он также мудрец и желал иметь духовного наследника, поэтому пробудил во мне жажду познания. Я была ему сыном, дочерью и учеником. Немного похоже на то, чем были вы — Артур и ты сама — для Мерлина, хотя я даже сравнивать не хочу познания, наставников и учеников. Я почувствовала в себе непреодолимое желание в одно и то же время властвовать и повиноваться, быть независимой и любить, приобретать в свою собственность и принадлежать другому, испытать все, утоляя требования как плоти, так и духа. И еще желание узнать Мерлина, что означало для меня удовлетворить все остальные. Впервые я приехала в Логрис как посланница моего отца на свадьбу Артура. Я была в большом зале Кардуэльского дворца, когда ты представила двору своего сына Мордреда и когда Мерлин приговорил тебя к вечному изгнанию. И я смогла понять, как сильно любите вы друг друга даже в этом столкновении. Через несколько дней Мерлин спас мне жизнь на охоте, когда на меня бросился раненный мною кабан. Он высмеял мою страсть к охоте и мое желание стать его ученицей, спросив, чем сумею расплатиться я с ним за обучение. Сгорая от гнева и унижения, я сорвала с себя охотничий наряд и бросила ему вызов, предложив в уплату свое тело. Он взял меня. И я ощутила к нему такую любовь, что последовала за ним в изгнание, построив вместе с верными слугами Озерный замок на острове, в запретном Дольнем лесу, недалеко от его убежища, где только я одна могу видеть его, когда он меня призывает.
— Любовь переполняет тебя, Вивиана, — сказала Моргана. — И лишает тебя возможности иметь великий замысел, а следовательно, великую судьбу.
— В моих глазах нет более великого замысла, чем любовь.
— Это иллюзия. Или, скорее, мимолетная реальность. Осознанное проявление великого и универсального закона притяжения, которому подчиняются все люди и все вещи. Таково свойство атомов. Лучшим доказательством служит то, что с возрастом уменьшается притяжение атомов тела, которое становится безобразным, и соответственно уменьшается любовное притяжение и желание, — иными словами, чувства в конечном счете подчиняются материи. Это приводит меня в негодование, но я не могу врачевать ненависть и страх умышленной ложью. Для человека, подчиненного закону вещей, единственная свобода — это истина или постижение законов рассудком. Но не вера, не религия, не мистика Камелота, не любовь. Все это лишь жалкие магические заклинания. Я уже говорила тебе, когда ты появилась здесь: я могу то, что хочу, ибо я знаю. Маленькая свобода внутри бесконечной несвободы.
— Мерлин никогда не путал любовь с верой и не противопоставлял любовь познанию. Я тоже.
— Мерлин никогда не подчинял свою судьбу любви. Я тоже. Артур — да. И ты — да. Но могу тебя успокоить. Подобно вам, у меня есть страсть — мой мятеж. Страстью Артура будет уничтожен Камелот, моей — Авалон, твоей — ты сама. У Мерлина нет страсти — или же он властвует над ней. Он не будет уничтожен, он останется один.
— Послушать тебя, так всеми судьбами управляет безжалостный рок. Однако же ты сказала, что единственная свобода — это познание. Зачем тебе познавать, если жизнь твоя известна заранее?
— Я уже говорила тебе: познание дает частичку свободы воли внутри универсальной несвободы, управляемой неподвластным человеку законом. Я знаю, следовательно, хочу и могу, но я знаю также, что над моими желаниями и моей властью есть высшая сила — рок, от которого никто и ничто не спасется. Этот рок — время. Не разумнее ли считаться с ним, чем убаюкивать себя иллюзиями?
— Следовательно, свобода не более чем бунт против времени? В таком случае любовь — лучший мятеж, чем уничтожение. Ибо созидание и уничтожение — всего лишь игра со временем, обретение независимости в крохотных нарушениях его закона. Но любить означает сопротивляться. Пусть время в конечном счете поглотит любящего в момент его смерти — по крайней мере, в течение жизни победа оставалась за ним. Мои познания бесконечно малы в сравнении с твоими. Но могу сказать: я знаю, следовательно, люблю. И я люблю тебя, Моргана.
Вивиана разрыдалась. И ее слезы взволновали Моргану так же, как прежде смех. Она привлекла ее к себе, обняла, покрыла ее лицо и тело поцелуями, познавая сладость утешать, как некогда познала сладость обрести утешение. Успокоившись, Вивиана заснула. Она пробудилась посреди ночи и сказала Моргане:
— Нам следует воспользоваться темнотой и тем, что Клаудасу после его поражения пока нет дела до нас. Я должна укрыться с Ланселотом в Дольнем лесу, в моем замке. Мне хотелось бы остаться с тобой, потому что я тебя люблю. Но я не могу. Мне нужно вернуться к моим подданным и к Мерлину.
Моргана послала за слугой Вивианы и Ланселота. И сама проводила их к причалу, где была пришвартована барка. Моряк поднял парус и выбрал якорную цепь.
— Я буду страдать без тебя, — сказала Вивиана, — и мне понятна теперь боль Мерлина от разлуки с тобой. Когда настанет мир, я смогу вернуться сюда?
— Нет, не возвращайся. Ты делаешь меня уязвимой и приводишь в смятение, потому что и я люблю тебя. Но не могу допустить этого. Не возвращайся никогда.
Она смотрела, как лодка выходит из гавани и удаляется в открытое море. И когда та скрылась из виду, продолжала стоять в задумчивости. Затем одна вернулась во дворец.
На следующий день она произвела над одним из воинов Клаудаса свой первый опыт по вивисекции. И отныне медицинская зала стала для народа Авалона объектом благоговейного ужаса, ибо в ней испытывались средства для исцеления — и слышались жуткие вопли бесконечной муки.
Авалон возобновил торговлю с Логрисом и всеми другими странами, с которыми прежде обменивался товарами. Исключение составляла лишь Арморика, где все еще продолжалась жестокая война между Богортом и Клаудасом. Последний не стал вести с Морганой переговоры о мире, так как люто возненавидел ее после нанесенного ему сокрушительного поражения, — тем не менее от всякого вмешательства в дела острова он отказался, не желая повторять столь губительную попытку.
Однажды весенним днем 498 года, вскоре после отплытия одной константинопольской галеры, караульные схватили чужестранца, который попытался пройти в ворота, открытые для приема грузов, оставленных греческими моряками на складах. Это был человек средних лет, бородатый и всклокоченный, одетый в грязную и потертую рясу из грубой шерсти, в кожаных сандалиях на ногах. Он сказал, что спрятался в ожидании, пока уйдет корабль, чтобы его не отправили в Константинополь силой, поскольку является он христианским священником, проповедует веру свою повсюду и желает говорить с королевой Морганой о спасении бессмертной души.
— О чьей душе намерен ты говорить? — с насмешкой спросили воины. — Если о своей, так это будет уместно, ибо ты обрек себя на смерть, оставшись здесь, да только вряд ли нашу королеву заинтересует столь жалкий предмет. А вот о ее душе рассуждать совсем неуместно, для тебя во всяком случае, ибо что может поведать о ней самой или о любой другой вещи подобный тебе таракан? Чему собираешься научить ты высочайший ум из всех, которые когда-либо существовали на земле? Но желание твое исполнится, ибо ты предстанешь пред ней, чтобы она решила твою судьбу, хотя радоваться этому тебе конечно же не стоит.
Они послали во дворец гонца, а потом отвели священника в тронный зал, где ожидала Моргана. Его поставил на колени перед королевой. Он не сводил с нее глаз, онемев от ее красоты и исходившей от нее странной, зловещей и властной силы. Она лишь взглянула на него, но ее зеленые глаза сверкнули таким холодным и острым блеском, словно то был ледяной меч, который пронзил ему душу и лишил всякой способности сопротивляться.
— Королева Моргана, — слабым голосом произнес он, — в тебе есть нечто дьявольское, ибо наставником твоим был сын дьявола и ты, подобно Сатане, наделена чудодейственной красотой — той красотой князя ангелов и света, которая отчасти сохранилась и у князя тьмы. Я хотел и хочу привести тебя к Богу, но сейчас, увидев тебя, сам не знаю, впал ли я в грех самомнения, забыв о скудости своего ума, малой своей власти и грубом красноречии, или же неукоснительно следую вере своей, которая внушает мне, что Бог сумеет поговорить с тобой даже при посредстве столь глупого толмача? Колебания эти подтверждают, сколь жалок мой человеческий удел, хоть и был я озарен видением абсолюта.
Моргана иронически улыбнулась.
— Попытайся все же, — сказала она. — Риторика твоя, быть может, и неуклюжа, как ты сам беспощадно выразился, но она не лишена расчетливости, ибо своим кратким вступлением ты добился того, что я не стану сразу выносить тебе смертный приговор. Встань. Обвиняют себя на коленях, но говорят стоя.
Воины слегка отодвинулись от священника, и тот поднялся на ноги.
— Чем обладаешь ты, королева Моргана? — сказал он. — Несравненными умом и красотой, властью и познаниями? И что же ты творишь с ними? Ум твой пребывает в рабстве у неслыханной гордыни, которая побуждает тебя бороться с Богом на равных или отрицать Его существование и культ, признавая существование и культ одной лишь Морганы. Твоя величественная красота покорно служит тирану — плотскому наслаждению, ввергающему тебя в бесчисленные, постыдные и грязные связи. Власть твоя, словно малое дитя, подчиняется необузданности твоей: закон твой позволяет тебе губить тела и развращать души людей, как если бы ты была своенравным творцом, который не знает иных правил, кроме произвола своих прихотей. Что же до твоих познаний, они вскормлены твоей гордыней и одновременно питают твою печаль. Внемли словам Екклесиаста: «…вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые прежде меня были над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»[9]. А если бы ты и сотворила нечто доброе с помощью даров своих, разве не следовало бы считать их в высшей степени относительными, взглянув на них направленным к единому восприятию двойным взором, который видит как тленную реальность, так и вечный идеал? Ибо эти дары относительны лишь в силу того, что принадлежат материи, и только идеал, бросающий вызов времени и находящийся вне времени, воплощает абсолют, сотворенный Богом. Ум угасает. Красота вянет. Власть, сколь бы ни была велика, исчезает — свидетельством тому служит падение Римской империи. Познания же — усвоенные от наставника или почерпнутые из книг — не более чем дрожащий огонек тусклой лампы посреди бесконечного мрака Вселенной, которую может осветить лишь вера, вера в абсолютное познание, принадлежащее на веки вечные только одному Богу. Поэтому я заклинаю тебя верить, королева Моргана. Верить, что грех гордыни — первейший из твоих грехов, ибо стал он причиной всех порожденных им грехов человеческих — был искуплен муками Христа. Верить, что основанные на гордости ум и власть — ничто в сравнении с милосердием, верить, что величайшее наслаждение плоти — ничто в сравнении с наслаждением души, которую дарует чистая любовь, несравненная и противостоящая плотским утехам. Верить, что должным образом осмысленное познание ведет не к тленному мерцанию, но к свету живому — то есть к вере. Верить, наконец, что смерть вызывает не отчаяние, а радость, ибо означает не распад бренной материи или видимости, но рождение вечной души — или сущности. Заклинаю тебя верить. Ты враждебна не столько Богу и человеческому роду, сколько самой себе, и я хочу спасти тебя от другого абсолюта — одиночества, муки и отчаяния в вечности ада. Ибо он гораздо хуже того абсолюта исчезновения и небытия, который тебя страшит.
— Ты веришь в этот ад? И в то, что Бог создал его для человека? — спросила Моргана.
— Да.
— В таком случае ты — безумец и чудовище, ведь твоя жестокость в тысячу раз превосходит мою, ибо я, невзирая на вражду и презрение к человеческому роду, караю соразмерно с виной. А выдуманный тобой бог, воплощающий, по твоим словам, абсолютную любовь, совершает абсолютную несправедливость тем, что налагает вечную кару, в сравнении с которой любая вина, сколь ни велика она, выглядит ничтожной. Это просто присущая человеку порочность, возведенная в бесконечность, так что бог твой — всего лишь абсолютное воплощение тебя самого и больше ничего. И нет такой реальной — следовательно, ограниченной во времени и в силе страданий — муки, которая была бы слишком тяжкой для тебя, ибо она предстает легкой в сравнении с той, что ты обещаешь любому, кто не разделяет твоих верований, измышленных самозванцами для владычества над глупцами. Равным образом ты и тебе подобные сотворили из креста — самого мерзкого образа человеческой жестокости — высочайший символ вашей пресловутой духовности. Кто вы такие и что подвигло вас принести с Востока эту извращенную веру с экзальтированной любовью к смерти и отвращением к плоти, которая и есть жизнь? Если бог твой создал все вещи и все живые существа и дал им свой закон, то почему главнейший закон жизни гласит: сожри или сожрут тебя? И почему бог твой ожидает, что человек сотворит и будет соблюдать другой закон? И зачем дал он человеку разум, который ты именуешь гордыней, если запретил пользоваться им? И еще одно противоречие: как может требовать он творчества от порабощенного ума? Зачем создал он разнополые существа, пробудив в них желание и радость обладать, если приказано им соблюдать целомудрие? Твой бог затеял игру против себя самого? Если высший разум действительно существует, он с негодованием отвергнет тот жалкий, глупый и порочный образ, в котором ты его представил. Но успокойся. Он не осудит тебя на вечные муки, ибо я сомневаюсь, чтобы мог он измыслить такую мерзкую и нелепую вещь, как твой ад. Хоть я и равнодушна к судьбе людей, желаю им, чтобы ты и подобные тебе сектанты-визионеры никогда не добились власти, ибо вы используете ее, чтобы создать на земле ад, который и станет главным вашим средством убеждения. Союз власти и веры порождает худшее из всех преступлений — то, которое совершается ради блага во имя абсолютной истины.
— Ты богохульствуешь, королева Моргана! — вскричал священник. — Но пусть грех твой ляжет на меня, ибо себя я виню в том, что плохо защищал священную доктрину, себя виню в том, что прогневил душу твою вместо того, чтобы смягчить ее и показать ей всю сладость раскаяния.
— В таком случае на колени! — сказала Моргана. — На колени, ибо так должен стоять тот, кто обвиняет себя.
Священник упал на колени и склонил голову.
— Просвети же меня, — вновь заговорила Моргана. — Ты будто бы снял с моей так называемой души то, что именуешь грехом. Однако мне кажется, что произнесенные мной слова порождены моим рассудком, моим разумом, обиталищем сознания моего и мыслительных способностей. Благодаря своим исследованиям я убедилась, что обиталище это находится в мозгу — органе внутри головы. Там ли обитает и душа? И душа есть высшее проявление сознания, которое выражает себя, подобно любой мысли, в словах? Отражается ли подобие души и человека, которое ты назвал истинной и вечной сутью, в зеркале разума? Если отражается, значит, душа находится в мозгу. Если нет, то где она? И если она не зависит от рассудка, как не зависит, по утверждению твоему, от тела, зачем карать ее за мысли, порожденные рассудком и высказанные ртом?
— Душа человека везде и нигде. Она использует порожденную рассудком мысль, произнесенное ртом слово, возникший в сердце порыв, чтобы рассказать о себе другому — другим душам, который точно так же отвечают ей. Но не зависит она от использованных ею средств.
— Но сами эти средства не могут быть независимыми от нее, поэтому они свидетельствуют о ней, верно?
— Да.
— Что ж, посмотрим.
И Моргана обратилась к стражам:
— Привяжите его к столу для вскрытия, и пусть голова будет так же неподвижна, как все тело. Затем уходите.
Они направились в медицинскую залу. Воины, исполнив ее распоряжение, удалились. К этому времени Моргана подготовила острый стилет, сверло, пилу, ножницы и деревянный молоток. Потом она дала священнику наркотический отвар из белого мака, который ей привозили с далекого Востока через Константинополь: она использовала его, чтобы облегчить страдания своих больных или раненых подданных, а также в ходе опытов по вивисекции, когда не требовалось изучать болевые ощущения, ибо бессмысленная жестокость ей всегда претила. Вскоре священник заснул. Моргана надрезала в нескольких местах кожу под волосами и с величайшей осторожностью произвела трепанацию, обнажив отдельные участки мозга так, чтобы не задеть его. Затем она подождала, когда священник выйдет из сонного оцепенения. Очнувшись, он сказал, что ему больно и становится все больнее. Боль действительно нарастала по мере пробуждения его органов чувств. Он сказал также, что готов страдать во имя Бога и ради искупления грехов Морганы. Когда ей показалось, что сознание священника полностью прояснилось, она взяла металлический стержень с закругленным и отполированным до блеска концом, которым стала надавливать на отдельные точки мозга. Результат ошеломил и в некоторой степени устрашил ее. Поведение священника разительно менялось в зависимости от избранной точки и силы надавливания. За приступами безумного гнева следовала вспышка бурной радости, неистовое отчаяние превращалось в похотливое возбуждение — и все это выражалось криками, безудержным потоком слов, непристойной бранью в адрес Морганы и обличениями Бога, кощунственными проклятиями, яростным желанием властвовать, повелевать и убивать без разбора. И Моргане казалось, что перед ней внезапно разверзлась адская бездна угнетенного рассудка — еще более страшная, мерзкая и безбожная потому, что скрывалась под личиной кротости, целомудрия и веры, усвоенными насильно, противно законам разума и природы. Она подозревала, что материю никогда нельзя полностью подавить и можно лишь усыпить ее — и чем дольше длится сон под воздействием наркотических средств разума, тем яростнее и разрушительнее оказывается пробуждение. И еще видела она перед собой то, о чем всегда догадывалась и чего больше всего боялась: именно материя порождала рассудок и тем самым держала его в заложниках, поскольку независимость мысли была нерасторжимо связана с состоянием плоти, а жизнь разума ограничена продолжительностью существования тела. И тогда она прекратила опыт, а священник, сознавая, как вел себя и что говорил, разрыдался от отчаяния.
— Убей меня, — сказал он. — Молю тебя, сжалься надо мной и убей меня. Лучше бы я не появлялся на свет.
Так велико было это отчаяние, что Моргана растрогалась и решила помочь ему посредством той самой лживой риторики, на которой зиждился смысл его существования.
— Ты ничего не понимаешь, бедный священник, — сказала она. — Я управляла тем, что тебе принадлежит, но это не был ты. Ты принадлежишь не себе, а Богу. И с этим ничего не могу поделать даже я, Моргана.
Он пристально смотрел на нее, потом шепнул только одно слово:
— Спасибо.
Она вонзила стилет в мозг и стала разглядывать мертвеца.
— Внутренний орган, выдумавший абсолют. Каким вскрытием объяснить такое? Механика, создающая идеал, хотя она самодостаточна. Рождающая чудовище! Постичь вечность и затем умереть… Извращение! Извращение!
И она рухнула к подножию стола, содрогаясь в мятежном негодовании, преисполненном глубокой печали.
В 500 году Клаудас разгромил Богорта Гонского и остатки его войска на крайнем западе Арморики. Тогда Вивиана, которая уже приютила и усыновила Ланселота, отпрыска Бана, приняла также сыновей Богорта: старшего, Лионеля, и Богорта, названного в честь отца, ибо он родился в тот самый день, когда король дал свое последнее сражение, в котором ему суждено было погибнуть. Клаудас сделался властелином трех королевств — Пустынной Земли, Беноика и страны гонов, за исключением двух свободных анклавов, которые вклинивались в отныне принадлежащие ему земли и воды: Дольний лес, где находились убежище Мерлина и Озерный замок Вивианы, все так же внушавший священный трепет даже завоевателям, и Авалон — вдвойне огражденный, ибо к прежнему суеверному страху добавился ужас, внушаемый его повелительницей.
Двадцать лет спустя Вивиана привезла трех законных наследников, достигших возраста вступления на престол, в Кардуэл, ко двору короля Артура. И тот дал им армию, командовать которой поручил Мордреду. Вторая война с Клаудасом длилась два года. Мордред и Ланселот совершили в ней столько славных подвигов, что воины стали сравнивать их с самим Артуром и наделили их частицей того благоговения, которое испытывали к королю. Клаудас потерял все завоеванные им земли, свою собственную страну, а в конце концов и жизнь. Ланселот стал королем Беноика, Лионель — королем Гонским, а Богорт — королем Пустынной Земли. Три юных государя были приняты в Камелоте и под покровительством Мордреда стали пэрами Круглого Стола. Но Ланселот разрывался между преданностью королю и страстью к королеве Гвиневере, которая была на двадцать лет старше своего возлюбленного и полностью поработила его как своим благородством, так сладостно-извращенной чувственностью зрелой женщины. Гвиневера же получала двойное наслаждение: радость физической близости и моральной победы над Артуром, в чьей душе и сердце, принадлежащих Моргане, она занимала лишь второе место и не могла ему этого простить — не столько из-за оскорбленного чувства, сколько из-за поруганного самолюбия, ибо ее способность любить была невелика.
Летом 522 года, вскоре после поражения и гибели Клаудаса, Моргане минуло шестьдесят четыре года. Утром в день своего рождения она с испугом увидела на своем лице и теле первые пометы возраста — едва заметные, странным образом запоздалые, но неизбежные и зримые, показывающие ей, что время, главный ее враг, сокрытый в той мере, в какой щадил ее до сих пор, готовится восторжествовать над ней и уже больше не таится, уверенный в своем успехе. Ей показалось, будто ее красота, еще накануне безупречная, всего за несколько часов утратила совершенство. Внезапно она вспомнила, как тридцать лет назад жуткая колдунья Авалона с насмешкой крикнула ей: «Ты будешь такой, как я… как я!» И она с воплем бросилась на постель, сжавшись в комок от невыносимой душевной муки.
В тот же день, собрав на большом дворе перед южным фасадом дворца всех своих подданных, которых насчитывалось тогда две тысячи человек, она сказала им:
— Настало для меня время удалиться от мира, а для Авалона — вернуться в первобытное состояние. Вы все уедете отсюда, ибо отныне рядом со мной не должно быть ни одного человека. Отдаю вам мои владения — Иску в Британии и Долину Откуда Нет Возврата в Арморике. Я вручу вам дарственные акты и послания: первое — к Артуру Логрскому, который подтвердит доставшееся мне от Утера наследство, второе — к королю Беноика Ланселоту, недавно вернувшему себе свои земли. Он восстановит мое право обладать Долиной, полученное мной от его отца Бана и Мерлина. Вы будете сообща владеть и пользоваться этими двумя угодьями, обширность и богатство которых позволит вам ни в чем не знать нужды. Жить вы будете свободно и в полном равенстве: это значит, что среди вас не должно быть ни господ, ни слуг — всем же рабам моим я дарую вольную. Подчиняться вы будете только правосудию Логриса и Круглого Стола. Начинайте собираться в дорогу прямо сейчас. Вы заберете с собой все сокровища Авалона, включая и те, что находятся во дворце, который мне больше не нужен. Погрузите их на пять трирем и легкие барки. Этой флотилии достаточно, чтобы перевезти всех вас и ваше имущество. Восемьсот человек возьмут курс на Беноик, тысяча сто двадцать — на Логрис, поскольку именно такое распределение соответствует возможностям каждого из угодий. От вас же требую только одного: в первый день каждого месяца, не пытаясь увидеться со мной или даже высадиться на острове, оставляйте в портовых складах пищу, необходимую для моего пропитания. Приказываю вам в последний раз, однако ни малейшего возражения, как и прежде, не потерплю. С тем и прощаюсь с вами сегодня, но скажу напоследок, что я не взяла бы всю Римскую империю на вершине могущества и с великим множеством подданных в обмен на свое королевство Авалон и власть над его маленьким народом. Теперь ступайте.
И она вернулась во дворец. Безмолвная и испуганная толпа долго стояла неподвижно. Затем люди стали разбредаться в разные стороны. Многие — те, что пугливо обожали королеву, питали к ней страстную и сыновнюю любовь, хранили слепую верность и самозабвенную преданность, — безудержно рыдали, словно осиротели в одночасье. Другие, испытывая грусть перед отъездом, радовались свободе и будущим богатствам. Третьи, напротив, страшились как свободы, так и богатства, опасаясь грядущих раздоров и соперничества, которые не смели проявиться под властью Морганы, но отныне могли разрушить сообщество, спаянное одним законом. Были еще и такие, что привыкли жить в полной безопасности, под защитой неприступных укреплений Авалона — их ужасало возвращение в мир, где они чувствовали себя слабыми и уязвимыми. Самые домовитые, хотя и признавали великодушную щедрость Морганы, сокрушались при мысли о запустении, которое ожидает столь процветающий остров: их поддерживали самые старые, напоминавшие о колоссальных работах по обустройству Авалона, и порицали самые преданные, утверждавшие право королевы разрушить то, что она сама создала и что принадлежит только ей одной. Все задавались вопросом о причинах, побудивших Моргану искать полного одиночества. Но каждый направлялся в свое жилье или к рабочему месту, чтобы выполнить отданный королевой приказ.
Два дня спустя все суда в сумерках вышли из гавани. Стоя на высокой стене над воротами, Моргана смотрела, как они удаляются, разделившись на две неравные группы, из которых первая и более малочисленная держала курс на юг, к близкому побережью Беноика, вторая — на север, к далеким берегам Логриса. Когда все они исчезли вдали и во мраке наступающей ночи, Моргана направилась во дворец. Кроме нее, на острове не осталось ни единого живого существа, ни человека, ни животного, а все постройки — дома, фермы, мастерская — обратились в пустую, мертвую, нелепую скорлупу. Ей чудилось, будто звук ее одиноких шагов обрел непомерную силу, откликаясь эхом в крепостных стенах и беспрепятственно заполняя собой гробовое безмолвие. И душа ее, охваченная печалью былого и пустотой грядущего, со сладкой горечью впитывала уныние опустевшего острова, который никогда не казался ей столь прекрасным.
Перед входом во дворец застыла неподвижная фигура. Это была Бондука. Моргана ощутила радость и раздражение одновременно.
— Никого! — сказала она, приблизившись к ней. — Никого не хочу. Даже тебя.
— Я тоже уйду, королева Моргана. По-своему. Но прошу позволения разделить с тобой последний ужин и последнюю ночь.
Они долго сидели за вечерней трапезой. Моргана, освободившись от своих обязанностей и своей судьбы, была для восхищенной Бондуки скорее подругой, чем королевой. Потом они легли и обрели наслаждение, в котором любовь возобладала над чувственным удовольствием. И Бондука, принявшая медленно действующий яд, умерла на вершине блаженства.
Прошло еще семнадцать лет. Как некогда воцарился мир Утера, теперь царил мир Артура. Несокрушимый Логрис и легендарный Круглый Стол воплотились в почти божественном триединстве: Артур, Мордред и Ланселот. Три поколения, являвшие собой лучшие образцы человеческой породы. Между тем благородные узы, скреплявшие этот тройственный союз, уже подтачивала кое-где разъедающая ржавчина, которая до сих пор не давала себя знать в чрезвычайных условиях непрекращавшихся походов и войн, подавляемая тем необъяснимым великодушием силы, которое поддерживает постоянная необходимость рисковать своей жизнью рядом с ближним и ради него. Этой разъедающей ржавчиной были: кровосмешение, супружеская неверность и ложь. Но мир стоял, как и прежде, империя Артура держалась непоколебимо, как если бы Бог и дьявол соединили свои усилия, чтобы сотворить совершеннейший из миров, когда-либо бывших на земле. И этот мир, основы которого заложил Мерлин, был в своем роде величественным продолжением его собственной двойственной природы. Быть может, в конце концов он бы и победил.
Прекрасная мечта рухнула по мановению руки. Богопротивная любовь Гвиневеры и Ланселота внезапно открылась и сделалась всем известной. Началась междоусобная война. Артур и Ланселот выступили войной друг против друга в Арморике, оставив правителем Логриса Мордреда, не захотевшего вмешиваться в этот спор. Но вскоре он — с обидой и гневом видя, как безрассудная страсть и беспутство торжествуют над разумом и законом, — возненавидел Артура и Ланселота за их безумие и за ту ничтожную причину, которая толкнула их — что борзых кобелей — к войне и которая делала их в его глазах недостойными Круглого Стола. Таким образом фанатизм, внушенный ему матерью с первых дней жизни, привел его — бывшего доселе могучим соратником Артура и идеальным воином Камелота — к мятежу и измене. Он всенародно открыл свое происхождение и былой грех короля, провозгласил себя законным государем Логриса, и велел казнить Гвиневеру. Артур, заключив перемирие с Ланселотом, возвратился в Британию во главе своей армии.
Отец и сын готовы были растерзать друг друга.
Мерлин покинул свое убежище и пересек море, но он вернулся слишком поздно, чтобы помешать крушению Логриса на поле Камланна. Артур и Мордред убили друг друга. Погибли все вожди и пэры Круглого Стола. Короли Арморики Ланселот, Лионель и Богорт, появившись в Камланне вслед за Мерлином, дали второе сражение каледонцам из Горры, пиктам из Горных земель и скоттам из Дальдриады, которые уже готовились вонзить зубы в труп Логриса. Победа осталась за ними, но все трое нашли свою смерть на поле битвы. Империя лишилась армии: из двадцати тысяч воинов Артура, тридцати тысяч воинов Мордреда, двенадцати тысяч воинов Ланселота, Лионеля и Богорта выжило только четыре тысячи человек из Арморики. Мерлин возглавил их, и, после того как на погребальном костре были сожжены тела Мордреда и других вождей, они вернулись в Беноик, взяв с собой останки четырех королей. Всеми владело ужасающее оцепенение, которое всегда наступает после крушения прежнего мира.
Это произошло в 539 году.
Утонувшая в бездне своего одиночества Моргана, будучи сама побеждена временем и отчаянием, все же восторжествовала.
Моргана продолжала свою бесконечную прогулку по дозорному пути на скале, начало которой было положено на заре ее одиночества — семнадцать лет тому назад. Каждый день, с восхода солнца до полудня, она неутомимо отмеряла эти двадцать миль, выйдя за пределы ограды и покинув безмолвие дворца — своей тюрьмы и гробницы одновременно, чтобы обрести в бесконечности моря и неба подобие материальной перспективы, которой так недоставало теперь ее жизни, мыслям и деяниям. В своем добровольном духовном заточении она словно бы находила отраду, вглядываясь в свободные волны и наблюдая за морскими птицами — единственными живыми существами в Авалоне, которые странным образом привыкли к ней и выказывали нечто вроде тайной приязни. Она ступала медленным, но твердым шагом, не утратившим с возрастом грациозной легкости. Ее прямая, стройная и хрупкая фигура, походившая на высохший цветок, даже отдаленно не напоминала самое прекрасное и самое желанное тело западного мира, утерявшее все былое великолепие, но сохранившее изящество. Лицо ее в обрамлении длинных, всклокоченных, белых как снег волос было ужасно — изборожденное временем, опустошенное ненавистью, печалью и наслаждениями. Казалось, будто из-под маски совершенной красоты вдруг проступили долго таившиеся душевные муки. Моргана вглядывалась то в неизменный горизонт океана, то в сердцевину острова, который постепенно возвращался в состояние дикости. Обработанные поля и ухоженные луга зарастали деревьями, кустарником и сорняками, которые сквозь трещины в стенах проникали в дома и пробивали крыши, трава накрыла густым сводом систему ирригационных каналов и уничтожила сеть тропинок. Девственный лес стер все следы пребывания человека на острове — нетронутыми остались лишь три большие, сделанные на века дороги, окруженный ими дворец, недоступный для натиска растений акведук, нерушимая стена в ущелье и ворота, которые открывались все так же легко при помощи уцелевшего механизма. Каждый первый день месяца Моргана приводила его в действие, чтобы забрать из складов припасы, оставленные для нее бывшими подданными из Иски и Долины Откуда Нет Возврата. Изобилие и роскошь продуктов, подарки — богатая одежда и драгоценности, письма — с новостями из внешнего мира и восторженными признаниями в любви, показывали, что их верность по отношению к ней также выдержала испытание временем.
Она подходила к северному караульному посту, когда на севере из-за стелившегося у самой воды тумана показались многочисленные паруса, а затем из дымной полосы вынырнули крутые бока сорока боевых трирем. Флотилия трех королевств возвращалась из Британии. Но Моргана увидела, что их палубы почти пусты, хотя при выходе из Беноика там было множество воинов — теперь же уцелевших едва хватало, чтобы идти на веслах. На носу командной галеры Моргана увидела огромного старца в белых одеждах, которого сразу же узнала. За его спиной, на широком помосте, установленном посреди палубы, лежали тела четырех воинов в полном вооружении. Она медленно двинулась по дозорному пути, следя за продвижением кораблей, которые обогнули восточную сторону Авалона и направились в порт Беноик. Командная же галера, подойдя к южной части острова, отделилась от остальных и встала на якорь. В море спустили легкую весельную барку с небольшим квадратным парусом. Сначала место в ней занял старик, потом ему с величайшей осторожностью передали тело самого рослого воина в самом роскошном вооружении. Старик поднял парус и взял курс на авалонский порт, тогда как трирема продолжила свой путь к Беноику. Спустившись по лестнице со стены, Моргана приоткрыла одну из створок ворот и вернулась во дворец. Там она накинула свиту, полностью закрывавшую лицо, и застыла в ожидании посреди тронного зала.
Прошло много времени, прежде чем вошел старик, неся на плечах тело воина.
— Остановись, Мерлин.
Мерлин вздрогнул, узнав прекрасный, ничуть не изменившийся голос Морганы, и осторожно опустил на пол свою ношу. Моргана переводила взор с Мерлина на Артура. Казалось, что возраст никак не повлиял на них обоих, сохранивших гордую осанку, телесную мощь и гармонию черт. Несмотря на изможденный вид, морщины, пышные седые волосы и бороды, она все так же видела в их лицах чистоту, благородство и красоту — нечто, отражавшее прежний блеск их изумительной юности. Странным образом Мерлин выглядел моложе Артура. И, хотя один был побежден, а другой мертв, они оставались — в поражении и в небытии — героями великой человеческой мечты, еще более прекрасной от того, что она рухнула. Мерлин сказал:
— Артур и Мордред — твой брат и твой сын — убили друг друга и в своем падении увлекли за собой Логрис и Круглый Стол. Я пришел сюда, чтобы исполнить твое желание и сдержать свое слово. И еще чтобы воздвигнуть усыпальницу для Артура, в месте, недоступном варварскому осквернению.
— Хорошо, Мерлин. Тебе придется свершить этот труд одному, ибо я ничем не смогу помочь тебе. Я осталась одна. Возьми все орудия, какие найдешь. Все необходимое тебе возьми из моего замка. Разрушь его до основания, если потребуется. Я позабочусь о твоей пище и о том, чтобы ты ни в чем не нуждался. Но не пытайся ни подойти ко мне, ни заговаривать со мной, даже издали. Когда достроишь усыпальницу, поставь внутри не один, а два саркофага. А потом уходи.
И она исчезла в недрах своего замка.
Пять долгих лет Мерлин работал день за днем, останавливаясь, чтобы передохнуть, только в короткие ночные часы, разделяющие то время, когда он уже больше не видел своей руки, и то, когда снова начинал ее различать. Он собрал сложные леса и сделал машины, способные поднимать на большую высоту тяжелые камни. Он забрал из крепостной стены и из замка все дерево и весь камень, какой смог использовать для строительства, а недостающее вырубил сам в древесных стволах и граните скал. Он построил одну прямоугольную залу, высокую и просторную, вроде кельи, окруженную снаружи резными колоннами, так что они полностью скрывали стены. Внутри ее было свободно, там был лишь голый и гладкий камень, и, как в пещере, малейший звук отзывался долгим эхом. Свет проникал туда только через большие двери с двумя тяжелыми, окованными железом деревянными створками. Посредине он вырезал в камне две гробницы, как и просила его Моргана. На стенах, за исключением той, в которой был вход, — высек историю Логриса: на левой стене — сотворение, на дальней стене — его торжество, а на правой — его гибель. Потом сделал еще девять каменных обелисков высотой в десять футов, шириной в пять и толщиной в три ладони. И на каждом из них вырезал выпуклое изображение. Расставил их вдоль стен, отступив от каждой на два шага, так чтобы изваяния голов были обращены в сторону гробниц. Перед стеной сотворения он поставил четыре таких обелиска, изображавших короля Уэльса, его деда и одновременно отца, его мать, Пендрагона и Утера. Перед стеной славы он поставил только один обелиск, на котором представил Артура. А перед стеной гибели выстроил в ряд четыре оставшихся камня с изображениями Морганы, Мордреда, Вивианы и Ланселота.
Местом для гробницы он избрал южный двор замка, и Моргана могла наблюдать за ним, следя за каждым его движением и жестом, из окон библиотеки, где она укрылась и откуда выходила только ночью, когда он спал. Она видела, как одержимо трудится этот могучий и неутомимый старик, беспощадно отбрасывая все, что казалось ему приблизительным или неумелым, воздвигая здание такого совершенства и красоты, словно он стремился вновь сотворить мир, который на сей раз будет лишен изъянов, словно хотел исправить в мертвом и неподвижном веществе то, что не смог уничтожить в живом теле и в живой душе, словно жаждал, невзирая на сокрушительное поражение, нанесенное ему историей, которая осталась глуха к его мольбам увековечить Круглый Стол, воссоздать идеал, используя в качестве строительного материала камень и слова, чтобы навсегда остановить ускользающее прошлое, побежденную мечту и мертвую плоть, словно преображал трудом рук своих гибель Логриса в нетленное торжество того, что могло бы быть. И Моргана вспоминала его слова, произнесенные в Кардуэльском лесу три четверти века назад: «Нужно попытаться построить дом в пустоте».
Пока Мерлин спал, Моргана приносила к дверям залы замка, которая служила ему жилищем и строительной мастерской, приготовленную ею обильную и хорошую пищу, равно как и все необходимое для поддержания чистоты его тела, а иногда и новую одежду. Затем она спускалась во двор и входила в созидаемую Мерлином усыпальницу. С особым вниманием вглядывалась она в изображения на обелисках и была потрясена, увидев собственный облик, запечатленный с несравненной силой, уверенностью и точностью, во всем блеске прежней красоты. Когда же она смотрела на гробницу, куда должны были лечь ее останки, и представляла себе, как вечно юная и прекрасная Моргана из вечного камня будет охранять истинную Моргану, олицетворяя победу нетленного отблеска над обратившимися в прах живой плотью и мыслью, то из глаз ее лились слезы горечи. И еще она не зная устали читала при свете факела, вновь и вновь перечитывала историю Логриса, высеченную на стенах. И она поняла, что это скорее история самого Мерлина — история мечты, деяния и поражения, утопической грезы одного человека, которую он завещал грядущим векам и которой суждено было оплодотворить поэзию многих народов.
И по мере того как утверждался этот памятник мифу, Моргана угасала. Некогда ей довелось увидеть, как время внезапно вышло из тени, где всегда подстерегало ее. Теперь она видела конец — смерть, которая надвигалась на нее, уже не таясь. Когда усыпальница была закончена, она почувствовала, что силы полностью оставили ее, и ушла в свои покои, где вытянулась на ложе. Там и нашел ее Мерлин, обессиленный завершением последнего своего труда и охваченный бесконечной усталостью. Он уже положил в одну из гробниц высохшие останки Артура и теперь вглядывался в эту маску Медузы, пытаясь обнаружить под ней черты Морганы. Она едва дышала. Внезапно глаза ее открылись, и он узнал их яркий зеленый свет. Она чуть слышно прошептала:
— Я не хотела, чтобы ты видел меня такой.
Он поднял ее на руки и прижал к своей груди, как делал, когда она была маленькой девочкой. Она снова заговорила:
— Я не знаю больше ничего о добре и зле, о любви и ненависти, о мечте и о небытии. Я знаю только, что я умираю. Но с тобой, Мерлин, мне не страшно.
И как когда-то в Кардуэльском лесу, она заснула у него на руках. И тогда Мерлин заплакал так, как не плакал никогда в жизни.
В своей легкой барке Мерлин удалялся от Авалона по направлению к побережью Беноика и своему убежищу в Дольнем лесу. Он запер большие ворота в стене и на веревке спустился со скалы на площадку перед портом. Замкнутый со всех сторон остров-крепость, прочнейший ларец для усыпальницы, в которой Артур и Моргана обрели вечный покой рядом друг с другом, примирившись наконец после долгой страстной любви и непримиримой ненависти, превратился в колоссальную гробницу, где были погребены Логрис, Круглый Стол и сам Мерлин, умершие здесь и теперь велением истории и силой вещей, дабы возродиться в другом месте и навсегда в словах легенды.
Артур Перевод Елены Мурашкинцевой
От автора
В конце этого повествования имеется одна глава, общая для «Мерлина» и «Артура» — первой и последней части трилогии. Я воспроизвел описание в той мере, в какой было возможно объединить романы с повествованием от первого («Мерлин») и третьего лица («Артур»). Сверх того, было желательно и даже необходимо показать одни и те же события и явления под другим углом зрения. Но, следуя логике, я целиком сохранил диалоги (примерно три страницы), поскольку они очевидным образом должны совпадать в обоих текстах.
Как в «Мерлине» и «Моргане», я использовал римские меры. Вот их соответствия:
Ладонь = 7 см
Фут = 29 см
Шаг = 1,48 м
Миля (тысяча шагов) = 1480 м
Югер = 25 аров, или 2500 м²
На Кардуэл медленно надвигалась ночь, уже охватившая восточные земли и еще более темная из-за низких облаков, пришедших со стороны великого западного океана, словно обе эти лавины мрака, рожденные на противоположных концах земли, решили сойтись над столицей Логриса, чтобы погрузить ее в полную черноту траура. И трауром была объята душа короля, чья гигантская тень застыла перед бойницей замка в верхнем городе. Он устремил взор в пространство. Море было пустынным, у входа в гавань пляшущие блики факелов временами освещали гладкую поверхность воды или пенистый гребень вздымающейся волны. Вооруженные часовые, выглядевшие на таком расстоянии жалкими, едва различимыми под сумрачным небом фигурками, расхаживали по укреплениям, которые уступами спускались вниз от дворца к колоссальной дамбе, защищавшей вход в портовую гавань. Улицы и проулки были безлюдны, сквозь окна стоявших вперемежку домов богачей и хибар бедняков просачивался свет ламп. Взгляд Артура упорно обращался к морю, где в этот первый день осени 491 года исчезли одновременно Моргана и Мерлин, сестра-любовница и отец-наставник, мятежница и творец, весь дух Логриса и вся душа короля. Они ушли навсегда этой дорогой, не оставив никаких следов: одна в Авалон — изгнанная навечно, как она того и желала, другой — в неизвестное убежище, став изгнанником добровольным.
С нечеловеческим усилием Артур оторвался от своих грез. Он побрел по коридорам и, остановившись перед одной из дверей, открыл ее и вошел в спальню. На кровати, освещенной пламенем лампы, спал подросток — почти ребенок. У него было длинное и тонкое, изящное и хрупкое, как у девочки, тело, но уже сейчас можно было угадать, каким высоким и мощным он станет, когда его мускулы разовьются в воинских упражнениях. Темные локоны обрамляли необыкновенно красивое лицо, в котором Артур узнавал черты Морганы и свои, унаследованные от их общей матери Игрейны. Он вздрогнул. Мальчик открыл глаза, и в лучах лампы они обрели пронизывающий ярко-зеленый цвет, который достался ему от одной лишь Морганы. Оба долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова.
— Моргана сказала тебе, что я — твой отец, Мордред? — произнес наконец Артур.
— Да, государь. И еще она сказала мне, что я не должен никому открывать это, потому что ты и она — единоутробные брат и сестра от одной матери, и в глазах людей я — плод греха.
— Да. Плод моего греха и моего величайшего счастья. Моего наслаждения жизнью. Смысла моего существования. И горечи жизни вследствие разлуки.
— Я думал, что смысл твоего существования — Круглый Стол.
— Нет, Моргана.
— Я не понимаю этого. Мать воспитала меня в почитании единственной ценности — Стола Камелота, хотя она и называла себя его врагом. Ты же, будучи воплощением Стола, любишь его врага — своего врага.
— Я не воплощение Стола, Мордред. Я не идея. Самое большее, дурной служитель ее, но прежде всего существо из плоти, любящей другую плоть — Моргану. Мы с ней возлюбленные и одновременно враги, но враги в меньшей степени, чем возлюбленные, даже если в конечном счете ненависть возобладает и разделит наши судьбы.
— Это будет только справедливо, государь. Мать сказала мне, что идея — это все, а человек — ничто.
— В таком случае она внушила тебе ценность идеи, существующей не для человека, а для самой себя. Она сделала из тебя не служителя Стола, а его врага. И я понимаю, каким путем хочет она его разрушить. Ибо самый страшный убийца живой плоти — это чистая идея.
Артур увидел смятение мальчика. И заговорил вновь:
— Кем хочешь ты стать?
— Служителем Стола.
— Я постараюсь это сделать. Но буду следовать плану Мерлина, а не Морганы.
Он улыбнулся Мордреду, положил руку ему на голову, слегка потрепал волосы, затем поцеловал в лоб. И смятение Мордреда усилилось, ибо никогда Моргана не ласкала его. В самом этом волнении он ощутил проблеск неведомого прежде чувства, которое было словно знаком запоздалой, смутной и поддавленной в нем способности любить.
Артур вышел и вновь стал бродить по замку. Перед высокой дверью, ведущий в покои Гвиневеры, он заколебался, но потом все же переступил порог. Молодая королева лежала на постели, перед ней стоял низкий столик, а вокруг суетились служанки и рабыни: она заканчивала вечернюю трапезу — позднюю и одинокую. Взглянув на Артура, она жестом приказала своим женщинам удалиться. Король уселся напротив нее.
— Ты вернулся ко мне, чтобы обладать мною? — спросила она. — Я этого ожидала. Ты покинул мое ложе в ту ночь, когда Моргана приехала в Кардуэл, и, пока она была здесь, не приближался ко мне. Вполне логично, что ты пришел ко мне в ту ночь, когда она отправилась в изгнание. Ты хочешь, чтобы Гвиневера стала бальзамом для любовной раны, которую нанесла тебе Моргана? Это уязвляет мое женское достоинство или тщеславие, но я соглашаюсь. Ибо я навсегда останусь королевой при тебе, а она, став изгнанницей, теряет тебя навсегда. Меня это вполне устраивает. Мне шестнадцать лет. Ей — тридцать три, она на два года старше тебя, и будущее — за мной. Поэтому ты можешь обладать мной. Возьми меня как желанную женщину — или, если тебе угодно, как необходимое снадобье. Что до меня, мне неведомо, люблю ли я тебя, но, сколь ни велика моя обида, я знаю, что хочу тебя, ибо ты самый красивый и самый могущественный муж западного мира, и я до сих ощущаю наслаждение, которое ты доставил мне в первые дни нашего брака.
Она выпрямилась, и ее легкое платье соскользнуло вниз, к стопам. Длинные золотые волосы, обрамлявшие прелестное лицо, струились по плечам и ниспадали на груди, налитые как у женщины и упругие как у девочки, блики от мерцающих светильников освещали обнаженное тело, и игра теней подчеркивала светозарную белизну кожи. Артур поднялся и, отступив на два шага назад, сказал ей:
— Прости меня.
Лицо Гвиневеры омрачилось. Подняв платье, она оделась.
— Тогда и я не буду любить тебя, — сказала она. — Ибо я знаю, что жизнь — это всегда сделка, и я не могу любить того, кто не любит меня. Во мне нет великодушия, и меня роднит с Морганой общая добродетель или общий порок: в моих глазах значение имеет лишь одно — я сама. Мне хватит того, что я королева Логриса и его империи. Мне хватит твоей власти, коль скоро у меня нет твоей любви. Конечно, если ты захочешь отринуть меня…
— На холмах Бадона я дал твоему умирающему отцу Леодегану клятву заботиться о тебе, и эта клятва для меня священна. К тому же, что бы ты ни думала, я тебя люблю — люблю настолько, чтобы не лгать тебе. Наши объятия были бы для меня притворным желанием и притворным наслаждением, ибо мной целиком владеет другая женщина. Исцелить меня ты не в силах, но снадобьем может стать время. Пусть действует время.
— Я не отличаюсь терпением, государь.
Артур направился к двери, открыл ее, обернулся. И повторил:
— Прости меня.
Он исчез в коридоре. Гвиневера рухнула на постель, обливаясь слезами горечи и гнева.
Выйдя из дворца, Артур пересек большой двор и подошел к крепостным воротам, выходящим в город. Он приказал караульным отворить их и двинулся по широкой булыжной дороге, ведущей прямо в порт. Оказавшись в нижнем городе, он углубился в кривые переулки, где стояли дома ремесленников и торговцев, их мастерские и лавочки, склады, таверны и постоялые дворы, хибары рыбаков и грузчиков, работавших в торговом порту, эргастулы — жилье и одновременно тюрьма для рабов-грузчиков и осужденных на галеры, казармы городской стражи. Он шел вперед без всякой цели, желая лишь избавиться от давящей атмосферы дворца и, быть может, смягчить душевную муку ходьбой. Запоздалые прохожие, будь то честные люди или преступники, при виде этого вооруженного колосса сначала шарахались в сторону, принимая его сообразно занятиям своим либо за ночного грабителя, либо за воина из дозорного патруля, но все — мирные обыватели, воры или убийцы — узнавали его и кланялись со словами приветствия и благословения. Ибо все — любя или ужасаясь — боготворили его. Проходя мимо входа в какое-то длинное двухэтажное здание, он услышал песни, крики и смех. Один из голосов показался ему знакомым. Он открыл дверь и оказался в огромной зале с низким потолком и большими столами: это была наполовину таверна, наполовину публичный дом, где посетители всех сортов — воины и торговцы, аристократы и плебеи, моряки и наемные убийцы, бритты и чужеземцы — предавались оргии, утоляя страсть к вину и к женщинам. Служанки исправно разливали напитки и торговали своим телом, а за ними присматривал гигант с мечом на боку: расхаживая между столами, он кланялся богачу, приказывал бедняку немедля расплатиться, избивал женщину, пытавшуюся уклониться от причудливых домогательств жестокого развратника.
«Это и есть мир, Мерлин, — подумал Артур. — Мир, который твой закон тщится преобразить, мир, где все подчинено насилию и страданию, все покупается и продается, где сильный наслаждается и властвует за счет слабого, считая это своим правом, тогда как последний жаждет получить такие же права, одновременно желая в отчаянии своем вовсе не существовать. Мир насилия, господства и подчинения. Старый мир — не потому, что он исчез, уступив место твоему, а потому, что он всегда был и всегда пребудет, пусть даже закон твой принудит его на время укрыться в подполье. Этот мир открыто торжествует в деяниях подонка и прячется, словно тайная опухоль, в душе праведника. И в моей тоже…»
Он сделал несколько шагов вперед. Кто-то крикнул:
— Король!
Все застыли на месте, и внезапно наступила тишина. Высокий, стройный, но вместе с тем могучий и совсем молодой воин с пригожим улыбчивым лицом, слегка зардевшимся от смущения, поднялся из-за стола, где угощал продажных девок, и двинулся навстречу Артуру. Этот шестнадцатилетний юноша, сын Лота Орканийского, павшего год назад на бадонских холмах во время великой битвы бриттов с саксонскими захватчиками, в первом же бою выказал столь необыкновенную доблесть и отвагу, что сразу занял место своего отца за Круглым Столом. По своей матери Моргаузе, старшей дочери Игрейны и единоутробной сестре Артура, он приходился королю племянником. Звали его Гавейн.
— Государь, — сказал он, — зачем ты пришел сюда? Разве ты не знаешь, что это самый веселый и самый гнусный лупанарий во всей твоей империи?
— Тот же вопрос я собирался задать тебе, — сказал Артур. — Я вошел, потому что узнал твой голос, вернее, твое ржание.
Гавейн расхохотался.
— Стало быть, в этой конюшне мне самое место. Ты знаешь, как в моем возрасте жаждут плотской утехи, которую дарят чресла, не прибегая к посредничеству слов. Прекрасные дамы при твоем дворе так деликатны и так неприступны с их тайными матримониальными планами. Огородившись правилами приличия и преуспев в риторических недомолвках, они тоже продаются, но обходятся гораздо дороже здешних дам, весьма доступных и, в сущности, великодушных. Короче говоря, твой двор наводит на меня тоску, и я прячусь на этом заднем дворе здорового беспутства, где мне недостает лишь одного человека — тебя, государь. Но раз уж ты по моей вине вляпался в эту грязь — бальзам души, воздействующий снизу, то я совершенно счастлив. И мне даже не нужно приветствовать тебя как гостя, ибо король всюду у себя дома.
Артур обратил взор к столу, где по-прежнему сидели подруги Гавейна — самые молодые, самые красивые и самые разряженные девицы заведения, которым поручалось обслуживать лишь знатных и богатых посетителей. Внезапно он вздрогнул всем телом. Одна из них, грациозно повернув голову, отчего по ее иссиня-черным волосам скользнул блик от лампы, пристально взглянула на него большими зелеными глазами. И в этом движении, волосах, взгляде — больше, чем в чертах, хотя и обольстительных, но походивших на грубый набросок с совершенной модели — он увидел отдаленное подобие, мгновенный отблеск не столько образа, сколько повадки Морганы. И эта неясная греза, еще более смутная в полусумраке, поразила его сильнее, чем полное и безупречное сходство. Он приблизился к ней. Она смотрела на него со страхом и обожанием.
— Ничего не говори, — сказал он, — ни единого слова. Отведи меня в спальню.
Под изумленными взглядами подруг и наполовину озадаченным, наполовину обрадованным взглядом Гавейна она поднялась и повела его за собой на второй этаж, в грязную комнатушку, где не было ничего, кроме ложа. Сорвав с нее платье, он овладел ею с яростью отчаяния и с таким свирепым желанием, что она, уже до глубины души потрясенная его красотой и мощной статью, получила истинное наслаждение. Артур же, едва испытав плотскую радость, почувствовал себя опустошенным, ибо вернулся к горькой и жестокой реальности. Нежно обняв женщину, он прижал ее к себе. И заплакал, как плакал некогда, увидев Моргану, вернувшуюся из первого изгнания после тринадцатилетней разлуки, тяжесть которой он ощущал каждое мгновение. Придя в себя, он отстранился от нее, снял с руки тяжелый золотой браслет, украшенный драгоценными камнями, и отдал ей. Она схватила подарок с недоуменным восторгом и пугливой жадностью, ибо за такую вещь можно было бы купить весь нижний город. Он вышел из комнаты и, спустившись в сопровождении женщины на первый этаж, в большую залу, направился к столу Гавейна. Наблюдавший за служанками громадный хозяин заведения увидел у женщины браслет и с алчным урчанием сорвал его с руки.
— Отдай ей это, — приказал Артур.
— Но, государь, все, что дарят девкам, принадлежит мне, ведь я несу расходы по их содержанию и плачу им жалованье. Таков закон моего дома.
— Ты думаешь, что закон твоего дома выше закона Логриса? Ты думаешь, что закон Мерлина и Круглого Стола не должен царить повсюду, пусть даже речь идет о лупанарии? Закон же гласит так: если эти женщины твои рабыни, ты не имеешь права торговать их телом. Если они свободны, тебе причитается лишь часть — малая часть — их доходов в уплату за кров и пищу. И ты не можешь отдавать им какие бы то ни было приказы, ибо ты не господин их, а всего лишь хозяин дома, где они нашли приют. Однако я заметил, войдя сюда, что ты ведешь себя иначе. Ты вне закона. Повелеваю тебе покинуть это место и изгоняю тебя из Логриса. Будь доволен, что избежал каторжных галер. Гавейн!
— Да, государь?
— У тебя есть золотые?
— Да.
— Дай их мне.
Гавейн насыпал в подставленную ладонь Артура горсть монет, и король швырнул их в гиганта, над которым они пролились шумным дождем.
— Подбери. Отдай женщине браслет и убирайся.
В глазах хозяина борделя сверкнула ненависть. Совершенно потеряв голову и поддавшись необузданной ярости, он выхватил меч и ринулся на Артура, который не стал вынимать свой: искусный во всех боевых приемах, он легко уклонился от удара, и его кулак опустился на голову противника. Тот рухнул на пол. Затем, с трудом встав на ноги, подобрал браслет и меч.
— Держи! — сказал он женщине. — Забирай подарок короля. Я его уже не отниму, потому что мне на этом свете не жить.
Она протянула руку. Но он, вместо того чтобы отдать браслет, занес над ней острие. Стоявший рядом Гавейн одним гибким движением всего тела выхватил меч и нанес по основанию шеи удар такой силы, что голова слетела с плеч.
— Фу! — молвил Гавейн. — Эта башка выглядит совсем не аппетитно, и, на мой вкус, ее не дожарили.
Артур повернулся к женщине, которая, преодолев отвращение, вырвала браслет из скрюченных пальцев мертвеца. Она показалась ему красивой, но сходство с Морганой пропало напрочь, и он подивился, сколь сильным было исчезнувшее теперь наваждение.
— Отдаю тебе этот дом, — сказал он ей. — Соблюдай закон Логриса. Знаю, что ты его не нарушишь, поскольку сама изведала жестокость другого закона. Подбери золотые монеты. Если у убитого есть наследник, уступи их ему в возмещение ущерба. Если нет — раздели их со своими товарками.
Подойдя к нему, она шепнула:
— Увижу ли я тебя вновь, государь?
— Возможно. Почему ты спрашиваешь?
Она заколебалась, словно страшась собственной дерзости.
— Потому что я люблю тебя, государь.
— Я вернусь. И наваждение тоже.
Она не поняла. Артур обратился к молодому аристократу, который жестоко и развратно обошелся с одной из девок:
— Ты со своими друзьями отнесешь труп к морю и бросишь в волны, ибо этот человек был осужден на изгнание и, даже будучи мертвым, не имеет права на погребение в земле Логриса.
Побледнев, они безмолвно поклонились. Гавейн схватил за волосы отрубленную голову и бросил ее им.
— Башку не забудьте! И действуйте украдкой, как убийцы, не попадитесь на глаза патрульным.
Он двинулся следом за королем, который уже ступил за порог. Они стали медленно подниматься к замку. Артур издал смешок, лишенный радости.
— Славное начало полноправной власти! — сказал он. — Закон Логриса и правосудие Круглого Стола торжествуют в лупанарии… Мерлин гордился бы мною.
— С какого-то конца нужно начинать, — сказал Гавейн. — И часто нижний имеет свои преимущества. От лупанария к империи! В этом скромном, но неуклонном восхождении есть и очарование, и логика.
Артур невольно улыбнулся.
— Неужели в этой безумной голове нашла пристанище философия? Некий взгляд на мир или какой-то принцип, способный преобразить его?
— Это было бы тяжкой задачей для самого Мерлина. У меня есть только один принцип, и философия моя проста, государь. Мудрецы, подобные Мерлину, Моргане или тебе, всегда все усложняют. Они вопрошают: в чем первопричина жизни, которая помогла бы нам понять природу смерти? Или же спрашивают: диалектика жизни и смерти относится к явлениям божественным или механическим, и, поскольку этот великий закон служит первопричиной всех других законов, являются ли они объектом метафизики или манипуляций шарлатана? Я же воспринял атараксию[10] Зенона и Эпикура не как конечную философскую цель всего существования, но как принцип: если жизнь и смерть мне равно безразличны, все становится простым. Следовательно, не имеет значения ни мудрая, ни безумная голова. Безумная лучше — она забавнее. Я постиг атараксию в битве при Бадоне и над телом моего отца поклялся, что отныне не буду принимать всерьез ни жизнь, ни смерть.
— А власть над людьми? Допускает ли она безразличие?
— Государь, как ты думаешь, почему я отдал тебе Орканию, мое наследственное владение, которое ты сделал одной из провинций Логриса? Именно для того, чтобы избежать налагаемой властью ответственности. Но я вовсе не порицаю тех, кто ее принимает. К примеру, ты обладаешь высшей властью во всем западном мире, но ни к одному человеку не испытываю я такой любви и такого восхищения. Вот почему я отдал тебе в дар и жизнь свою, и смерть — в надежде, что ты, понимая, кто я такой, простишь меня за столь скромный подарок.
Артур взглянул на него любовно, но не без раздражения. Какое-то время оба они молчали.
— Почему, — вдруг спросил Артур, — произнес ты эти слова о «бальзаме души»? Сам ли ты по-прежнему скорбишь или просто догадался о моей скорби?
— Хоть я и легкомыслен, но глуп не больше, чем необходимо. Я знаю, что означает для тебя потерять в один день Мерлина и особенно Моргану. Опустошение души и всех чувств, абсолютное одиночество и вечная разлука.
— Да. Мерлин оставил мне все, Моргана — ничего. И эта тяжесть мира, тяжесть власти сокрушает тем сильнее, что давит лишь на оболочку человека, в котором страсть создала полную пустоту.
Помолчав еще немного, Артур продолжал:
— Однажды Мерлин сказал мне, чтобы я не отрекался ни от Стола, ни от Морганы. Могу ли я сделать это, не уничтожив самого себя?
— Да, государь. Именно это ты и сделал сегодня вечером. Ты переспал с этой черноволосой и зеленоглазой шлюхой — и утвердил правосудие Круглого Стола. И, как видишь, ты остался жив.
— После гибели короля Лота в сражении при Бадоне, — сказал Артур, — Гавейн отказался от своего наследственного владения, и оркнейцы теперь — единственное племя Логриса к северу от стены Адриана. Оказавшись за пределами империи и отделенные от нее обширными враждебными землями, они подвергаются бесконечным грабительским набегам пиктов из Горных Земель. Лоту удалось предотвратить это — благодаря союзу, который он заключил с Мерлином и моим отцом Утером-Пендрагоном, а также благодаря своему военному и политическому гению. Кроме того, он управлял независимым каледонским королевством, поэтому пикты считали его если и не совсем своим, то чем-то вроде отдаленной родни. Теперь же, когда Оркания стала бриттской провинцией и частью Логриса, пикты смотрят на нее как на чужую землю, которую можно не только грабить, но даже попытаться захватить. И, хотя мы держим там армию из четырех тысяч воинов, они не в состоянии уследить за всей границей и побережьем, ибо пикты нападают как с суши, так и с моря, действуя небольшими отрядами, которые появляются и исчезают молниеносно, так что настичь их крайне трудно. Поэтому в Оркании все страшатся их набегов, и никто не чувствует себя в безопасности, отчего замерла всякая деятельность и любые планы обречены на провал. Молодой военный вождь этой провинции — Ивейн, сын сестры Лота, двоюродный брат Гавейна по крови и мой племянник по свойству, — прибыл в Кардуэл, чтобы просить помощи королевской армии.
Артур держал речь перед Круглым Столом, в самой большой зале крепости Камелот, находившейся в центре общины дуротригов, в одном дне конного перехода к югу от Кардуэла. Вокруг гигантского Стола располагалось сто пятьдесят мест — по числу пэров, занимавших их до битвы при Бадоне. Но сейчас они большей частью пустовали. Лишь двадцать вождей уцелели в том ужасном бою, где погибли остальные сто тридцать, и на смену им пришли немногие, ибо наследники погибших в основном не достигли еще должного возраста, а опекуны, назначенные королем для временного управления в их общинах, не имели права сидеть за Столом. Все старые воины времен Утера, пэры первого Стола, учрежденного Мерлином, полегли на Бадонском поле, самыми же прославленными среди убитых были Лот и Леодеган, король бригантов и отец королевы Гвиневеры. Старейшему из нынешних пэров исполнилось всего тридцать пять лет. Это был Кэй, сын Эктора, у которого Артур провел первые пятнадцать лет своей жизни по распоряжению Мерлина, желавшего лично заниматься его воспитанием без всякого вмешательства двора. Кэй называл себя молочным братом короля, поскольку вскормила их — с двухлетним перерывом — одна женщина. Артур же, в память о детских годах, любви Эктора и играх с его сыном, сделал пэром Кэя, который сам по себе никогда не был бы допущен в собрание Круглого Стола.
Кэй был приземист, крепко сбит и силен, фигура у него была почти квадратная, черты лица грубые и добродушные, характер веселый, но вспыльчивый вследствие скромности происхождения. Не отличаясь большой ловкостью во владении оружием, он единственный среди приближенных Артура нацеплял поверх положенной вождям кольчуги железные пластины, а на голову надевал шлем. Но противником он был опасным, ибо не фехтовал мечом, а рубил, словно дровосек, нанося столь мощные удары, что отразить их не мог никто, кроме короля. На советах Стола Кэй противился новшествам, всячески оберегая закон и лишь подмечая — с определенной прозорливостью — некоторые его несообразности практического свойства. Философские идеи он по тупости совершенно не воспринимал, зато всегда здраво оценивал соотношение сил, считая любую войну оправданной не моральной правотой, а уверенностью в победе. Вся его этика сводилась к абсолютной преданности Артуру — единственному человеку, которого он любил.
Поодаль от Стола стоял Мордред — безмолвный слушатель, допущенный в эту святыню Логриса, запретную для всех, кто не был пэром, лишь милостью короля, желавшего подготовить его к будущим обязанностям. Через несколько месяцев, в начале весны 493 года, ему должно было исполниться четырнадцать лет, и за полтора года, проведенные в Кардуэле, он заметно вырос и окреп. У него обнаружились необыкновенные способности ко всем видам оружия, но с особым искусством он действовал мечом и мог уже противостоять Гавейну, который превосходил его не ловкостью, не мощью, не быстротой и не выносливостью, но только опытом. Обладая очень живым умом, хотя и склонным к чистой абстракции — этической, а не математической, что было следствием избирательной педагогики Морганы, он преклонялся перед законом Логриса, созидательной мыслью Мерлина и его наследника Артура, проявившейся во время учреждения двух Столов — в Кардуэле в 461 году и в Камелоте в 478 году. Он помнил обе речи наизусть и порой осмеливался обсуждать их с Артуром, своим единственным собеседником, ибо в присутствии других держался очень скромно и почти не раскрывал рта. К Кэю он не ощущал никакой привязанности, а крайне легкомысленного Гавейна подозревал в безнравственности, но был бессилен справиться со смутной любовью к нему. Гораздо больше нравился ему характер Ивейна, которого он увидел впервые.
Этому племяннику Лота едва минуло семнадцать лет, он был ровесником Гвиневеры и Гавейна, однако в Оркании и даже в Логрисе его уже признали мудрым правителем, справедливым и честным вождем, опытным стратегом, достойным продолжателем дела своего дяди, от которого он, видимо, унаследовал склонности и способности — в обход прямого наследника. Невзирая на доблесть и мастерство, он уступал Гавейну в воинском искусстве, зато намного опережал того в области военной тактики. Равным образом, хоть он был и не так хорош собой, как Гавейн, унаследовавший черты своей матери Моргаузы, старшей дочери Игрейны — красивейшей женщины западного мира, которую превзошла только ее младшая дочь Моргана, — лицо его выражало благородство и доброту, а обходительностью своей он больше привлекал сердца. Столь несхожие между собой двоюродные братья могли бы стать соперниками или даже врагами. Эти же двое любили друг друга. В отличие от Мордреда, Ивейн не воспринимал всерьез нарочитую и показную насмешливость Гавейна, которая, впрочем, его забавляла и которую он считал довольно удачной маской для сокрытия того природного великодушия, что проявляется как бы помимо воли в поступках, а не в словах. Гавейн восхищался достоинствами Ивейна, не пытаясь им подражать, и ощущал признательность за то, что кузен возложил на свои плечи ответственность за дом Лота и связанные с этим обязанности, которые ему самому казались скучнейшими в мире.
Ивейн взял слово сразу же после Артура:
— Пикты — самые свирепые и дикие варвары среди всех каледонцев. Они чрезвычайно воинственны и порой сражаются друг с другом, если не находят общего врага. Ради устрашения противника они покрывают тело и лицо синей краской, добывая ее из растения, которое германцы именуют вайдой, а жители Средиземноморья — пастелью. У них нет городов, но повсюду разбросаны их поселения: постоянные — если занимаются они земледелием, передвижные — если следуют за своим скотом, переходящим с пастбища на пастбище. Им принадлежат в Горных Землях две разные области — западное побережье и плодородные долины на северо-востоке. Сражаться нам нужно только с обитателями долин, ибо пикты, живущие на побережье, никаких набегов в Орканию не совершают. Вот уже несколько лет они воюют с захватчиками, приплывшими сюда с большого острова, который римляне именовали Иберния, а саксы — Ирландия. Эти чужаки из племени скоттов основали на пиктском берегу колонию под названием Далриада. Война идет ожесточенная, исход ее неясен, но для нас она выгодна, и вмешиваться в нее нам не следует. Мы также не должны бояться, что нашим врагам придут на подмогу каледонцы из Нижних Земель, а именно — из Горры. Хоть они и родня пиктам, которые вступают с ними в брак и во множестве поселяются среди них, им известно, что при малейшем проявлении враждебности их раздавит наша северная армия, стоящая вдоль стены Адриана в общине бригантов. А после того, как Мерлин заключил союз между Утером и Леодеганом, Горра больше всего на свете страшится Логриса. Итак, нашим единственным противником будут северо-восточные пикты, которых отнюдь нельзя недооценивать. Они многочисленны и очень подвижны, в открытое сражение, где мы без труда возьмем верх, не вступают, а наносят мгновенные удары и тут же исчезают. У них нет никакого кодекса воинской чести, они используют все доступные им средства и бьются даже с большим ожесточением, чем саксы. Поэтому нам следует готовиться к войне долгой во времени и быстрой в пространстве, войне на истощение и выносливость, где численное превосходство большого значения не имеет, а важны быстрые передвижения и постоянная бдительность, представляющие тяжкое испытание для духа и тела.
— Полностью доверяясь мудрым советам Ивейна, — сказал Артур, — я принял следующее решение: я сам возглавлю поход против пиктов и возьму с собой только шесть тысяч всадников королевской армии, оставив здесь восемь тысяч пехотинцев. Из гарнизонов общин и северной армии ни единого человека я не заберу. Мне нужны только конные воины, поскольку нам вследствие разбросанности и подвижности вражеских сил придется двигаться очень быстро. Королевская кавалерия и регулярная армия Оркании вместе составят войско в десять тысяч человек — этого достаточно для победы. Помогать мне будут Кэй, Ивейн, Гавейн и Мордред, который уже в состоянии сразиться с реальным противником, а также двадцать военачальников, назначенных командирами моей конницы. Каждый должен иметь двух лошадей. Мы отправимся в Каледонию самым коротким и легким для нас морским путем, на пятидесяти боевых триремах — это половина военного флота Логриса, стоящего на якоре в Кардуэле. После нашего отплытия двадцать пять галер останутся в оркнейских водах, чтобы обезопасить побережье от вражеских вылазок с моря. Поход обещает быть долгим, поэтому двадцать пять других галер будут постоянно курсировать между нами и Логрисом: туда — отвозить мертвых и раненых, нам — доставлять свежие подкрепления, сменных лошадей и новое оружие, а также снаряжение и съестные припасы, ибо я не хочу облагать Орканию тяжкой военной податью. Мы выступаем в конце зимы.
— Рассказывайте мне после этого о саксах! — воскликнул Гавейн. — Они любезно выстраивают свое войско так, чтобы можно было свободно потрошить друг друга, под открытым небом, без всякой спешки, пока кого-нибудь не истребят дотла, и все споры улаживаются в одной битве. Но эти пикты понятия не имеют о хороших манерах. Устраивают засаду, убивают исподтишка и исчезают на своих проклятых Горных Землях. Здесь нужны не воины, а крестьяне, умеющие выгонять крыс из нор. Словом, это должна быть армия, состоящая только из Кэев. Как жаль, что мы привезли с собой лишь одного!
Это были первые весенние дни 499 года — начало седьмого года войны. Странной войны почти без сражений, отчего королевская армия никак не могла одержать решительную победу, а в результате дерзких и почти всегда ночных нападений противника потеряла уже тысячу всадников. Среди пиктов погибших было лишь немногим больше, хотя все их постоянные селения были стерты с лица земли, плодородные долины захвачены, запасы зерна отобраны, сторожевые башни из кирпича срыты до основания, а оставшиеся дома мирные жители уведены в Орканию как пленники. Но воины пиктов большей частью сумели пробраться в трудно доступные для кавалерии горы, где у них было множество тайников и укрытий. Они увели с собой молодых женщин, детей и скот, необходимый им для выживания, ибо землю обрабатывать они уже не могли. Впрочем, одна цель похода была достигнута: грабительские набеги полностью прекратились, поскольку на суше за пиктами охотились королевские всадники, на море крейсирующие вдоль побережья корабли Артура без труда догоняли и топили вражеские барки, а регулярная армия Оркании, которую теперь ничто не отвлекало, надежно охраняла границу. Провинция наконец обрела полную безопасность, и благосостояние ее росло. Однако Артур не мог вечно держать такую военную силу в столь скромной и удаленной части империи. Пребывавшие в Кардуэле и в Камелоте пэры Стола уже несколько раз требовали его возвращения — в частности, в связи с серьезными событиями, происходившими по ту сторону моря, в галльской Арморике, где нападению подверглись провинции Беноик и страна гонов, которыми управляли союзники Логриса Бан и Богорт. Кроме того, затяжная война исподволь подтачивала боевой дух армии — постоянное тревожное ожидание и нескончаемые засады стали тяжким испытанием для духа, а не для тела. Напряжение приводило к ссорам между воинами и даже между командирами. Особо частыми были стычки Кэя и Гавейна, которых приходилось вразумлять самому королю.
Услышав саркастическое замечание Гавейна, Кэй тут же взорвался:
— Не потому ли, что породил тебя союз севера и юга, Оркании и Думнонии, стал ты похож на заблудившегося и озлобившегося пса, который не знает, куда ему приткнуться и как себя вести? Ты обязан относиться ко мне с уважением как к старшему по возрасту, правой руке и молочному брату короля!
— Молочный брат! — со смехом воскликнул Гавейн. — Видно, придется королю усадить за Стол всех телят, которые делили с ним материнское молоко!
— Молоком меня оскорбляешь? — вскричал Кэй. — Но на сей раз я залью его твоей кровью. Отойдем в сторону и обнажим мечи! Я расколю надвое пустую скорлупу, что служит тебе вместо головы!
— Я не пень, чтобы терпеливо ожидать, пока ты размахнешься! За то время, что нужно тебе всего лишь для одного удара, я успею изрезать тебя на мелкие кусочки, если, конечно, клинок мой пробьется сквозь железные побрякушки, которые ты навешал на себя из кокетливой предосторожности!
— Кэй и Гавейн, замолчите! — приказал Артур.
В этот момент Мордред направил своего коня к королю. Ему только что исполнилось двадцать лет, и он, сохранив унаследованную от матери изумительную красоту лица, обрел стать и мощь Артура. Все считали его вторым воином Логриса после короля, ибо он обошел даже Гавейна, хотя в столкновениях с пиктами тот получил славу непобедимого бойца.
— Государь, — сказал Мордред, — за шесть лет войны я хорошо изучил эту страну и обнаружил все места, куда кавалерии трудно добраться и где пикты устроили свои убежища. Именно там они и прячутся после своих вылазок. Нам не следует сражаться с ними в условиях, выгодных лишь для них, и у меня возник план, как заставить их всех выйти прямо на тебя, чтобы ты мог в решающей битве положить конец войне.
— Как же ты убедишь их, — спросил Артур, — совершить подобное безумие?
— Прошу тебя довериться мне и дать мне тысячу всадников. Также прошу тебя отвести войско к границе Оркании и ждать меня там, ибо оркнейская армия нам понадобится. Возможно, я приведу гораздо больше пиктов, чем предполагаю сейчас.
Артур смотрел на Мордреда с благожелательным любопытством.
— Что вы об этом скажете? — обратился он к военачальникам.
— Пусть Мордред изложит свой план, — сказал Кэй, — а мы посмотрим, можно ли его осуществить.
— Сейчас я не могу этого сделать, — ответил Мордред. — Если слух о моем плане дойдет до пиктов, они найдут средство провалить его.
— Я не только полностью доверяю Мордреду, — сказал Гавейн, — но хочу быть вместе с ним. Ты возьмешь меня?
— Да, Гавейн.
— Мордред столь же смел, сколь мудр, — сказал Ивейн, — и я тоже полностью ему доверяю.
— Равно как и я! — произнес Артур. — Отбери себе всадников, Мордред, и выступай! Я буду ожидать тебя у границы.
Шесть дней спустя Артур стоял в одиночестве на холме, откуда ему был виден весь горизонт к югу от границы, где он, следуя совету Мордреда, расположил свою кавалерию и пехотинцев оркнейской армии. Он тревожно всматривался в даль, пытаясь разглядеть хоть какие-то признаки возвращения тех, кто отправился в поход. Наконец он увидел мчавшегося галопом всадника. Это был Гавейн. Заметив на вершине холма четко выделявшуюся на фоне синего неба громадную фигуру на рослом боевом жеребце, тот поскакал к королю. Конь его дрожал от изнеможения. Сам он тоже выглядел усталым, но при этом веселым.
— Государь, — произнес он, — Мордреду пришла в голову великолепная мысль, и успех ее превзошел все ожидания. Тяжко пришлось и всадникам, и лошадям, потому что за шесть дней мы спали меньше десяти часов, но зато возвращается нас в пятьдесят раз больше, чем отправилось в поход.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Посмотри!
Южный горизонт словно бы заколебался в каком-то движении, и вскоре расположенные в нескольких милях холмы заполонили бегущие стада.
— Пятьдесят тысяч голов! — воскликнул Гавейн, расхохотавшись. — Коровы, быки, телята, козы и овцы. Весь скот пиктов! Ты отнял у них хлеб с овощами, а Мордред лишил их мяса и молока. Тяжкий пост! Поэтому все воины Горных Земель — по меньшей мере, двадцать тысяч — ринулись за нами в погоню, ибо стоны пустого желудка действуют лучше кнута. Они пешие, но идут быстро. От нас отстают лишь на полдневный переход.
— Стало быть, их будет вдвое больше, чем нас?
— Да. Мордред заметно ошибся в своих расчетах, и я не знаю, стоит ли этому радоваться.
— Я вижу плоды его затеи, но в чем состоял сам план?
— Сначала мы двинулись на юг по долинам, тщательно размечая въезды и спуски предназначенных для захвата холмов. Обследовав их все, мы понеслись галопом на север, забирая с собой всех четвероногих обитателей этих природных крепостей. Пикты облегчили нам задачу, не давая скоту свободно пастись и собрав его в нескольких местах, чтобы легче было следить за ним. При каждой нашей вылазке они прятались в убежищах вместе со своими семьями, готовясь отчаянно защищаться и полагая, что мы действительно хотим напасть на них. Когда же они поняли, что к ним заявились не воины, а обыкновенные грабители, было уже слишком поздно. Чем ближе подходили мы к северу, тем больше тучнело наше стадо — полагаю, в западном мире никто не видел такой груды мяса. Вот так, государь, отправлял ты в поход бойцов, а возвращаются к тебе пастухи — волопасы, козопасы, овчары — и, главное, воры.
Артур засмеялся.
— Едем, — сказал он. — Нам нужно разомкнуть оборонительные редуты, чтобы отвести скот в наши тылы, за границу. А также подготовиться к битве, которая будет ужасной.
— Да, — отозвался Гавейн. — Слово «бойня» кажется мне вполне уместным для такого случая.
Они вернулись в королевский лагерь. Гавейн проследил за тем, чтобы в укреплениях на границе был сделан достаточно широкий проход, затем сменил свою обессиленную лошадь на свежую и поскакал навстречу Мордреду, чтобы тот двинул скот в нужном направлении. Артур, который намеревался возглавить атаки своей кавалерии, расставлял войска с помощью Ивейна, командовавшего оркнейской армией.
Через три часа после возвращения короля показалось громадное стадо, окруженное со всех сторон логрскими всадниками, которые подгоняли животных громкими криками. Взмыленный, как и лошади, скот мчался вперед галопом, с большим трудом выдерживая заданный темп: быки яростно ревели, взбешенные коровы били рогами всех, кто слишком давил на них, телята растерянно озирались, козы спотыкались и пытались останавливаться, тогда как овцы продвигались вперед плотной массой, с чисто бараньим упрямством. Лица у воинов осунулись от бессонных ночей, но одновременно сияли от радости, ибо изнурительная гонка подошла к концу и завершилась полным успехом. Только Мордред не выказывал ни усталости, ни веселья, и его прекрасное лицо оставалось, как обычно, непроницаемым. Стадо устремилось в проход, который за ним сразу же закрыли. Животные, не слыша больше криков и почувствовав свободу, вскоре остановились и, разбившись на стада по породам, принялись щипать травку и пить воду из ручья.
Мордред на дымящемся скакуне подъехал к Артуру.
— Государь, — произнес он, — мы не потеряли ни одного человека. Пикты следуют за нами, они в полдневном переходе от нас, может быть, и ближе. Всадники, которых я оставил в арьергарде, чтобы наблюдать за ними, сказали мне, что их почти двадцать тысяч. Такого числа я не ожидал. Победа для них — вопрос жизни и смерти, поэтому они идут сюда все. Но для нас дело обстоит иначе, если только ты не погибнешь в бою: такая катастрофа превратила бы незначительное поражение в гибель Стола и империи, ибо ты их душа, и заменить тебя невозможно. Логрис может обойтись без всех нас — кроме тебя. Поэтому прошу тебя держаться в стороне от сражения, ибо ты не должен ставить свою воинскую честь и любовь бойцов к тебе превыше судеб мира.
Артур в задумчивости посмотрел на него, затем улыбнулся.
— Ты помнишь, Мордред, — сказал он, — наш первый разговор? Идея для человека или идея для идеи… Стол и империя — не абстрактная идея. В них воплощается человек Логриса, который начал меняться во исполнение мечты Мерлина. Но это всего лишь человек, не более. В нем сочетаются идеи и чувство, плоть и кровь. Отделенная от плоти идея взывает, чтобы я укрылся от боя, согласно твоему желанию. Но логрская плоть требует, чтобы я сражался за нее, иначе перестану я понимать идею и даже стану ее врагом. Если же идея и плоть начнут враждовать, рано или поздно кто-нибудь из них убьет другого. В свою очередь, уцелевший неизбежно умрет, ибо они живут друг другом. Какая опасность больше? Рискнуть жизнью в бою или же умереть наверняка в случае бегства?
На лице Мордреда вновь выразилось то детское смятение, которое он ощущал в начале своего пребывания в Кардуэле, когда метался между отрицанием законов тела, сердца и чувств, что было внушено ему Морганой, хотя в ней самой они проявлялись в крайней степени, — и защитой их устами Мерлина и Артура, воплощавших для него самый высокий идеал.
— Тогда, — сказал он, — позволь мне биться рядом с тобой и разделить твою судьбу. Ибо мне нет смысла жить, если ты умрешь.
— Я тронут твоей любовью, Мордред, и не имеет значения, кого ты любишь — реального Артура или же свое представление о нем. Но мне ты не нужен. Ты нужен своим всадникам. И ты займешь предназначенное тебе место, возглавив их. Это приказ. А теперь, взяв пример с твоих собратьев-воров, ложись спать. Я сам разбужу тебя, когда покажется враг.
— Я не чувствую никакой усталости и совершенно не хочу спать.
— Положительно, у тебя нет тела. Из чего ты сотворен?
— Из твоей крови. И молю Бога, чтобы эта логрская кровь вытекла из моего тела, которого, по твоим словам, у меня будто бы нет, а не из твоего.
И Мордред повернул коня.
Прошло семь часов. И вот галопом вернулись караульные, которых Артур поставил следить за продвижением врага. Чуть позже показались пиктские воины: они шли, сбившись в кучи, быстрым шагом, с воплями, обуреваемые жаждой убивать. Их обнаженные торсы, лица и руки были расписаны синей краской, и походили они на демонов, вылезших на свет из недр своей пропитанной суевериями земли. Вооружены они были деревянными щитами, пиками для дальнего боя, дубинами и ножами — для ближнего. Они ринулись прямо на выстроившихся в ряд логрских всадников, которые по знаку короля разошлись по флангам, разделившись на две группы по три тысячи человек: одной командовали Артур и Кэй, второй — Мордред и Гавейн. Перед пиктами оказалась укрепленная деревянными брусьями насыпь, за которой их ожидали пехотинцы оркнейской армии под командованием Ивейна. Пикты хлынули на них, подобно ударившей в дамбу волне, грозя затопить их. Но сзади уже соединились обе группы логрских всадников, так что пикты оказались полностью окружены. С гибкостью и яростью хищников они бросались на лошадей, кололи им ноздри пиками, пытались вспороть брюхо ножами или перебить колени дубинами. Всадников же хватали за ноги или подцепляли за пояс, чтобы стащить вниз. Оркнейские воины отражали нападавших пиками, а их стоявшие поодаль лучники убивали врагов прицельно. После первой же атаки почти все всадники лишились копий, которые остались в телах или в щитах противников. Те из них, кто не был убит на месте, вырывали застрявший наконечник и с презрительным смехом ломали древко копья о колено. Тогда Артур выхватил меч и устремился в плотные ряды пиктов. Рядом с ним был только Кэй, ибо он никогда не покидал короля во время боя. Меч Артура — самый прекрасный в Логрисе, подаренный ему Мерлином в день вступления на престол, — отражал все удары, проникал в любую брешь, описывал столь стремительные круги, что уследить за ними глазом было невозможно, с необыкновенной легкостью отсекал головы и конечности, пробивал шеи и животы. Меч Кэя, не такой ловкий, не такой быстрый, но почти такой же мощный, опускался и поднимался с завидным постоянством, взламывая одни лишь черепа. Вокруг короля образовался кровавый круг, куда тут же хлынули новые враги. Смертельно раненный конь Кэя рухнул на землю, всадник тоже упал и тут же вскочил, но в этот момент на шлем его обрушилась дубина, и он повалился замертво. Артур, спрыгнув со своего жеребца, прикрыл Кэя своим телом, как щитом, защищая его с такой неистовой яростью, что испуганные враги подались назад и предоставили ему тем самым передышку. Не желая воспользоваться ею, он сам ринулся на них. Гавейн, который находился довольно далеко и выкашивал пиктов целыми рядами, крикнул сражавшемуся рядом Мордреду:
— Похоже, король ищет смерти.
И оба, дав шпоры лошадям, обрушились на лавину пиктов, сомкнувшуюся вокруг Артура. Добравшись до него, они спешились, и бой возобновился с еще большим ожесточением, ибо враги, видя перед собой тех, кто воплощал разум, душу и доблесть Логриса, бросили против них лучшие силы в надежде обрести с их смертью победу. Вдали сражение почти прекратилось, поскольку прочие участники битвы в недоверчивом изумлении смотрели, как три лучших воина империи, словно неуязвимые богатыри, раз за разом отбивают бешеные атаки противника, оставляя широкие кровавые бреши в его рядах. Тогда образовалась последняя волна из тех пиктов, что решили прекратить бессмысленную борьбу у границы, чтобы сразиться в последней решающей схватке. Но Ивейн повел в атаку своих воинов, чей строй походил на копье, наконечником которого был он сам: перебравшись через насыпь, он сумел пробиться к Артуру, Мордреду и Гавейну, тогда как его пехотинцы присоединились к уцелевшим королевским всадникам. Вместе они вновь окружили врагов. Пикты сбились в кучу в центре поля, и в битве наступило затишье. Противники смотрели друг на друга, стараясь сосчитать одновременно и своих, и чужих. Артур потерял две тысячи человек — треть своей кавалерии, которой пришлось выдержать самый яростный натиск на открытом пространстве. Ивейн, благодаря укреплениям и своему тактическому гению, потерял не более пятисот воинов. Пикты оставили на поле боя двенадцать тысяч — убитых или неспособных сражаться. Это означало, что обе армии почти сравнялись числом, но не доблестью, ибо при таком соотношении потерь пиктам грозило полное истребление.
Артур направился к ним один. Навстречу ему двинулся громадный пиктский воин, чье тело было синим от краски и красным от крови.
— Ты хорошо сражался, — сказал Артур. — И можешь без всякого бесчестия прекратить бой, где всех вас ждет смерть.
— Мы еще не побеждены. Да и в любом случае лучше умереть воином на поле битвы, чем дома — от голода.
— Когда ты погибнешь смертью воина, многие другие — женщины, дети и старики — умрут от голода. Тебе безразлична их судьба?
— Судьбой их распоряжается не побежденный и мертвый, а победивший и живой. Если я одержу победу и останусь жив, они не умрут. Если нет, ты сам ответишь на своей вопрос.
— Это справедливо. Вот мой ответ.
Артур дал знак Ивейну, и тот передал распоряжение одному из своих людей, оставшихся на укреплении. Вскоре ворота раскрылись, и оттуда сначала вышло под присмотром пожилых пиктов — женщин и мужчин — огромное стадо, а затем появились доверху нагруженные зерном повозки.
— Это мирные жители, которых мы захватили в начале войны, — сказал Артур пиктскому вождю. — Это ваш скот и собранный вами урожай. Все это достанется вашим семьям, укрывшимся в горах. Как видишь, никто не умрет от голода. А теперь слушай меня. Я хочу, чтобы больше ни один пикт — ни ты сам, ни твои воины — не нападал на Логрис. Если вы согласитесь, то можете уйти вместе со своими стариками. Вы сохраните свою землю, и мы даже не станем отбирать у вас оружие. Если вы откажетесь, бой возобновится — смертельный бой, где все вы будете истреблены. В восточных горах не останется ни одного воина. И эта беззащитная земля, если я не сделаю из нее провинцию империи, станет легкой добычей алчных соседей — Горры, Далриады или даже ваших братьев с западного побережья.
Пикт смотрел на Артура с почтительным изумлением. Внезапно он повернул пику острием вниз и с силой вонзил ее в землю. Через мгновение его примеру последовали другие пиктские воины. Вождь их сказал Артуру:
— Пока я жив, никто не нарушит заключенный нами мир. Ты великий воин и великий король. Никто не сможет победить тебя.
Чуть позже пикты, уложив мертвых и раненых на повозки, которые им дал Артур, двинулись вслед за стадом, уходившим за южные холмы. Бриттская армия лишилась двух тысяч человек — убитых или умирающих от смертельных ран. Еще несколько сотен раненых могли надеяться выжить — среди последних был Кэй. Столь большие потери свидетельствовали о жестокости битвы.
— Кэй, доблестный Кэй, — сказал Гавейн, — ты один остался при короле, когда мы, олухи, разбрелись каждый по своим делам. Никогда больше не буду я насмехаться над твоим шлемом, ведь этой бесценной супнице, напяленной на голову, ты обязан жизнью.
— Не столько супнице я обязан жизнью, Гавейн, — со слабой улыбкой прошептал Кэй, — сколько желанию еще раз поспорить с тобой.
Пока хоронили погибших, Мордред нашел Артура в его шатре и сказал ему:
— Я понял, что душа Логриса копит силы даже в таком губительном деле, как война, а человек обретает твердую веру через поступки свои. Поэтому я должен с сожалением признать твою правоту. Отныне ты воплощаешь Стол более чем когда-либо, независимо от того, что на самом деле двигало тобой в бою — желание разделить общую участь или желание смерти.
Артур подошел к нему и ударил его по лицу. Мордред упал, но тут же поднялся. Губы у него были разбиты в кровь.
— Моя душа тебя не касается, — гневно сказал Артур, — будь то собственность моя или Морганы. Ты оскорбил меня своей непрошеной заботой. Ступай!
Мордред наклонился, схватил ударившую его руку и, поцеловав ее, вышел. Удрученный Артур бессильно опустился на ложе.
Через несколько месяцев, завершив мирное преобразование провинции и вновь назначив Ивейна управлять ею, король отплыл в Логрис вместе с остатками своей кавалерии. Поход продолжался семь лет. Пройдя через войну, где необходимость действовать отгоняла навязчивые мысли, Артур возвращался в Кардуэл без всякой радости, с ощущением безбрежности своей печали.
Вернувшиеся из Оркании боевые корабли вошли в порт Кардуэл в конце 499 года. Придя во дворец, Артур сразу же направился к королеве Гвиневере — скорее из вежливости, чем по любви. Ее предупредили о возвращении короля из похода, и она ожидала его в своих покоях одна, отослав всех слуг. Ей было тогда двадцать четыре года, и красота ее достигла такой обольстительно-чувственной зрелости, что Артур невольно ощутил влечение, отразившееся во взгляде.
— Будет только справедливо, — сказал он, — если ты отвергнешь меня, как я отверг тебя восемь лет назад.
Вместо ответа она раздела его и увлекла на ложе. И королю, удивленному дерзостью ее причудливо-сладострастных фантазий, которые она удовлетворяла с необыкновенной легкостью и искусством, почудилось, будто перед ним совершенно незнакомая женщина, чье тело способно дарить самые восхитительные мгновения, утоляя вспыхнувшую похоть. Он получил несказанное наслаждение, которое почти лишило его сил и повергло в смятение. Казалось, Гвиневера испытала не меньшее удовольствие, чем он.
— На тебя подействовало время? — спросила она. — Время или война?
Он не ответил.
— На меня подействовало время, — продолжала она. — Нет, оно не добавило мне знаний или мудрости, а просто убило во мне все детские обиды и иллюзии. Я поняла, что не могу заменить тебе самый могучий и самый обольстительный дух всего западного мира, который обитает в столь же дивном теле. Но ведь тело двойственно, ибо в нем есть и человеческое, и вещественное. Человеческое, ибо дух выражает себя через него, создавая ту оплодотворенную вдохновением почву, на которой произрастает любовь. Вещественное, ибо служит оно для удовольствия, не ведающего законов, правил и временных границ. Но любую вещь можно заменить другой. Духом я быть не могу, а потому решила стать вещью, чтобы завоевать тебя и убедить, что тело мое способно заменить тело Морганы. К необходимости добавилась и склонность, ведь я люблю плотские радости. Только одной наукой я могу и хочу овладеть — это наука удовольствия. Я усвоила ее. О своем долге королевы я не забыла, и ни один из твоих подданных не предавал тебя на моем ложе, ибо они поклялись тебе в верности и любви, за что ты платишь им ответной любовью, поэтому я ощущаю свой долг королевы больше по отношению к ним, чем к тебе, ведь ты меня не любишь и, следовательно, не смеешь взывать к долгу жены. Свою науку я осваивала с рабами — женщинами и мужчинами. Эти люди-вещи словно созданы для этого: кому, как не им, преподавать подобную науку? Вместе с ними я предавалась самым разнузданным оргиям, но двигала мною не похоть, а страстное желание научить свою плоть привлекать твою. Итак, за эти восемь лет притязания мои возросли, ибо мне мало быть королевой, о чем я говорила тебе прежде. Теперь я хочу быть твоей шлюхой.
Артур смотрел на нее, не говоря ни слова. Почувствовав еще более сильное желание, он вновь овладел ею. Через некоторое время она поникла в его объятиях со словами:
— Как тяжко мне, что я не могу забыться в любви, когда столь великую радость подарил мне такой человек, как ты.
Артур прижал ее к себе. Потом оделся и ушел. Гвиневера не сводила глаз с двери, за которой он исчез, и во взгляде ее была надежда, смешанная с ненавистью. Она произнесла:
— Ты меня полюбишь.
В середине 500 года Артур, детально и тщательно обследовав все области Британии с целью их преобразования, вплотную занялся отношениями Логриса с внешним миром и решил принять одного за другим всех иноземных послов. В списке, представленном ему одним из придворных должностных лиц, значилась женщина по имени Бондука — посланница Авалона и королевы Морганы. Артур выразил желание немедля поговорить с ней, и ее тотчас пригласили в королевские покои. Посланнице было на вид около сорока лет, на ее красивом и строгом лице запечатлелась смешанная с печалью мудрость, которая отличает тех, кто слишком рано познал страдание. Она склонилась перед Артуром и произнесла:
— Королева Моргана шлет королю Логрскому послание мира, а своему родичу — послание любви. У меня двойное поручение к тебе, государь. Во-первых, я должна просить тебя подтвердить связи, завязавшиеся и укрепившиеся между Логрисом и Авалоном во время твоего похода против пиктов, договором о мире и союзе, который так и не был заключен, ибо Авалону предстояло быть просто местом изгнания для королевы Морганы. Гением своим она преобразовала этот остров в богатое и могучее, невзирая на малые размеры, государство, обладающее излишками товаров, что способствовало плодотворным сношениям с внешним миром, в частности с твоей империей, чьи торговые корабли из Кардуэла, Дурноварии и даже большого речного порта Лондона, бывшей столицы Логриса, все чаще и чаще заходят в Авалон. Ремесленные мастерские Авалона славятся сейчас во всем западном мире благодаря совершенству своих изделий. Союз этот необходим также из-за близости опасного врага, угрожающего безопасности не самого острова, который королева сделала неприступным, но близлежащих вод — иными словами, рыбной ловле и торговле. И здесь я перехожу ко второму поручению, а именно: мне приказано известить тебя о событиях в Арморике, поскольку сведения, которые дойдут до тебя, могут быть искаженными или даже лживыми в зависимости от интересов того, кто сообщит их тебе. А королеве Моргане ты можешь полностью доверять, ибо она, помимо любви к истине, личной выгоды не имеет, поскольку в тамошних раздорах изначально не принимала никакого участия, пока через три года ее не вынудили вступить в войну для защиты своего острова. В 493 году, вскоре после того, как ты выступил в поход против пиктов, Клаудас из Пустынной Земли, владыка королевства, расположенного к югу от Арморики, вторгся в Беноик и страну гонов — земли, которые ты после завоевания отдал твоим союзникам Бану и его брату Богорту. Кардевк, король редонов — третьей страны, признавшей покровительство Логриса, решил ни во что не вмешиваться, тогда как его воины могли бы избавить от жестокой участи Бана и Богорта, чьи соединенные силы намного уступали захватчикам по численности. Но сражались они с такой доблестью, что Клаудас продвигался вперед очень медленно. В 496 году Богорт, укрывшись с остатками двух армий на крайнем западе страны гонов, был окружен и прижат к океану. Бан с несколькими воинами отражал штурм крепости Треб, стоящей на побережье напротив острова Авалон. К югу от Треба находится лес, прозываемый Дольним, который исстари считается местом священным и проклятым, отчего никто не смеет в него входить. Именно там нашел убежище Мерлин.
Артур вздрогнул.
— Мерлин, — прошептал он. — Так вот где решил Мерлин провести остаток своих дней?
— Да, государь. А Вивиана, дочь короля редонов Кардевка, из любви к Мерлину построила вместе со своими верными подданными замок на острове посреди озера, сокрытого в самой гуще Дольнего леса, недалеко от этого убежища, куда только ей дозволено приходить. Она зовется теперь Владычицей Озера. Треб был захвачен и сожжен, король Бан погиб, защищая его, но еще до этого Вивиана подплыла ночью на барке к подножью крепостной стены, вздымающейся над водой, и осажденные спустили ей на веревке корзину с годовалым младенцем — это был Ланселот, сын Бана. Однако воины Клаудаса заметили ее и преградили ей путь, так что она не смогла вернуться в Дольний лес по суше. Тогда она взяла курс на Авалон, где ее и ребенка приютила королева Моргана, которой из-за этого и пришлось вступить в войну. Ибо Клаудас, желая устранить законного наследника Беноика и обезопасить себя в будущем от всяких мятежей и потрясений, напал на Авалон. Но остров, защищенный колоссальным природным укреплением — гранитной скалой, а также созданными по воле нашей прозорливой королевы неприступными оборонительными сооружениями и изобретенными ею ужасными военными машинами, отразил все атаки захватчика и нанес ему сокрушительное поражение, в котором он потерял восемь боевых галер, около сотни барок и больше четырех тысяч воинов. Нас же было против него шестьсот мужчин и триста женщин, способных владеть оружием, но все наши потери — это тридцать раненых, из которых ни один не умер, благодаря заботам королевы и ее искусству врачевания. Вскоре Вивиана отправилась в свой Озерный замок, забрав с собой Ланселота. Клаудас был настолько ослаблен этим поражением, что Богорт еще целых четыре года оказывал ему сопротивление. Но нынешней весной он и почти все его воины погибли в последней битве. Вивиана, дав прежде приют Ланселоту в своем Озерном замке, приютила также обоих сыновей Богорта — четырехлетнего Лионеля и Богорта, которому всего несколько месяцев и который получил имя в честь отца, ибо родился в день, когда тот погиб. Ланселота и его двоюродных братьев обучает Владычица Озера, следуя советам Мерлина, не покидающего свое неприкосновенное и нерушимое убежище, о котором захватчик не ведает. Так Клаудас стал с недавнего времени владыкой трех королевств — собственного и всех стран Арморики, за исключением земель Кардевка, с которым заключил договор, выведя его из-под твоей власти и поместив под свою. Независимо от того, вступишь ты или нет в войну с Клаудасом, чтобы вернуть эту часть твоей империи, королева Моргана просит тебя обеспечить безопасность вод и торговли Авалона, равно как и кораблей, приходящих в ее порт со всего западного мира и даже из Константинополя. Что касается острова, то ему не страшен никакой штурм, да и сам Клаудас, потерпев столь ужасное поражение, едва ли осмелится повторить свою попытку.
— Хотя Моргана с давних пор выказала себя врагом Круглого Стола, — сказал Артур, — и презрела закон Логриса до такой степени, что была осуждена на вечное изгнание самим Мерлином, будучи ученицей его более любимой, чем я, и наследницей не мыслей его, а познания, я охотно предоставлю ей покровительство и союз. Что до войны, то мне надо подумать. А теперь расскажи мне о Моргане, о теле ее и о душе, о ее жизни, ее острове, о себе самой и других ее подданных. Поведай также все, что известно тебе о Вивиане и что узнала от нее королева о пребывании Мерлина в Дольнем лесу.
И Артур стал с жадностью слушать летопись Авалона, восхищаясь политическим и научным гением Морганы, но одновременно ужасаясь, ибо в деяниях ее немыслимым образом сочетались абсолютная тирания и забота об общественном благе, произвол и справедливость, чувство ответственности и доходящее до жестокости безразличие, великодушные порывы и безжалостный расчет. Самым разительным проявлением этого последнего противоречия была ее искренняя любовь к нему, от которой она отреклась и которую принесла в жертву своему мятежу, порожденному ненавистью к человеку. И сына своего Мордреда зачала она не во имя любви, но с холодным намерением воспитать его как орудие против Логриса, словно это был попавший в ее руки инструмент. Он понял также, ибо постиг на собственном опыте, какие смешанные сообразно деяниям и поступкам чувства испытывают к Моргане ее подданные: обожание и страх, плотское влечение и мистическую любовь, которая после победы над Клаудасом превратилась в обожествление — языческое благоговение вкупе со священным трепетом.
Уже стемнело, а Бондука все продолжала рассказывать, и Артур предложил ей разделить с ним вечернюю трапезу. Когда она закончила свое повествование, он произнес:
— Ты говоришь о Моргане так, словно она богиня и одновременно возлюбленная — с религиозным преклонением перед той, кого любишь. Это присуще всем ее подданным или же у тебя при ней какая-то особая роль?
— Твои слова верны, государь, — ответила Бондука. — Я преклоняюсь перед ней с религиозным благочестием и люблю ее, ощущая желание. И в этом благоговении души и тела я не отличаюсь от других обитателей Авалона. Ибо королева Моргана духом своим и плотью способна ввергнуть в рабство обожания любого человека, наделенного мыслью и волей, будь то мужчина или женщина. Моя особенность в том, что я не испытываю страха перед ней, ибо она спасла меня от смерти, и жизнь моя имеет смысл лишь в той мере, в какой принадлежит ей. Сверх того, она сделала меня домоправительницей Авалона, своей посланницей, самой доверенной служанкой и — иногда — подругой своих ночей. На ее ложе я познала наслаждение и любовную страсть, какие нельзя описать словами и какие никто вообразить не может.
Она говорила спокойным тоном, как если бы открывала тайну и одновременно очевидную истину. Однако душевное ее волнение было столь велико, что слезы струились у нее по щекам. Артур смотрел на нее задумчиво и любовно.
— Мне кажется, — сказал он, — что я могу.
После долгой паузы он продолжил:
— Не оставляй меня одного на эту ночь. Будь по-прежнему посланницей Морганы, передающей не только слова ее и просьбы, но также жесты и влечение. Не откажись предстать на одно мгновение лишь телом, которого мы с ней можем касаться, невзирая на разделяющее нас расстояние, мостками над этой ужасающей меня бездной, смягчающим боль летучим бальзамом, ибо разлука с Морганой для меня словно незаживающая рана, исцелить которую способен только сладостный дурман губ ее и чресл. Она — дивная ночь, не дающая покоя моим ночам, изгоняющая желанный, как забвение, сон, которым ты, быть может, одаришь меня на несколько часов. Согласна ли ты?
— Да, государь.
На следующий день после отъезда Бондуки Артур решил продолжить прием иноземных послов. Он увидел, что в числе многих других аудиенции у него просит посланник Клаудаса, и решил перед этой встречей созвать находящихся в Кардуэле тридцать пэров Круглого Стола на внеочередное собрание, чтобы избежать отсрочки, необходимой для приглашения тех, кто пребывал в своих далеких провинциях. Присутствовали здесь, помимо прочих военных вождей и должностных лиц, заместители Артура как командующего армией — Кэй и Гавейн, а также Мордред, который был возведен на этот пост и провозглашен пэром Круглого Стола за подвиги в войне с пиктами, став самым молодым и самым новым его членом. Артур, желая узнать, как расценивают пэры возможность похода против Клаудаса, повторил то, что рассказала ему Бондука, умолчав, однако, об убежище Мерлина и замке Владычицы Озера, где укрылись наследники Бана и Богорта, которых будто бы приютил и поместил в надежное место он сам. Сразу же после него первым взял слово Кэй.
— Война! — воскликнул он. — И тысячу раз война! Ты не можешь, государь, с кротким спокойствием взирать, как тебя грабят, отнимая завоеванную тобой Арморику, все три ее королевства, павшие вследствие силы и слабости — силы волка Клаудаса, слабости пса Кардевка, который предал своих союзников и тебя самого, ибо, отказав им во всякой помощи, он признал покровительство захватчика над собой. Впрочем, это меня нисколько не удивляет, ведь редоны — коварное туземное племя — на словах всегда клялись в верности, а на деле этим бретонским пастухам власть твоя всегда была ненавистна. На мой взгляд, решить нужно только один вопрос, а именно: выяснить, сколь велика армия врагов, чтобы послать необходимое для победы войско — всех логрских бойцов, если понадобится.
— В кои-то веки, государь, — сказал Гавейн, — я полностью соглашаюсь с тем, что говорит Кэй, разве что слово «волк» кажется мне неудачным применительно к Клаудасу, который скорее похож на подлую змею в короне, воцарившуюся на болоте. Мерзкая тварь на мерзкой земле, хотя ее зря прозвали Пустынной, ибо породила она бесчисленное множество гадин. Сколько же рептилий выползло из этой тины, если смогли они одолеть, пусть даже за семь лет, две армии под командованием таких воинов, как Бан и Богорт? Помнишь ли ты, какую доблесть проявили они при Бадоне? Кроме тебя, никто не превзошел Бана — великого косаря саксонских колосков. Они защищали тогда нашу землю и были нам братьями по оружию, оставшись братьями и в мирное время. Война необходима, чтобы отомстить за их гибель и вернуть их сыновьям законное наследство. Завершим дело, начатое сиятельной королевой Авалона — мудрой и ужасной Морганой. Покажем себя достойными родичами этой Афины, которая уничтожила громадное войско с горсткой вооруженных пращами крестьян. Ты слышал, Кэй? Всего девятьсот необученных воинов — мужчин и женщин, а не все логрские бойцы!
Пэры один за другим поддержали Кэя и Гавейна. Последним высказался Мордред:
— Есть нечто более важное, государь, чем возврат земли или месть за погибших. Клаудас — это призрак старого мира, и победа его означает поражение Мерлина и Стола, падение закона и возрождение хаоса. Я также стою за войну, но не во имя завоевания или мести. Это война не против одного человека — это война правосудия против варварства. Все Клаудасы должны быть либо вразумлены, либо истреблены, ибо земля их, вопреки мнению Гавейна, заслуживает название Пустынной в той мере, в какой являет собой пустыню духа. И если мы не сможем оплодотворить ее идеей, нам придется сотворить из нее настоящую пустыню, иными словами, место, где нет больше ничего — ни добра, ни зла.
Воцарилось молчание. Затем Гавейн со смехом произнес:
— Смелее, Мордред! Истребим все! Истребим дотла! Сначала животных, ибо эти существа совершенно не способны постичь этику. Затем людскую породу, которая не желает воспринимать все ту же этику или, по крайней мере, слишком часто нарушает идеальную геометрию твоего правосудия вследствие прискорбного разброда в мыслях. В борьбе с относительным варварством нет лучшего средства, чем варварство абсолютное. Земля станет безупречно чистой, воздав должное твоим талантами божественной домохозяйки. Конечно, ты, скорее всего, останешься один со своей метлой, но за универсальную девственность можно заплатить крупицей тоски. Ах, Мерлин! Где же ты? Почему ум избрал для себя убежище в каком-то дурацком лесу, предоставив полную свободу слепой и тупой вере?
— Гавейн, — сказал Мордред, сильно побледнев, — даже при моей любви к тебе мне бывает порой трудно сносить твои насмешки!
— Я тоже люблю тебя, красавчик монах. Насмешки мои — лишь оборотная сторона твоей трагической серьезности, противовес для твоей тягостной мистики, вода для усмирения бушующего в тебе пламени. Все на свете имеет множество ликов, о чем ты, похоже, не ведаешь. В сущности, не так уж важно, что мы с тобой воплощаем всего два, уравновешивая их в неком карикатурном единстве. Достаточно, чтобы король был способен видеть каждый из них. Впрочем, это его ремесло.
— Не мое, а ваше! — раздраженно отозвался Артур. — Если вы, конечно, намерены исполнять свой долг советчиков, для чего и была оказана вам тягостная честь восседать за Столом. А теперь я выскажу свое собственное мнение относительно Арморики. Как и вы, я полагаю войну неизбежной. Но главным считаю не оценку вражеских сил, как говорил Кэй, а благоприятный момент. Перед нами стоит выбор: либо начать войну прямо сейчас и учредить в отвоеванных королевствах регентство, пока Ланселот, Лионель и Богорт не достигнут необходимого для царствования возраста, под которым я понимаю надлежащую зрелость не столько тела, сколько духа, что позволит им править согласно закону Логриса и философии Мерлина. Либо подождать с войной, пока не обретут они таковую зрелость. И я желаю именно этого — по нескольким причинам. Первая состоит в том, что один раз такое уже произошло. Король Уэльса, дед Мерлина, приютил четырехлетнего Пендрагона и трехлетнего Утера в 426 году, когда погиб их отец Констан Логрский, а власть захватил командующий его армией узурпатор Вортигерн. И войну с ним начал, чтобы вернуть сыновьям Констана наследство, только в 452 году. Двадцать шесть лет он обучал их, имея в виду одну лишь цель — воспитать их служителями великой идеи о единстве всех бриттов, владыкой которых после него должен был стать его собственный наследник Мерлин. И мы знаем, к чему привела эта идея, зародившаяся в маленьком племени деметов. Вдохновленный ею, я пришел к выводу, что лучше выждать некоторое время при начале дела, дабы больше получить впоследствии, ибо прочность — дитя терпеливого предвидения, тогда как эфемерность — дитя поспешности. Вторая причина: мы едва оправились после семи лет тяжкой, изнурительной войны. Третья причина: мне необходимы время и мир, чтобы преобразовать империю, продолжив дело, прерванное и отчасти подорванное походом в Орканию. Мне нужно двадцать лет, чтобы сплотить Логрис вокруг закона Стола, а также подготовить наследников Арморики к их миссии творцов, призванных возвести прочное здание по ту сторону моря. В течение этого срока с Клаудасом не будет ни союза, ни войны — если я смогу избежать ее.
— Двадцать лет! — воскликнул Кэй. — Но, государь, знаешь ли ты, во что обойдется это королевской казне? Ведь мы на целых двадцать лет лишимся поступающей из Арморики дани.
— Небольшая цена за четыре провинции.
— Четыре?
— Да. Я не только верну наши старые провинции — Беноик, страну гонов и королевство редонов, но и отберу у Клаудаса его Пустынную Землю.
— Двадцатилетний мир, — сказал Гавейн, — совершит то, что не смогли сделать саксы и пикты. Он меня убьет. Я умру от скуки.
— Именно поэтому, — с улыбкой произнес Артур, — ты займешься делом, которое избавит тебя от докучной законодательной деятельности и гнетущего спокойствия мирной жизни. Ты отправишься в Арморику с двойным поручением: возбуждать мятеж, распространяя повсюду слух, что законные наследники Беноика и страны гонов живы, находятся в безопасном месте под моим покровительством и готовятся вернуть свои земли — и сдерживать мятеж, чтобы не вспыхнул он преждевременно, не имея поддержки королевской армии, что обречет его на неминуемое поражение. Толкуй прежде всего с молодыми людьми, которые и через двадцать лет, когда мы вступим в войну, смогут сражаться рядом со своими сыновьями, взращенными в духе непокорства захватчику и в надежде на освобождение. Ты будешь регулярно наведываться в Кардуэл, чтобы извещать меня обо всех событиях и находиться во дворце, поскольку твое присутствие — независимо от того, нужен ты или бесполезен по прихоти войны или мира, — необходимо королю, ибо он тебя любит.
Гавейн поблагодарил Артура и согласился с его мнением. Так же поступили и остальные пэры, включая Кэя.
В тот же день Артур принял посланца Клаудаса, и тот сказал ему:
— Король Арморики шлет послание мира и союза королю Логрскому, которому никогда не был врагом и вредить даже не помышлял. Но Бан Беноикский и Богорт Гонский вызывающим поведением своим, непрестанными грабительскими набегами на Пустынную Землю, усилением войска с явными захватническими намерениями заставили короля Клаудаса двинуться против них, дабы предотвратить вторжение в собственное королевство. Сделал он это скрепя сердце, ибо нет для него ничего дороже мира и не хотелось ему причинять ущерб Логрису, хотя короли Арморики неутолимой алчностью своей принудили его к войне. Ныне зло совершилось, но вины за это он не несет. Бан и Богорт погибли в сражениях, их наследники — в сгоревших крепостях. Пустынная Земля, почти разоренная этой злосчастной войной, должна была восполнить урон, заняв Беноик и страну гонов, а также обложив их податями. Мудрый король редонов Кардевк настолько был убежден в правоте Клаудаса, что отказался поддержать своих злокозненных союзников — напротив, принял предложение о мире и дружбе от их победителя. Почему бы тебе, король Артур, не последовать его примеру? Желая доказать свою любовь и добрую волю, король Арморики готов выплачивать такую же дань, какую Логрис получал от Бана и Богорта, а это означает, что ты ничуть не пострадаешь от последствий войны, которая не нужна была ни тебе, ни ему — только этим вороватым королькам, вознамерившимся округлить свои владения за его счет, чтобы отринуть затем и твое покровительство. Такая добровольная, без всякого принуждения, дань могла бы скрепить союз Логриса и Арморики.
Артур долго смотрел на посланца, скрывая холодное бешенство и насмешку под маской задумчивости, призванной показать, будто он размышляет над услышанным и взвешивает свой ответ.
— Итак, — сказал он наконец, — ты передашь Клаудасу не предложение, по поводу которого можно торговаться, а мою абсолютную и нерушимую волю. Я отказываюсь от дружбы и союза с ним, ибо сомневаюсь в том, что он руководствовался добрыми намерениями как в объявленной моим союзникам войне, так и в предлагаемом мне мире. Неоспоримо лишь то, что он захватил обширную провинцию Логриса, откуда следовало ему уйти, оставив ее мне как законному владельцу, ибо землям его больше не угрожает опасность, если таковая вообще существовала. Но он так не поступил, и потому я отказываюсь от дани. Вместе с тем я готов не вступать с ним в войну на трех условиях, которые обсуждению не подлежат. Первое: если прямой потомок Бана или Богорта заявит о себе и докажет законность своих прав на наследство, Клаудас вернет ему землю. Второе: провинция короля редонов Кардевка останется под покровительством Логриса и будет выплачивать прежнюю дань, что отменяет все — как материальные, так и моральные — обязательства Кардевка перед Клаудасом. Третье: Клаудас должен отказаться от любых враждебных вылазок против королевы Морганы — не только в отношении ее острова Авалона, на который, полагаю, он не осмелится напасть после нанесенного ему сокрушительного поражения, но также прилегающих вод, дабы ничто не препятствовало ее рыболовному промыслу, торговле и всем внешним сношениям. Если он откажется от этих условий или нарушит их пусть даже в самой малой степени, я немедля пойду на него войной. Если же хоть один волос упадет с головы королевы Морганы, война будет беспощадной — иными словами, я истреблю его воинов, союзников и слуг всех до единого.
Заключив со своими соседями договор, надолго обеспечивший безопасность границ, Артур посвятил все свое время завершению дела, которое начал Утер и продолжал он сам в первые годы своего царствования. Оба они следовали советам Мерлина, которому принадлежали как замысел, так и средства его воплощения. Окончательно утвердив закон, Артур создал систему управления, призванную следить за тем, чтобы он исполнялся всеми — начиная от короля и кончая рабом, и повсюду — от Кардуэла до самых отдаленных уголков Логриса.
Империя была разделена на двадцать две провинции, из которых девятнадцать находились в Британии, где за ними сохранилось римское название civitates — общин, три в Арморике, где их именовали королевствами, поскольку до вторжения Клаудаса правили в них местные вожди — подданные и одновременно союзники. Сохранив провинции в качестве основных территориальных единиц, Артур соединил их в пять областей Британии — Север, Восток, Юг, Запад и Центр. Шестой была Арморика, где сохранилось лишь одно логрское королевство, поэтому он решил приступить к ее преобразованию после возврата утерянных земель. Север состоял из двух общин: самой маленькой изначально, но увеличенной Лотом Оркании и бригантов — самой большой из всех. Оркания и бывшее королевство Леодегана располагались по обе стороны от обширной, пребывавшей тогда в мире с Логрисом, но в целом враждебной ему Каледонии, куда входили Горра, Горные Земли пиктов и Далриада — колония скоттов. Восток состоял из пяти общин — паризиев, коританов, икенов, триновантов и города Лондона, древней столицы Логриса, который был так многолюден и силен, что превратился в отдельную общину. Юг также состоял из пяти общин — кантиаков, регненсов, белгов, дуротригов и думнонейцев. Запад, или Уэльс, некогда отданный Утеру Мерлином, включал в себя три общины — ордовиков, деметов и силуров. Центр включал в себя четыре общины — корновиев, добуннов, атребатов и катувеллаунов.
Артур преобразовал военные силы империи. Он довел численность королевской армии, стоявшей вокруг Камелота, крепости дуротригов, где был учрежден второй Круглый Стол, до шестнадцати тысяч человек, набираемых во всех провинциях: восемь тысяч из них составляли всадники, восемь тысяч — пехотинцы. Число командиров он сократил до шестнадцати, чтобы на тысячу воинов приходился только один — и ввел такое же соотношение во всех войсках Логриса. Каждый командир тысячи, имевший под своим началом десять командиров сотни, подчинялся только ему и его заместителям — Кэю, Гавейну, Мордреду и Ивейну. Последний был призван в Кардуэл, где стал пэром Стола. Артур сохранил численность оркнейской армии в четыре тысячи человек и назначил туда четырех командиров, призванных заменить прежнего единоличного командующего Ивейна. Северную армию, стоящую частью напротив Горры вдоль стены Адриана, частью в Изуриуме, столице бригантов, он пополнил тремя тысячами воинов, вследствие чего это войско стало вторым в империи по численности — тринадцать тысяч человек и тринадцать командиров. Таким образом, границы этой области Севера были надежно защищены от любого вторжения. Каждой из прочих семнадцати общин, чье географическое положение особых предосторожностей не требовало, он выделил тысячу воинов и одного командира. Эти гарнизоны располагались в столицах провинций, включая Кардуэл, который был одновременно столицей империи и общины силуров. Гарнизон включал в себя пятьсот всадников, призванных обеспечивать порядок и безопасность во всей провинции, и пятьсот пехотинцев — городскую стражу. Дважды в год четырех командиров оркнейской армии, тринадцать командиров северной армии и семнадцать командиров гарнизонов проверяли главные командиры, служившие все до единого в королевской армии. Военные силы империи, к которым позднее должна была добавиться армия Арморики, составляли, таким образом, пятьдесят тысяч человек. Артур располагал также могучим военным флотом, куда входили сто боевых галер — эти быстроходные триремы длиной в двести футов могли за один раз перевезти двадцать тысяч воинов в полной экипировке, со снаряжением и лошадьми.
Больше всего сил и забот отняла у короля организация гражданского управления, которое он разделил на две части — судебную и хозяйственную. Судебная включала в себя три подразделения: королевский трибунал, ведавший соблюдением законов, наложением наказаний и улаживанием гражданских споров; королевское попечение, ведавшее неимущими и недужными; королевскую школу, ведавшую обучением тех, кто не мог оплатить услуги частного наставника. Так Артур воплотил на деле высказанную Мерлином идею справедливости, которая не сводится к исполнению закона, но способствует сплочению людей и развитию научных познаний. Хозяйственная часть включала четыре подразделения: податей и налогов — или королевскую казну; вод и дорог — по образцу римского viarum aquarumque curatio[11]; общественной деятельности — надзора за зданиями, обустройством, съестными припасами для военных и гражданских должностных лиц, вооружением и строительством военных кораблей, внутренней и внешней государственной торговлей; частной деятельности — надзора за земледельческими работами, ремеслами и торговлей частных лиц. Каждая из девятнадцати общин получила двух провинциальных должностных лиц из судебного и хозяйственного подразделений, которым подчинялся заместитель, имевший под началом определенное количество служащих. Центральных должностных лиц, пребывающих в Кардуэле, насчитывалось пятьдесят четыре: двадцать семь в судебной части и столько же — в хозяйственной. Каждой из них были приданы три советника короля по империи, пять должностных лиц, ведающих областями, и девятнадцать, ведающих общинами. Последние дважды в год проверяли провинциальных должностных лиц, изучали их донесения, производили дознание и составляли собственное донесение — благоприятное или суровое, рассматривали дела, которые не могли быть улажены на местном уровне, и, если не могли сами принять решение, передавали их должностным лицам областей. Те изучали донесения из всех провинций своей области, сводили их воедино и определяли, какие спорные вопросы и неразрешенные дела следует представить Круглому Столу и королю.
Артур восстановил Стол из ста пятидесяти мест. Лишь треть из них занимали двадцать уцелевших в сражении при Бадоне пэров, которых после гибели Бана и Богорта стало восемнадцать, и тридцать наследников, достигших возраста избрания. После преобразования в собрание Стола вошли следующие члены: Артур, король Логриса, глава Стола и империи; его заместители Кэй, Гавейн, Мордред и Ивейн; шестнадцать командиров королевской армии; тринадцать командиров северной армии; четыре командира оркнейской армии; семнадцать командиров провинциальных гарнизонов; пятьдесят четыре центральных гражданских должностных лица; тридцать восемь провинциальных гражданских должностных лиц. В целом это составляло сто сорок семь пэров, ибо три места Артур сохранил для будущих королей Арморики — Ланселота, Лионеля и Богорта. Он установил два заседания в год, обязательных для всех членов, которые должны были принимать законодательные постановления, улаживать дела, не разрешенные провинциальными, а затем и центральными должностными лицами, выслушивать все донесения — начиная с тех, что были составлены провинциальными должностными лицами, и кончая самыми общими, имеющими отношение ко всей империи и составленными советниками короля на основе сведенных воедино донесений центральных должностных лиц, — обсуждать эти донесения, выявлять все достойное порицания, одобрения или хвалы в деятельности должностных лиц всех уровней. Артур предусмотрел также возможность внеочередных заседаний в ограниченном составе, чтобы в случае военной угрозы или серьезных потрясений сзывать только тех пэров, которые находятся в Кардуэле или в соседних провинциях — общинах силуров, деметов, добуннов, белгов, дуротригов и думнонейцев. Наказание за продажность мелких служащих королевской администрации было тяжким: лишение прав и тюремное заключение, ссылка на галеры и продажа в рабство — в зависимости от степени вины. Для должностных лиц, входящих в состав Стола, оно было ужасным: лишение прав, конфискация имущества и пожизненная ссылка на галеры. Ибо продажность одного члена марала грязью весь Стол, делая его сомнительным в глазах народов, сомнения же подобного рода всегда питаются излишней мягкостью, проявленной к виновнику, но улетучиваются при должной строгости и продолжительности кары.
Некоторые законы Артуру пришлось вводить вопреки мнению большинства пэров. Так, принудив владельцев земли, которые сами ее не обрабатывали, сдавать наделы в аренду свободным крестьянам и получать за это лишь скромную часть их доходов, он навлек на себя вражду многих членов собрания, обладавших громадными поместьями и несметным количеством рабов, ибо для них закон, принесший выгоду многим, обернулся крупной потерей. Но, смирившись с новыми правилами, они охотно согласились ввести твердые цены на необходимые продукты питания, чтобы предотвратить разорение крестьян в случае их избытка и спекуляцию ими в случае нехватки. А для борьбы с голодом в неурожайные годы они постановили создать неприкосновенный королевский запас зерна, которое должностным лицам хозяйственного подразделения надлежало покупать и продавать по той же самой установленной законом цене. Поначалу многим трудно было осознать тот факт, что членство в собрании влечет за собой больше обязанностей, нежели преимуществ, однако в целом они дружно трудились над воплощением замысла Мерлина, побуждаемые либо гордостью, поскольку Стол обрел громадную славу во всем западном мире и самый незначительный его пэр пользовался большим почетом, чем любой иноземный монарх, либо любовью к королю, чью мудрость и власть признавал каждый, либо страхом перед ним, либо искренней верой в благость закона Логриса.
И в реальном созидании мира Стола посредством закона Артур — благодаря этому сочетанию власти абсолютной и договорной, свободы и принуждения, равенства и иерархии, беспрепятственного почина и многократного надзора, братства и террора — воплощал представление о человеке, присущее как Мерлину, так и Моргане. Первый хотел видеть его свободным, мирным и разумным, вторая считала его извечным рабом, хищным и глупым дикарем. Некогда он говорил Мордреду, что смысл существования Стола — в гармонии между плотью и духом. Сейчас он видел, как раздирает плоть, идею и их обоих разом принимающий самые разнообразные обличья конфликт между любовью и ненавистью. Но все равно продолжал творить.
И это был первый мир Артура.
Одинокий всадник ехал на спотыкающейся от усталости лошади по широкой лесной дороге, которая постепенно зарастала травой, но все еще была хорошо видна среди могучих деревьев Броселиандского леса. В течение нескольких часов он мчался по ней галопом, но теперь его измученный и взмыленный конь с трудом передвигал ноги. Над ними смыкались ветви с густой и темно-зеленой в эту пору уходящего лета листвой, образуя нечто вроде плотного и тенистого купола, куда уже не проникал сумеречный свет, и если небо над громадным лесом празднично полыхало кровавыми отблесками заходящего солнца, то под этим сводом преждевременно наступившая ночь мало-помалу вступала в свои права.
Дорога наконец вывела к обширной и почти совершенно круглой поляне. В пятистах футах от первого ряда деревьев возвышалась земляная насыпь, которая полностью заросла высокой травой и тем самым укрепилась, избежав обвала. Ее огибал ров, куда поступала проточная вода из реки, успешно противостоявшей натиску растительности. За насыпью была видна прогнившая, изъеденная влажностью и древесными жучками ограда. Лесная дорога заканчивалась у перекинутого через ров моста, который вел к массивным и полностью сохранившимся двустворчатым воротам, через которые только и можно было проникнуть внутрь. Ворота были закрыты. Всадник остановил своего коня на мосту.
— Ни шагу дальше! — крикнул из-за ограды чей-то голос. — Ты под прицелом лучника. Назови свое имя!
— Я — Гавейн, сын короля Лота Орканийского и Моргаузы, принцессы Логрской, племянник короля Артура и пэр Круглого Стола. Вот и все мои титулы.
— Входи, господин. Мы ждали тебя.
Ворота распахнулись, и Гавейн вступил в пределы Долины Откуда Нет Возврата — владения Морганы во время первого изгнания в Арморике, оставленного ею и ее подданными девять лет назад, когда ей пришлось навсегда переселиться на остров Авалон. Прежний владелец — беноикский король Бан — оставил Долину Откуда Нет Возврата в запустении, поскольку все его мысли и силы были поглощены войной, а захватчик Кладусас о ней не ведал, ибо она находилась в самой гуще Броселиандского леса и вот уже целое десятилетие подвергалась нападению другого захватчика — природы, которая с терпеливым упорством отвоевывала потерянные земли. За оградой предстало то же зрелище отступления и захвата. Поля и луга, сады и виноградники стали почти неразличимыми под густыми зарослями кустов, крохотных деревьев, папоротников и диких злаковых растений, переплетавшихся над скрытыми от взора оросительными каналами, но вода из реки, как и во рву, все еще продолжала течь с журчанием, которое возвещало слуху то, что было уже недоступно зрению. Лишь дворец Морганы, ферма и несколько участков земли пребывали в хорошем состоянии, из чего можно было сделать вывод, что владение отчасти еще используется людьми.
Гавейн спрыгнул с лошади, бросил поводья одному караульному и последовал за другим в большую залу дворца. Там собралось около ста человек — бывшие воины Бана и Богорта, уцелевшие во время заключительной резни полгода назад и укрывшиеся в Долине Откуда Нет Возврата, чтобы не подчиняться ненавистному Клаудасу. Питались они тем, что похищали в набегах и что давала земля. Иногда им приносили продукты крестьяне, жившие у западной кромки Броселиандского леса и сохранившие верность памяти своих погибших королей.
— Я не ожидал, — весело произнес Гавейн, — что найду столько мышей в этой дыре, столько кроликов в этой норе. Вы, стало быть, продолжаете робко и бездеятельно сопротивляться? Совершаете, подобно этим трусливым зверушкам, стремительные набеги на огороды завоевателя в надежде, что он обратится в бегство из-за нехватки овощей?
— Мы бились целых семь лет, господин, — отозвался один из воинов, с трудом сдерживая умеряемый почтением гнев, — и никому, даже тебе, не позволено ставить под сомнение нашу доблесть. Из армии Бана и Богорта уцелела едва ли тысяча человек, которые большей частью разошлись по домам, смирившись с вражеским игом и покорившись захватчику. Мы же пришли сюда не для того, чтобы зарыться в землю, но сохранить свободу. Как ты думаешь, что может поделать какая-то тысяча с бесчисленным воинством Клаудаса, которого мы не смогли одолеть и тогда, когда нас было в десять раз больше? Лучше бы нам прислали на помощь десять тысяч вооруженных логров, чем одного такого, как ты, который явился оскорблять нас.
— Вижу, что я совершенно не гожусь для посольства, — сказал Гавейн, — ведь я хотел не унизить вас, а только подстрекнуть, но у меня ничего не вышло. Однако я постараюсь исправиться и, чтобы доказать свои добрые намерения и силу раскаяния, не стану рубить тебе голову, а просто отвечу.
И он изложил им план Артура. Они сочли слишком долгим срок, потребный для обучения Ланселота, Лионеля и Богорта. Но все они были молоды и, осознав, что в назначенное время смогут сражаться во главе своих сторонников, согласились.
— Здесь не оставайтесь, — добавил в заключение Гавейн. — Возвращайтесь домой, как сделали ваши братья по оружию, и вместе с ними распространяйте мятеж — в умах, а не на деле, ибо Клаудаса следует постепенно усыпить этим обманчивым спокойствием. Когда же королевская армия переправится через море, он будет захвачен врасплох и ему придется набирать воинов в спешке — не только в Пустынной Земле, но также в Беноике и в стране гонов. Тогда все вы добровольно явитесь к нему. Он вас вооружит. И как только обе армии встанут друг против друга, вы присоединитесь к логрскому войску, что обескуражит его сторонников. Я буду приходить сюда за новостями каждый год, в это же время.
Через два дня Гавейн стоял на беноикском берегу, неподалеку от обугленных развалин крепости Треб, где четыре года назад погиб король Бан. Далеко в море, на севере, из воды поднимались высокие гранитные скалы Авалона, похожие на гигантскую крепость, построенную богами или титанами, и способные отразить яростный штурм как волн, так и людей, посмевших посягнуть на неприкосновенные владения Морганы.
— Я бы охотно нанес визит вежливости моей прекрасной родственнице, — с усмешкой пробормотал Гавейн, — но она, похоже, не выносит приятных неожиданностей такого рода, и я не уверен, так ли дороги ей семейные узы, чтобы избавить меня от чести возлечь на ее стол для вскрытия трупов.
Он отвернулся от моря. В двух или трех милях от берега Дольний лес, заслонявший весь южный горизонт, подкрадывался к близлежащим песчаным землям, выдвигая свои передовые отряды, похожие на зеленые языки, которые постепенно сужались, а деревья становились заметно ниже там, где почва скудела, соприкасаясь с гранитом. За этими вылезшими вперед языками вздымались громадные стволы, стоявшие тесными рядами и покрытые такой густой листвой, что составляли почти однородную массу — настоящую стену, которая издали казалась совершенно непроницаемой, представляя собой некое материальное воплощение священного и проклятого места. Гавейн направил лошадь к этой стене, затем двинулся вдоль в поисках просвета, достаточно широкого для него и для лошади. Внезапно из-за дуба выскочил какой-то человек и остановил коня, схватившись за поводья. Жеребец, встав на дыбы от испуга и одновременно раздражения, ударил копытом прямо в грудь незнакомцу, который упал на землю, хватая ртом воздух. Гавейн, оправившись от секундного изумления, расхохотался, видя, как тяжело тот поднимается и как силится отдышаться.
— Неужто ты полагал, — сказал он, — что это благородное животное, привычное к яростному шуму битвы, дрогнет перед каким-то жалким деревенским разбойником? И что думать о лесном воришке с повадками барышни и ножичком в руке, который вознамерился ограбить пэра Круглого Стола? Можно ли представить себе более глупую и пустую затею?
— По крайней мере, одну можно, господин Гавейн, — произнес незнакомец, явно пришедший в себя. — Такую затею, когда человек надеется отыскать в неизвестном лесу площадью в миллион югеров Озерный замок, который стоит всего на двух.
— Ты не прав. Ибо я мог рассчитывать на счастливый случай. Ты — нет. Кто ты и откуда знаешь меня?
— Я придворный поэт и музыкант Владычицы Озера, принцессы Вивианы. Я состоял в ее свите, когда она прибыла в Кардуэл на свадьбу короля. Там я видел тебя, и поэтому Владычица послала меня навстречу тебе, полагая, что ты везешь ей послание Артура Логрского. Мы узнали о твоем приезде от наших друзей из Долины Откуда Нет Возврата, с которыми часто сносимся, хотя из предосторожности так и не сказали им, где именно находится Озерный замок и что именно он стал убежищем для наследников Арморики. Я уже два дня дожидаюсь тебя. Что до случая, о котором ты говорил, то на него не рассчитывай, ибо, даже побывав в замке Владычицы, ты не смог бы найти туда дорогу без провожатого.
— Если твои ноги провожатого отличаются таким же проворством, как твой язык поэта, мы очень скоро прибудем на место. Я следую за тобой.
Углубившись в лес, они в течение нескольких часов медленно пробирались вперед по извилистым, едва заметным тропинкам и наконец вышли на северный берег озера, похожего на серебристо-голубоватую выемку в листве. На востоке над ним вздымался высокий горный кряж, по бокам которого карабкались растения, чьи заросли становились тем реже и ниже, чем меньше им доставалось земли. И эта зеленая волна, истончаясь, совершенно исчезала у вершины, где на голой скале можно было разглядеть площадку перед входом в пещеру. На расстоянии в пятьсот футов вокруг озера лес был очищен от кустарника: между деревьями виднелись травяные дорожки, очевидно предназначенные для приятных прогулок, или же полоски распаханной, подготовленной к посеву земли. В середине озера находился овальный остров длиной примерно в четыреста футов и шириной в двести — всю эту территорию занимал замок Вивианы, обнесенный бревенчатой оградой высотой в пятнадцать футов. Колья ее располагались у самой кромки воды, и с внутренней стороны был устроен дозорный путь, по которому расхаживали несколько караульных. Ворота открывались на деревянный мост, переброшенный на северный берег озера в том месте, где созданный самой природой громадный ров был уже всего, хотя и здесь ширина его составляла не меньше двухсот футов.
Гавейн ступил на мост вместе со своим провожатым, и ворота почти сразу же распахнулись. Трехэтажный замок, украшенный галереями на двух верхних уровнях, был окружен двором, который вымостили тщательно подобранными и пригнанными друг к другу гранитными плитками, чтобы в ненастные дни голая земля не превращалась в топь. Для строительства были использованы деревянные балки и кирпичи, но простота этих материалов искупалась изяществом всего сооружения, где даже мельчайшие детали украшения свидетельствовали о том, что замок этот создавали подлинные художники, составлявшие неизменную свиту Вивианы, которые по необходимости и из любви к ней преобразились в плотников и каменщиков. Резные дубовые стволы, неотличимые от самых прекрасных каменных колонн, поддерживали здание, чей первый этаж был выше уровня двора, но узор его повторялся на полах, также застланных гранитными плитками — меньшими по размеру и еще более гладкими. В замке могли свободно разместиться около ста человек: именно столько подданных — мужчин и женщин поровну — и было у Вивианы.
Провожатый довел Гавейна до двери спальни на втором этаже, открыл ее и исчез. Гавейн вошел и увидел, что посреди комнаты неподвижно стоит женщина солнечной, поистине лучезарной красоты. Он узнал юную девушку, на которую обратил внимание еще десять лет назад, на свадебном пиру Артура. Но память о восхитительной охотнице прежних лет померкла перед блистательным великолепием зрелой женщины. Гавейн молча вглядывался в нее, а затем произнес:
— Я убедился, Вивиана, что садовник Мерлин, не ограничиваясь взращиванием мысли, добился чудодейственного расцвета розы. Не думай, что этой буколической метафорой я умалил твои заслуги. Ибо качество зернышка значит ничуть не меньше, чем искусство садовника. Тому есть живое доказательство — я сам, кому с детских лет была дарована привилегия его расположения и дружеских бесед с ним, которые не принесли мне никакой пользы. Этот творец королей воспитал — или не препятствовал воспитанию — по крайней мере одного безумца.
— Если посланец короля безумен, Гавейн, — с улыбкой сказала Вивиана, — как сумею я понять переданное им послание?
— В отличие от обычных людей, у меня случаются приступы разума. Впрочем, само послание очень простое. Через двадцать лет, когда наследники Бана и Богорта, надлежащим образом обученные тобой, будут способны управлять Арморикой согласно закону Логриса и Мерлина и достойны стать пэрами Круглого Стола, привози их в Кардуэл. Король даст им армию, чтобы они отвоевали у Клаудаса свои земли. Это все. Пока же лишь трое человек — Моргана, а от нее король, а от него я — знают, что именно ты приютила Ланселота, Лионеля и Богорта. Следовательно, твоей педагогике не угрожают ни агрессивное вмешательство их врагов, ни излишнее рвение их сторонников.
— Я одобряю мудрое решение короля, — сказала Вивиана. — Куда лучше выждать срок, необходимый для воспитания верного и, главное, справедливого правителя, а это быстро не делается, чем сразу же ввязаться в схватку, доверившись ненадежному случаю. Здесь наследников Бана и Богорта будет обучать сам Мерлин через мое посредничество, ибо он не хочет заниматься этим лично и не желает покидать свое убежище, позволив мне, однако, постоянно советоваться с ним.
— Смогу ли я навестить его?
— Сомневаюсь. Только я обладаю этой привилегией, не допускающей никаких исключений. Он по-прежнему дарит мне любовь, наслаждение и знания, я же изо всех сил стараюсь воздать ему двумя дарами из этих трех.
— Восхитительное убежище, — сказал Гавейн. — Оно больше говорит о мудрости Мерлина, чем все его великие идеи. Ради такого изгнания я бы пожертвовал своим местом за Круглым Столом, если бы мог обойтись без славной рубки на мечах и без короля, которого люблю больше всего на свете. Ибо наслаждаться телом твоим и умом представляется мне столь завидным уделом, что к подобной цели должны были бы стремиться люди во все времена, и я думаю, что ты могла бы соблазнить любого из живущих на земле, ведь в твоих владениях даже растительность, кажется, подчиняется твоим прихотям.
Вивиана невольно рассмеялась.
— Вижу, — произнесла она, — дерзость твоя, которую я приметила уже во время нашей первой встречи в Кардуэле, где она приводила в смятение невинных дев и втайне нравилась опытным придворным дамам, не только не уменьшилась, но значительно возросла.
— Прости меня. По правде говоря, большой выгоды из этого я не извлек, но каждый совершенствуется, как может. И, если присмотреться, легкомыслие мое порой окутано печалью. Не тревожься, эта туманная дымка быстро рассеивается. — Он задумчиво посмотрел на нее и добавил: — Что ж, миссия моя завершена, и я должен вернуться в Кардуэл, чтобы отчитаться перед королем. Значит, мне придется покинуть тебя. Это будет нелегко.
— Разве ты не можешь подождать до завтра? Сегодня вечером я устрою пир в твою честь. Ты увидишь, как весел мой маленький двор. Каждый здесь поочередно становится пахарем, ремесленником, художником, ученым эрудитом и праздным аристократом. Никого здесь не заставляют исполнять одну и ту же роль, кроме меня самой, быть может, да и это скорее по желанию других, чем по моей собственной воле.
— Благодарю тебя, но я вынужден отказаться. Если я останусь на эту ночь, мне захочется большего. Я пожелаю остаться, если ничего не произойдет, чтобы это произошло. И пожелаю остаться, если произойдет нечто такое, чтобы это снова произошло. Ты ввергаешь меня в неведомое мне замешательство, и сама речь моя, которой обычно присуща суровая простота, становится темной под воздействием столь пагубного наслаждения. Как видишь, мне необходимо уехать.
— Гавейн, дорогой Гавейн… — начала Вивиана.
Но он поклонился и вышел из комнаты. Затем спустился во двор и вскочил на коня. Замок он покидал в задумчивости, недовольный самим собой и говоря себе:
— Ты бежишь от опасности, жалкий трус! Дивного посланца выбрал король… посланца, который вынужден спасаться неучтивостью, чтобы не превратиться в посмешище или возбудить к себе ненависть! Но какая изумительная женщина! И это тоже ее вина!
Он углубился в Дольний лес, направляясь прямо к северному побережью.
Когда первый мир Артура близился к завершению, закон Мерлина и Круглого Стола утвердился повсюду и стал благом для всей империи, где бедность и несправедливость хоть и продолжали существовать, но в своих крайних проявлениях — таких, как полное убожество тела и духа, голод и невежество, — более уже не встречались. В глазах народов Стол Камелота превратился в некий божественный пантеон, а двое из его пэров стали предметом почти религиозного культа — это были король и Мордред. Последний ежечасно проводил в жизнь преобразования Артура, ревностно и неутомимо следя за их неукоснительным исполнением в самых отдаленных уголках Логриса. Он яростно сражался с небрежностью, продажностью, личной выгодой и вставал на защиту обездоленных с тем заученным абстрактным великодушием, которое не имеет изъянов, но идет не от сердца и полностью лишено душевного тепла. Перед ним трепетали все, кто обладал властью и богатством — за исключением короля, который один умел подчинять его своей воле, Кэя, который неустанно нападал на него во имя здравого смысла, Гавейна, который, втайне оказывая ему поддержку, открыто посмеивался над ним, и Ивейна, который мудростью своей иногда склонял его смириться с неизбежной изменчивостью реальности, не желавшей укладываться в жесткий каркас его абстрактной доктрины. Те же, кто не имел ни власти, ни богатства, его боготворили. Он не сходил с коня, разъезжая по всей империи и вникая во все споры. И, поскольку телесное присутствие люди принимали за духовное братство, попечение о законе — за доброту, необыкновенное чувство долга — за любовь, его начали превозносить — наравне с Артуром — как истинное и вместе с тем близкое и доступное воплощение Стола. Так возникла парадоксальная ситуация, когда король — более мудрый, более человечный и, следовательно, более справедливый — стал для своих подданных, от которых отдаляли его обязанности монарха и тайная печаль, фигурой легендарной, неземной и идеальной, тогда как вдохновляемый чистой и холодной идеей, почти лишенный чувств — будь то чувства железного тела, целиком подчиненного духу, который, в свою очередь, целиком подчинялся тирании веры, или же чувства сердца, умерщвленного на заре жизни Морганой и слабо пульсирующего лишь под воздействием смятенной любви к Артуру, — Мордред казался им суровым и нежным, властным и заботливым отцом.
Весной 520 года в порт Кардуэл вошла галера Кардевка, короля редонов, и на берег высадилось около десятка ее пассажиров, которые немедля отправились во дворец Артура. Там вожак маленького отряда, сняв широкий плащ, складки которого и капюшон полностью закрывали его любопытных взоров, назвал свое имя и попросил аудиенции у короля. Это была Вивиана — Владычица Озера. Артур, рядом с которым находился Гавейн, принял ее вместе со свитой. Она жестом приказала выступить вперед трем юношам, и те, в свою очередь, откинули капюшоны плащей.
— Государь, — сказала Вивиана, — я привела к тебе, повинуясь твоей воле и в указанное тобой время, наследников Арморики. Они были воспитаны так, чтобы служить Логрису, Круглому Столу и тебе самому, а также править своими народами согласно духу закона, установленного Мерлином, который был их наставником через мое посредничество. Вот Ланселот, сын Бана, наследник Беноика. Он прежде всего воин и во владении оружием не имеет равных в Арморике. Ему двадцать пять лет, и десять из них я с трудом сдерживаю его нетерпение, ибо с той поры, как ему пошел пятнадцатый год, нет у него более страстного желания, чем сразить Клаудаса, что он вполне мог бы сделать, ибо раньше срока обрел ловкость и мощь, но к правлению был тогда еще не готов, ибо не сознавал всю ответственность власти. И ты мудро поступил, дав ему время возмужать, прежде чем он вернет себе свое королевство. Вот Лионель, старший сын Богорта, наследник страны гонов. Ему двадцать четыре года. Это больше стратег, нежели воин, больше законодатель, нежели полководец: его всегда влекла философия, равно как и страсть к познанию, хотя боевыми искусствами он отнюдь не пренебрегал, ибо должен отвоевать свою землю, возглавив верных сторонников. Думаю, он будет королем, похожим на тебя, и в нем воплотится замысел Мерлина достичь гармонии между природой и идеалом, телом и духом, реальностью и свободой воли. Вот Богорт, младший сын Богорта, родившийся в день гибели своего отца, отчего и было дано ему это имя двадцать лет тому назад. У него нет наследства, и, наверное, поэтому он, получая то же воспитание, что его брат и кузен, совершенствовал способности свои в сфере искусства — особенно в архитектуре, поэзии и музыке. Объединяет этих столь разных юношей связывающая всех троих любовь, которая побуждает каждого их них восполнять слабости свои достоинствами других.
— Иными словами, — сказал Гавейн, — Арморика обретет двух королей, которые сложатся в одного, но с тремя головами.
Вивиана расхохоталась, а вслед за ней засмеялись и все присутствующие. На Артура юноши произвели самое благоприятное впечатление: ему нравились стать, красота и лишенная кичливости гордость Ланселота, умное и благородное лицо Лионеля, веселая обходительность Богорта. Он попросил Вивиану устроиться со своей свитой во дворце и остаться вместе со своими приемными детьми до начала похода в Арморику. Однако ей хотелось, чтобы они оборвали все нити, связывавшие их с детством, целиком перейдя на попечение короля, и поэтому она в тот же день отправилась в обратный путь, желая также поскорее увидеть Мерлина и своих подданных. Ее сопровождал Гавейн, которому предстояло выполнить еще одно, последнее перед войной поручение. Проводив Вивиану до кромки Дольнего леса, он поехал в Долину Откуда Нет Возврата, где постоянно находились гонцы для связи с Логрисом. Этим вестникам он приказал предупредить мятежников, чтобы те держались наготове: одни должны были добровольно вступить в войско Клаудаса, а другие присоединиться к нему в назначенную ночь в определенном месте северного побережья страны гонов — в глубине пустынной, укромной и достаточно широкой для логрской флотилии бухты с низким и покатым пляжем, куда могла успешно высадиться королевская армия. Затем Гавейн поскакал в гонский город, который Клаудас провозгласил столицей трех королевств, сделав своей резиденцией бывший дворец Богорта. Здесь он попросил аудиенции как посланник короля Артура. Клаудас немедля принял его.
— Король Артур и собрание пэров Круглого Стола, — сказал он, — уведомляют тебя о том, что законные наследники королевства Беноик и страны гонов — Ланселот, сын Бана, и Лионель, сын Богорта, — прибыли в Кардуэл, где представили неоспоримые доказательства своего происхождения. Поэтому ты должен теперь исполнить одно из трех условий мирного договора, оговоренных двадцать лет назад, а именно: вернуть им их земли и удалиться на свои со всеми твоими воинами. Сверх того, поскольку стало известно, что ты захватил Беноик и страну гонов без какого-либо вызова со стороны Бана или Богорта, но из властолюбия и алчности начал неправедную войну, а также поскольку ты сознательно лгал, утверждая, будто наследники погибли, хотя прекрасно знал, что Ланселот уцелел во время пожара Треба, отчего и напал на Авалон, где укрылись он и его спаситель, король Артур приговаривает Пустынную Землю к выплате особо тяжкой дани Беноику и гонам, дабы восстановить нанесенный войной ущерб и вернуть в казну налоги и поборы, которыми ты обложил завоеванные земли, собирая их в течение двадцати лет, на что не имел никакого законного права.
На какое-то мгновение ошеломленный Клаудас онемел, но быстро взял себя в руки и ответил Гавейну нарочито сладким и обиженным тоном:
— Король Артур и Круглый Стол были введены в заблуждение самозванцами, ибо как поверить, будто законные наследники, знающие о своих правах, дожидались целых двадцать лет, прежде чем объявиться? Это бессмысленно. Их попросту отобрали и подучили бывшие сторонники Бана и Богорта, которым не терпится расквитаться за поражение в неправедном деле своем, ибо именно они, а не я начали войну.
— Принцесса Вивиана, дочь короля редонов Кардевка, приютила и воспитала наследников под руководством самого Мерлина, чтобы подготовить к будущим обязанностям. И это может засвидетельствовать королева Моргана, владычица Авалона. Ты смеешь ставить под сомнение слова высших лиц империи?
— Никоим образом. Но их самих могли ввести в заблуждение, тогда как для короля Артура невольная ошибка столь прославленных женщин стала непреложным доказательством. Ведь что может быть проще для отчаявшихся и фанатично преданных Бану и Богорту людей, как подобрать первых попавшихся детей и подсунуть их Вивиане в качестве законных наследников? Гораздо надежнее воспользоваться такой уловкой, чем иметь дело со взрослыми самозванцами, ибо дети сами верят в свое ложное происхождение и, поскольку им не нужно прикидываться, разоблачить обман очень трудно.
— Король Бан сам держал веревку, к которой была привязана корзина с его сыном Ланселотом, когда того спускали с крепостной стены Треба в барку Вивианы. А детей Богорта отдала Вивиане их мать — королева Эвейна.
— В таком случае лжет Вивиана. Она сообщница или даже вожак тех, кто придумал затею с самозванцами. И сделала она это из ненависти к своему отцу Кардевку, моему союзнику, ведь ей уже давно пришлось покинуть его двор.
Гавейн посмотрел на Клаудаса с презрительной улыбкой.
— Воздаю должное, — сказал он, — твоей фантазии и бесстыдству твоих доводов. Итак, ты отказываешься выполнять условие мирного договора, установленное королем и принятое тобой?
— Я вовсе не отказываюсь, но при данных обстоятельствах это условие невыполнимо. Следовательно, я могу сохранить завоеванные земли, не нарушив слова.
— В таком случае готовься к войне.
И Гавейн покинул дворец.
Спустя некоторое время Гавейн стоял в полной темноте посреди покатого песчаного берега глубокой и укромной бухты на северном побережье страны гонов. Его окружали все старые воины Бана и Богорта, с которыми он впервые встретился в их убежище в Долине Откуда Нет Возврата. С тех пор они стали вождями тайного, но широко распространившегося повсюду бунта: подстрекали к сопротивлению захватчикам и украдкой создавали будущую армию для наследников Арморики. На возвышающихся над бухтой холмах застыли четыре тысячи беноикских и гонских всадников — все воины из числа мятежников обоих королевств, кто обладал собственной лошадью. В отличие от своих сотоварищей-пехотинцев, они не просились добровольцами, согласно плану Гавейна, в армию захватчиков, ибо знали, что Клаудас, хотя и крайне нуждался в людях, отчего поспешно набирал бретонцев для усиления своего двадцатитысячного войска, кавалерии придавал особое значение и допускал в нее только жителей Пустынной Земли.
Вскоре командная галера военного флота Логриса во главе сорока боевых трирем вошла в бухту и встала на якорь недалеко от берега. На песчаный берег высадились Мордред, Ланселот, Лионель и Богорт, которых сопровождали восемь командиров.
— Король, — сказал Мордред Гавейну, — доверил нам обоим, тебе и мне, руководить войском. Я возьму под свое начало армию Логриса, которая насчитывает восемь тысяч пеших воинов королевской армии. Ты возьмешь под свое начало армию Арморики, поскольку за двадцать лет завязал здесь тесные связи.
— У нас будет только четыре тысячи местных всадников, — сказал Гавейн, — причем они большей частью плохо обучены и не имеют никакого боевого опыта. Жалкая горстка в сравнении с семью тысячами закаленных в сражениях всадников Клаудаса.
— Королю нужна вся кавалерия, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь северной армии, ибо в Горре и на Горных Землях опять неспокойно. Тактику свою будем строить исходя из того, что наши пешие воины превосходят врага числом и опытом.
— До чего же мне тяжко сознавать, — со вздохом произнес Гавейн, — что король сейчас, быть может, мчится во весь опор в Каледонию, тогда как мы здесь еле ползаем, улаживая деревенские склоки.
— Благодарю тебя, господин, — вмешался Ланселот, — за уважение, оказанное нашей земле и нашему делу.
— Я не хотел оскорбить тебя, Ланселот. Хоть я всегда готов позубоскалить по любому поводу, ибо такова моя природа, но мне известно, что Арморика — великое королевство, главная ставка для всей империи. Знаю я и то, что битва будет жестокой, а исход ее неясен. Однако мне хотелось бы умереть рядом с королем, поскольку любая другая смерть мне претит.
— Я понимаю тебя, господин. Я и сам чувствую такую любовь к нему, что предпочел бы воевать вместе с ним, хотя здесь на кон поставлено мое собственное наследство.
— Ты славный товарищ, — сказал Гавейн, — и я с удовольствием буду драться за тебя. А сейчас веди сюда своих двоюродных братьев. Я представлю вас вождям и воинам.
Так он и поступил. Вожди опустились на одно колено перед тремя юными наследниками, а стоявшие на холмах всадники выкрикивали их имена и размахивали мечами.
На заре высадка логрских войск завершилась, и галеры ушли из бухты, чтобы вернуться в Кардуэл. Восемь тысяч пехотинцев королевской армии и четыре тысячи всадников Арморики двинулись на юг, к гонскому городу, где Клаудас собрал все свои силы.
Через три дня обе армии расположились друг против друга на равнине, находившейся к северу от города. Против двенадцати тысяч воинов Гавейна и Мордреда Клаудас выставил семь тысяч всадников и тринадцать тысяч пехотинцев из Пустынной Земли — свое регулярное войско, а также шесть тысяч пехотинцев-добровольцев, набранных в Беонике и стране Гонов, — всего двадцать шесть тысяч бойцов. Гавейн направил коня к вражеским рядам и поднял меч. Шесть тысяч бретонцев Клаудаса тут же ринулись к нему, выкрикивая имена Ланселота и Лионеля. Они заняли позицию рядом с арморикскими всадниками, и тем самым силы отчасти уравновесились: восемнадцать тысяч воинов Мордреда и Гавейна против двадцати тысяч Клаудаса, у которого остались теперь только бойцы из Пустынной Земли. И, прежде чем те опомнились от изумления, смешанного с гневом и разочарованием, Гавейн вместе с Ланселотом и Богортом повел в атаку всадников, тогда как Мордред в сопровождении Лионеля двинул свою пехоту против четырнадцати тысяч воинов Клаудаса. Началась ожесточенная битва. Гавейн вершил чудеса, но ему пришлось несколько умерить привычные для него пыл и бесшабашность ввиду численного превосходства противника и безрассудной отваги обоих наследников. Ланселот, не уступавший лучшим воинам Круглого Стола, врубался во вражеские ряды, а Богорт, не обладавший ни силой его, ни ловкостью наездника, ни фехтовальным мастерством, выказывал безумную смелость, вступая в схватку со свирепыми и закаленными в боях воинами. Несколько раз они попадали в окружение, подвергаясь смертельной опасности, но тогда на выручку к ним спешили Гавейн, осыпавший их ругательствами, и лучшие бойцы Арморики, которые славили их как достойных сынов бывших своих королей. Однако неравенство сил и опыта постепенно сказалось. Когда бретонская кавалерия потеряла две тысячи человек, что составляло половину от общей ее численности, а Клаудас оставил на поле боя лишь тысячу своих бойцов, Гавейн приказал отходить в тыл к Мордреду, и здесь уцелевшие вместе с пехотинцами успешно отразили бешеные атаки всадников Пустынной Земли, уже уверенных в победе. Решила же исход битвы армия Мордреда. Во главе королевской пехоты — лучших воинов империи — он прорвал ряды Клаудаса и устроил настоящую бойню среди устрашенных врагов, тогда как собственные воины превозносили его до небес, а он удесятерял их доблесть своим примером, ибо оказывался везде и всюду побеждал. Ему искусно помогал Лионель, направляя легких и быстрых воинов Арморики на вражеские фланги, мешая противнику перестроиться и принуждая его отражать лобовые удары грозных полчищ Логриса. Когда Клаудас увидел, что войско его начинает все более стремительно пятиться назад, уступая поле битвы, где осталось лежать пять тысяч убитых и тяжело раненных, он дал приказ отступать, чтобы не оказаться в окружении. Армия Пустынной Земли отошла на восток, к Беноику: пехота была истреблена почти полностью, но кавалерия сохранила почти все свои силы, и эти всадники, невзирая на поражение, представляли большую угрозу. Бретонцы преследовали их до самых восточных границ страны Гонов, где и остановились по приказу Мордреда, который был вполне доволен тем, что освободил все королевство в результате одной лишь битвы.
На следующий день Лионель во главе четырнадцати тысяч уцелевших в сражении воинов Логриса и Арморики с триумфом вошел в ликующую столицу гонов. Он получил корону из рук Гавейна и от имени Артура. Не теряя ни единого мгновения и устранившись от войны по совету Мордреда, которому отдал, однако, всех своих бойцов, он приступил к преобразованию королевства по образцу и подобию Логриса — вдохновляясь реформами Артура и законом Круглого Стола.
Весь конец 520 года и начало следующего Гавейн с Мордредом провели в походе и постепенно захватили Беноик. Но Клаудас вел себя опасливо и отходил все дальше на восток, стараясь избежать столкновения в условиях куда менее благоприятных, чем в битве на земле гонов, ибо теперь силы врагов сравнялись. Наконец он нашел убежище в стране редонов, которые воспользовались этим, чтобы отринуть покровительство Логриса, низложить Кардевка и отдать трон властелину Пустынной Земли. Клаудас, получив подкрепление в тысячу всадников и три тысячи пехотинцев, решился вступить во второе сражение, где имел все шансы победить. Битва произошла на границе Беноика и редонов в начале лета 521 года. Но, поскольку королевская армия осталась почти невредимой, а воины Арморики за истекший год столь ревностно обучались боевым искусствам, что едва не превзошли своих грозных союзников, поражение Клаудаса обернулось полным разгромом, а отступление превратилось в паническое бегство. Он потерял половину своего войска, пожертвовав сначала четырьмя тысячами редонов, а затем погубив пять тысяч собственных бойцов во время беспорядочного отхода к Пустынной Земле. И в этом сражении Гавейн, Мордред, Ланселот совершили великие подвиги, которыми еще больше завоевали сердца воинов, ибо в рядах союзной армии насчитывалось всего две тысяч убитых. Страна редонов была присоединена к Беноику, и Ланселот стал правителем самой большой провинции империи. Следуя примеру Лионеля и советам Мордреда, он занялся преобразованием своего королевства, однако от войны не отказался, поскольку хотел принять участие в последнем походе, цель которого наметил еще Артур — захватить Пустынную Землю, чтобы отдать ее Богорту.
У Гавейна и Мордреда оставалось шесть тысяч пехотинцев королевской армии, четыре тысячи пехотинцев и всего лишь тысяча всадников из Арморики. Ланселот привел из Беноика две тысячи всадников, столько же прислал Лионель из страны гонов. Армия встала на зимние квартиры у южной границы Беноика, в непосредственной близости от Пустынной Земли, где Клаудас лихорадочно собирал последние силы, включая в разгромленное войско даже подростков и стариков, не имевших никакого опыта, силой уведенных из родных домов и находившихся под постоянным присмотром его самых свирепых приверженцев. Но ему все равно удалось набрать только шестнадцать тысяч воинов, из которых лишь десять тысяч представляли реальную силу.
Весной 522 года бритты и бретонцы под командованием Мордреда, Гавейна, Ланселота и Богорта, переправившись через разделявшую два королевства реку, заняли всю Пустынную Землю. И произошла третья битва, где все сторонники Клаудаса погибли, а самого короля, пытавшегося бежать, настиг и убил Ланселот. Богорт же завоевал признательность шести тысяч собранных насильно и очень быстро побросавших оружие воинов, которых распустил по домам, не желая даже на час удерживать их в плену. Таким милосердным поступком начал он свое правление в Пустынной Земле, и вскоре новые подданные прониклись к нему любовью как за его доброту, так и за лишенное всякой кичливости великодушие: мягкостью своей он добился от них большей преданности, чем бывший их владыка — страхом.
Арморика, куда вошла теперь и Пустынная Земля, устами трех своих государей торжественно признала покровительство Логриса над собой, сделавшись вновь частью империи Артура, которая достигла невиданных прежде размеров и могущества. А Ланселот, Лионель и Богорт при поручительстве Гавейна, Мордреда и Ивейна стали пэрами Круглого Стола.
Ланселот, стоя перед сидящей на ложе Гвиневерой, смотрел на нее взглядом, полным обожания и тревоги. Она была на двадцать лет старше его, но время, пощадив ее обольстительные лицо и тело, придало ей, напротив, королевское величие осанки и нежную томность зрелой женщины — два противоположных свойства, из которых первое взывало к почтительной сдержанности, тогда как второе возбуждало чувственность, и обуздываемое таким образом желание лишь усиливалось благодаря препятствию.
В ту ночь, когда Ланселот был возведен в достоинство пэра Круглого Стола, Гвиневера послала за ним самую близкую и самую верную служанку, поверенную ее тайн, вестницу и одновременно домоправительницу, которой вменялось в обязанность отбирать красивых рабов для участия в любовных оргиях.
— Итак, — сказала она, — ты Ланселот, о котором только и говорят в Кардуэле. Ты — сын Бана, воспитанник Вивианы и Мерлина, король Беноика, завоеватель Арморики, победитель Клаудаса, один из виднейших пэров Круглого Стола Камелота с момента своего избрания, любимец короля наряду с Гавейном и Мордредом, мудрый и сильный воин, прекрасный телом и лицом…
Дав ему знак сесть рядом, она продолжала:
— Я хочу получше узнать тебя. Расскажи мне, какой была твоя жизнь до сего дня.
Ланселот поведал ей о своем рождении, о бегстве из Треба и битве при Авалоне, которую ему по его просьбе тысячу раз во всех деталях описывала Вивиана, о днях, проведенных в Долине Откуда Нет Возврата, о замке Владычицы Озера, о войне. Одновременно, под устремленным на него взглядом голубых глаз Гвиневеры и под влиянием дурманящего запаха ее тела — настолько близкого, что ощущалось исходившее от него тепло, он чувствовал, как нарастает и крепнет возникшее уже при их первой встрече восхитительное смятение, где переплелись еще не вполне осознанное желание и страх, который ему довелось испытать впервые в жизни. Когда он умолк, она произнесла с улыбкой:
— Я хочу одарить тебя привязанностью не только королевы, ибо это мой долг, но и второй приемной матери, ибо это для меня удовольствие. Тем самым я заменю тебе Вивиану, которая теперь далеко, потому что я полюбила тебя, как только увидела, и стала любить еще сильнее, когда выслушала.
Она вытянулась на ложе и привлекла к себе Ланселота, с чисто материнской нежностью растрепав ему волосы. Он ответил на этот любовный жест — сначала робко, положив руку на ее платье, затем с растущей уверенностью и более неуклюже, отчего ткань сдвинулась, и он прикоснулся к обнаженной коже. Нисколько не пытаясь удержать его, Гвиневера продолжила свою ласку, двусмысленность которой подстрекнула смутное влечение Ланселота, и он стал уже не только оглаживать, но и целовать ее. Она сделала вид, что не заметила перехода от нежности к сладострастию, словно бы прощая некоторую вольность шаловливому сыну, и это сочетание материнской снисходительности с покорностью возлюбленной разожгло кощунственную и упоительную похоть Ланселота до такой степени, что он овладел ею и познал наслаждение, от которого едва не лишился чувств. Затем его охватили стыд и страх. Но Гвиневера, теперь уже не таясь, рассчитанными движениями вновь пробудила в нем желание и всю ночь обучала его утехам любви, получая столь же великое удовольствие, какое давала ему.
Утром, при расставании, он сказал ей:
— Я люблю тебя, Гвиневера. Я люблю тебя наравне с королем, которого ты предала. И я переполнен счастьем — преступным и мучительным счастьем.
— Если это предательство, — возразила она с ледяным спокойствием, — совершил его ты, а не я. Ибо Артур, порабощенный страстью к Моргане, меня не любит. Следовательно, у меня нет никакого долга перед ним, поскольку верность неразрывно связана с любовью, и я всего лишь мщу ему за равнодушие ко мне. Месть же моя как раз в том и состоит, что ты поклялся ему в любви и преданности, образующих самую суть Стола. Таким образом, из нас троих я совершаю самое малое предательство.
Тогда Ланселот заплакал, ибо знал, что при всем желании отдать жизнь за короля он никогда не откажется от страсти к Гвиневере, от изумительного и омерзительного наслаждения обладать ею. Он попал в западню, из которой не сможет вырваться.
— Я тоже тебя люблю, — сказала Гвиневера. — Хотя ты трус.
Летом 522 года, через несколько дней после завершения событий в Арморике, в Кардуэльский порт вошли пять галер, некогда оставленных Артуром Моргане, чтобы остров ее имел свой торговый и военный флот. Тысяча двести подданных королевы Авалона высадились на берег со всем своим имуществом. И на пристани образовалось такое столпотворение из людей, лошадей, домашнего скота и птиц, такое нагромождение тюков, товаров, мебели и утвари, что туда явилась городская стража с намерением во всем разобраться, пресечь возможные беспорядки и помешать пришельцам рассеяться по городу. После долгих переговоров трое чужаков в сопровождении патрульных воинов направились ко дворцу, чтобы испросить аудиенции у короля, тогда как остальные принялись сколачивать повозки, куда складывали свое добро и запрягали лошадей. Узнав, что более половины жителей Авалона прибыли в Кардуэл, Артур вышел навстречу посланцам. Старейший из них выступил вперед и с поклоном произнес:
— Государь, владычица Авалона, королева Моргана, наша повелительница, прогнала нас со своего острова, невзирая на желание наше остаться из любви к ней и к этой земле, которую она сделала самой прекрасной, самой богатой и самой безопасной во всем западном мире. Она сказала, что пришла пора для нее удалиться от мира, а для Авалона — вернуться в первобытное состояние. Мы приехали сюда, чтобы вступить во владение крепостью Иска и прилегающими к ней наделами. Это первая резиденция королевы Морганы, которую получила она в возрасте двенадцати лет в дар от отца своего, короля Утера-Пендрагона, и, в свою очередь, отдала нам в общее пользование, из чего следует, что мы более не ее подданные, а твои. Остальные восемьсот жителей Авалона высадились в Беноике, чтобы предъявить королю Ланселоту сходное прошение относительно укрепленного владения, прозванного Долиной Откуда Нет Возврата. Вот подписанные королевой дарственные акты, а также вольные для всех ее рабов, ибо она желает, чтобы мы пользовались отказанным нам имуществом как свободные и равноправные люди.
— Я подтверждаю ваше право собственности, — сказал Артур, — и даю в том поруку, поскольку этого желает Моргана и ничто в законе Логриса этому не препятствует. Значит, она осталась на Авалоне совсем одна?
— Да, государь.
— Отчего приняла она такое решение?
— Кроме нее самой, никто этого не ведает.
— Есть ли среди вас женщина по имени Бондука, ее самая доверенная служанка?
— Нет, государь. Должно быть, она уехала с теми, кто отправился в Беноик, ибо это ее родная земля.
— Как же Моргана будет жить? Неужели она решилась умереть?
— Не думаю. Она потребовала, чтобы в начале каждого месяца мы оставляли для нее пищу в порту Авалона, не пытаясь заговаривать или даже встречаться с ней. Стало быть, ищет она не смерти, а одиночества.
Король надолго задумался, тогда как его собеседники стояли молча и неподвижно, не смея прерывать его размышления. Наконец он жестом приказал им следовать за ним и вместе с ними отправился в порт. Там его окружили и бурно приветствовали бывшие авалонцы, которых он решил лично проводить в Иску. Длинная колонна всадников и пеших, повозок и скота с пастухами тронулась с места и покинула Кардуэл через западные ворота, откуда начиналась идущая вдоль берега дорога в крепость, которая находилась примерно в двадцати милях к юго-западу от столицы. Через полдня пути показалась Иска. Крепость была в превосходном состоянии, ибо во время первого изгнания Морганы в Арморике там оставались подданные королевы, когда же она увезла их с собой в Авалон, Артур отправил в Иску домоправителя с несколькими слугами, чтобы те следили за ее сохранностью. Крепостные стены, двор и сам замок отнюдь не выглядели заброшенными или обветшавшими. Те, кто оказался здесь впервые, с восторгом осматривали обширные залы и пустые покои, восхищаясь красотой, прочностью и удобством здания. Те, кто родился здесь во время пребывания Морганы в Долине Откуда Нет Возврата, растроганно взирали на знакомые с детства и оставленные более тридцати лет назад места. Еще больше волновались те, кому довелось жить здесь под властью юной принцессы Логриса. Но сильнее всех был потрясен Артур: чувство утраты, которое преследовало его, как неотвязное наваждение и вечно зудящая боль, навалилось невыносимой тяжестью, когда он оказался в бывшей спальне Морганы, где некогда душой и телом познал безмерную страсть. Внезапно распростившись со своими спутниками, он покинул Иску, а новые обитатели крепости тем временем уже начали устраиваться в замке, огораживать загоны для скота и домашней птицы, отводить стада на заросший высокой травой луг, расчищать пахотные земли — плодородные и долго простоявшие под паром, что обещало в будущем высокие урожаи. Артур остановил коня на том самом месте, где в возрасте семнадцати лет впервые увидел свою единоутробную сестру.
— Моргана, — сказал он, — отчего же не вернулась ты вместе со своими подданными в Кардуэл? Конечно, не из страха перед законом, по которому ты должна быть немедля предана смерти, если оставишь землю своего изгнания, ибо ты презираешь все законы человеческие и боишься только закона времени. А ведь тебе удалось надолго победить время, потому что все очевидцы утверждают, что возраст не затронул твою красоту. Но быть может, ты сама заметила на теле своем первый знак поражения и не хочешь иметь никаких очевидцев его. Время обладает терпением неизбежного победителя. Порой оно даже способно проявить милосердие, заживляя рубцы души и тела с нежностью хищника, который заботливо вылизывает жертву, прежде чем пожрать ее. Ко мне было оно немилосердным, ибо зияющая рана отсутствия твоего не только не зарубцевалась, но воспалилась и распухла так, что заполнила меня целиком. Лишь ты одна можешь исцелить меня в Авалоне, а сам я могу стать твоим союзником в этой последней и проигранной битве с временем. Если же ты не хочешь, чтобы я был очевидцем его ударов, оставляющих следы на твоей плоти, ослепи меня — но позволь наслаждаться голосом твоим и телом, которое я буду любить не меньше и даже больше в годину его поражения, чем в годину торжества. Однако я знаю, что жестоким условием твоего гостеприимства поставила ты гибель Стола, что означало бы гибель моей души, для которой забота станет ненужной, а радость невозможной. О, мертвая для другого душа, ибо отринула его мир, но все еще живая для себя, ибо способна страдать, любить и ненавидеть в пустоте, отчего желаешь ты продлить существование свое, которое неизбежно завершится долгой агонией одряхления и одиночества? Если верна мысль твоя, что жизнь может быть без души, но нет души без жизни и потому тело наше — единственное наше достояние, тогда мне дан ответ, хотя я продолжаю колебаться и не смею покончить с ним сам, разрываясь между мукой бытия и ужасом небытия. Терзания от любви — в сознании любви, которое навеки исчезнет в жуткой бездне, где нет боли. И я не знаю, что предпочесть: эту рожденную прекрасной идеей и памятью пытку, которую время делает нестерпимой, или же эту бездну небытия, где разом пропадают и пытка, и прекрасная идея, и память, и даже время — губительное для всех время находит там свою погибель. И ничего больше, и все обращается в ничто, если только отсутствие всего может быть чем-то. Однако я не хочу покупать исцеление ценой забвения, потому что это означает забыть и тебя — так дорого платить я не могу. В самой смерти лишь одно представляет для меня интерес: что станется с твоим божественным образом, живущим в моей душе? Если он умрет вместе со мной, я хочу жить. Если нет, мне все равно, что станет со мной. Ибо небытие будет побеждено и все сохранится навечно, если в разрушенной материи, мертвой плоти, обреченной сгнить и исчезнуть, останется абсолютная сущность Артура — любовь его к Моргане. Если же сущностью обладает только тело, если бытие означает жизнь и ничего более, тогда я понимаю, почему ты выбрала жизнь — пусть даже в отчаянии, ибо жизнь отмеряется временем.
В начале 523 года каледонцам из Горры, самым могучим и самым коварным врагам Логриса, которые после договора, заключенного между Утером и Леодеганом, никогда не осмеливались нападать в одиночку, удалось поднять против империи все племена, населявшие Каледонию, за исключением Оркании. В союз помимо начавшей дело Горры вошли пикты с западного побережья и скотты из Далриады — всегда враждовавшие между собой, но примирившиеся по такому случаю, — а также пикты из Горных Земель на северо-востоке, где сторонники войны одержали верх над бывшими вождями, с которыми Артур заключил мир двадцать три года тому назад. Союзное войско насчитывало сорок тысяч человек: никогда Каледония не имела такого мощного войска, которому противостояла северная армия из тринадцати тысяч бригантов, охранявших границу у стены Адриана, как некогда римские легионы. В течение двух лет бриганты пристально следили за волнениями в Горре и уведомляли о них Артура, отчего тот и не рискнул послать королевскую кавалерию в захваченную Клаудасом Арморику. Как только каледонцы начали собирать войска, бриганты отправили вестников в Кардуэл, поскольку опасались, что враги обойдут их с тыла. Артур тут же доверил управление Логрисом Ивейну, который склонился перед волей короля, невзирая на свое желание участвовать в походе. Одновременно Артур, использовав войну как предлог, распорядился публично огласить уже давно принятое им решение. В случае своей гибели в бою он назначил Ивейна преемником на троне Логриса и во главе Круглого Стола, сделав, таким образом, своим официальным наследником племянника не по крови, а по свойству. Выбор этот был всеми единодушно одобрен, ибо Ивейн сочетал в себе лучшие качества всех пэров — военный и политический гений, широту взгляда, властность и доблесть Артура, решимость и неподкупную честность Мордреда, великодушие Гавейна, практичность Кэя — и в силу этого был наиболее полным воплощением мудрости Мерлина. Только он один — если не считать Артура — пользовался любовью всех пэров Стола, а популярностью в империи его превосходили лишь двое — король и Мордред.
Вместе с Артуром в поход отправились Гавейн, Мордред, Кэй и Ланселот, который не мог оставить Логрис как из преданности Артуру, так и из любви к Гвиневере. Быть может, он также увидел в войне возможность покончить со своими страданиями и потому доверил управление Беноиком Лионелю. Во главе шестнадцати тысяч воинов королевской армии Артур стремительно двинулся к стене Адриана, намереваясь соединиться с северной армией. Одновременно он послал вестников, которые должны были скакать день и ночь, меняя лошадей, чтобы передать оркнейской армии приказ пройти через Горные Земли и атаковать врагов с тыла. В целом три войска империи насчитывали тридцать три тысячи человек, и еще семнадцать тысяч оставались в резерве — в гарнизонах общин.
Все было решено в единственной и ужасающей битве. Артур ринулся в наступление с безумной смелостью, полным презрением к опасности и такой неистовой яростью, какой не выказывал никогда прежде — даже при Бадоне. Бешеный натиск воодушевленных им воинов ничто не могло остановить, а устрашенным врагам он казался неким божественным чудовищем, явившимся из мира их собственных легенд. В тот день все — и свои, и чужие — признали его величайшим воином всех времен. Лишь Ланселот отчасти сравнялся с ним подвигами, неотступно следуя за ним вместе с верным Кэем и по ходу битвы подражая ему во всем: открыто — в страшных ударах мечом и в смелых до безумия вылазках, тайно — в необузданном и почти откровенном желании умереть. И каждый из них, делая все, чтобы погибнуть, много раз спасал жизнь другому. Гавейну и Мордреду, которые бились с привычной доблестью, пришлось взять на себя руководство битвой, ибо король совершенно забыл о своих обязанностях и сражался как простой воин, презрев все законы стратегии и тактики. И оба они столь умело использовали молниеносные прорывы кавалерии, искусно маневрируя отрядами пехотинцев, что не упустили ни единого участка поля, завоеванного в результате хаотических атак Артура. Враги отступали все более стремительно и беспорядочно, и этот кровавый исход обернулся полным разгромом, когда с севера неожиданно появилась оркнейская армия и, развернув ряды, обрушилась на бегущих. На поле битвы нашли свою смерть двадцать пять тысяч каледонцев — почти все воины Горры, а также многие пикты и скотты. Из пятнадцати тысяч уцелевших половина сдалась в плен, остальным удалось скрыться. Когда утих яростный шум сражения, наступило гробовое спокойствие и безмолвие, словно сами победители испугались своего триумфа. Затем послышались радостные восклицания, постепенно слившиеся в общий громовой клич ликования. Логрис славил своего короля, который в этот день стал богом. Но измученный и покрытый кровью Артур, сойдя с коня, прислонился спиной к камню и застыл в оцепенении. Гавейн с Ланселотом заслонили его, ибо в смятении увидели, что он плачет. И Гавейн вспомнил, как рыдал Артур на Бадонском поле: поводом для тех слез тоже явилась смерть, но причина была прямо противоположной. Ибо тогда он плакал, потому что она забрала Лота, Леодегана и множество других воинов, теперь же — потому что она пощадила его самого.
Покоренная Горра была отдана под надзор северной армии и под власть должностных лиц Изуриума. Она стала двадцатой общиной Британии и двадцать третьей провинцией империи. В следующем году были захвачены и казнены все союзники Горры на Горных Землях и побережье, а также в Далриаде; Артур поставил вместо них мирно настроенных вождей, подтвердив независимость их владений. Империя достигла своих крайних пределов, а Логрис — высшей точки своего могущества. Круглый Стол, находившийся на вершине славы во всем западном мире, казался несокрушимым, а его главные пэры превратились в живую легенду для всех народов.
Но за внешним обличьем этого изумительного творения — шедевра, в котором воплотилась наконец мечта его великого и сгинувшего без вести создателя Мерлина, — таились кровосмесительная любовь и супружеская измена, клятвопреступление и ложь, скорбь и отчаяние. Пока, однако, здание стояло твердо, невзирая на точившую его изнутри ржавчину.
И это был второй мир Артура.
В конце 537 года Гавейн, вернувшись однажды ночью в замок после привычной оргии в нижнем городе, услышал шум борьбы в покоях королевы. Он устремился туда, но не успел войти, как воцарилась полная тишина. Гавейн распахнул дверь и увидел обнаженного Ланселота с окровавленным мечом в руке. Лицо его выражало дикую злобу и страх. Гвиневера сидела на ложе и также была раздета, но прикрыться даже не пыталась. Она казалась спокойной, и на ее лице, сохранившем благородные и изящные черты, невзирая на приметы возраста, отражалось даже нечто похожее на довольство. Ее уже слегка отяжелевшее тело светилось прежней красотой и не утратило былой обольстительной чувственности. На полу лежали два трупа, и Гавейн узнал своих сводных братьев — Агравейна и Гаэрьета, сыновей Моргаузы от второго брака, родившихся через несколько лет после смерти Лота. Они были незаметными придворными, вечно занимались какими-то мелкими кознями и, хотя приходились королю родней, тот всего лишь терпел их присутствие в своем замке, но так и не счел достойными занять место за Столом. Гавейн относился к ним с презрительным равнодушием. Сейчас он взирал на них озадаченно, но без видимого волнения.
— Черт возьми! — сказал он. — Здесь случаются вещи похлеще, чем в тех притонах, где я шляюсь, и портовые лупанарии могли бы сойти за философские академии и лицеи в силу терпимости своей.
— Прошу прощения… — пробормотал Ланселот. — Гавейн… Они вынудили меня…
— Что до смерти этих мокриц, которым я, к несчастью, прихожусь сводным братом, моя материнская половина тебя прощает, а отцовская — поздравляет, хотя мне кажется, что раздражение твое против них оказалось излишне скорым на расправу. Но за всем этим я угадываю вещи куда более серьезные. Вернее, они бросаются мне в глаза.
— Твои родичи напали на королеву, — с усилием произнес Ланселот. — Я подоспел вовремя.
Гавейн насмешливо улыбнулся:
— Даже тупица Кэй не смог бы проглотить столь грубую выдумку. Но я могу. И хочу. Чтобы поддержать тебя, я скажу, что был рядом с тобой и возьму на себя одно из убийств. Я вижу здесь твою тунику. Надень ее. Некоторые ограниченные люди могут посчитать странным, что ты снял ее, дабы она не мешала тебе сражаться.
Гвиневера одарила Ланселота нежной и одновременно презрительной улыбкой.
— Твои братья, — сказала она Гавейну, — с некоторых пор подозревали нас в том, что мы любовники. Сегодня вечером они выследили Ланселота, и, едва тот вошел, ворвались сюда и потребовали в обмен на молчание, чтобы я добилась от короля возведения их в пэры Стола. Я отказала им.
— Как давно, — спросил Гавейн Ланселота, — стал ты лицемером и клятвопреступником?
При этом оскорблении Ланселот судорожно сжал рукоять меча, но гнев его тут же погас, уступив место стыду.
— Пятнадцать лет, — ответила за него Гвиневера.
И, увидев изумление Гавейна, которого тот не смог скрыть, спросила:
— Что ты теперь собираешься делать?
— То, что он сказал.
В дверях возник силуэт высокого мужчины, который и произнес последние слова.
— Мордред! — воскликнул Гавейн. — Положительно, разврат притягателен. Ладно бы только для меня! Но ты!
— Дело не в разврате, Гавейн, — сказал Мордред, — а в том, чтобы спасти империю от хаоса, который неизбежно грядет из-за ужасного сплетения измены, мести и ненависти между двумя величайшими пэрами Стола. И все это по такой жалкой причине. Женская прихоть! Ланселот, я принимаю твои объяснения, уже подтвержденные Гавейном, и признаю законным убийство этих двух негодяев. Дело это послужит к вящему твоему прославлению, ибо для всего Логриса ты станешь спасителем королевы. Но я никогда не прощу тебе, что ты осквернил Стол ядом лжи и сделал меня с Гавейном соучастниками твоего преступления. Ты отправишься в Беноик и приступишь к королевским обязанностям, которыми слишком долго пренебрегал. В Кардуэл ты сможешь вернуться лишь в случае крайней необходимости и никогда больше не будешь искать встреч с королевой.
— Как все просто! — сказала Гвиневера. — Для меня даже слишком. Я избавлю тебя от необходимости насиловать свою добродетель, Мордред, ибо твердо решила чтить святую истину Стола и открыть ее Артуру, не скрывая ни поступков, ни причин, которые ты считаешь жалкими. Еще одна женская прихоть!
— Чего ты добиваешься? — спросил Мордред мертвым голосом. — Ты хочешь разрушить Стол?
— Подобной цели у меня нет, но это может стать следствием. И если случится так, что погублю Стол я — поруганная Гвиневера, а не его злейший враг — мудрая Моргана, это будет доказательством, что по разрушительной мощи унижение, безусловно, превосходит абстрактную веру.
Мордред застыл в безмолвии. На лице его впервые отразилось сильное чувство — и это была ненависть.
— Ты должна знать, — сказал он, — что это означает твою смерть.
— Пусть будет так! В моем возрасте можно умереть. И многие другие умрут вместе со мной, если страхи твои оправданны. Я прожила жизнь в одиночестве, но смерть встречу в большой компании.
— Быть может, и нет, — холодно произнес Мордред. — Если я заменю одну деталь в рассказе Ланселота, а именно: он не успел спасти тебя.
Мгновенно обнажив меч, он поразил Гвиневеру. Но Гавейн оказался столь же проворен. Ему удалось подставить свой меч, который принял на себя почти всю силу удара. Тем не менее раненная в голову Гвиневера упала без чувств, и по лицу ее заструилась кровь. Ланселот с рычанием бросился на Мордреда, выхватив меч. Началась ожесточенная схватка между двумя лучшими бойцами Логриса. Гавейн хотел было вмешаться, но передумал.
— Ну что ж! — сказал он себе. — Пусть священник и изменник перережут друг другу горло.
Он склонился над Гвиневерой. Она была жива. Намочив платок, он промыл ей рану на голове, которая, невзирая на столь ужасный удар, оказалась неопасной, и обтер кровь с ее лица. Тем временем Мордред и Ланселот продолжали сражаться, один хладнокровно и искусно, не стремясь убить своего противника, другой яростно и безнадежно, дойдя до крайней степени отчаяния, в котором сплелись чувство вины, ненависть, боль и скорбь, ибо он считал Гвиневеру мертвой. Ярость слепила и изматывала Ланселота, который чувствовал, что Мордред берет верх. В свой последний удар он вложил всю оставшуюся силу. Мордред ловко уклонился, подавшись всем телом назад, меч со страшной силой опустился на плиту и сломался. Опустив свое оружие, Мордред произнес:
— Уходи, Ланселот! Уезжай в свое королевство!
— Я вернусь! Вернусь, чтобы отомстить тебе, кровожадный пес, даже если для этого придется разрушить Логрис и Стол!
— Королева жива, — сказал Гавейн.
Но Ланселот уже ринулся прочь из спальни.
— Он образумится, — сказал Мордред. — И в любом случае стыд не даст ему признаться, а потому и сделать он ничего не сможет, ведь повода у него не будет. Мы умолчим о его причастности к этому делу. Лишь мы одни в него замешаны: это мы покарали убийц королевы. Ты говоришь, она жива? Позволь же мне завершить то, что я начал.
Гавейн, встав между ним и постелью, где лежала Гвиневера, поднял свой меч.
— Ты всегда не любил женщин, Мордред, — с улыбкой произнес он. — Так и не удалось тебе полюбить хотя бы одну из них. Но убивать за это… Признаюсь, ты меня удивляешь.
— Ты думаешь, я делаю это ради своего удовольствия?
— Такая мысль у меня появилась.
— Ты сошел с ума? После этого отвратительного деяния душа моя станет такой же мертвой, как тело Гвиневеры. Но это зло необходимо свершить во имя большего блага. Разве ты не видишь, сколь огромна цель и как незначительны средства? Две жертвы — королева и я, — две ничтожные пылинки во времени и пространстве, принесенные в жертву бесконечной и вечной идее Круглого Стола. Даже такое суетное существо, как ты, может понять эту очевидность.
— После Гвиневеры появятся другие проблемы и другие жертвы. И конца этому не будет. И я вижу двусмысленность в твоих словах: для меня это бесконечность преступлений и постепенная утрата цели, нравственный смысл которой в корне противоречит твоим средствам ее достижения. Цель эта превратится в химеру и станет лишь оправданием преступления. Чудовище не может родить бога — только других чудовищ. Стол — это не золотой век, мыслимый лишь в грядущем. Его воплощают и дают ему жизнь поступки, совершаемые сейчас. Важно не то, чего он хочет, а то, что он делает. Иными словами, цель и средства — это одно и то же. Даже такое бесчувственное существо, как ты, может понять эту очевидность. И в любом случае я не позволю тебе убить женщину — никакую, и тем более эту. Я даже начинаю думать, что спасение Круглого Стола не в ее смерти, а в твоей. Сразимся же, священник!
Но Мордред надолго замолчал, озадаченно смотря на него, и на лице его отражались следы мучительной внутренней борьбы. Наконец он вышел из спальни. Гавейн склонился над Гвиневерой. Она пришла в себя. Он поднял платье и накрыл обнаженное тело королевы, затем сел рядом. Она слабым голосом произнесла:
— Благодарю тебя за то, что ты спас меня, хотя я погубила себя по собственной воле. Не знала я, что обрету друга в том, кому Артур поверял свою любовь к Моргане. Я слышала твои слова. Зачем ты разыгрываешь из себя безумца, тогда как ты — мудрец?
— Но я и в самом деле безумец, Гвиневера. Прежде всего потому, что мудрость наводит на меня скуку. И взгляни, во что превратила мудрость Мордреда или же Моргану. Только Мерлин понял, что мудрость, чтобы остаться мудрой, должна слегка уклоняться в безумие, пусть и рискуя стать безумной.
— Не только Мерлин, но и ты.
— Я это понял. Но безумие мое лишь слегка клонится к мудрости, и такое обратное сочетание нельзя считать хорошим. Скажем, знаешь ли ты, что запомню я из этих причудливых и трагических событий? Полученную мной награду — видеть тебя обнаженной. Для меня это самое важное в том нагромождении мыслей и чувств, что были внушены страстной ненавистью и страстной любовью, изменой, поражением, насилием и смертью. Как видишь, безумие мое вовсе не притворно.
— И однако же, твоя помощь, твоя забота, твои слова, даже твоя легкомысленная дерзость привели к тому, что моя месть — столь давно задуманная и столь очевидная в своей черноте — в одно мгновение утеряла прежний отчетливый смысл, и в ее сладостном вкусе я ощущаю горечь. Я уже не знаю, что мне говорить королю и как сказать ему, ведь вопросы «что» и «как», несомненно, сливаются воедино.
— «Что» означает все твои поступки, без утайки и без изъятья. «Как» означает твои намерения и его обиду. Мсти за себя, продолжая сомневаться в своей мести, ведь месть и сомнение — две стороны одной истины. Сбрось с себя маску. Лицо всегда лучше, чем личина, даже если оно непригляднее. Твое же лицо прекрасно — не только чертами своими, но и по причине твоих сомнений.
В спальню вошел Артур в сопровождении Мордреда. Как всегда, он держался прямо и властно. Пышные седые волосы обрамляли его величественное лицо, на которое наложили свою печать время и тревоги. Он приблизился к постели Гвиневеры. Гавейн и Мордред вынесли из покоев трупы, а затем вместе удалились.
— Скажу тебе еще раз, Мордред, — молвил Гавейн, — ты меня удивляешь.
Гвиневера не скрыла от Артура ни поступков своих, ни мыслей. И в словах ее гнев постепенно уступал место печали, довольство собой — сожалению, вызов — страданию, уверенность — смятению и той грусти, которая всегда присуща поражению в жизни, в любви и в ненависти.
— Я желаю нести всю ответственность за свои поступки, — сказала она в заключение. — Пусть Стол судит меня и приговорит к смерти. Или же даруй мне полное прощение.
— Мне нечего прощать тебе, — ответил Артур, — ибо твоя вина ничто в сравнении с моей, послужившей ее причиной. Я сделал несчастным себя, о чем не сожалею, и тебя, за что прошу прощения. Если бы Стол должен был судить и покарать виновного, таковым, несомненно, стал бы я, возможно, Ланселот, но не ты. Мне хотелось бы сказать тебе, что я изжил свою страсть, как ты, судя по всему, изжила свою. Но это была бы ложь. Некогда я уповал на силу целительного времени. Оно оказало обратное воздействие. Вот почему мне до конца жизни не загладить мою вину перед тобой.
В первые месяцы 538 года Ланселот, чье преступное отчаяние обратилось в лютую ненависть к Мордреду и, следовательно, к Столу, прилагал неустанные усилия, чтобы взбунтовать Арморику против Логриса, собрать могучую армию и уничтожить Кардуэл. Лионель и Богорт тщетно пытались образумить его, доказывая ему, что он кругом виноват и нет у него права даже на месть, поскольку им стало известно, что Гвиневера жива. В конце концов они отказались помогать безумцу и потребовали, напротив, чтобы он изъявил покорность и испросил прощения у Артура за вероломство свое и измену. Но Ланселот, хоть и был счастлив узнать о спасении королевы, Мордреда винил по-прежнему и не желал покориться королю, считая это нестерпимым унижением для себя — независимо от того, последовало бы за ним прощение или кара. Так гордыня его еще более усилила ненависть, вскормленную присущим ему от природы буйным нравом. Мало-помалу он совершенно перестал сознавать свое преступление и все больше склонялся к бунту, потерявшему всякий смысл. Однако ему не удалось найти ни одного приверженца в стране гонов и Пустынной Земле, жители которых любили своих королей и доверяли их мудрости. Даже воины Беноика большей частью остались глухи к его призывам, ибо не понимали, по какой причине затеял он такое дело. Ему удалось набрать лишь несколько тысяч человек — в основном среди редонов, которые соблазнились возможностью осуществить свою давнюю мечту и освободиться от покровительства Логриса.
Когда вести об этом дошли до Артура, все еще колебавшегося между намерением покарать виновника и желанием предать все забвению, он решил, что в преступлении своем Ланселот зашел слишком далеко и прощения не достоин. Собрав чрезвычайное заседание Стола, он объявил, что лично возглавит поход против Беноика, дабы предать Ланселота смерти или отправить в изгнание, а королевство его разделить между Лионелем и Богортом. Это решение одобрили все, кроме Мордреда, который сказал, что такой поход означает гражданскую войну, губительную для Логриса, для империи и, главное, для престижа Стола — светоча западного мира. Подчиняясь требованию короля соблюдать тайну, он ни единым словом не упомянул о Гвиневере, но добавил, что сам подтолкнул к мятежу Ланселота, упрекнув его в небрежении своим долгом по отношению к королю и приказав ему вернуться в Беноик, что означало изгнание из Кардуэла и из королевской армии, поэтому ему следует отправиться к Ланселоту одному и, если понадобится, предложить собственную голову в обмен на изъявление покорности. Артур отверг это предложение и решил выступить в поход немедленно — Мордреда же, поскольку тот был против, он назначил регентом на время своего отсутствия. И на сей раз выбор короля одобрили все — за исключением одного лишь Гавейна.
Через несколько дней Артур в сопровождении Гавейна, Кэя и Ивейна ступил на борт корабля, возглавив армию из шестнадцати тысяч королевских воинов. В море вышел весь военный флот — сто боевых трирем, где легко разместились люди, лошади, тяжелое и легкое оружие, снаряжение и продовольствие. Высадившись в Арморике, Артур не встретил никакого сопротивления, — напротив, повсюду народ выходил ему навстречу, желая выразить признательность за освобождение из-под ига Клаудаса и за дарованный стране закон Логриса, столь выгодный для простых людей. Ланселот, убедившись в громадной популярности короля на своей собственной земле, продолжал упорствовать в бунте своем, невзирая на все доводы рассудка и на любовь свою к Артуру. Вместе с приверженцами он укрылся за мощными крепостными стенами своей столицы. Артур предпринял штурм, но Ланселот отбил его, проявив чудеса храбрости.
Началась долгая осада. Часть флотилии блокировала порт. Почти все жители Беноика, не принимавшие участия в войне, попросили у Ланселота разрешения покинуть город, и тот согласился при условии, что они не притронутся к запасам продовольствия. Когда толпа вышла за ворота, королевская армия охотно расступилась перед ней. В конце года Артур велел разбить вокруг города зимний лагерь.
Весной 539 года Мордред, который уже год управлял Логрисом с присущим ему неустанным и осознанным рвением, обретя при исполнении обязанностей регента новые и безмерные притязания относительно Стола и империи, блокированные, по его мнению, лишь войной в Арморике, решился на отчаянный поступок, который долго обдумывал лихорадочными бессонными ночами и на который подвигли его мистическая вера в закон, а также гнев, переросший в ненависть к королю и Ланселоту. Он пришел к убеждению, что они представляют самую страшную угрозу для Стола. Он с горечью упрекал их в том, что личные и любовные интересы возобладали над мудростью и самоотречением, которых требовала от них универсальная нравственная ответственность. Он обвинял их в том, что они все поставили на кон из-за ничтожной причины и впали в разрушительное и преступное безумие. Он видел в их поступках цепь предательств. Слова Морганы неотступно преследовали его: «Предать могут все, не исключая и самого Артура. Все, кроме тебя, ибо ты станешь несокрушимой опорой, неподкупным хранителем духа Стола. И любой его пэр, кем бы он ни был, станет злейшим твоим врагом, если поддастся слабости, разврату или измене». И еще она говорила: «Всегда выступай за идею против человека, за Круглый Стол против собственного отца». Он убедил себя, что только ему под силу спасти дело Мерлина, стать последним оплотом в борьбе с заговором, в котором он винил без разбора Артура, Ланселота, Гавейна, Гвиневеру и Моргану. Это был заговор против ничего не подозревающего Стола, что делало его еще более отвратительным и еще более разрушительным, ибо таился он под личиной слепой веры. Это был заговор против самого Мордреда, который чувствовал его острее из-за перенесенных в детстве страданий, связанных с отсутствием любви и позорной тайной своего происхождения. И когда решение его было принято, он ринулся исполнять его со всей страстью и свирепостью убежденного в своей правоте фанатика. Он дождался прихода того летнего дня, когда начиналось одно из двух ежегодных, приуроченных к солнцестоянию заседаний Стола, в котором должны были принимать участие все его члены. Отсутствовали только Артур, Гавейн, Кэй, Ивейн, шестнадцать командиров королевской армии и трое королей Арморики — но остальные сто двадцать семь пэров заняли свои привычные места за Столом. Мордред заговорил первым, на что имел право в качестве назначенного Артуром правителя:
— Стол, Логрис и империя находятся в опасности из-за бессмысленной и кровавой междоусобной войны, которую затеяли Артур и Ланселот. О подлинных причинах ее никому не сообщалось по воле короля, и знают о них лишь непосредственные очевидцы случившегося, к числу которых принадлежу и я. Первая и самая давняя причина — преступная страсть, очень рано возникшая между Артуром и его сводной сестрой Морганой, моей матерью. Мерлин покарал ее, отправив в первое изгнание по причине этой страсти, от которой король, невзирая на разлуку, так и не отрекся в сердце своем, отчего стал пренебрегать королевой, отвергнув ее — если не по закону, то на деле — с того самого момента, как женился на ней. Вторая, проистекающая из первой причина — желание Гвиневеры отомстить, развратившее ее до такой степени, что она соблазнила Ланселота, одного из лучших наших пэров, толкнув его на клятвопреступление и ложь. Преступные любовники на протяжении целых пятнадцати лет поддерживали свою связь: одна — умышленно, из чувства мести, другой — по слабости и помрачению рассудка. Король совершил две ошибки. Ошибкой юности была позорная страсть, ошибкой старости — неразумное милосердие. И эти две ошибки привели нас к гражданской войне, которая вот уже год душит Логрис и парализует Камелот. Впрочем, после похода в Каледонию Артур ничего не сделал для того, чтобы распространить влияние Стола, удовлетворившись пассивным управлением уже завоеванных земель. Грандиозный план Мерлина по вытеснению варварства не продвинулся ни на шаг после захвата Горры. Он даже и не остался в прежних границах, застыв на месте, но подался назад, в глубь империи, в этой борьбе против самого себя. Артур одряхлел, и его рвение укреплять Стол ушло навсегда, задушенное старческой немощью, нежеланием действовать ввиду близости смерти. Посему я требую низложить его — со всеми почестями, подобающими величайшему из королей и величайшему из воинов, каких только знал мир. И прошу поставить меня на его место, ибо чувствую, что именно я, а не кто-нибудь другой — законный наследник мысли Мерлина.
Общее смятение обратилось в гомон. Одни пэры выражали Мордреду одобрение, другие осыпали его оскорблениями, именуя кто безумцем, кто лжецом, кто предателем. Мордред смотрел на них без всякого волнения. Первым взял слово, добившись относительной тишины, один из четырех командиров оркнейской армии по имени Тристан, который пользовался всеобщим уважением за политическую мудрость и воинскую доблесть:
— Я навсегда останусь верным королю, но примем на одно мгновение предложенную тобой игру. Допустим, что жалобы твои искренни и обвинения верны, что сделанный тобой вывод о недостойном поведении Артура справедлив и обоснован, что мы имеем право низложить законного короля Логриса и отстранить создателя второго Стола от его собственного творения, не нарушив злодейски свою вассальную клятву… в таком случае, почему бы нам не поставить на его место того, кого он сам назначил своим преемником и кого все мы, включая тебя, признали таковым, иными словами, мудрого Ивейна?
— Неужели ты думаешь, — ответил Мордред, — что Ивейн согласится принять царство, пока жив Артур? И неужели ты думаешь, что он будет вести другую политику? Разве он не отправился с королем в Арморику, поддержав тем самым гражданскую войну, хотя и был самым великим созидателем так называемого второго мира Артура, который не имеет, подобно первому, смысла в строительстве империи, а потому становится не чем иным, как преступным бездействием? Мы признали его в то время, когда король был иным — творцом законов, завоевателем Арморики и Горры, победителем Горных Земель. Ныне же Ивейн неотступно следует за Артуром, равно как Гавейн и Кэй, — все они подлежат одному и тому же приговору. Если Артур все-таки достоин царствовать, вопрос твой не требует ответа. Если же он должен быть смещен ради процветания и даже выживания Стола, к чему ставить на его место ему подобного?
— Ты с подозрительной поспешностью отстраняешь от трона родичей короля, у которых не меньше, чем у тебя, оснований законно претендовать на наследство Артура, — сказал Тристан.
— Выбор должно сделать не по родству, а исходя из интересов Стола, а я всегда был самым пылким и самым непримиримым защитником ценностей его и законов. Но, раз уж ты заговорил о наследстве, знай, что я, Мордред, — плод кровосмесительной любви Артура и Морганы. Я — сын Артура, прямой потомок Утера-Пендрагона и Констана Логрского. Следовательно, я мог бы потребовать то, о чем прошу вас.
Воцарилась мертвая тишина. Тристан нарушил ее:
— Кто докажет нам, что ты не честолюбивый интриган, который давно замыслил захватить власть, прикрываясь личиной безупречной добродетели?
— Разве я когда-нибудь лгал?
— Нет видимого различия между искренним человеком и искусным лжецом. Можешь ли ты подтвердить то, что сказал?
— Да.
— Каким образом?
— Отправьте посланца в Иску. Пусть он доставит сюда самых старых слуг Морганы — тех, что были свидетелями ее связи с королем, а затем, когда они последовали за ней в Долину Откуда Нет Возврата, ее беременности и моего появления на свет.
На следующий день в залу ввели трех женщин и двух мужчин преклонного возраста, среди которых находилась и бывшая домоправительница замка Иски в те времена, когда там жила юная Моргана. До появления Бондуки она была самой доверенной служанкой принцессы и сопровождала ее в оба изгнания. Все были встревожены и напуганы тем, что оказались в святилище империи, перед лицом могучих властителей и величайших воинов, образовавших собрание, которое уже превратилось в легенду на всей протяженности западного мира.
— Не бойтесь ничего, — сказал им Мордред. — Никто здесь не причинит вам никакого зла.
Жестом он подозвал домоправительницу.
— Тебя я узнал. Выйди вперед и говори от имени всех остальных. Сначала скажи собранию, кто ты и каковы были твои обязанности при Моргане.
Она исполнила его приказ.
— Известно ли тебе, кто я такой? — спросил Мордред.
— Ты — сын нашей королевы, господин Мордред, родившийся в самом начале ее изгнания в Долине Откуда Нет Возврата.
— Известно ли тебе, кто мой отец?
Она боязливо потупилась и ничего не ответила.
— Круглый Стол, — сказал ей Мордред, — освобождает тебя от клятвы хранить тайну моего рождения, которую ты и твои спутники принесли Мерлину. Стол властен это сделать. Ты должна рассказать все, что тебе известно, ничего не скрывая. Кто мой отец?
— Король Артур Логрский, — прошептала она.
— Говори громче, чтобы все тебя слышали.
— Король Артур Логрский.
— Как ты узнала об этом?
— Король стал первым возлюбленным нашей королевы. Это случилось в Иске, когда оба они были совсем юными. Я часто приводила его в ее личные покои. Когда же она понесла, то приказала мне закрыть для него ворота своего замка. Потом господин Мерлин приговорил ее к изгнанию за беременность и чтобы отдалить от короля, который обезумел и впал в отчаяние из-за ее отказа видеться с ним. Она родила тебя в Долине Откуда Нет Возврата в конце зимы 479 года. Она сама занималась твоим обучением, не скрыв от тебя твоего происхождения, но наказав не говорить об этом никому, кроме короля и господина Мерлина, ибо ты — плод преступной связи. Когда тебе минуло двенадцать лет, она привезла тебя в Кардуэл, чтобы представить твоему отцу и его двору. После этого она отправилась во второе, вечное изгнание в Авалон.
— Подтверждаете ли вы ее слова? — спросил Мордред остальных слуг.
Все они ответили утвердительно. Мордред отослал их. Удрученные пэры Круглого Стола хранили молчание, глядя на него с почтением и одновременно с ужасом, не зная, как ко всему этому относиться и что думать. Ибо, хоть и считали они преступление короля, повлекшее за собой такие роковые последствия, непростительным, им казалось столь же невозможным низложить того, кто всегда стоял для них выше всех прочих людей, кого они боялись и обожали. А некоторые из них уже прозревали конец Стола, чье существование лишилось смысла с падением его творца.
— Я открыл вам эту тайну, — сказал Мордред, — чтобы доказать свои добрые намерения, а не для того, чтобы утвердить законность моих прав. Ибо повторяю вам, превыше всего для меня интересы Стола, и, если бы самый незнатный из всех подданных Логриса оказался более пригодным для служения ему, я избрал бы его без всяких колебаний, ибо отрицаю любые личные притязания и любовь к власти ради самой власти. Неужели вы верите, что интриган мог бы предложить собственную голову в обмен на подчинение Ланселота? Напротив, притязания мои в отношении Стола, Логриса и империи безмерны. Суть закона состоит в его универсальности, в противном случае он лишен смысла. Предлагаю вам собрать самую большую армию, какую только возможно, и продолжить завоевания, начиная с Арморики и кончая франкской Галлией. Народы, изнывающие под гнетом варварства, несправедливости и произвола, ждут наш закон. Когда же за тебя стоят народы, а против — одни лишь наемники без веры и без мощи, ты можешь быть уверен в победе. Отовсюду в армию Стола хлынут добровольцы, так что достигнет она небывалой еще силы и станет непобедимой не из-за численности своей, а по убеждению, ибо каждый воин, который по собственному выбору бьется ради всех, будет биться и ради самого себя. Мы захватим весь западный мир и даже более: мы объединим империи Рима и Константинополя под эгидой Логриса, скрепив это колоссальное сооружение нетленным раствором — законом Мерлина. Лишь тогда, но не раньше сможем мы передохнуть и на время приостановить завоевание. Таковы мои притязания в отношении Стола, о котором забыл мой и его отец — Артур. Готовы ли вы следовать за мной?
Послышался рокот голосов, переросший в гул и завершившийся единодушным кликом. Почти всех речь Мордреда привела в восторг, и почти все приветствовали его, ибо каждый видел здесь свою выгоду. Многие предвкушали, как возрастут их власть и богатства, полагая, что фанатик Мордред, которым будет легко управлять, сумеет лучше удовлетворить их алчность, прикрытую личиной рвения, нежели мудрец Артур, который угадывал любые тайные помыслы и всегда их пресекал. Других прельщали сами войны и завоевания. Некоторые разделяли веру Мордреда, давно уже восхищаясь преданностью его и неподкупностью. Только Тристан вместе с пятью оркнейскими должностными лицами и командирами оставался против Мордреда и с тревогой следил за тем, как резко меняется настрой собрания.
— Первой моей заботой, — сказал Мордред, — будет исправить ошибку Артура, передав на суд Круглого Стола женщину, которая наиболее виновна в том, что мы оказались в такой опасности, — королеву Гвиневеру.
Он послал за ней в замок Кардуэл и велел доставить ее в Камелот, где она предстала перед собранием пэров Стола. Не отрицая ни одного из выдвинутых против нее обвинений, она, напротив, говорила о поступках своих с гордостью, чем доказала правоту Мордреда, который и в данном случае не погрешил против истины, назвав подлинную причину гражданской войны.
— Ты приговорила сама себя дерзким нежеланием раскаяться, — сказал он ей, — которое запрещает нам проявить к тебе хоть какое-то снисхождение. Я требую для тебя смертной казни.
Собрание пребывало в нерешительности. Многие колебались, страшась совершить непоправимое и зная, что Артур никогда не простит им убийства королевы, которое свяжет их с Мордредом нерасторжимыми узами. А тот именно этого и желал, ибо в глубине души испытывал к ним презрение и ни на грош не доверял им, как всегда бывает при столкновении истовой веры и бескорыстной преданности с осмотрительным сомнением и осторожной расчетливостью. Вот почему, требуя от них вынести смертный приговор, он не только стремился утолить ненависть ко всему, что в его глазах причиняло ущерб Столу, но и подчинялся политической необходимости, повелевавшей ему увлечь их на тот путь, откуда нет возврата. Искренние сторонники Мордреда решились на это первыми, затем к ним присоединились те, кто поддерживал его из алчности или честолюбия, потом все прочие — исключение, как и прежде, составили шестеро оркнейских командиров и должностных лиц.
— Артур уже подверг меня суду, — сказала Гвиневера. — Я не признаю за вами права судить после него.
— Артур более не король, — ответил Мордред. — Он низложен во многом по твоей вине. Тебя это, должно быть, радует, ибо месть твоя полностью свершилась.
— Его место займешь ты?
— Да. Таково решение Стола.
Гвиневера презрительно рассмеялась.
— Ты чудовище, честное и слепое чудовище, Мордред. Чудовище, потому что дух твой лишен плоти. Честное, ибо ты надеешься спасти Стол. Слепое, ибо ты не видишь, что Стол умер.
— Уведите ее, — приказал сильно побледневший Мордред, — и немедля приведите приговор в исполнение.
Но Тристан, обнажив меч, заслонил собой Гвиневеру, и пятеро его товарищей сделали то же самое.
— Королевский ублюдок, — сказал он Мордреду, — узурпация твоя начинается с преступления. Но чтобы совершить его, тебе и твоим псам придется биться здесь, в том самом месте, где вооруженная схватка считалась святотатством.
— Благодарю тебя за верность долгу, Тристан, — сказала Гвиневера. — Но я с радостью принимаю свою участь. Я умираю, отравленная ядом собственной мести. Смерть моя справедлива и желанна для меня, ибо я не хочу больше жить. Ступай отсюда вместе со своими спутниками.
Тристан опустил голову и неохотно удалился в сопровождении пяти других оркнейцев. Им хотели воспрепятствовать те, кого более всего страшила собственная измена.
— Пропустите их, сказал Мордред.
— Но, государь, — возразил один из его сторонников, — они же отправятся прямиком в лагерь Артура и расскажут ему обо всем!
— На что же ты рассчитывал? — презрительно спросил Мордред. — Завоевать мир втихомолку?
И, выждав, пока уйдут оркнейцы, добавил:
— Приведите приговор в исполнение.
В шатре, стоявшем в самом центре лагеря королевской армии, которая вот уже год осаждала Беноик, Тристан во всех подробностях рассказал Артуру, Гавейну, Кэю и Ивейну о недавних событиях в Камелоте.
— Покинув Круглый Стол, — произнес он в заключение, — я велел спутникам моим как можно быстрее вернуться в Орканию и подготовить армию к войне. Ты можешь полностью рассчитывать на ее верность. Я же отправился в Дурноварию, где нанял торговый корабль, чтобы добраться до тебя.
Артур, сокрушенный известием о мятеже Мордреда и особенно о смерти Гвиневеры, которая теперь предстала перед ним более величественной, более гордой и более достойной любви, чем при жизни, воспрял духом.
— Благодарю тебя, Тристан, — сказал он. — Я дам тебе двадцать трирем с одними только гребцами, и ты поведешь их из Беноика в Орканию, где возьмешь на борт четыре тысячи воинов вашей армии. С ними ты направишься в Петуарию, столицу паризиев, а затем в Эбуракум, ближайшую от них крепость. Я уже буду там. Вот приказ для командующего моим флотом. Отправляйся немедленно.
Тристан поклонился и направился к выходу из шатра.
— Тристан!
— Государь?
— Никогда, — произнес Артур сдавленным от муки голосом, — никогда я не смогу полностью выразить тебе всю мою признательность за то, что ты хотел спасти жизнь королеве или умереть вместе с ней.
Поклонившись еще раз, Тристан ушел.
— А теперь, — сказал Артур, на глазах которого выступили слезы ярости и печали, — судите меня! Судите меня, как те, в Камелоте. Я ничего не отрицаю. И ни от чего не отрекаюсь. Признаю страстную любовь к Моргане, которая все так же сильна, своего сына, родившегося от кровосмесительной связи, и то, что он принудил меня к войне с Ланселотом. Сожалею я лишь об одном, но сожалею так, что сердце у меня разрывается: я стал причиной смерти Гвиневеры, которая, как я понял теперь, любила меня по-своему, отчаянно и безнадежно. Если я провинился в ваших глазах, а вы для меня дороже всей империи, клянусь, что сложу с себя власть и передам ее в руки Ивейна, которого я сделал своим наследником. Судите меня!
Первым отозвался Кэй, сохранивший присущие ему обидчивость и вспыльчивость, невзирая на свои восемьдесят два года:
— Чем провинились перед тобой мы, государь, коль скоро ты нанес нам такое оскорбление? От меня дождешься ты лишь одного приговора: я нахожу предосудительным требование твое судить тебя. Что до всего прочего, мой старый костяк еще достаточно крепок, так что я смогу нанести и принять несколько ударов, продолжая служить тебе.
— Для меня, — сказал Ивейн, — ты всегда был и пребудешь самой справедливой и самой мудрой мерою Круглого Стола и духа Мерлина. Кто бы ни оказался твоим преемником, он в лучшим случае станет лишь твоим неловким подражателем. Думаю, что Мордред, хоть и выдает себя за неистового поборника общественного блага, поднял мятеж по причинам личного характера, точь-в-точь как Ланселот, а ведь ты, невзирая на тяжелейшие душевные муки, никогда не позволял им возобладать. Оба они тем самым показали свою слабость и ущербность как политиков, равно как — в сравнении — твою непреклонность философа. Поставить же меня на свое место ты сможешь только силой.
— Со своей стороны, — сказал Гавейн, — полагаю, что Стол, лишившись духа, который внушал ему ты, ты и никто другой, превратился в груду скверных досок, окруженную шайкой вздорных болтунов и лицемеров, которых ты силой склонил к справедливости и добродетели. Мне не терпится изрубить эти гнилушки и разделаться со всеми изменниками, начиная с Мордреда.
— Мордред не изменник, — сказал Артур. — Он хуже изменника. Это мистик, который считает вероятными предателями всех: и тех, на кого он нападает, и тех, кого использует в своих целях. В течение двенадцати лет Моргана точила этот нацеленный в Логрис клинок о камень фанатизма, который раньше или позже разрушает то, что якобы защищает. Мне показалось, что я сумел притупить его об оселок реальности, и долгое время Мордред был лучшим служителем Стола, поскольку моя власть и благоприятные обстоятельства превратили этот клинок в мастерок каменщика-созидателя. Но он вернулся к изначальной цели при первой же возможности, едва лишь стал принимать единоличные решения, что совпало с внутренним кризисом империи. И лезвие его оказалось куда более смертоносным, чем можно было опасаться. Я сильно заблуждался относительно Мордреда и напрасно доверил ему управление — это самая тяжкая ошибка в моей жизни. Лишь ты, Гавейн, оказался достаточно проницательным, чтобы оспаривать это решение. Он вынесет войну за внешние пределы и предаст огню весь мир. Свою землю он покроет виселицами, куда потащит всех, кого сочтет нечистыми и недостойными. Мерлину следовало бы убить его при рождении, или же я должен был это сделать, когда его неукротимый фанатизм проявился зримым образом. Но тогда мы — Мерлин и я — уподобились бы ему. — Помолчав немного, Артур продолжал: — Гавейн, ты предложишь Ланселоту перемирие. Скажи, что я хочу встретиться с ним. Ивейн и Кэй, вы построите армию. Я расскажу воинам обо всех этих событиях, чтобы они, если пожелают последовать за мной, не поступали так в неведении.
И в присутствии шестнадцати тысяч человек, составлявших королевскую армию, Артур открыл все, ничего не утаив и не приукрасив, а затем добавил, что в любом случае будет биться с Мордредом и его союзниками, после чего уступит свой трон Ивейну.
— Я никогда не допущу, — сказал он, — чтобы в империи установилась тирания, какими бы добродетельными мотивами она ни прикрывалась. Ибо любая тирания — как силы, так и духа — порождает два главных порока власти, внешне несходных, но связанных между собой неразрывно. Это фанатизм и продажность, которые неизбежно ведут к преступлению и краху. Будете ли вы сражаться на моей стороне?
В ответ раздался оглушительный приветственный клич — столь мощным оказался этот единодушный вопль, что все защитники Беноика высыпали на укрепления. Гавейн, Кэй и Ивейн подняли мечи, давая тем самым клятву верности, их примеру последовали все командиры и воины. Ни один человек не отступился от короля.
Вечером ворота Беноика распахнулись, и из крепости вышел высокий воин. Он пересек поле под укоризненными, презрительными, порой злобными взглядами бойцов королевской армии. Это был Ланселот. В шатре командующего его встретил король — один, без свиты.
— Я хочу заключить с тобой мир, — сказал Артур. — Мятежный Мордред захватил власть в Логрисе, восстановив против меня почти всех пэров Стола. Он приказал казнить королеву Гвиневеру. Я намерен вернуться в Британию и сразиться с ним — не только с целью покарать его за это преступление, но и потому, что он превратит искаженный закон в слепое орудие нетерпимости. Оставайся на своей земле вместе с Лионелем и Богортом, ибо Арморика, возможно, превратится в единственное убежище для закона, преданного пэрами Камелота, вы же станете наследниками усопшего Стола.
И тогда стена, которую Ланселот, пребывая в добровольном ослеплении и растравляя в себе злобу, гордость, буйство, воздвиг между собой и своими поступками, мгновенно рухнула. Он со стоном упал на колени, не в силах сдержать рыданий, раздавленный сознанием вины, которая накапливалась в течение пятнадцати лет и многократно возросла из-за недавних его деяний. Терзаясь невыносимой мукой, он испытывал самые противоречивые чувства — раскаяние в измене, сожаление о любви и скорбь по Гвиневере, чье убийство обжигало его, как раскаленное железо. Его запинающаяся речь более походила на крики, исторгнутые ужасной пыткой: он просил растроганного этим отчаянием Артура взять его жизнь и послать на битву с заговорщиками — дабы послужить смертью своей правому делу и обрести тем самым искупление. Более всего он желал сразиться с Мордредом, надеясь, что поединок двух изменников завершится их гибелью. Артур поднял его и поцеловал в лоб в знак полного прощения, но в решении своем остался непреклонен.
— На Логрис спускается ночь, — сказал он, — но над Арморикой занимается заря, ибо мы с тобой заключили мир и обрели прежнюю любовь. Искуплением вины станет для тебя тяжкое наследие Стола, которое ты разделишь с Лионелем и Богортом. Жизнь свою, даже если она тебе невыносима, ты посвятишь этому делу, и от нее будет больше пользы, чем от твоей смерти, которая обратится в бесполезное наказание и бесплодную месть. Мне и только мне должно остановить Мордреда, ибо я создал его, как и Моргана, потому что это наш с нею сын. Если я одолею его, то призову тебя в Камелот, который ты поможешь мне восстановить. Если победа будет за ним, тебе и твоим союзникам придется защищать истинный дух Мерлина от его безумия. Если мы оба погибнем и вместе с нами Логрис, который станет добычей варваров, умерший там Логрис пересечет море и возродится здесь.
На следующее утро двадцать четыре боевых триремы королевского флота, оставшиеся после отплытия Тристана, вошли в порт Беноик. Свернув лагерь, армия начала готовиться к походу. Артур призвал в замок Ланселота Гавейна, Кэя, Ивейна и шестнадцать командиров.
— Мы направимся в порт Петуарию, — сказал им король. — С оркнейской армией и Тристаном мы соединимся в крепости Эбуракум, которая находится совсем близко от владений бригантов. Ибо мы первым делом должны обезопасить себя от второй по величине после королевской северной армии — либо вступив с ней в сражение, либо заключив союз. Мы должны также пресечь любые столкновения в Горре и на границе с пиктами. Мы оставим там надежные войска, чтобы к войне междоусобной не добавилось нападение внешних врагов. Оттуда мы двинемся на юг и начнем отвоевывать Логрис, возвращая себе силой или по добровольному согласию провинцию за провинцией, город за городом. Последними будут Кардуэл и Камелот. Но мы должны учитывать, что Мордред соберет против нас все свои силы — гарнизонные войска и воинов северной армии. Сделать это он может лишь в одном месте — у стены Адриана — и по уже названной мной причине — ему нельзя оставлять без внимания Горру и границу. Тогда нам придется вступить с ним в решающее сражение. В первом случае есть надежда, что мы подавим мятеж без больших потерь. Во втором случае, если бойцы Мордреда и их командиры будут верны ему так же, как мне королевская и оркнейская армии, кто бы ни стал победителем, побежденным окажется Логрис.
В конце дня флотилия вышла из порта Беноик и двинулась к восточному побережью Британии. Ланселот тут же послал гонцов к Лионелю и Богорту с известием о своем примирении с Артуром и просьбой присоединиться к нему вместе со всеми войсками, чтобы создать еще одну армию для поддержки короля в войне против Мордреда. Сам он отправился сначала в Озерный замок к Вивиане, которой рассказал о недавних событиях, а затем объездил все королевство, собирая под свои знамена воинов Беноика. На сей раз все откликнулись на его призыв. Через несколько дней Ланселот, Лионель и Богорт с армией в двенадцать тысяч человек вышли в море на сорока боевых триремах и взяли курс в Петуарию, где надеялись соединиться с войском Артура. Но прежде туда уже направилась маленькая торговая галера, которая взяла на борт единственного пассажира в маленькой бухточке неподалеку от развалин крепости Треб. Мерлин возвращался в мир.
Артур стоял вместе с Ивейном на крепостной стене Эбуракума и задумчиво вглядывался в расположенные совсем близко земли бригантов, с которыми собирался вступить либо в переговоры, либо в сражение. Некогда именно здесь подросток Мерлин добился, чтобы Утер и Леодеган заключили союз, и этот союз стал самой надежной опорой для зарождающейся империи.
— Из гарнизона паризиев нет ни одного воина, сказал Ивейн, — ни в Петуарии, ни в Эбуракуме. Похоже, во всей провинции не осталось вооруженных бойцов.
— Да, — ответил Артур. — Вполне может быть, что так же поступили и все другие общины, а это означает, что сбываются мои самые худшие предположения относительно судьбы Логриса. Мордред наверняка собрал все свои силы, чтобы победить нас в одном сражении.
— Тринадцать тысяч воинов северной армии и семнадцать тысяч гарнизонных бойцов против шестнадцати тысяч королевской армии и четырех тысяч оркнейцев… Двоим нашим предстоит сражаться против троих. Добавь к этому ожесточение, присущее гражданским войнам. Это будет самая тяжкая наша битва — испытание как для духа, так и для тела. Но твои сторонники убеждены в своей правоте, а некоторые из людей Мордреда, возможно, сознают свою измену. Это в какой-то мере уравнивает наши силы.
Вдалеке на юго-востоке что-то пришло в движение. Это были четыре тысячи пехотинцев оркнейской армии, построенных в боевой порядок и следовавших из Петуарии, где они высадились накануне. Во главе колонны было шесть всадников: Тристан, трое других командиров и двое должностных лиц — те самые пэры Круглого Стола, что выступили против Мордреда в защиту королевы.
На следующий день двадцать тысяч человек, составлявших армию Артура, снялись с лагеря и выступили из Эбуракума по направлению к Изуриуму, столице провинции бригантов. И, когда они вошли туда, жители города, как и в Петуарии, приветствовали их со смешанными чувствами растерянности — ибо они любили Мордреда наравне с Артуром и не могли понять причину его мятежа — страха и стыда за измену своих воинов и их командиров. Они сказали Артуру, что Мордред ушел из города три дня назад с целью соединиться с главными силами северной армии у стены Адриана и увел с собой расквартированных здесь бригантов, а также множество бойцов, пришедших из всех провинций с командирами во главе. Они передали ему послание Мордреда: «Отец, будущее Стола, Логриса и всего западного мира теперь в моих руках. Мне надлежит осуществить преданную тобой мечту Мерлина, распространив ее до самых пределов бывшей Римской империи. Если ты согласишься сложить с себя власть, я приму тебя с любовью, со славой и с почетом, ибо чувства мои и преданность моя к тебе остались неизменными. Если же ты откажешься и воины твои вопреки ожиданиям сохранят верность тебе, приходи сразиться со мной к бывшей северной границе у западной оконечности стены Адриана — место это называют Камланнским полем. Я буду ждать тебя там».
Четыре дня спустя, в сумерках, армия увидела каменную стену Адриана — длинную, похожую на змею, чьи голова и хвост терялись далеко на западе и на востоке. Она была построена четыре века тому назад и все еще производила внушительное впечатление, невзирая на частично разрушенные бойницы и укрепления — поврежденные не столько временем, сколько грабительскими вылазками каледонцев. Примерно в тысяче футов к югу, на возвышавшемся посреди песков и луговых трав холме стоял громадный четырехугольный лагерь с оградой из грубых, связанных веревками кольев, сторожевыми башнями на углах и крепкими воротами. Это и было Камланнское поле, а лагерь был построен по приказу Мордреда.
Артур распорядился ставить шатры. Не желая утомлять своих людей земляными работами, он приказал им есть и спать в полном вооружении, чтобы они могли мгновенно отразить ночную атаку. Вокруг стоянки и на аванпостах он расставил многочисленных караульных. Вскоре выехавший из вражеского лагеря всадник попросил аудиенции у короля. Этот могучий воин, известный своим вспыльчивым и необузданным нравом, стал одним из самых яростных сторонников Мордреда и его завоевательных планов. Он носил имя Сагремор и был самым влиятельным вождем племени кантиаков, равно как и пэром Круглого Стола. Артур принял его в своем шатре в присутствии Гавейна, Кэя, Ивейна и Тристана.
— Наш государь Мордред, король Логриса, владыка Стола и империи, — дерзко произнес Сагремор, — вновь требует, чтобы ты сложил с себя все полномочия и велел приспешникам твоим принести ему клятву верности. Иначе будет смертный бой. Что ты намереваешься сделать?
— Вступить с ним в смертный бой, — сказал Артур, — но пусть это будет поединок только между нами двоими. К чему нам резня, ужасы гражданской войны и гибель Логриса, если мы можем разрешить спор единоборством? Если я одержу победу, то прощу всех его союзников, которые покорятся мне. В противном случае или если мы оба погибнем, мой наследник Ивейн позаботится обо всем. Но никогда не признаю я право Мордреда царствовать: в моих глазах он этого не достоин — не по развращенности своей, ибо он чист, а по безумию своему.
— Не беспокойся, — ответил Сагремор, — он вступит в поединок с тобой. Но он предвидел и заранее отверг предложение о единоборстве, ибо не сможет осуществить свои великие планы, опираясь на тех, кому не доверяет. Благодаря этой битве он избавится от них, обеспечив будущее единство подданных и империи.
— Предосторожность изменника, который сам боится измены, — сказал Гавейн.
— Измена тому, кто изменил Столу, означает верность, — сказал Сагремор.
— Так ты явился изъявить покорность? — спросил Гавейн, презрительно рассмеявшись.
— Довольно! — молвил Артур. — Уходи, Сагремор. Передай мои слова Мордреду. Мы вступим в сражение на заре.
Сагремор вышел из шатра. Гавейн последовал за ним.
— Сагремор, — сказал он, — не подставляй завтра никому, кроме меня, этот нарост на шее, заменяющий тебе голову. Мне будет приятно срезать его, чтобы вскрыть гнойник зловонного клятвопреступления. И скажи своим зачумленным собратьям, что с ними мы произведем такую же хирургическую операцию — с подлинно гиппократовским милосердием.
Сагремор схватился за меч, но сдержал себя, вскочил на коня и с ненавистью взглянул на Гавейна.
— Завтра мы посмотрим, — сказал он, — остер ли твой меч так же, как твой язык.
— В таком случае, не мешкай. У тебя не будет времени посмотреть дважды.
— До завтра!
И Сагремор, пустив лошадь в галоп, ускакал из лагеря.
— Хотелось бы мне, чтобы оно скорее наступило, — прошептал Гавейн. — Что за глупая мысль, считать священной жизнь парламентера! Ночь будет долгой.
В безоблачном небе над Камланнским полем поднималась торжествующая заря, заполняя собой совершенно безоблачное небо и отбрасывая на крайний запад последние сумрачные тени прошедшей ночи. Косые лучи медленно выползающего из-за восточных холмов громадного солнца отражались в капельках утренней росы, которые образовали маленькие озерца на высокой траве и крохотные моря на пролысинах луга, отливавшего багряным золотом и серебристыми бликами стали. Обе армии стояли друг против друга в столь глубоком безмолвии, что слышно было пение птиц. Безмятежное спокойствие природы, лениво просыпавшейся во всем своем великолепии под воздействием все более яркого света, нарушалось только клубами пара, который вырывался в холодном воздухе из конских ноздрей, иногда ржанием или дробным перестуком копыт слишком горячей лошади, взбрыкнувшей и немедля осаженной своим наездником.
Войска Мордреда выстроились перед своим лагерем. На обоих флангах, как свирепое и надежное прикрытие, расположились бриганты из северной армии — отменные всадники и стойкие пехотинцы, закаленные в открытых или тайных битвах против Горры и Горных Земель. Центр занимали семнадцать тысяч человек из провинциальных гарнизонов: их более роскошное вооружение скрывало довольно скудный воинский опыт, ибо привыкли они скорее исполнять сторожевые обязанности, чем участвовать в сражениях. Некоторые из них с испугом смотрели на воинов королевской армии — меньших числом, но лучших в западном мире, где повсюду одерживали они сокрушительные победы. Не меньший страх вызывали и их доблестные союзники — оркнейцы. И наконец, вожди. Великолепный Мордред восседал на рослом боевом коне. Сто двадцать пэров Круглого Стола, выступавших за него, расположились за его спиной или заняли места в войсках согласно полученным приказам. Лишь один Сагремор, возведенный в ранг его заместителя, находился рядом. Мордред командовал самой мощной кавалерией, какую только видели в Логрисе, и поначалу возлагал на нее все свои надежды одержать победу, ибо она почти вдвое превосходила по численности королевских всадников. Прямо перед ним был Артур, который одним видом своим внушал ужас самым трусливым и тревогу самым храбрым — своей гигантской, не подвластной времени фигурой и овевавшей его живой легендой, где мифы сплетались с подлинными деяниями, а также славой непобедимого полководца. На его стороне оказалось только двадцать пять пэров Камелота, но среди них были все наиболее прославленные воины империи, за исключением Мордреда и Ланселота. Артур стоял во главе своих всадников, Кэй и Гавейн держались слева и справа от него. Ивейн командовал пехотинцами королевской армии, Тристан — оркнейской. И вся эта закованная в железо живая масса содрогалась от напряженного ожидания, жажды скорее вступить в бой, ненависти к братьям-врагам, головокружительного и омерзительно-прекрасного желания убивать и умереть. Содрогалась она также от тревоги и опасения: тревогой охвачен был королевский лагерь, где у всех было предчувствие, что эта заря Камланна обратится в сумерки Логриса; опасение царило в лагере Мордреда, где многие колебались, страшась поражения и смерти, ибо, невзирая на искусные доводы, взывающие к добродетели или к личной выгоде, невзирая на подавляющее большинство поддержавших мятеж пэров, невзирая на все ошибки короля, воплощением вечного Камелота был не Мордред, а Артур, который пребывал не здесь, а там, напротив, и посему сражаться предстояло с тем, что гибели не подлежало.
Внезапно Гавейн направил коня к вражеской армии и остановился недалеко от Мордреда с Сагремором.
— Мордред, — сказал он, — кто может пойти за безумным священником, кроме глухих, слепых и тупых людей? За твоей спиной я вижу шайку глупцов, а рядом с тобой самого глухого, слепого и тупого из них. Завтра уже наступило, Сагремор! Иди же сюда! Или ты еще и самый трусливый из всех?
Он выхватил меч. Сагремор, не помня себя от ярости, сделал то же и, прежде чем Мордред успел удержать его, пустил свою лошадь в галоп. Гавейн ждал, застыв неподвижно. Он легко отразил выпад противника, одновременно подав коня в сторону, затем поскакал вслед за Сагремором, и, когда тот разворачивал лошадь, настиг его. Нависнув над ним на какую-то долю секунды, он нанес столь молниеносный удар, что ошеломленные зрители увидели только, как сверкнула сталь клинка. Голова Сагремора склонилась на плечо, затем сорвалась и покатилась по земле, а лошадь между тем уносила все дальше изувеченного всадника, который, казалось, продолжал управлять ею, пока наконец не выпал из седла. Гавейн вонзил меч в окровавленный рот и, широко размахнувшись, швырнул голову в самую середину шеренги вождей, которые в испуге шарахнулись в разные стороны. Тогда Артур подал сигнал к нападению, и королевская конница с громовым криком «Логрис!» ринулась на расстроенные ряды врага, тогда как Ивейн с Тристаном повели пехотинцев, которые шли вперед неторопливо, сомкнутым строем, с ужасающей решимостью и спокойствием. Так могла бы надвигаться стена.
Только один Мордред устремился навстречу атаке, и вскоре за ним последовали всадники бригантов. Но большинство вождей и гарнизонных воинов все еще топтались на месте, потрясенные до глубины души столь жуткой гибелью одного из храбрейших своих командиров и видя в этой потере зловещее предзнаменование. Артур и Мордред, налетев друг на друга, скрестили мечи, затем каждый из них понесся дальше, в самую гущу вражеских войск, и бойня началась. Артур, Гавейн, Кэй и восемь командиров королевской конницы, прорвав ряды бригантов, которые отражали натиск пехотинцев, напали на застрявших в арьергарде пэров и учинили настоящую резню. Артур показывал чудеса силы и ловкости: он по-прежнему оставался лучшим бойцом империи, и каждый из его ударов — почти всегда смертельных — достигал цели. Гавейн бился столь же доблестно и с неведомой ему раньше яростью, ибо считал эту войну с изменившими Артуру пэрами своим личным делом. Подобно двум ужасающим косарям, они пробивали во вражеских рядах широкие кровавые просеки. Кэй по привычке рубил, как дровосек, однако удары его утеряли прежнюю точность, и промахивался он слишком часто. Тем не менее с этого фланга король был надежно прикрыт. Уже половина мятежных членов Стола погибла, когда Мордред, убив множество врагов, вернулся назад с многочисленными и невредимыми гарнизонными всадниками, которым удалось заслонить уцелевших пэров. Во второй раз Мордред схватился с Артуром. Оба нанесли и отразили удар противника, а затем их вновь отнесло друг от друга по прихоти битвы, вздымавшейся и опадавшей, словно море.
На восточной стороне поля сошлись воины-пехотинцы. Тристан и его оркнейцы взяли на себя самых опасных — бригантов из северной армии, стремясь отсечь их от союзников, но сами при этом не слишком напирали, поскольку сильно уступали числом. Тем временем Ивейн с пехотой королевской армии окружил городские отряды. Бойня оказалась страшной. Всего за несколько минут эти восемь с половиной тысяч человек — плохо обученные, недисциплинированные, поддавшиеся панике и расстроившие свои ряды — были истреблены вместе с двадцатью пятью командирами. Несколько сотен уцелевших разбежались: одни в поисках спасения пытались пробиться к бригантам, но были остановлены оркнейцами, другие искали убежища в лагере, однако многие из бегущих попадали под меч королевских всадников, которые рубили их на всем скаку. Ивейн соединился с Тристаном, и теперь численный перевес оказался на их стороне: вместе они устремились на бригантов, которые вынуждены были, в свою очередь, перейти к обороне. Но они защищались столь яростно и доблестно, что смогли сдержать первый натиск. Мордред, видя их отчаянное положение, поспешил к ним на помощь с конными бригантами, которые, спеша выручить своих братьев, ринулись в неудержимую атаку с тыла, зажав тем самым королевскую пехоту в клещи. Ивейн и Тристан, увидев, что всадники прорвали их задние ряды и убивают их людей, вступили в бой с новым противником. Тристан успел уложить трех командиров бригантов, когда столкнулся лицом к лицу с Мордредом. Его вновь захлестнула ненависть, которую он испытал в Камелоте, став свидетелем узурпации власти и суда над Гвиневерой. Подняв меч, он дал шпоры коню. Но Мордред с быстротой молнии нанес рубящий удар и отсек вооруженную руку, затем повернул коня и вогнал меч в спину своего противника, сломав тому хребет. Тристан умер прежде, чем упал на землю. Мордред увидел, как над его головой просвистел клинок, и спасся от неминуемой гибели, уткнувшись в гриву своей лошади. Одновременно он сделал инстинктивный выпад и пробил нападавшему живот. Это был Ивейн. Медленно соскользнув на землю и удерживая руками выпадающие кишки, он скорчился от невыносимой боли. Мордред, забыв о битве, спрыгнул на землю и обнял его.
— Ивейн, — сказал он, — Ивейн… Прости меня. Я не знал, что это ты. Никогда не поднял бы я руку на моего брата.
— Если хочешь доказать мне, что в ненависти твоей живет любовь, — произнес Ивейн прерывистым от страданий голосом, — убей меня! Убей! Я не смогу долго выдержать такую пытку.
Тогда Мордред, обливаясь слезами, пронзил ему сердце мечом. И вновь вскочил в седло, устремившись в схватку с яростью отчаяния, которое внезапно вытеснило из его души столь же яростное желание победить.
В это время Артур расправлялся с конницей из провинций. Увидев гибель Ивейна, он похолодел: ему показалось, что видит он также и начало великой агонии — смерть Логриса. Из груди его вырвалось рычание, и вместе с остатками своей кавалерии он прорвался сквозь последние ряды гарнизонных бойцов. Гавейн и Кэй неотступно следовали за ним. Они атаковали бригантов и тем самым спасли пехоту, которая, лишившись своих командиров и потеряв три четверти людей в результате смертоносных атак Мордреда, вновь обрушилась на бригантов. Среди последних осталось совсем мало воинов, еще способных сражаться, и, невзирая на свою доблесть, они дрогнули перед новым натиском, ярость которого подогревалась скорбью и жаждой мщения. В конечном счете бриганты обратились в бегство и ринулись к своему лагерю, но многих настигли и убили королевские всадники. Только две тысячи человек нашли убежище за оградой и здесь, пользуясь выгодой своего положения, отбили штурм.
В битве наступило затишье, и противники, отступив друг от друга, стали пересчитывать своих. У мятежников почти полностью полегли семнадцать тысяч воинов из провинциальных гарнизонов. Из бригантов северной армии уцелело только две тысячи пехотинцев, укрывшихся в лагере, и столько же всадников под предводительством Мордреда. Войско Артура состояло теперь из трех тысяч пехотинцев и тысячи двухсот всадников. В живых осталось лишь четверо пэров Стола: Артур, Гавейн, Кэй и Мордред. Именно Мордред и начал последнюю атаку, которая по неистовой ярости превзошла все предыдущие. Королевской коннице опять пришлось сражаться с противником, имеющим двукратный перевес, но мужество ее лишь возросло благодаря присутствию самых любимых вождей — Артура и Гавейна. Пехотинцы вновь двинулись на штурм лагеря.
В третий раз Артур и Мордред встретились, скрестив зазвеневшие от удара мечи. Артур не остановил коня, прокладывая себе кровавый путь в толще врагов, но Мордред развернулся, чтобы настичь его. Перед ним возник Кэй и, пока тот поднимал меч, словно топор лесоруба, он вонзил свой клинок в горло противника. Кэй упал, захлебываясь кровью. Одновременно лошадь Мордреда рухнула, а сам всадник покатился по земле. Гавейн врезался в него на всем скаку и также вылетел из седла. Оба мгновенно вскочили на ноги и оказались лицом друг к другу.
— Пришла пора, — сказал Гавейн, — завершить наш небольшой спор, начатый в покоях королевы. Вот только доводы стали иными. Убеждение словом подобало священнику, а изменнику нужен меч.
И они вступили в схватку. Мордред, желая побыстрее закончить ее, атаковал с холодным бешенством. Гавейн сохранял хладнокровие, понимая, что для победы над таким противником ему понадобится применить все свое искусство и мастерство. Этот поединок был чудом силы и ловкости с обеих сторон — бой равных, из которых ни один не имел перевеса. Внезапно Мордред, увидев свою успевшую подняться и невредимую лошадь, вскочил в седло и ринулся в гущу сражения. Гавейн оглянулся в поисках своего коня, но тот убежал. Тогда он склонился над телом Кэя, с грустью вспоминая о нескончаемых спорах с ним и о взаимной привязанности, скрывавшейся за оскорбительной резкостью слов. На спину его обрушился мощный удар, и он ощутил нестерпимую боль. Это оказался вражеский всадник. Гавейн увидел, что его окружила дюжина бригантов, которые рискнули напасть на столь грозного противника, решив использовать свое численное превосходство и преимущество конников перед пешим. При первой атаке он получил еще две раны, но убил троих. Когда враги изготовились вновь ринуться на него, их вдруг разметало, словно ураганом. Артур, подоспев на выручку с несколькими воинами, мгновенно расчистил пространство вокруг Гавейна. Тот ухватил за поводья лошадь, сбросившую всадника, и, превозмогая страшные муки, вскочил в седло.
Конники обеих армий уже почти истребили друг друга. Все бриганты погибли, и Мордред остался один. Его лошадь была убита, и он стоял с поднятым мечом, великолепный и смертельно опасный, в центре круга, который образовали уцелевшие пятьсот всадников королевской кавалерии. Артур смотрел на него, и, глядя на бесстрастное лицо короля, никто не мог догадаться, о чем он думает. У ограды лагеря, который все еще удерживали последние пехотинцы северной армии, бой прекратился.
Гавейн, не в силах держаться в седле, соскользнул на землю и, спотыкаясь, пошел к Мордреду. Он чувствовал, как уходит жизнь вместе с вытекающей кровью. И остановился, собираясь с силами, чтобы не упасть, чтобы еще немного побыть среди живых. У него уже начались смертные конвульсии. Он произнес:
— Сами боги — канальи!
И осел на землю. Артур, спрыгнув с коня, подбежал к нему и опустился на колени. Гавейн был мертв. Артур обхватил его голову руками и прижал к груди. И зарыдал от отчаяния, преисполненного невыносимой боли. Мордред с блуждающим взором двинулся вперед: казалось, он тоже испытывает неслыханное и не понятное ему самому страдание, исказившее и сделавшее страшным его прекрасное лицо. Он несколько раз позвал Артура — сначала шепотом, а затем уже крича:
— Отец!.. Отец!.. Отец!
Артур поднял взгляд, и Мордред прочел в нем такое презрение, что с рычанием вонзил клинок в грудь короля. Почти в то же мгновение Артур нанес ему столь мощный удар в живот, что окровавленное острие вышло из спины. Мордред схватил меч и попытался вырвать его, сжимая лезвие с такой силой, что из пальцев у него брызнула кровь. Потом он свалился замертво. Артур с нечеловеческим усилием поднялся на ноги и побрел прямо перед собой. Он истекал кровью и без конца повторял имя Морганы. Наконец он упал и лишился чувств. Ближайшие к нему воины спешились и, бережно подняв его, понесли в королевский лагерь, стоявший далеко от поля битвы. Но, когда они проходили мимо укрепленного лагеря Мордреда, ворота вдруг распахнулись, и уцелевшие бриганты вышли из них, бросая оружие. Они предложили разместить короля в шатре командующего, где ему мог бы оказать помощь врачеватель, состоявший при северной армии. И в то время, как Артура несли через ряды воинов, многие — и сохранившие верность, и примкнувшие к мятежу — плакали навзрыд. Короля осторожно положили на ложе, и врачеватель немедля приступил к делу. Воины королевской армии заперли бригантов на одном из огороженных участков лагеря. Мало-помалу все впали в оцепенение, вызванное крайней усталостью и щемящей горечью. Отупение было столь полным, что не осталось больше ни пленных, ни свободных — только побежденные, которые растерянно взирали на смерть Логриса.
На Камланнское поле опускались багровые сумерки, словно кровь погибших воинов все еще продолжала сочиться, покрывая все вокруг своей красной мантией. Лошади бродили без привязи, временами останавливаясь, чтобы пощипать травку там, где трупы не устилали землю. Птицы, напуганные грохотом великой битвы и улетевшие прочь, вернулись, и их вечерние песни возвещали, что на империю опускается бесконечная ночь.
Артур очнулся от удушья. Рот и горло заполняла какая-то жидкость. Он закашлялся, выплюнув кровь вперемежку с водой, и ощутил острую боль, разрывавшую ему грудь. Почувствовал наложенный на рану шов и свежесть туго стянутой повязки. И стал с жадностью пить из носика бурдюка, вставленного меж губ. Затем он открыл глаза. Последние лучи уже закатившегося солнца заливали полотняный шатер сквозь открытый на западную сторону вход. На ложе покоилось большое безжизненное тело Мордреда. Повернув голову, Артур увидел подле себя громадного старца, который, казалось, излучал свет благодаря белоснежным волосам, бороде и одежде. И по статной осанке, по несравненному благородству и мудрости лица, сохранившего все свое великолепие, невзирая на тяготы преклонного возраста, он узнал Мерлина. Мерлина, который покинул свое убежище, чтобы спасти Круглый Стол, но подоспел слишком поздно. В руках он держал бурдюк, на поясе его висел королевский меч, извлеченный из живота Мордреда. Артур прочел в устремленном на него взгляде печаль непоправимой беды. Он протянул руку, и Мерлин сжал ее в своей. И это пожатие двух крепких старческих рук было как будто знаком старинного договора, подкрепленного слишком поздно и не имеющего теперь другого смысла, кроме несбыточной грезы на смертном одре. Завет бескорыстной любви на пороге небытия. Обессилевший от потери крови Артур, сжимая эту руку так, словно она была его последней связью с миром, забылся тяжелым сном. Мерлин, застыв в неподвижности, долго смотрел на лежавших рядом отца и сына. Потом он вышел из шатра. Перед входом стеной стояли уцелевшие воины из королевской и оркнейской армии, которых предупредил ветеран Бадона, узнавший Мерлина, и оповестили воины, принесшие по его распоряжению в лагерь тело Мордреда. Они вглядывались в него с ужасом и надеждой, словно к ним после полувекового отсутствия вернулся бог, пожелавший вырвать у смерти свое творение. Мерлин сказал им:
— Освободите пленных и верните им оружие.
Все остолбенели.
— Посмотрите на север.
В наступающей ночи было видно, как над твердыней Адриана засветились тысячи маленьких огоньков.
— Это стервятники. Они прилетели вкусить мертвого тела Логриса. И это только начало. За ними слетятся другие. Мы должны драться здесь. Отступать бессмысленно, к тому же король не выдержит еще одного перехода. Каждый человек будет на счету. Делайте, что я говорю.
Они освободили и вооружили пленников, возвестив о возвращении Мерлина и о том, что король еще жив. И те, в свой черед, уверовали в будущее Стола. Недавние враги перемешались.
— Теперь, — сказал им Мерлин, — сосчитайтесь и пересчитайте коней.
Из королевской армии их было около трех тысяч, оркнейцев — несколько сотен, бригантов — две тысячи. Всего пять тысяч, а коней немного больше.
— Сколько вас было перед сражением?
Ответил ветеран Бадона:
— В десять раз больше, чем теперь. Двадцать тысяч с Артуром и тридцать с Мордредом. Все мужчины Логриса.
— Возьми с собой десять человек, — сказал ему Мерлин. — Поезжай туда и посмотри, что это за люди. Скажи мне, кто они и сколько их. Да поторапливайся.
Через час он вернулся.
— Это люди из Горры, которая не принимала участия в нашей войне. Там много пиктов, есть также скотты. Их по меньшей мере двадцать тысяч, а может быть, и больше. Они стоят лагерем. Утром они будут здесь, и тогда в Логрисе не останется больше ни одного воина.
Мерлин вновь собрал своих людей и сказал им:
— Пусть все без исключения воины со всеми конями идут до ближайшего леса. Пусть каждый из вас срубит по десять кольев толщиной в ладонь и в восемь футов длиной и привезет их сюда. Вы должны успеть все это сделать до конца второй стражи.
И к шестому часу ночи пятьдесят тысяч кольев огромной горой были сложены перед лагерем. Мерлин обратился к воинам, собравшимся при свете факелов:
— Сколько там на поле лежит вождей Круглого Стола?
— Все, кроме короля и Мордреда — они лежат здесь — и трех государей Арморики. Всего сто сорок пять вождей.
— Этими кольями вы заградите всю Камланнскую равнину. Вот что вы сделаете: вы вобьете их в землю через каждые три фута, так, чтобы выступающий конец приходился на высоту человеческого роста, — по триста десять кольев вместе, выстроенных в десять шеренг по тридцати одному колу в каждой. Каждый такой отряд должен отстоять от другого на десять шагов, и перед каждым вы вобьете по одному отдельному колу. Всего должно быть сто сорок пять отрядов, расставленных в линию на общем расстоянии в четыре тысячи шагов. К каждому из кольев, составляющих шеренгу, вы привяжете мертвого воина, а к каждому отдельно стоящему колу — вождя. Вы должны привязать их за щиколотки, за колени, у пояса и за плечи, так, чтобы они стояли совершенно прямо, а еще вы привяжете их волосы к вершине кола, так, чтобы их головы были гордо и высоко подняты. Вы воткнете в землю деревянные рукояти копий и к каждому древку прикрепите руку воина. Возьмите все веревки, какие вы найдете в лагере и, если их будет недостаточно, используйте для этого ткань шатров, одеяла и одежду. Вы должны успеть до зари.
Воины принялись за дело, а Мерлин вернулся к изголовью Артура. У короля начался жар, и он беспокойно метался на ложе, повторяя в бреду имя Морганы и говоря с Мерлином так, словно был ребенком — признаваясь ему, с каким страхом несет на плечах своих тяжкую ношу Логриса и Круглого Стола. Очнувшись на мгновение, он принялся оплакивать смерть Гвиневеры и Гавейна, Ивейна, Кэя и даже Мордреда, но затем опять вернулся к теням своего прошлого. Мерлин, опасаясь, что от этих резких и порывистых движений рана снова откроется, привязал его к ложу широкими полосками ткани. И стал обтирать ему лицо смоченным в холодной воде полотенцем, дал ему напиться, разговаривал с ним, как отец, успокаивающий безутешного сына. Артур постепенно успокоился, и жар начал спадать. Он вновь заснул.
Незадолго до конца четвертой стражи бадонский ветеран пришел сказать Мерлину, что люди закончили свою работу. Мерлин вышел из шатра и увидел построенную в безукоризненном порядке, стоящую на огромном поле самую большую армию, какая когда-либо только собиралась на земле Логриса. Сгустившийся в низине утренний туман обволакивал ее, превращая армию мертвецов в армию призраков. Мерлин сел на коня. Он приказал утомленным воинам сделать то же самое и выстроиться в одну линию позади мертвецов. Сам же объехал эту мертвую армию, восставшую, чтобы защитить гибнущий Логрис. Все погибшие воины были в крови. У одних не хватало руки или ноги, у других было сплошное кровавое месиво вместо лица. Но все они, привязанные к своим кольям, стояли твердо, как будто готовые к бою, воодушевленные какой-то ужасной решимостью, непобедимые. Многие вожди были совсем незнакомы Мерлину, но некоторых он узнал, ибо видел их в Кардуэле совсем молодыми. Сагремор, чья отсеченная голова, водруженная ему на плечи, закрывала уже почерневший обрубок шеи. Тристан с отрубленной правой рукой держал в левой привязанный к пальцам меч. Кэй словно изрыгал окровавленным ртом свое последнее проклятие небу, а его тяжеловесные, корявые и веселые черты были почти неразличимы под маской яростного отчаяния. Ивейн с искаженным последней мукой лицом выглядел по-прежнему мудрым и бесконечно печальным в своей доброте. Гавейн, сумасбродное дитя Кардуэла, казалось, улыбался. Мерлин остановил своего коня перед ним и, наклонившись, поцеловал его в лоб. Затем он встал во главе армии, на холме — там, где медленно выступала из мрака стена Адриана.
Вскоре появились враги и начали плотно сомкнутыми шеренгами спускаться в долину. Сначала они увидели в тумане какие-то плотные ряды. Затем солнечные лучи очистили низину. Окутавшие землю облака испарились, и сталь заблистала тысячами огней. Каледонцы застыли в неподвижности и безмолвии. Они увидали перед собой огромную армию Логриса. Мерлин, галопом подскакав к ним, остановил коня перед вождями. И крикнул им:
— Посмотрите на меня. Я — Мерлин. Я вернулся из страны, откуда нет возврата, чтобы призвать к жизни воинов, павших при Камланне. Вот они стоят перед вами — как и прежде братья. Они ждут вас. Логрис и Круглый Стол бессмертны. Вы же умрете страшной смертью.
Он выхватил меч Артура и поднял его над головой. Его лезвие сверкнуло в солнечных лучах. Тогда пять тысяч конных логров испустили старинный боевой клич Утера: «Пендрагон!» И крик этот был так силен, что казалось, будто кричали пятьдесят тысяч глоток. Он прокатился по равнине и заполнил собой все вокруг. И ужас обуял врагов. Охваченные паникой, они отхлынули в беспорядке. Всадники скакали по телам пеших воинов. Каждый прорубал себе дорогу ударами меча. У стены стало еще хуже. Толпы людей устремлялись к проходам, сталкивались и давились, разбиваясь, подобно бурной реке, вздувшейся от схлестнувшихся вод перед слишком узкой для нее горловиной. Многие были задавлены и затоптаны. И вскоре на равнине Камланна не осталось больше ни одного живого каледонца. Армия бежала в Горру, даже не вступив в сражение, но потеряв около двух тысяч воинов.
Приветствуемый ликующими криками, Мерлин вернулся в лагерь. Логры радовались, как дети, казалось позабыв о своей скорби, как если бы их товарищи, гниющие, словно казненные у своих позорных столбов, были живы и могли разделить их торжество.
И тогда из королевского шатра вышел Артур. Очнувшись при победных воинских кличах, он нечеловеческим усилием порвал свои путы. Через повязку кровь сочилась из его ран, заливая грудь и живот. Он как зачарованный смотрел на свою армию, восставшую из мертвых. Внезапно пред глазами его возник безбрежный Логрис, бессмертный Мерлин, бесконечный закон Стола. И с этим видением он умер.
Раздавленный горем Ланселот стоял в королевском шатре между двумя ложами, на которых покоились тела Артура и Мордреда. Вместе с Лионелем, Богортом и двенадцатью тысячами воинов он прибыл на заре следующего после разгрома каледонцев дня. Мерлин, взглянув на него с гневом и любовью, вышел из шатра без единого слова. Бойцы Арморики смешались с уцелевшими воинами Логриса, чье ликование сменилось отчаянием, и все они неотрывно смотрели на армию мертвецов, которые гнили, стоя на своих постах, словно предписано им было нести вечную караульную службу на северной границе.
За ночь ветер переменился и задул с юга. Все более усиливавшееся смрадное зловоние достигло тех, кого каледонцы оставили в арьергарде, чтобы наблюдать за передвижениями врага. В удивлении они вернулись назад и, укрывшись за стеной, стали ожидать рассвета. Когда солнце осветило лагерь, они поняли, что были обмануты — и послали гонцов вдогонку бегущей армии, которая тут же развернулась в обратном направлении. В середине дня двадцать тысяч воинов подошли к твердыне Адриана, все еще заваленной трупами. Увидев зримое свидетельство своей постыдной паники, они решили жестоко отомстить.
Мерлин, Ланселот, Лионель и Богорт смотрели, как враги выстраиваются в боевом порядке вдоль стены. Мерлин сказал своим спутникам:
— Логрис мертв, поэтому всякое сражение становится бессмысленным. Возвращайтесь на свои земли и сделайте так, чтобы в Арморике ожил и усилился закон Стола.
— В этом сражении для меня будет смысл, — сказал Ланселот, — я найду в нем смерть, потому что больше не хочу жить.
И он стал скликать воинов Арморики. Мерлин вопросительно взглянул на Лионеля и Богорта.
— Я признаю мудрость твоего совета и понимаю, что ты печешься о будущем, — сказал Лионель. — В сравнении с ним все человеческие чувства кажутся смехотворными. Но не требуй от меня, чтобы я оставил Ланселота, да и тебя самого. Ибо мне ли, владыке ничтожного королевства, быть жалким наследником мира гигантов? И как смогу я отсиживаться в убежище своем, когда создатель этого мира подвергается опасности? Это означает спасти руку ценой головы. Я остаюсь.
И он присоединился к Ланселоту. Богорт, печально улыбнувшись Мерлину, последовал за ним. Мерлин стоял в задумчивости. Логрские всадники смотрели на него. Он велел привести своего коня и вскочил в седло. И выхватил меч Артура. Тогда все двинулись вслед за ним, испытывая какой-то смертоносный и самоубийственный восторг. Они разместились на флангах армии Арморики, и Мерлин возглавил последнее войско империи, заняв место впереди Ланселота, Лионеля и Богорта. И друзья, и враги неотрывно смотрели на этого необыкновенного старца, словно застывшего в своем одиноком великолепии и благородстве. И все они — кто со страхом, кто с благоговением — говорили себе, что видят перед собой истинное величие Круглого Стола, воплотившего также и величие человека. Потрясенный до глубины души Ланселот повернулся к своим воинам и крикнул:
— За Логрис! За Арморику! За Мерлина, нашего государя! Биться насмерть! Пленных не брать!
Тогда Мерлин впервые в жизни отдал приказ атаковать и, пустив своего коня в галоп, вонзился во вражеские ряды, словно клинок в сердце. Из двадцати тысяч каледонских воинов ни один не вернулся в Горру, Далриаду и Горные Земли, чтобы рассказать о подвигах и свершениях этой второй битвы при Камланне. Но все всадники Логриса погибли, Арморика потеряла восемь тысяч бойцов, а у подножья твердыни Адриана, где отчаянно сопротивлялись прижатые к стене враги, позднее нашли тела Ланселота, Лионеля и Богорта. Так завершилась агония Круглого Стола.
Мерлин же, возведя на острове Авалон усыпальницу для Артура, Морганы и собственной мечты, вернулся в свое вечное одиночество.
Приложения
От автора
Я представляю на суд любознательных читателей и беспощадных критиков мою собственную хронологию и географию артуровского цикла, или, точнее сказать, — цикла Мерлина. При этом я позволил себе, для собственного удобства и удовольствия, логическое упражнение в области истории и мифологии, упражнение, на которое, слава Богу, не отважился бы ни один специалист, принимая во внимание скудность и ненадежность свидетельств и указаний, которыми мы располагаем. Нижеследующая таблица является в своем роде систематическим дополнением к оконченному рассказу, так же, как и он, основанным на авторском вымысле, который превращает весь мой труд в возмутительно дерзкое посягательство, непозволительную вольность, ограниченную в пространстве, но бесконечную во времени, которая состоит в том, что я беззастенчиво воспользовался великой легендой, может быть, самой прекрасной и, уж несомненно, самой нескладной и прихотливой из всех, какие когда-либо существовали; причем сделал это не с какой-либо культурной, художественной, дидактической или любой другой похвальной целью, преисполненный заботы об общественном благе или нашем культурном достоянии, но исключительно по своей надобности и в собственных интересах.
Легенды Британии всегда представлялись мне неким хаосом: не только из-за того, что в них воплощена запоздалая «Книга Бытия» Западного мира, но еще и потому, что их разнообразные источники, многочисленные авторы — как анонимные, так и оставившие свое имя, нагромождение трагических событий, толпы персонажей, анархические понятия о времени, громадный разрыв между реальностью (пятый и шестой века) и культурным контекстом (двенадцатый и тринадцатый века), короче говоря, весь этот роскошный беспорядок дарил надежду на реализацию любых возможностей и одновременно приносил разочарование тем, как они реализовались. Уникальное по глубине познание Вселенной вкупе с неравноценными и порой жалкими свершениями породили во мне уязвленный восторг, раздраженную любовь. И это относится не только ко всему циклу, но и к самым великим его персонажам: Мерлин, достойный быть если не Богом, то его двойником-демиургом, слишком часто предается всяким волшебным фокусам; Моргана, обладающая невероятными качествами — как темными, так и светлыми, — растрачивает их на прихоти или пустяки; Артур, олицетворяющий мощь власти и силу деяния, очень быстро превращается в расслабленного патриарха. И эти связанные по рукам и ногам изумительные чудовища отступают в тень перед фигурами, на мой взгляд, второстепенными — задиристыми героями, которые без конца вступают в монотонные схватки, сражаясь без цели и не одушевляясь великой мечтой — мечтой Мерлина. Именно поэтому они вязнут в унылой повседневности никому не нужных подвигов. В послесловии к «Мерлину» я говорил о возмутительно дерзком посягательстве и непозволительной вольности в обращении с легендами. В целом это оказалось правдой лишь наполовину. Я был верен тому, что имелось в цикле с момента его возникновения, поскольку я сохранил идею, присутствующую в зародыше — или, по крайней мере, вычитанную мною, а именно: идею мира, осмысляющего себя, однако не сумевшего себя реализовать. Я остался верен тем единственным персонажам, которые связаны с этой идеей: Мерлин или утопия, Моргана или мятеж, Артур или власть — иными словами, компромисс. Угодивший в ловушку реальности Артур заворожен этими двумя великими фигурами, воплощающими свободу духа и нашедшими убежище в познании, — созидателем и разрушительницей, отцом и сестрой-любовницей, Мерлином и Морганой. Я дерзко посягнул на все остальное — на всевозможные унылые схватки, составляющие большую часть цикла. Желая освободиться от этого средневекового хлама, я попросту вернул артуровский мир в его подлинную эпоху — эпоху бриттских королей или племенных вождей, которая наступила сразу же вслед за уходом римских легионов из Британии в пятом веке. По поводу этого мало изученного периода существует лишь несколько предположений самого общего порядка о влиянии греческой и римской культуры, а также — в гораздо меньшей степени — христианства. Впрочем, об этом периоде кое-что стало известно благодаря трудам таких историков и археологов, как Лесли Элкок и Чарльз Томас. Неясная и расплывчатая историческая материя дала мне преимущество большей свободы вымысла — вместе с тем я стремился подчинить цикл, порожденный своеобразным средневековым безвременьем, строгим законам и логике поступательного исторического развития, равно как ввести его в определенные географические рамки. Этим объясняются мои хронологические таблицы и мои карты: внешне это походит на планомерную работу историка, устанавливающего порядок в литературном хаосе, тогда как на самом деле это планомерная работа писателя, заполняющего исторические лакуны посредством своего воображения. Ибо главным для меня было проиллюстрировать диалектику взаимодействия истории и легенды: показать, как полностью лишенная магии история становится почвой для легенды, преобразующей факты посредством чуда, как легенда, принимая облик необходимой духу утопии, в свою очередь вскармливает историю, одухотворяя собой ее персонажей, как история в конечном счете убивает легенду и как легенда возрождается вымыслом — в литературе. В литературе, которая с таким же постоянством подавляет мысль, как и упрямые факты. Мерлин воплощает легенду, утопию, созидание. Моргана — историю. Артур — их реальное диалектическое взаимодействие. Решающая битва при Камланне — это убийство легенды историей. Возрождение легенды литературным вымыслом — созданная Мерлином в Авалоне гробница Артура и Морганы, где была изображена и тем самым завещана будущему легендарная история Логриса, история грандиозного поражения, которое силой искусства преобразилось в победу. Победа над смертью — извечная мечта, которую всегда убивает материя, но всегда возрождает дух. Именно в этом и состоит для меня литература.
Мишель Рио «Магазин литерер», декабрь 1999 г.Мерлин, или утопия; Моргана, или мятеж; Артур, или власть… Главным для меня было проиллюстрировать диалектику взаимодействия истории и легенды: показать, как лишенная магии история становится почвой для легенды, как легенда в свою очередь вскармливает историю, одухотворяя собой ее героев, как история в конечном счете убивает легенду и как легенда возрождается вымыслом — в литературе.
Мишель РиоПримечания
1
Римский мир (лат.). (Здесь и далее примеч. перев.).
(обратно)2
Ретиарии — «бойцы с сетью»: римские гладиаторы, вооружение которых состояло из сети, которую они должны были набросить на голову противника, а также трезубца и кинжала.
(обратно)3
Мирмиллоны — римские гладиаторы, вооруженные по галльскому образцу шлемом, щитом и мечом.
(обратно)4
Римская брачная формула: «Ubi tu Gaius, ego Gaia».
(обратно)5
Это сочинение более известно под арабским названием «Альмагест».
(обратно)6
Сократовский метод стимулирования мышления и установления истины.
(обратно)7
Тюрьма для рабов и пленных (лат.).
(обратно)8
Жар, краснота, боль, нарыв (лат.).
(обратно)9
Еккл. 1, 16–18.
(обратно)10
Невозмутимость или спокойствие духа — одно из центральных понятий эпикуровской этики.
(обратно)11
Комиссия вод и дорог (лат.).
(обратно)



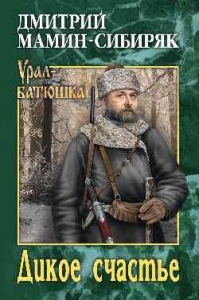

Комментарии к книге «Мерлин. Моргана. Артур», Мишель Рио
Всего 0 комментариев