Лжедмитрий
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за тёмные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
А. Пушкин. Борис ГодуновПролог
I
небе над чёрным лесом прорезалось яркое пятно. Там поднимался кроваво-красный месяц. Так выглядит натруженное око.
И вслед за этим от леса отделились и бросились наперерез проворные тени.
— Бежим?
— Бежим!
За спиною вопили отчаянными голосами. Будто всё уже окончательно пропало.
Но пока ты отстоишь далеко от места, где скрывается опасность, если колени твои наполнены силою — у тебя ещё достаточно надежд укрыться от беды.
— Бежим!
Новый крик стеганул по ногам. Ноги понеслись удивительно легко, как никогда ещё прежде.
— Стой! Стой! — раздалось вдруг властным и грубым голосом.
Он бежал не оглядываясь. А когда оглянулся, то увидел, что люди, находившиеся ближе к опасности, — остались далеко позади. Погоня их не задела.
Погоня устремилась за ним. Взопревшим ухом уловил тоскливый волчий вой из ближнего леса. И тут его сбили с ног — одним ударом.
Затем куда-то тащили. Злодеи держали за руки железными пальцами. Он едва успевал переставлять обмякшие после ударов ноги. Он понимал, что сейчас убежать не смог бы. Даже со свободными руками.
А месяц вдруг спрятался. Сгущалась ночь. Снег под ногами шевелился, как вздыбленная шерсть на звериных спинах. Снег мешал ходьбе.
Короткая передышка наступила перед громадными тёмными воротами. За высокими заборами зловеще рычали псы.
Злодеи постучали с особым почтением, и там, за воротами, долго не улавливалось никаких признаков того, что стук услышан.
Один из злодеев между тем обронил:
— А что? Не пора?
— Надо, — ответил спокойно другой. — Пора. А то подумают, будто хлеб наш лёгок.
И тут же новый страшный удар потряс пленника. Удары сыпались один за другим. Осталось понимание, что надо беречь голову. Пленник прикинулся бездыханным.
Его подняли с размякшего снега и понесли.
Однако он и дальше держал себя очень умело. У злодеев не возникало сомнения: они несут беспамятного человека. И всё. Они не подозревали, что до него доходит каждое слово.
Впрочем, слов было немного.
— Хорошо ещё, что Данила руку не приложил, — сказал уже знакомый грубый голос. — Не то было бы незачем нести.
— Да, я отчаянный, — похвалил сам себя тот, кого назвали Данилой. — Я такой.
Третий злодей подал голос смехом.
Первый добавил:
— Очухается...
Пронесли ещё какое-то расстояние. Спускались по ступенькам. Стучали сапогами. Отвечали на вопросы. Наконец со всхлипыванием и стоном скрипнула тяжёлая дверь — и его бросили на каменный пол. Так на монастырской кухне швыряют оледенелые дрова, спеша поскорее выставить к огню озябшие руки. А дверь всхлипнула снова и закрылась со страшным грохотом.
Через какое-то время узник открыл глаза. Его окружала тьма. Чуть приподнявшись, он попытался утереть рукавом пот с лица, но этот пот был липок и не поддавался. Тогда он понял, что на лице у него вовсе не пот, но кровь и что с этим ничего сейчас не поделать. Он подсунул под голову второй рукав своей одежды, который, помнилось, был пошире, и вскоре погрузился в зыбкое забытье, слегка постанывая от боли.
Разбудил новый грохот дверей.
В руке у вошедшего качался фонарь.
— Ах ты, Господи, — завис дребезжащий стариковский голос. — Что за образина... Ну-ка давай её скорее... Велено привести в человеческое подобие... Потому — там не любят непорядок...
Вошедший опустил фонарь на пол. В руках у него появился кусок рогожки, которой он с усердием провёл несколько раз по лицу узника, но тут же отказался от своей затеи.
— Да, — махнул старик рукою. — Ничего не придумаешь. Ещё хуже. Харя на месте. С потылицей не перепутаешь. Потому что потылица волосатая. А кровь на харе сама сойдёт с божьей помощью. Дай только срок... — И тут же старик поинтересовался с невольным восхищением:
— Неужто, милок, с такими бугаями не убоялся сцепиться? Господь с тобою! И как только жив остался? И все они, три брата, такие. Особливо Данила... Таких бы в службу Малюте Скуратову. Пускай моё слово Малюте не в укор. Пускай на том свете не серчает. Полютовал он при батюшке Иване-то Васильиче... Зверь был...
— А где я, дедушка? — спросил наконец узник, усаживаясь на полу.
— «Дедушка»? — вздрогнул старик. — А таки дедушка... Чай, лет сорок от роду... Да того, болезный, знать тебе не велено. Заказано, коль ничего не поведали. А мне неохота на дыбу. Нагляделся на муки... Нанюхался христианской кровушки... Э, да ты ещё и в чернецком чине? — добавил он, поглаживая одежду узника. — Ах, Господи! Нешто дозволено бить чернецов смертным боем? Ой-ой-ой! Грехи наши... Пойду-ка я, что ли, да хоть водицы тебе принесу. Авось и мне на том свете зачтётся...
Оставив фонарь на полу (знать, известна здесь каждая щель в стене), старик куда-то поплёлся, плюя себе под ноги и беззлобно ругаясь.
Узник попытался оглянуться вокруг, но, кроме каменных стен, ничего не различил.
А между тем за дверью раздались уже чьи-то шаги. Это явились вчерашние злодеи.
— Жив, — проворчал один из них. — Вставай и пойдём.
Двое других злодеев держались у порога. Ото всех пришедших несло запахом перегара и кислой капусты.
Узник, поднимаясь, вбирал голову в плечи. Однако злодеи сегодня показались спокойными. Никто не хватал за руки. А только распределились они так, что один устремился вперёд, как бы указывая дорогу, а двое поотстали и плелись позади узника.
Поднялись сначала по тёмной лестнице. Затем пробирались по узкому проходу, скупо освещённому из зарешеченных отверстий. Но шли недолго. Вскоре узника втолкнули в дверь, и он очутился в полутёмном помещении. На громоздком дубовом столе гнулась под собственной тяжестью высокая ещё свеча. Огненный хвост на ней попытался оторваться от своего основания, но ничего не получилось, и он отчаянно, по-бабьи, затоптался на месте.
— Подойди сюда, — раздался голос.
Это сказал человек, сидевший в тени. Лицо его утопало в густой бороде. В руках он держал гусиное перо, которое время от времени пихал в чернильницу.
Узник, заметив на полу под ногами свежие влажные пятна, не смел их перешагнуть. Но подтолкнули в плечи приведшие злодеи.
— Зачем украл боярское добро? — нехотя и равнодушно спросил бородач.
Узнику отлегло от сердца. Ему почудилось, что пятна под ногами — это просто доказательство того, как часто моются здесь полы.
— Мы ничего не воровали. Мешок валялся на дороге. Наверное, выпал из чьих-то саней. Мы просто подобрали.
— Зачем?
— Ну, хотели отдать.
— Кому? Где?
— В монастырь. Кому уж придётся.
— В какой монастырь?
— В Чудов.
Сидевший за столом бородач подпрыгнул на месте.
— Ты хочешь сказать, — завопил он без злости, а словно бы ждал подобного ответа и был теперь доволен, — будто в Чудовом монастыре принимают ворованное? Ври, да не завирайся. Бога да архимандрита не забывай! Ну-ка всыпьте ему для острастки батогов!
Злодеи с готовностью подхватили узника и потащили его вглубь помещения. Он не успел опомниться, как уже был брошен на узкую деревянную скамью, привязан к ней ремнями и как на его спину посыпались режущие удары.
Длилось это, правда, совсем недолго.
— Хватит! — равнодушно, но громко приказал бородач.
Узника окатили водою и возвратили на прежнее место, перед столом. Свеча на столе как бы снова взметнула над собою руки.
У злодеев все получалось без задержки.
Но пока его вели, он различил в полумраке какие-то крюки, намертво вделанные в стены, какие-то свисавшие с потолка цепи и красные широкие ремни — и волосы на голове у него встали дыбом.
Вот о чём говорил старик... Вот о какой кровушке...
Но чей же это дом? Голицыных, Романовых, Черкасских, Шуйских... Господи!
Он уже начал догадываться, какое отношение может иметь всё замеченное к нему лично.
— Ну, теперь скажешь, зачем воровал бояриново добро?
У несчастного оставалось последнее средство защиты.
— Видит Бог, — сказал он, — мы не виноваты.
Его удивляло, что бородача нисколько не интересуют прочие люди, которые тоже находились там, на дороге.
Бородачу и такой ответ понравился.
— Ага, — промолвил он почти ласково. — Запирательство. Но дыба и не такие языки делала говорливыми.
За спиною узника с готовностью заржали.
Несчастный не успел произнести больше ни слова.
Его схватили и потащили снова в полутёмный угол. Впрочем, он так дрожал от холода, от негодования, что не сказал бы ничего, если бы и разрешили, дали возможность высказаться. Он только сопротивлялся, как мог, когда его руки вдевали в железные холодные кольца, когда их заломили и стали выворачивать за спиною, со страшной болью в затылке и в плечах. Прямо перед ним лоснилось от пота обнажённое до пояса волосатое тело человека с узкими татарскими глазами. На квадратной голове топорщились острые, как у волка, уши.
— Не греши — и ничего не будет! — поучал этот человек, одной рукою помахивая перед глазами своей жертвы, а на другую тем временем наматывая упругую скользкую верёвку.
И вдруг узник почувствовал под ногами пустоту. Тело устремилось ввысь, вонзилось в царство боли. Боль уже дотекала до кончиков ногтей в сапогах а руки и спина уже перестали существовать.
— Не греши впредь, — расплывалось всё шире и шире лицо полуобнажённого человека. — Не гре-е-ши-и-и...
Узник едва не лишился чувств. Спасло его то, что истязатели на мгновение ослабили натиск, и обнажённый до пояса человек спросил не без уверенности в голосе:
— Аль покаешься?
— Я не воровал! — прозвучало в ответ.
И тут же послышалось:
— Давай!
Этот голос принадлежал бородачу, который сидел за столом.
Очнулся узник вовсе не в темнице, но в душной горнице. В углу увидел лампаду под старинного письма тёмной иконой, с которой в упор смотрели глаза Христа Спасителя. Глаза горели укором, но обещали защиту и прощение.
Первым побуждением было встать и броситься к иконе, распластаться на полу, запричитать что-то, произнести молитвы, которые зазвучали в голове и стали подниматься до небес, которые требовали выхода, как из темницы, — однако он понял, что ничего подобного ему сейчас не сделать по причине боли. Она сильнее всяческих намерений.
Лёжа на постели, он догадался, что за ним следят. Он это чувствовал, хотя не мог понять, где скрываются глаза, которые не дают покоя. Потому старался расшевелить себя. Старался привести в движение руку, ногу, поднять голову. Когда наконец он свыкся с болью, когда она начала уже сливаться с телом — он приподнялся. Сил хватило, чтобы сесть. Затем оторвался от лежанки, но не удержался на ногах, а полетел головою под икону. Падение, однако, не причинило иконе вреда. Получилось так, как если бы он упал нарочито, ради молитвы.
— Господи, иже еси на небесех...
Он не успел прочитать ещё ни одной молитвы, как в горнице появился человек, который совсем недавно (или уже давно?) допрашивал в полумраке страшного подземелья, а затем отдал на расправу палачу.
— Это хорошо, — начал вошедший. — Бог наградил тебя великой силой духа. Это похвально.
Узник в ответ на похвалу почувствовал в себе прилив новых сил. Он поднялся почти без напряжения и посмотрел в упор на ненавистного человека.
Тот принял всё за должное.
— Ты заслуживаешь большого наказания, — говорил далее вошедший. — Сказано ведь: не укради. Сё — страшный грех. Но с твоим умом можно заслужить прощение.
Узник молчал. Всё так же, не скрывая ненависти, всматривался в своего мучителя.
А тот, не дожидаясь вопросов или возражений, продолжил:
— Ты волен выбирать: либо завтра будешь повешен как тать, либо будешь готовиться к тому, что тебе будет поручено от имени высокого боярина. Поручение очень важное и очень нужное государству. И Бог сподобит тебя справиться.
— Какого боярина? — спросил узник.
Бородач, уже сидя верхом на высоком стуле посреди горницы, криво ухмыльнулся:
— Того тебе не дадено знать. И не будет дадено никогда. Про тебя же нам всё известно. Каждый шаг... Когда бояре Романовы задумали было злое дело на государя Бориса Фёдоровича и когда их разоблачили — так последняя собака была согнана с позором с их двора, не то что человеки... А тебя не тронули. Думаешь, не нашли? Из-под земли достали бы... Узнаешь только то, что тебе будет велено знать. А думать сейчас можешь до утра. Ночи ныне длинные. И Господь Бог тебе поможет думать, если хорошенько помолишься...
— Да что обо мне известно?
Бородач уже смеялся:
— А всё, отче Григорий, как тебя называли в последнее время. Так-то. Всё. — И с этими словами бородач поднялся и ушёл.
После его ухода узник упал перед иконой, но не для того, чтобы читать, по обыкновению, молитвы. Он даже рта не раскрывал.
Молитва его была особой, безголосой. Он разговаривал с Богом. Он просил помочь, если его поступки Господь сочтёт достойными одобрения, или же послать наказание, буде Господь сочтёт их достойными наказания, а его — грешником.
— Если я прав, Господи, — сказал он наконец зловещим шёпотом, — то отдай мне врагов моих на расправу. Нет, Господи, так лишь говорится — на расправу. Я пощажу их. Но хочу, чтобы содрогнулись они от одного понимания: и я могу с ними сделать то же, что они сейчас делают со мною... Но я ничего такого с ними не сделаю! Я уповаю на тебя, Господи! Потому что верую в тебя так, как они никогда не смогут уверовать.
II
Андрей Валигура с трудом припоминал вчерашнее.
Минувшей ночью бушевала буря. Ветер с корнями вырывал деревья и бросал их в бездонные ущелья. Молнии до утра въедались в неподвижные скалы.
В корчме же царил прежний беспорядок. Крепкий дубовый стол, почерневший от древности, кажется, один и выдерживал удары кулаков. Остальное легко превращалось в обломки. Расписные деревянные миски стали разрозненными цветными пятнами. Глиняные кружки — крошевом черепков. Правда, можно было использовать ещё дубовые чурбаны, заменявшие стулья. Люди передвигали их в пьяном угаре. Силились поднять, но с проклятиями роняли на каменный пол. Ещё в пригодности стояли по углам крепкие палицы и топоры — молодецкое оружие. Андрей попытался отыскать какого-либо питья. У него гудела и раскалывалась голова. Однако положение уцелевших сосудов из тёмного стекла не могло обнадёжить. Парень толкнул ногою окованную железом дверь и оказался за порогом.
Увиденное его смутило.
Над горами, в чистом небе, висело радостное солнце. Вымытые дождями деревья казались нарисованными.
Ничто в природе не напоминало о ночном потопе. Если бы не повсеместные лужи. Вода в них слепила глаза.
Андрей успел почувствовать лёгкое сожаление, что ничего подобного не видят его товарищи. Они лежали на просторном корчемном дворе, под защитою огромных дубов с оголёнными вершинами, и не собирались просыпаться. Даже такой чуткий ко всему Петро Коринец. Они храпели так громко, что их храпа пугались стреноженные на поляне лошади, за которыми присматривал корчемный казачок — одноглазый парнишка с усохшей правой рукою. Парнишка привстал с земли и хотел уже было протянуть гостю набитую табаком трубку (для того казачок и содержался на службе), как вдруг неподалёку, за рядами сбегавших в долину тёмных елей, раздался непонятный грохот. Донеслось лошадиное ржание, человеческие голоса. А всё услышанное пересилили женские визги.
— Айда! — крикнул Андрей непонятно кому, вроде бы казачку при лошадях, и метнулся в направлении криков.
Это не было для Андрея ответом на зов чужой боли. Скорее простым любопытством. Ещё он чувствовал досаду. Ватага три дня дожидалась богатого путешественника, да так ничего и не высидела. И вот... Кто-то попался в западню, устроенную самой стихией, без участия человека.
На берегу реки сразу бросились в глаза колёса опрокинутой кареты с ободранными грязными боками да ещё белоснежные лошади с мокрыми тёмными гривами. Лошади дрожали каждой жилкой, и нельзя было разглядеть на них сбрую и понять по вензелям, кому из пышных панов принадлежит такой богатый выезд.
— Чего медлите, болваны? Чего стоите, словно каменные бабы в степи? — раздался голос человека, одной одежды которого ватаге хватило бы на месяц разгульной жизни. — Прыгайте кто-нибудь! Шкатулка стоит мне дороже ваших голов!
Гайдуки пытались стаскивать с голов чёрные смушковые шапки, но не более того. Все без исключения гайдуки старались отступить подальше от грохочущих волн.
— Трусы! — выходил из себя властный пан, готовый взяться за саблю.
Впрочем, и среди молодых панов в военных нарядах, которые свидетельствовали б необыкновенном богатстве их владельцев, тоже никто не отваживался оставаться на глазах у разъярённого пана.
— Пан капитан! — прозвучало наконец решительное. — Прикажите своим гусарам! В шкатулке — королевские драгоценности!
Черноусый человек, уже немолодой, но с юношески стройным телом, со сверкающими металлическими оплечьями, покачал выгнутыми перьями на бархатной шапке и тут же обратился к своим подчинённым. То были немцы. Очевидно, они только что спешились. Они ехали позади панского оршака[1].
Стройный человек говорил по-немецки, насколько понимал Андрей, и немцы не заставили себя ждать. Двое из них, совсем юные, тотчас принялись стаскивать с себя доспехи, пользуясь помощью своих товарищей.
Андрей сразу понял: если суждено ему сейчас в чём-то обнаружить своё превосходство над всеми этими людьми, своё отточенное умение, — так это в деле, которое неожиданно подвернулось.
Он представил себе, где успела вот только что побывать опрокинутая и ободранная карета, даже удивился, что её удалось вытащить на берег, что никто из людей не утонул (хотя слышал отчаянные крики).
Очевидно, люди успели вывалиться в дверцы во время её падения. Оставалась ещё какая-то надежда, что никто не отважится лезть в незнакомом месте в бурлящую воду, а если и отважится, так ничего там не отыщет. Однако, взглянув на молодых решительных гусар с орлиными носами, Андрей тут же отбросил свои надежды.
Он прыгнул в воду безо всякого предупреждения и безо всякого разрешения, осыпав брызгами стоявших над волнами людей. Его охватил могильный холод. Упругость воды оказалась настолько сильной, что он сразу понял: вчерашнее его ныряние в этом месте — просто ничто по сравнению с нынешним. В глубине сознания шевельнулось даже сомнение: удастся ли вообще исполнить то, с чем легко можно было справиться вчера? Но о возвращении назад — на поверхность, на берег — уже не могло быть и речи. Его прикажут схватить и бросить в подземелье. Возвращаться он мог только со шкатулкою в руках. Шкатулка должна принести спасение и награду. Оставалось превозмочь себя...
В конце концов всё получилось. Шкатулка, правда, оказалась довольно увесистой. Она лежала в той пещере, в том углублении, куда течение относит здесь любую вещь. Андрею, правда, пришлось напрячь свои силы, чтобы вовремя оттолкнуться от подводных камней. Пришлось поторопиться, чтобы адский холод не сковал руку или ногу. Но всё обошлось. Его выбросило на прибрежный песок чуть ниже того места, где выбрасывало прежде. Шкатулка была намертво зажата в пальцах. Когда он захотел поднять её в руках уже на суше — ему пришлось снова поднатужиться.
Он успел заметить на крышке шкатулки, рядом с широким отверстием, куда вставляется ключ, замысловатую литеру «М» и никак не мог сообразить, чей же это вензель. Ясно, не князя Константина Константиновича Острожского, как предполагалось вначале. И тут шкатулку вырвали у него из рук. Его самого поставили на ноги и крепко держали за руки.
— Пастух? — раздался негодующий голос. — Кто позволил прикасаться к шкатулке?
Голос приближался. Он принадлежал пану, который распоряжался здесь всем и всеми. И тут только Андрей, скованный крепкими руками чужеземных вояк, начал соображать: да ведь его, Андрея, и нельзя было принять за кого-либо иного, кроме как за обыкновенного пастуха, стерегущего овечьи стада! Он был сейчас даже без сапог, в мокрых истрёпанных шароварах, с прилипшими ко лбу, в беспорядке рассыпанными волосами, которые обычно кудрявыми волнами прикрывают его голову. Да и весь был мокрый, как только что явившийся на свет щенок. Однако что-то в нём воспротивилось такому пониманию его личности. Он припомнил свой двор, своё убогое жилище под тёмной камышовой крышей на берегу быстрой лесной реки (но своё!) и почти закричал:
— Я дворянин, вельможный пан!
— Дворянин? — приостановился пан, уже наверняка готовый отдать жестокое приказание. — Что же, — добавил он, усмиряя свой голос. — Освобождаю от наказания, так и быть. Ты получишь свою награду.
По какому-то знаку, даже не замеченному Андреем, его освободили. Он услышал звонкие девичьи голоса. Быстро оглянулся — возле грозного пана, от которого зависела теперь его судьба, стояли две панночки в розовых платьях, обе с роскошными длинными волосами, которые струились у них по плечам. Он поднял глаза и заметил, что одна из них, очень молоденькая девушка, девочка, с лицом удивительной красоты, с интересом смотрит на него, Андрея, и что-то говорит грозному пану, очевидно своему отцу. Слов Андрей не различал, но догадывался, что она говорит о нём, Андрее, что она им довольна, даже восхищается им — так выразительно горели её огромные, во всё лицо, глаза.
— Бери! Бери! — Андрею насильно разжали скрюченные пальцы и всучили несколько увесистых монет.
И тут же его властно повели вдоль рядов смеющихся немецких гусар, вдоль каких-то сгрудившихся повозок, фыркающих лошадей, которых успокаивали усатые возницы. Он попытался приосаниться, когда оказался вроде бы напротив яркого цветника — то были гомонливые женщины, — но не смог. У него в глазах стояло лицо удивительной девушки, девочки, в розовом платье. Он заметил, правда, одноглазого казачка из корчмы (наверное, увязался следом, а теперь торчал под кустом!), но больше никого здесь не видел, никого из знакомых. И только когда всё это промелькнуло и осталось позади — он услышал обращённый к нему спокойный голос, очень старательно и несколько странно выговаривающий вроде бы понятные слова:
— Такие молодцы везде нужны! Запомни, казак: я — Жак Маржерет. Через неделю буду возвращаться назад, в крепость Каменец. Ты можешь ко мне присоединиться. Я возьму тебя на королевскую службу.
Говорил же эти слова стройный черноусый человек, который командовал немецкими гусарами.
— Запомни!
И тут же говоривший резко повернулся на каблуках и тотчас исчез, вместе с несколькими гусарами, с которыми вывел Андрея на лесную дорогу, — на обочине её стояла старая корчма.
За кустами мелькнули кончики длинных шпаг. И всё.
Денег, вручённых Андрею по приказанию проезжего пана, хватило, чтобы возместить корчмарю понесённые им убытки.
Сначала ватага пила и хвалила Андрея на все лады. Так цыгане расхваливают на ярмарках своих неказистых коняг. Атаман Ворона гладил ему курчавую голову шершавой тяжёлою рукою, которою мог бы свалить вола.
— Хорошо, братец, — бубнил Ворона, — что я не отпустил тебя на шведа, когда королевские слуги нас на это дело сватали! Далеко ли там до беды? А тут... Сидим, гуляем! Даст Бог, не в последний раз гуляем! Что нам король? Что нам его война?
Яремака, отчаянная голова, поддерживал:
— Точно! Точно!
Андрей припоминал: такое же чувство он испытывал в детстве, когда его голову лизал телёнок. Прикосновения атамановой руки вызывали приятные видения.
Когда же старый корчмарь, щуря и отводя в сторону припухшие глаза, и без того едва заметные под нечёсаной чуприной, напомнил, что привезённой из Острога горелки осталось в бочке на донышке, — тогда первым взъерепенился Панько Мазница.
— Братове! — взвизгнул Мазница. — Да ведь это Андрей... во всём виноват! Собачий сын! То подбивал на шведа отправиться, то в запорожцы, чтобы с ними — на татар, то на службу к князю Острожскому. А теперь, оказывается, он уже служит пану Мнишеку!
Для ватаги не оставалось секретом, что за пан проследовал с оршаком по старому лесному шляху. Это сандомирский воевода Юрий Мнишек (о том говорила литера «М» на крышке шкатулки, побывавшей в руках у Андрея). Гостил воевода у князя Вишневецкого, да, видать, опаздывал на зов короля — вот и заторопился по старому лесному шляху.
С упоминания о воеводе Мнишеке всё и началось.
Панько Мазница первый сообразил, что могла упустить ватага.
— Да за ту шкатулку можно целый год гулять! — закричал он.
— Оно, конечно, так! — перевернул вверх дном пустую глиняную кружку атаман Ворона. — Именно, говорю.
Старый хитрюга всегда держал нос по ветру. И как запустит он пустую посудину в окованную железом дверь! Только черепки брызнули.
Кое-кто вступился за Андрея. Особенно же Петро Коринец. Ещё — Яремака. Принялись упрекать Ворону.
Но прочие ватажники закричали-завопили:
— Чёрт понёс Андрея к реке, пока мы спали! Не иначе!
А кто-то, из самых молодых, не стал трудиться, чтобы брошенная кружка угодила в дверь. Увесистый сосуд с силой ударился Андрею в голову...
Очнулся Андрей неизвестно на какой день.
Он лежал на сеновале. Вокруг со звоном роились навозные синие мухи — как над сдохшей собакой.
Одноглазый казачок, заметив пробуждение постояльца, молча осенил себя крестом, притом здоровой рукою. Потом судорожно подал кварту с водой.
Когда вода пробила дорожку в засохшем горле и Андрей отодвинул казачкову руку с квартой, казачок заговорил:
— Ох и живуч же ты! Полковником тебе быть! Тут за тобою какой-то пан присылал своих гусар. Говорили, что с трудом дознались, где ты можешь быть. Да как увидали тебя без памяти — так их старшой махнул рукою и все ускакали.
— Когда это было? — попробовал Андрей самостоятельно поднять голову. — Хотя... Врёшь ты... Он собирался возвращаться только через неделю!
Казачок, видать, докумекал, о ком речь.
— А позавчера ещё! — сказал он без особой уверенности, будет ли это приятно для гостя.
Страшная догадка пронизала Андрею голову.
— Да сколько я здесь лежу?
— Вторую неделю! — пытался успокоить его казачок. — Друзья твои сколотили для тебя дубовый крест. Хороший! Пока что к погребу прислонили. Сам Ворона мастерил. И гроб — хороший. И могила — глубокая. Особенно побратим твой, Петро Коринец, старался. Плакал даже. А хоронить велели — когда тело уже завоняет.
Андрей слушал как во сне. Он снова остался всеми покинутый... Он — сирота.
Конечно, ватага увела коня. Для чего мертвецу конь? Унесли и боевой топор, добытый в схватке с надворными казаками пана Гойского из Гощи. Теперь не с чем возвращаться под родную крышу. Там, быть может, не околел ещё старый дворецкий Хома Ванат. Ещё топчет тропинку к колодцу.
Андрей был готов прослезиться. Если бы не зыривший своим внимательным глазом убогий казачок. Если бы не старый корчмарь. Старик приблизился, услышав разговор, и приподнял над головою шляпу.
— Чудеса, — прошамкал он.
Андрей попытался привстать с помощью казачка — и вдруг увидел над собою синее небо. В дубовых шелестящих листьях пели птицы. В синеве жужжали невидимые пчёлы. Под забором кудахтали куры.
И парень улыбнулся. Да так широко — что ему ответил тем же одноглазый казачок.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
ни были разбужены задолго до рассвета, как и условились вечером с местным священником по имени отец Онуфрий.
В руках у взлохмаченного служки плескался огонёк на церковной свече. Огромные тени на стенах горенки получались несуразные, как будто здесь собирались на дело ночные северские разбойники.
Служка, разбудивший их, не отваживался торопить открыто. Он скудоумно хитрил, гнусавя раз за разом:
— Чейчас, святые отцы, среди приблудного люда случается много священников. То как бы вам не тое... Уж наш батюшка всё уступит по доброте своей... А вам такое не всегда выпадет... Не каждый день богатый человек дуба даёт... Я хотел сказать: преставляется... Лишь бы вы успели. Лишь бы Господь сподобил не опоздать...
И суетился, суетился, размахивал впереди, уже на улице, квёлым дребезжащим фонариком, с которым, видать, таскался зимою отпирать по утрам церковные двери, а потом водил к заутрене по сугробам и самого ветхого батюшку.
Небо уже отмежевалось от тёмной спящей земли. Высь набухала серым свечением. На сером мигали яркие звёзды, гораздо крупнее размерами и поболее числом, нежели на московском низком небе.
За смутно различимыми во тьме прохожими тянулся тревожный собачий брёх, да только чересчур вялый. Перед утром собаки, измотанные ночными бесконечными тревогами, ослабевают духом и телом и впадают в сон, как и человеки.
— Чейчас вам, отцы мои, не дорога будет под ногами стелиться, а настоящая тебе церковная паперть, — не уставал твердить настырный служка. — Только бы не опоздать, говорю... Уже и плата вам выгорит болярская. Забирайте по правую руку. К трём дубам выведет эта дорога — так и рассвенет вам там...
Как только оборвалась верёвка собачьего брёха, которая тянулась, по-видимому, от самой церкви, — служка выдохнул с облегчением:
— Так что дальше во мне потребы не будет. Аки в смоковнице усохшей. Таких людей Господь сам доведёт!
Остановившись, он мигом задавил пальцами огонёк в фонарике, а сам, наверное, и в темноте продолжал низко кланяться, не сомневаясь, что от Бога нигде не скрыться.
— Скатертью дорога, отцы мои... Остерегайтесь злых людей... Севе́ра ведь...
Они и дальше пошли так же молча, угадывая присутствие друг друга по топоту сапог на твёрдой, скованной морозом земле да ещё по треску раздавленного сапогами льда на мелких частых лужах.
А так, получалось, служка говорил правду: дорога лежала гладкая, как лоб. Словно и не было вчерашнего дневного бездорожья, замешенного на повсеместной грязи.
Очертания трёх дубов угадались не скоро, но уже издали. А затем всё проступило вполне отчётливо: деревья и деревья. Сплошь одни деревья. Все деревья гудели попеременно и на разные голоса. То как будто кто-то проводил по их вершинам громадной щёткой. То как будто кто-нибудь уже другой ползал и шебуршился у их подножий, в оживающих после зимней спячки кустарниках. А то вдруг начинали дрожать на ветру крепкие стволы, в негодовании роняли вниз сломанные ветки и ни на что не годные сучья. А то угадывались крики разбойников и стоны застигнутой жертвы. Деревья к тому же то подступали к дороге, прямо-таки окружали прохожих густыми хороводами, теснили их на скользкие лужицы, а то разбегались под напором ветра на большое расстояние.
Но дорога угадывалась вроде бы легко и верно. Вот только что распадалась часто на две, на три нити. Однако это никого не беспокоило. Велено было придерживаться постоянно крайней справа нити — так и держались.
Идти было легко. Сказывалась сытость последних дней.
Тощий от рождения отец Варлаам, который при выходе из зимней голодной Москвы несколько раз отчаивался и терзал себя укорами, зачем поддался на уговоры, и хотел уже было повернуть свои стопы вспять, повторяя, что не дано ему Божия соизволения на дальний путь, — так и отец Варлаам чувствовал себя теперь юным отроком, выпущенным на зелёный весёлый луг. Он не мог сдержать своих ног. Он постоянно шёл первым. Конечно, можно было бы сказать, что он здесь самый дельный ум, как человек зрелый летами, а ещё и удостоенный чина иеромонаха. Да и там, в неизвестной Богдановке, где предстояло отпевать богатого покойника, первое место отведётся ему. Однако отец Варлаам ни в чём не проявлял требований на особое к себе отношение.
Отец Григорий следовал вторым, с не меньшей лёгкостью, но в какой-то задумчивости, которая стала находить на него всё явственней и явственней по мере удаления от Москвы. Сейчас он оглядывался, как бы желая убедиться, не намерен ли обогнать его третий их товарищ, Мисаил. А тот за всю дорогу от Москвы ни разу не обнаружил ничего подобного. Зачем обгонять кого бы то ни было? И так доведут, куда надо. А куда надо — он не знал, но о том не тревожился.
Отец Варлаам, по обыкновению, не мог молчать долго даже при такой прыткой ходьбе, когда за плечами лёгкая котомка с необходимым скарбом.
— Народу никак не убавляется на дорогах, а? Хотя мы уже далеко от матушки-Москвы? — снова начал он, предчувствуя, от кого последует ответ.
Отец Григорий с готовностью поддержал разговор.
— При таких правителях, — сказал он, — разве что калека не побежит!
— Царь — от Бога! — горячо возразил отец Варлаам. — Нельзя так говорить!
Подобное начало разговора грозило перейти в перепалку. Перепалки уже не раз вспыхивали в пути.
Инок Мисаил счёл за нужное вмешаться.
— Что-то шляха сказанного не видать, а? — спросил он.
Товарищи его притихли, ещё не вникая в смысл услышанного.
Шли так же споро, а лес вдруг обступил со всех сторон. Ветер вроде утих. Стало темнее прежнего, хотя по небу, проглянувшему узкою полосою, брызгало крепким светом: где-то вставало солнце.
— Батюшки! — снова первый спохватился отец Варлаам, приостанавливаясь и побуждая замереть на месте спутников. — Да мы же бог весть куда рванули! Да мы же поворот давно миновали!
Это было похоже на правду. Отец Варлаам с досады ударил себя ладонями по бёдрам, не зная, что придумать.
Отец Григорий не медлил:
— Вернёмся назад. А там и повернём.
Так и поступили. Да всё понапрасну.
Дорога назад определялась труднее, чем дорога вперёд. Солнце разогрело воздух, и земля под ногами становилась мягкой и вязкой. Пройдя какое-то расстояние, путники почувствовали, что заплутали вконец. Вдобавок ко всему раздался где-то отдалённый церковный звон. Путники было воспрянули духом, однако услышанное не смогло принести облегчения, потому что точно такой же звон раздался и с противоположной стороны, затем — и с третьей, только уже совсем тихий, очень далёкий. Звоны плыли над лесом, торжественные, печальные, как напоминание о том, что теперь-то уж нечего торопиться в Богдановку. Богача похоронят без отпевания.
Остановившись, отец Варлаам тоскливо заключил:
— Пропали требы... Эх мы...
Как бы в ответ на его слова в лесу раздался недалёкий протяжный вой. Он тоже прозвучал жалобно.
— Волки! — насторожился инок Мисаил.
— Ничего! — нисколько не падал духом отец Григорий. — Благодарите Бога, я надеялся не только на угощение в Богдановке, но и с собою кое-что прихватил. Пусть уж отец Онуфрий на нас не сетует.
И правда. В котомке у отца Григория оказалось достаточное количество хлеба и даже шматок солёного жёлтого сала. И вытащил он, конечно, не всё, было понятно. Он так и сказал:
— Что у кого завалялось — приберегите! А волки... На то и лес. Волков бояться — в лес не ходить.
Перекусив, путники приободрились.
— Нам бы только на чистое место выбраться, — вслух размышлял отец Григорий. — Чтобы по солнцу определить, куда направляться. Сказывают, и до литовского рубежа отсюда уже не так далеко.
— А вдруг нас за рубеж не пустят? — засомневался отец Варлаам, копаясь в своей котомке. — Не везёт мне всегда... Столько, говорено, московского люда... Так и Киева, поди, не увидим...
Над ним посмеялись.
Инок Мисаил подал голос:
— В Литве, слава Господу, голода нету... Чего ж нас туда не пускать? Аль объедим? А с нашей стороны... Баба с воза — кобыле легче! Болярам нашим после нашего ухода только жира прирастёт!
Отец Григорий хохотом подзадоривал инока на говорение, хотя он и не высоко ставил ум своего давнего знакомца. Правда, отец Григорий было содрогнулся от сказанного отцом Варлаамом. Тот заметил. Но так как отец Григорий ничем не подтвердил своей первоначальной тревоги — отец Варлаам усомнился, подумав, что ему всё это просто померещилось.
Пока товарищи сидели на поваленных деревьях, отец Григорий осмотрелся вокруг, а затем без промедления достал из котомки топор с коротким топорищем и быстро и ловко обкорнал им три дубовых побега. Получились увесистые дубины.
— Выбирайте, — почти приказал. — Мало ли кого пошлёт Бог навстречу. Северский край. Севера.
Прошли ещё довольно много, несмотря на бездорожье.
У леса не было конца-края.
Ничто не свидетельствовало о близости какого-нибудь селения или даже хотя бы просто человеческого жилья — хотя бы оставленного двора, заброшенного стога сена. Нигде не слышалось собачьего лая, петушиного пения.
Иногда приходилось брести уже по колено в воде, махнув на сапоги рукою, не заботясь о целости длиннополой одежды, а стараясь хотя бы как-то обезопасить себя, стараясь определить под несущимися сучьями, корой и листьями надёжное место, куда можно ступить, где тебя не подстерегают колдобины или трясина.
Наконец места потянулись возвышенные. Ольху да осину сменили сосны, дубы, берёзы.
На одном из бугров путники отдохнули, слегка подкрепились, с расчётом прожёвывая каждую отысканную кроху. А когда снова пустились в путь, то всё начало повторяться сызнова. Им не удавалось набрести на какой-нибудь человеческий след. Не удавалось заметить на стволе дерева каких-нибудь затесей, оставленных лезвием топора. Нигде не примечали веток, обломанных рукою человека. Впрочем, о дороге, как таковой, путники начали забывать. Продвигались вперёд, в неизвестность просто так, выбирая места, которые могли напоминать дорогу, которые были просто свободными промежутками между зарослями деревьев и кустарников.
А солнце уже садилось. Из сырых низин поднималась прохладная ночь.
— Братцы! — вдруг завопил инок Мисаил. — Да ведь там... Волки!
И тут все трое заметили, что по обеим сторонам от нитки оставляемых следов подозрительно шевелятся кусты, окутанные серой травою, как если бы там кто-то скрывался, какие-то живые существа.
Не говоря ни слова, отец Григорий рывком вытащил из котомки огниво.
— Будем разводить костёр! — приказал он, передавая огниво отцу Варлааму, а сам поспешил собирать хворост.
В лесу накопились горы валежника. Добытый отцом Варлаамом огонь жадно набрасывался на смолистые жирные ветви. Повалил густой дым. Посыпались искры. Огонь разрывал на куски спустившуюся на землю ночь. Он выхватывал из тьмы то мохнатую ветвь сосны, колеблемую ветром, то пучки ожившей вдруг рыжей травы, то ствол сгнившего дерева. А людям у огня чудилось, что там уже подступают собравшиеся звери, количество которых вокруг костра увеличивалось, без сомнения. Там раздавался злобный протяжный вой. Если вой смолкал в одном месте, то его подхватывали в другом. Иногда он раздавался в нескольких местах одновременно. Вой леденил душу.
— Грехи наши! Грехи наши! — повторял дрожащий отец Варлаам, прерывая молитвы, которые творил безустанно, прижимаясь к костру, так что спутники опасались, как бы на нём самом не вспыхнула одежда, а потому оттирали его, насколько можно, подальше от опасности.
Отец Григорий вместе с иноком Мисаилом запасали хворост, раскладывая добытое вокруг очага.
Затем отец Григорий, заткнув за пояс топор и вооружившись дубиною, попытался даже отойти от костра, но вынужден был возвратиться.
— Да, — сказал он приглушённым, непривычным для него голосом, приподнимая над головою шапку, будто ему вдруг стало жарко. — Да. Там их много... Так что давайте пока посушим одежду.
У Мисаила, да и у отца Варлаама, безусловно, вертелись на языке вопросы. Удастся ли вот так отсидеться? Хватит ли выдержки и терпения? Что будет дальше? Только отважиться на подобные вопросы они не могли.
Отец Григорий решил развести ещё один костёр. Ночь они провели между двух огней, поочерёдно бодрствуя. Долгожданное утро встретили все без особой надежды на хороший исход.
Отец Варлаам продолжал по-прежнему молиться Богу. Пожалуй, он и ночью не смыкал глаз. Он хотел жить, и всё. Он снова проклинал тот миг, когда в Москве ответил согласием на предложение путешествовать в святые места.
Пошарив по котомкам, еды отыскали самую малость. Она лишь раздражала желудки. И как ни вслушивались, в природе не добавилось никаких новых звуков, кроме звуков, свидетельствовавших о волчьих стаях, которые обложили это место, как воины обступают попавшуюся им на пути неприятельскую крепость.
Уныние, кажется, должно было взять верх над людьми.
Даже отец Григорий выглядел мрачным, чего в нём прежде не замечалось. Правда, он не сидел на месте. Он топтался на узком пространстве возле огня, который сегодня казался не таким прытким, как вчера.
Огонь шипел в хворосте, дымил, однако не умирал. Дым стекал вниз в долины и раздирал волчьи ноздри. Волки, надо сказать, тоже не были по-вчерашнему, по-ночному ещё, дерзкими. Они, пожалуй, мало чем и обнаруживали своё присутствие, разве что недовольным рычанием. Но то были уже их разборки между собою.
Не говоря ни слова, отец Григорий снова заткнул за пояс топор, нахлобучил на лоб шапку, сбросил с себя длинный кафтан, но вооружился на этот раз увесистой горящей головешкой.
Товарищи ни о чём его не расспрашивали, не останавливали, но смотрели с надеждой.
Когда он уходил, они приподнялись, показывая, что готовы прийти ему на помощь в любое мгновение. Отец Варлаам перекрестил его дрожащей рукою.
Ждали его возвращения с замирающими сердцами. Оттуда, куда он ушёл, вскоре послышался шум убегавших зверей, ворчание, похожее на злобный лай. Затем всё стихло.
Отец Варлаам читал молитвы громким голосом. Он призывал на помощь Бога, как если бы Бог обретался где-то неподалёку, мог всё это видеть и слышать, а потому — пособить действием по-земному, по-дружески.
Так продолжалось целую вечность. И когда, казалось, пришла пора расставаться с надеждами на благополучное возвращение ушедшего, вдруг раздался его голос.
— Мы спасены! — уверенно произнёс отец Григорий. — Там, внизу, протекает река. Мне удалось отыскать лодку. Я вытащил её на берег.
— Господи! — всхлипнул отец Варлаам. — Да ты, отче... Бог о тебе печётся!
Однако отец Григорий поторопился с выводами. Пробиться к реке оказалось делом не простым. Волки вдруг как бы сообразили, что добыча, за которой они следили столько времени, которую стерегли всю ночь, теперь вот может запросто ускользнуть. В их становище начал раздаваться какой-то особый вой. Они опасались солнечного света, однако голод заставлял их делаться дерзкими и отчаянными. Звери вели себя наподобие своры собак, да ещё не одной своры, а кроме того — каких собак! Головешки же, окутанные дымом, действовали на них сейчас не более как простые палки. Головешки не испускали такого яркого, как в ночи, огня. Звери остерегались только того, что вызывает боль. Потому от головешек людям пришлось отказаться через сотню шагов. Лучше всего было действовать дубинкой. Стоило отцу Григорию огреть чересчур нахрапистого зверя дубинкой по голове — тот с визгом и стонами покатился вниз по склону бугра, увлекая за собою с десяток своих товарищей и будоража чуть ли не всех преследователей, заставляя их держаться на расстоянии от людей. Отец Григорий понял, что так надёжнее вырваться из волчьего плена. Краем глаза, оглянувшись, он проверил правильность направления к вытащенной на берег лодке. А ещё не трудно было заметить, что звери большей частью пытаются напасть на людей сзади, со спины. Потому отец Григорий крикнул Мисаилу поменяться с ним местами. Дорогу в направлении усохшего дерева, откуда уже доносился мощный шум бегущей воды, пробивал теперь Мисаил. Сам отец Григорий замыкал шествие. Он отбивался от наседавших зверей дубиной. Время от времени ему приходилось сдерживать себя, чтобы не схватить в руки топор, торчавший за поясом. Конечно, топор превратился бы в более верное оружие, но дубина держала зверей на расстоянии...
И всё уже, кажется, складывалось более-менее благополучно, да подвёл отец Варлаам. Будучи надёжно прикрытым спереди Мисаилом, а сзади отцом Григорием, отец Варлаам поверил в Божию помощь и рано успокоился. Подкравшемуся тщедушному волку удалось схватить его за полу кафтана. Отец Варлаам закричал благим матом и тут же свалился, выронив из рук дубину. Натиск зверей достиг исключительной силы. Они уверовали в свою победу. И неизвестно, чем бы всё это завершилось, не осталось ли бы в том месте от человека несколько кровавых пятен да пары истерзанных сапог, если бы не подоспела выручка со стороны отца Григория. Резко развернувшись, он тут же раскроил топором ближайший волчий череп. Он успел заметить, как отец Варлаам, забрызганный кровью и ещё какой-то серой вязкой массой, спрятал лицо в ладонях. Одной рукою отец Григорий подхватил беспамятного отца Варлаама. Другой же, удлинённой за счёт сверкающего топора, продолжал наносить удары по оскаленным хищным и шевелящимся звериным мордам. Его обнадёживал и бодрил крик инока Мисаила, оказавшегося снова на месте замыкающего шествие.
И тут сапоги отца Григория погрузились в воду. Не поднимая головы, он спиною почувствовал соседство усохшего дерева, а значит, и соседство вытащенной на берег лодки. Не глядя, втолкнув в неё почти безжизненное и лёгкое тело отца Варлаама, он неожиданно удачно столкнул лодку с места и вынужден был даже придержать её, поскольку уже сразу у берега чувствовалась сила течения, и закричал Мисаилу, торопя его. Окровавленный Мисаил, на котором лохмотьями болталась одежда, с усилием перевесился через борт верхней частью туловища. Отец Григорий отпустил лодку. Ввалившись в неё на ходу с противоположной стороны, он втащил в лодку и Мисаила.
Волки тем временем домчались до берега. Тесня и сваливая передних в воду, они плюхались в волны, их увлекало течение. Но звери, опытные, как стало понятно, пловцы, не отваживались преследовать уносимую добычу. Они выбирались назад на берег и присоединялись к своим товарищам. Остервенело отряхиваясь, они принимались и на суше так же хищно щёлкать зубами. Звери ещё бежали вслед какое-то расстояние, пока лодка не скрылась за изгибом реки. Звери провожали её отчаянным воем.
Отец Варлаам, ещё не очень поверив в спасение, забыл о молитве. С каким-то суеверием смотрел он на отца Григория и обречённо повторял, припоминая, наверное, прежние дни и споры в этом путешествии:
— Да ты не простой человек! Нет, не простой!
Инок Мисаил дрожал от холода и переживаний. Отец Григорий доставал из своей котомки какую-то завалявшуюся там одежонку.
Первая радость от потрясшего путников понимания, что они действительно спаслись от верной погибели, вскоре начала тускнеть и пропадать.
Лодку несло уже довольно долгое время, и она была неуправляема. Отец Григорий, да и отец Мисаил тщетно пытались выловить из плывущего по волнам лесного хлама что-нибудь подходящее, что могло бы стать заменою багра. Но то, что им удавалось ухватить, иногда с большим риском очутиться в воде, что удавалось удержать, — всё выловленное оказывалось никуда не годным. Оно либо ломалось ещё в руках, либо же расползалось на части, будучи уже опущенным в воду вместо весла или багра. Лодку то заносило на невидимые отмели, то кружило на пенных водоворотах.
В одном месте, на крутом изгибе реки, на высокой голой горе, мелькнуло какое-то селение с белеющими хатами и рядом высоких тополей. Там копошились люди. Они смотрели вниз на реку и на несущуюся по ней лодку. Понимая, что всё это бесполезно, бессмысленно, отец Григорий закричал им сам не зная что, замахал отчаянно руками. На берегу должны были сообразить, что люди оказались в лодке не с целью прокатиться. Но на берегу ничего не предпринимали.
Таких селений на берегу попадалось на пути уже несколько. Отец Григорий, страшно ругая себя за то, что не прихватил с собою дубину, что оставил в схватке со зверями даже топор, — отец Григорий пытался направлять лодку к берегу опущенной в воду рукою, загребая ладонью, но тоже всё без толку. Во-первых, его усилия мало помогали. Во-вторых, рука быстро коченела.
Но вот наконец показалось несколько небольших хат на противоположном низком берегу реки. И тогда в лодке все вдруг поверили, что сейчас может завершиться речное путешествие, поскольку течение несло лодку уже прямо на затор, образовавшийся из множества встающих на дыбы брёвен и вырванных с корнями деревьев.
— Держитесь, братцы! — только и успел крикнуть отец Григорий.
Они выбирались на берег в присутствии десятка мужиков в длинных одеждах и в высоких бараньих шапках. Мужики глядели на пришельцев сочувственно, протягивали с берега кто суковатую палицу, кто просто голую руку. Помогали всячески. От лодки же остались одни щепки, которые быстро перемешивались с носимыми водою обломками деревьев и разного хлама. Но место оказалось довольно мелким, а дно — ровным.
— Откуда вы? — спрашивали спасшихся побережные люди, а отец Григорий осадил их своим встречным вопросом:
— А куда это нас вынесло? До рубежа литовского ещё далеко?
Побережане отвечали вначале как-то неопределённо:
— Недалеко, да только...
— Да только не до литовского, а до московского. Так у нас говорится...
И тут наконец путешественники, дрожа от холода, начали замечать, что народ перед ними вовсе и не московский: все мужики отрастили себе длинные усы, из-под широких штанин у них выглядывали красные сапоги. Да и говорили эти люди как-то странно...
А всё это могло означать только одно: рубеж остался уже позади.
2
Город Острог ещё неделю назад напоминал собою разорённый лесной муравейник. За надёжные каменные стены спешили перепуганные насмерть деревенские жители. Их возы прогибались под тяжестью прихваченного домашнего скарба. Движению возов препятствовали привязанные к ним коровы. Вдобавок за каждым возом гурьбою бежали босоногие ребятишки. Их радовала весенняя теплынь, мелькание колёс, ржание лошадей. И подобное творилось у всех городских ворот. Кому из беглецов удавалось протиснуться в город — те уже кнутами и кулаками пробивали себе дорогу к речке. Оттого новые крики, стоны, ругань, новые страдания.
И все шарахались от известий, доставленных казацкими гонцами. Слова «татары» и «полон», произнесённые громкими голосами, превосходили по своему воздействию слова «пожар» и «смерть».
Но сегодня город обретал уже обычный вид.
Как раз распускались липкие листочки. От нежной зелени город похорошел, будто наступили Зелёные святки[2].
Городские улицы неспешно, как прежде, принимали на себя скрипучие возы, влекомые спокойными волами. Усатые возницы, под широкополыми соломенными шляпами, направляли подводы на городскую площадь. А туда стекаются все улицы. И пока круторогие волы, вздымая пыль, дошагают до назначенного места, где возы будут поставлены в ряды, — слух о привезённых товарах пролетит по всему городу. Взметнётся даже до неприступного княжеского замка на крутой скале при изгибе реки под именем Вилия.
Обыватели расспрашивали возниц о новостях. Да только без тревоги относительно страшного татарского вторжения. Татар погнали с большим для нехристей уроном, так что не скоро они появятся здесь.
О том уже ведали все. Потому-то и гудела ровным гулом рыночная площадь. Потому-то и смеялись весело под солнцем белостенные хаты с нахлобученными на них камышовыми крышами. Потому-то и щебетали перед хатами ребятишки, впервые в этом году чуть ли не с головами зарываясь в тёплый дорожный песок.
В оживших камышах вдоль берега реки уже мелькали влажными боками рыбачьи лодки. Весенние воды успели схлынуть, и рыбаки старались обеспечить добычей княжеских поваров. На промысел рыбаки выходят с ночи, когда с высоты замковых стен на головы сваливаются крики бдительной стражи: «Гей! Чувай!», «Ого! Чувай!».
Слепой рукастый лирник посреди площади, у зияющих корчемных дверей, распевал с восходом солнца хвалу победителям грозных татар, повторяя раз за разом имя Андрея Валигуры:
А казак Валигура левой рукою шапку-бырку надевает, А правой рукою сабельку на боку поправляет...Имя это останавливало многих мещан.
Напрягая слух, переспрашивали друг друга:
— Про нашего Валигуру?
В ответ слышалось:
— Да про какого ещё? Удалец...
Другие добавляли:
— Так и не страшно, коли такие защитники!
В городе, пожалуй, всем от мала до велика было ведомо, что князь Константин просыпается вместе с солнцем.
Но происходило это просто и неприметно. Никто бы не поверил, что перед ним сам князь, случись кому постороннему присутствовать о ту пору в замке. Каждое утро с князя снимали просторную длинную рубаху из льняного полотна и облачали его в такую же длинную, но белую рубаху из более тонкого полотна, а белое сверху прикрывали одеянием наподобие монашеской рясы, безо всяких украшений, а только с золотым массивным крестом, бодрящий холодок которого князь постоянно ощущал сквозь ткани. Князю подставляли под отёкшие стопы огромные, крепко стачанные сандалии из красного сафьяна, подносили затем зеркало в золотой оправе, чтобы мог наблюдать, как цирульник-волох освежает морщины на осунувшемся лице, как золотой гребень, проносясь без затруднений над побуревшей лысиной, укладывает завитки уцелевших волос.
Далее следовало моление перед тёмным ликом Христа Спасителя — и всё. Уже с поднятой головою князь вступал в горницу, наполненную разновеликими книгами. Молчаливые пахолки[3] в длинных одеяниях поднимали кое-где в окнах подвижные стёкла. Покои наполнялись перезвоном колокольной меди.
Глядя сквозь маленькие прозрачные стёкла, скреплённые между собою свинцовыми перемычками, князь одним жестом приказывал подавать на широкий стол нужные фолианты, о которых говорилось накануне, и погружался в чтение с пером в руках.
Так начинался и этот день.
Но не так продолжался. Потому что стоило князю усесться, как ему подали послание от сандомирского воеводы Юрия Мнишека.
Чувствуя за спиною шаги пахолка с нужною книгою, князь озадаченно произнёс:
— Обожди.
Он понимал, в отличие от мещан, что для него ещё не наступило время мирной жизни.
Это было уже второе послание пана Мнишека из такого неожиданного похода. В первом, доставленном несколько дней тому назад, сандомирский воевода собственноручно и очень коротко извещал о бескровной для королевских войск победе над татарами. Угроза городу Каменцу, как и Острогу, как и прочим городам и селениям Речи Посполитой, — миновала.
Князь отлично знал характер Юрия Мнишека. Тот легко поддаётся первому впечатлению. А ещё он готов прихвастнуть. Однако князь знал: если Мнишеком сказано, что опасности Острогу нет, значит, так оно и есть. Потому князь и разрешил обывателям после первого послания возвращаться к своим дворам.
В новом же послании, скомпонованном на великолепном латинском языке учёными писарями (есть там такой пан Стахур), наряду с прочим говорилось о личном подвиге сотника Андрея Валигуры. Отряжённый с вверенной ему сотней в засаду, Валигура умело выбрал место и время и сумел положить не менее сотни поганских трупов. Это внесло такой разлад в привычные действия врагов Христа, что подоспевшая масса королевского войска троекратно увеличила потери неприятеля. Далее перечислялись успехи коронных войск, действия отдельных начальников, в особенности князей Вишневецких. Писалось так, что князю Константину без труда удалось бы доказать, из каких античных источников заимствованы образцы для подобных описаний.
Князю оставалось только подивиться, какими путями весть о подвигах Валигуры могла распространиться среди простого народа. Ему ещё накануне доложили, что о Валигуре распевают на рынке слепые лирники и что само имя казацкого сотника не сходит с уст восторженных простолюдинов. «Козак Валигура! Козак Валигура!» Словно Байда Вишневецкий, о котором теперь поются в народе уже полузабытые песни...
«Ничего удивительного, — успокаивал себя князь. — Только успех надворной сотни не идёт ни в какое сравнение с прежними воинскими достижениями острожских ратных людей. Правда, происходило то в основном очень давно».
В первую очередь князю припомнились победы его отца, князя Константина, который под крепостью Каменец взял в плен огромное количество татар и даже заселил пленниками северную часть города Острога. Оттого она доныне носит название «Татарская», как и крепостные ворота, ведущие к ней. Конечно, происходило всё это действительно очень давно. Отца своего князь припоминал довольно смутно, как будто глядел на него сквозь сетку решета или сквозь плотный осенний туман. Со дня отцовской кончины миновало почти семь десятков лет...
Этот же Валигура пришёл в город из какой-то подозрительной лесной ватаги; в которой не прижился, да, получается, и не мог прижиться. Прослужив два года в надворной казацкой сотне, он показал себя отличным воином, за что и был назначен сотником, как только попросился на покой её прежний престарелый сотник. Князь не интересовался достаточным образом родословной нового подопечного, однако кастелян Домух не раз говаривал ему, что Валигура — это всего лишь прозвище сотника, а в самом деле юноша происходит из московитского рода, что предок его, по прозванию Пётр Великогорский, перебежал во владения литовских князей ещё прежде известного князя Андрея Курбского.
Поразмышляв, князь Константин велел позвать к себе кастеляна Дому ха.
Сам же князь не принимался больше за свои обычные занятия. Какая-то тревога начала тяготить его. Едва повернуло ему на восьмой десяток — стал он примечать за собою некую странность: стоило с утра наметить на день важное дело — и в голову не шли уже литературные занятия.
С высоты Мурованной вежи, где находилась библиотека, князь смотрел на вымощенную красным камнем дорогу, ведущую к зданию, где размещается казацкая надворная сотня. Он видел стены из мощных розовых камней как на ладони. Там сейчас было пусто, о чём свидетельствовала, помимо прочего, открытая настежь дверь, в которой время от времени показывался усатый казак с ведром в руке.
Князь перевёл свой взгляд на церковь за окном, перекрестился.[4]
Кастелян Домух явился на зов раскрасневшийся, тяжело дышал. Ему уже не одолеть, как прежде, одним махом лестницу в верхние княжеские покои. Князь, не забывая о его прежних заслугах, всегда достойно жаловал старика, почти своего ровесника. Он и сейчас приказал пахолкам пододвинуть глубокое кресло с высокими подлокотниками, всё обшитое пушистой волошской тканью, в котором гость почти утонул.
А сам князь не помышлял садиться.
— Что можешь добавить нового о сотнике Валигуре? — спросил он, подавая кастеляну полученное от Мнишека послание.
Лицо кастеляна приобрело неопределённое выражение, как только он прочитал поданное, далеко отставляя от глаз бумагу с красиво выведенными литерами и щурясь так, что по морщинам на щеках покатились слёзы.
— Что добавишь, вашмосць? Я говорил, — начал кастелян. — Этот Валигура с Божией помощью далеко пойдёт... Но пан Мнишек, кажется, что-то чересчур его хвалит. Припоминаю: о Валигуре он много рассказывал. Вроде бы молодец его когда-то здорово выручил, достав из пропасти его шкатулку с драгоценностями... Нет ли тут далеко идущего замысла?
— Так полагаешь? — остановил своё хождение князь. — Что-то и меня беспокоит...
Они понимали друг друга с полуслова. Оба крепко призадумались.
Пан Мнишек, наведываясь в Острог, непременно тщится завести разговор о делах в Москве. Он рвёт на себе волосы, упрекая короля Сигизмунда за то, что не воспользовался тот московским междуцарствием, когда скончался царь Фёдор Иванович. Да и после смерти короля Стефана Батория не лучше ли было бы иметь на польском престоле Фёдора Ивановича, как того желали многие польские сенаторы и прочие вельможи? При слабоумии русского монарха, дескать, можно было прибрать к рукам московские дела... А ещё Мнишек не прочь поверить, будто бы жив настоящий наследник московского престола — царевич Димитрий. Борису Годунову, дескать, которому хотелось извести со света царственного отрока, противостояли тоже не дураки. Бояре Романовы,
Черкасские, Шуйские, Голицыны... Неужели их легко и просто обвёл вокруг пальца худородный Борис? Не раз уже объявлялся человек, выдающий себя за уцелевшего царевича Димитрия. Да пока всё — обман...
Князь Константин первый нарушил молчание:
— Придётся давать имение Валигуре.
— Конечно! — с жаром поддержал князя кастелян. — Народ этого ждёт. А что скажет пан Мнишек... Не знаю, но предчувствую что-то необычное.
Они проговорили до завтрака, на который кастелян тоже был приглашён, что происходило не часто, поскольку старый князь любил завтракать в уединении, продолжая размышлять над литературными занятиями. О предстоящей встрече в городе надворной сотни они говорили и за трапезным столом.
Через неделю с высоты всё той же Мурованной вежи, из своей библиотеки, князь Константин увидел на вымощенной камнями дорожке стройную фигуру в коротком красном жупане с длинными вылетами, в чёрной смушковой шапке с красным верхом и в широких синих шароварах. Князь представил себе, как ликовали острожцы перед воротами крепости, встречая на днях казацкого героя, и ему стало просто завидно.
Князь успел ещё припомнить, что подобным молодцом он сам был полсотни лет тому назад. Успел посетовать, до чего быстро промелькнуло время. А в предпокоях уже раздался топот сапог.
Молодой сотник стоял как нарисованный опытным изографом. Сотник ждал вопросов, ждал разрешения говорить. А князь медлил. Он успел перехватить молодецкий взор, брошенный на ряды книг, — и старое лицо потеплело ещё заметней. Старик был очень похож сейчас на одну из своих парсун, висевших на стене. Там его изобразили в красной мантии, отороченной горностаевым мехом и украшенной массивной золотой цепью. На голове имел красивую баранью шапку — по казацким обычаям.
Князь посмотрел на приглашённого ради этого разговора кастеляна Домуха и для начала спросил сотника:
— Успел ли гость побывать в своём новом имении?
Сотник широко улыбнулся, блеснув под чёрным усом белыми зубами. Склонил в благородном поклоне голову:
— Лучшего имения не сыскать, вашмосць! Уж и не знаю, достоин ли я такого подарка?
— Достоин, — успокоительно махнул рукою князь, приглашая садиться на высокий дзиглик, пододвинутый пахолком. — Но ещё большего удостоишься.
— Вашмосць, — дрогнул сотников голос, — я осмелюсь сказать такое, что способно вызвать ваш гнев. Но не сказать не могу хотя бы в силу того, что вы сочли меня человеком смелым!
— Вот как? — удивлённо, но вместе с тем как бы одобрительно промолвил князь, давая понять, что ему приятна смелость казака. Он посмотрел ещё на кастеляна — тот был весь внимание. — Говори же, пан сотник. Ты славно говоришь. Древние мудрецы неспроста полагали, что телесное совершенство непременно сочетается с мудростью ума.
Князь уже был уверен, что сейчас раскроется замысел пана Мнишека, если таковой существует.
Сотник набрал полную грудь воздуха и выпалил на одном дыхании:
— Я хочу учиться в вашей академии!
Если бы молодой гость заявил сейчас, что собирается жениться на королевне, — князь Константин поразился бы не в такой степени. Потому что за свою долгую жизнь он ни разу не слышал чего-либо подобного из воинских уст. Ему были памятны случаи, когда на воинскую службу просились толковые, самые надёжные бакаляры его академии. Не говоря уже об обычных школярах — те в большинстве своём готовы всегда сменить длинные свитки да каламари на жупаны да сабли.
Князь смотрел то на сотника, то на кастеляна, с трудом подавляя в себе волнение. Конечно, оба старика невольно подумали о Северине Наливайке, Кравчине, как называли его в академии. Сын острожского кравца показывал необыкновенные успехи в учении, что не помешало ему кончить жизнь в мучениях, как мятежнику, бросив тем самым тень на академию, на её лучших наставников, известных в Европе.
— Почему ты так решил? — спросил наконец князь, представив себе, что видит уже этого молодца не в любимой простолюдинами одежде воина, но в простой свите и с измазанными чернилами руками, что он, князь, зайдёт по обычаю в академию (благо она здесь же, рядом с домом казацкой сотни) и увидит эту голову склонённой над широким дубовым столом, за которым сидели Смотрицкий и прочие учёные люди.
Очевидно, сотник был подготовлен к такому вопросу. Он заговорил спокойно и уверенно:
— Я человек, вашмосць. Бог даровал мне хорошую память. Когда я был мальчишкой, я много наслушался о Москве от своего отца. Из Москвы были наши предки. Сейчас я насмотрелся на порядки в польском королевстве. Я хочу всё понять и всё взвесить.
Он говорил и говорил. А князь вспоминал. Об этом сотнике ходили слухи ещё до того, как он появился в городе. Им, помнится, интересовался французский капитан Жак Маржерет. Мечтая о службе в Москве, Маржерет собирал удалых воинов из королевских войск — их полно по всей Украине. Маржерет не смог его отыскать, будучи вынужденным срочно отбывать в Московию.
Обменявшись взглядами с кастеляном, князь неожиданно подвёл итоги встречи.
— Сын мой, — сказал он сотнику, — не так просто во всём разобраться в этом мире. Мне уже восьмой десяток, а я в ответ могу сказать тебе только одно: у меня нет права отвращать тебя от твоих намерений, внушённых тебе Богом. К тому же у тебя теперь достаточно собственных средств, заработанных честной службою. Но всё-таки ты должен крепко подумать насчёт академии и решить самостоятельно... Думай!..
3
Кони пластались телами по свежей сверкающей траве.
Пёстрые сагайдаки с трудом успевали увильнуть из-под острых копыт.
Многочисленные птичьи стаи рассыпались мгновенно. Так рассыпаются искры вокруг казацкого огнива.
А звуков погони уже давно не различалось.
Атаман Ворона наконец мог собраться с мыслями. Он перестал терзать коней нагайкой. Он натянул поводья, спрыгнул на траву. И погладил мокрые конские гривы.
Пошатываясь на ногах после сумасшедшей езды, Ворона начал припоминать.
Яремака, понятно, погубил ватагу.
— Да! — сказал на всю степь Ворона, явно запоздало, к тому же всего-навсего Петру Коринцу. — Перед Богом клянусь!
Ворона снова представил себе обрывистые берега Тетерева, где возносится к небу житомирский замок. Они надеялись прошмыгнуть у подножия замковых стен, полагая, будто никому и в голову не взбредёт мысль о подобной дерзости ватаги, которая больше года гуляла по Волыни. Добрые люди убеждали Ворону, что житомирский замок пуст, как скарбница в захудалой церкви, что королевская крылатая драгуния гоняется за лотрами где-то под Чудновом, отделённым от Житомира многовёрстными тёмными лесами. И всё пошло сначала вроде бы хорошо. На высоких стенах замка не послышалось даже писка. Но стоило ватаге добраться до шаткого мостика через Тетерев, как на мостике с треском вздыбились брёвна. Они встали вроде частокола. Передовые конники превратились в препятствия для следовавших за ними. Взбудораженные кони заржали, порываясь в сторону от дороги. Конечно, Яремака должен был увлечь ватагу за собою, чтобы преодолеть Тетерев вплавь. Река уже обмелела, и плыть пришлось бы всего несколько саженей. А там — высоченный каменистый берег, на котором гуляют ветерки и кружится лёгкая пыль. Но Яремака ошибочно предпочёл дорогу по левому берегу реки. На то и рассчитывала расставленная в засаде королевская драгуния. Драгуны ударили из-под леса. Они неслись с горы. Вороне показалось, будто от множества сверкающих сабель в небе загорелся новый день. Яремака ещё надеялся пробиться. Он собственной рукою свалил нескольких драгун, да сам наткнулся на умелого хорунжего. Пробив дорогу, находясь уже между спасительными стволами дубов-великанов, Ворона увидел, что Яремака торчит перед удачливым противником, безоружный и пеший. «Добивай!» — закричал Яремака. Но хорунжий спешился и позволил Яремаке взять с земли окровавленную саблю. Однако было уже поздно. Яремака не мог держать оружие в руках...
— Я был бессилен что-либо сделать! — упал на землю Ворона, полагая, что Коринец понял, о чём он кричит. — Конечно, мог погибнуть вместе с ним! Мы бы сейчас вместе грызли камни в подвалах житомирского замка! В кандалах! Но я — струсил!
Чуть живой от усталости, Коринец, в изорванных одеждах, без оружия, ещё не поверивший в собственное спасение, всё же попытался его успокоить:
— Мы ему поможем!
— Надо что-то сделать...
Взмыленные кони медленно перебирали непослушными ногами. Жёлтые зубы судорожно оскаливались, пытаясь грызть траву.
— Я трус! — бил по земле руками Ворона. — Отныне все должны меня презирать! Я испугался плена. Я не подумал, что предаю товарища! Даже если он виноват...
— Да в чём же ты-то виноват? — пытался возражать Коринец.
Вместо ответа Ворона выхватил из ножен саблю и смотрел на неё в диком изумлении.
— Ты вот что! — вдруг собрался с силами и вплотную подступил к нему Коринец. — Дай-ка мне. Перережу ремешок.
Ворона сопротивлялся слабо. Он хотел сегодня — быть может, впервые в жизни — остаться без оружия в руках.
— Нам одна теперь дорога — на Сечь! — сказал Коринец. — Так и сделаем. Потому что все дороги для нас заперты драгунами. И если ты, Ворона, очень хочешь помочь Яремаке, ты должен со мною согласиться!
Ворона, упав лицом на землю, зарыдал.
Ехали не спеша, осторожно, словно крадучись. Места потянулись безлюдные. Ворона, старый бродяга, бывал здесь не раз. Время от времени он напоминал: «Вот здесь похоронен Данило Безверхий... А какой был товарищ...» И указывал на кучу запылённых камней, набросанных в виде продолговатого плоского холмика. «Вот здесь, — дрожал его голос, — татары изрубили сотни полоняников!» И рука описывала в воздухе полукружие у подножия носатой каменной бабы, где не угадывалось уже никакой могилы. «А это колодец, вырытый святым стариком Пахомом. Рыл ночами, а днём прятался в камышах». И правда: под буйно разросшимися вербами скрывался каменный сруб. А рядом, на низменном месте, шуршал черноголовый камыш. Ворона зато в любое мгновение мог указать направление, куда следует держать путь.
Коней дорога не страшила. Травы было достаточно. Зато лица путников заострились наподобие клиньев. Уже всё было съедено, что только можно. Ворона сварил в котле и разделил по-братски голенища от старых сапог из красного сафьяна, которые завалялись у него в дорожных саквах. А так полоскали кишки вскипячённой водою, приправленною рыбой, которую удавалось проткнуть саблей, брошенной с берега. Но и такое случалось всё реже и реже: руки слабели с каждым днём. Утешали скупые рассказы Вороны: вот, дескать, должны пойти земли, где живут люди, сбежавшие от своих панов. Они пользуются защитою запорожцев. Они завели в степи кой-какое хозяйство. Они поддержат путников, если, конечно, сами живы, если их не убили или не увели с собою татары. Коринец заговаривал, что нужно прирезать одного из запасных коней, спасаться его мясом. Но старший товарищ отверг предложение: на одном коне казаку далеко не уехать. Не годится так поступать. И уже казалось, что это путешествие тоже закончится погибелью, как закончилось для ватаги погибелью то, что задумал Яремака.
Однако роптать было нечего. Божия воля была над Яремакой, Божия и над ними. Молили Бога об одном: чтобы навстречу попалась валка торговых людей. Чтобы увидеть перед собою удачливых беглецов из татарского плена. Чтобы догнали какие-нибудь люди, тоже спешащие на Сечь, но отправившиеся туда после хорошей и тщательной подготовки, с припасами еды и с оружием да с порохом. Чтобы, наконец, Бог совершил какое-нибудь чудо.
Однако время года стояло такое, что на эту дорогу никто не выходил. Беглецы и всякие прочие путники, если уж не сидели на месте, — выбирали, знать, иной какой-то путь.
Когда припекало солнце — нельзя было удержаться в сёдлах. Солнечный жар томил и вызывал перед глазами пёстрые видения. По степи, не приминая буйной травы и не объезжая одиноких деревьев, часто изломанных бурями, двигались бесконечные валки, в которых возницы были в разноцветных тюрбанах, в длинных одеяниях и в лёгких сапогах с загнутыми кверху носками. На возах зыбилось нечто пушистое, лёгкое и ломкое, так что возы передвигались бесшумно, словно игрушечные. А то покачивались, не удаляясь, огромные животные, на спинах у которых росли горбы, а между горбами сидели люди в ярких одеждах и скалили белые зубы при чёрных лицах...
Ворона спешивался первым, приближаясь к приречным вербам. Продвигаться старались так, чтобы река непременно оставалась по левую руку.
И вдруг, когда путники лежали в тени, на ближней возвышенности в небо ударил столб дыма и взметнулось хищное пламя. Тут же раздался топот копыт.
— Ба! — стукнул себя по лбу Ворона, вскакивая на ноги. — Да мы уже у казацких застав! Они тянутся до Белой Церкви, до Киева...
Дым и пламя означали, что на заставе увидели такое же пламя на другом, отдалённом кургане, расположенном в сторону Дикого поля. А там заметили продвижение татарской конницы и подожгли бочки с дёгтем, обложенные сухим хворостом.
— Что делать нам? — закричал Коринец.
Ворона знал ответ:
— Попробуем отсидеться на островах. Не для того добирались, чтобы на аркан попасть... Авось Бог смилуется.
Островов на реке насчитывалось достаточно. Их покрывала уже густая зелень.
Ворона немедля направил коней в речку. Дно попалось твёрдое. По мелководью продвинулись версту, другую и вплавь перемахнули на один из островов, расположенный у противоположного берега, скрылись под зелёным пологом.
Едва успели такое проделать, как чистое вроде небо, в полуденной стороне, стало на глазах сереть. По нему закудрявились чёрные полосы. Они росли и тянулись своими змеиными щупальцами ввысь, к солнцу. Солнце начало краснеть, будто перед закатом. В воздухе запахло пылью. Присутствие её каждый почувствовал в носу и в горле, и на зубах тоже.
— Сейчас покажутся, — сдавленным голосом сказал Ворона, неустанно следя за степью.
Берегом реки скользили стада сагайдаков. Сверкнули красными пятнами шкуры очень осторожных лисиц. В беспорядке прыгали ошалелые зайцы. Шарахались с криками птицы. Спасалось, кажется, всё. Разве что рыбы в воде оставались ещё безучастными к надвигавшейся беде.
— Татары не переходят на другой берег, — успокаивал серыми губами Ворона, не очень, кажется, доверяя своим словам. — Они всегда торопятся.
Конница выплеснулась из-за кургана неожиданно. На острове, впрочем, ничего вначале не увидели, кроме чёрной клубящейся пыли. Чёрное катилось уже по земле. Вскоре закрыло у берегов воду, оседая с шорохом на остров. И лишь тогда удалось различить отдельных всадников, которые забредали в воду, чтобы гортанными криками означить своё присутствие и снова исчезнуть. Лошади пить не хотели. Очевидно, орда поблизости пересекала мелкое озеро с тёплой солоноватой водой.
Как ни странно, но страшное шествие длилось недолго.
Путники на острове опасались, не выдадут ли их ржанием собственные кони. Они закрывали чуткие конские морды шапками и полами жупанов, руками гладили животным головы, глаза. И вдруг напряжение горячих конских тел увяло само собою. Животные принялись щипать траву. И тогда только люди окончательно поняли: нет уже на берегу прежнего гула. Гул застрял у них в ушах.
— Уже всё? — снова спросил, не поверив в новое спасение, Коринец.
Ворона отвечал ещё без особой уверенности:
— Это только крыло всего войска, если не крылышко. Где бы татары ни проходили, войско их уподобляется рыбацкой сети. Рассыпаются так, что ни одной человеческой души не упустят. И так до Киева доходят, до Москвы. Лет тридцать назад Москву дотла выжгли... Нам следует ещё выждать.
К вечеру пыль рассеялась, небо очистилось. Но зелень на острове — да и в степи вокруг, очевидно — посерела надолго.
Неподалёку за курганом, на котором дотлевали казацкие бочки с дёгтем, откуда над степью расстилался чадный дым, путники набрели на хутор — не ошибался Ворона. Но что это было за зрелище!
Человеческое жилище некогда возвели на берегу небольшого пруда. Его обрамлял молодой вишнёвый сад, а сад сторожили ряды высоких тополей. Утоптанный двор окружали хлевы и коморы. В хлевах, вероятно, содержалось много скота. Теперь же об этом можно было только догадываться.
Огонь уничтожил и хату, и все постройки. Везде дотлевали чёрные головешки.
Человеческих трупов видно не было, — наверное, люди успели скрыться за речку. Лошадей то ли увели с собою, то ли животные достались татарам. А вот домашняя скотина была полностью изрублена. Неподалёку от сгоревшей хаты вздымалось несколько коровьих туш, облепленных синими грозными мухами. Бычья голова, с огромными рогами, отделённая от туловища страшной силы ударом, валялась в куче юлы, саженях в трёх от туловища. Особенно, знать, неистовствовали враги над тушами свиней. Этих животных они превратили в кровавое месиво.
Коринец не знал, что делать.
Но Ворона не растерялся. Он быстро сообразил, где на хуторе хранили зерно.
Одним словом, к вечеру путники почувствовали себя вовсе не беглецами, а настоящими казаками, какими были ещё неделю назад, в волынских лесах. Они снова были сыты. От Сечи, уверял Ворона, их отделял небольшой переход.
Опьяневший от пищи, без водки, Ворона вспомнил песню, которую любил напевать Яремака. Ворона затянул её неспособным на пение низким голосом, зашипел от злости и бессилия, ударил лезвием сабли продымлённую землю:
— Умру, а побратима вызволю!
Над степью опускалась звёздная ночь. Она делала мир загадочным. По крупным, разбухшим звёздам опытные люди легко догадываются, что будет с человеком. Надо только уметь всё это читать.
Коринец долго лежал с раскрытыми глазами, молчал. А затем по-своему поддержал Ворону:
— Вызволим Яремаку, точно... Андрея Валигуру потеряли, так этого надо спасать... Вот только где увидим человека, который всех нас наставит на правильный путь? Чтобы не били нас татары как им вздумается... Чтобы в крепкий кулак всех... Эх, хоть бы одним глазом посмотреть когда на Москву... Ведь мои предки оттуда! Этого никогда не забуду!
4
Они остановились в Крещатой долине. Удалённый низкий берег Днепра окутывал призакатный розовый туман.
— Благодать, — закрыл глаза отец Варлаам, как только рука его устала креститься в сторону церквей, что в Верхнем городе. Оттуда разливался колокольный звон. Отец Варлаам любил лежать кверху брюхом — у него это получалось само собою. — Очень жаль, — добавил он со вздохом, — что и сегодня не попадём в монастырь.
— Так и быть. Завтра, — сказал обречённо инок Мисаил.
И только отец Григорий загадочно промолчал.
Мисаил засуетился возле костерка, разведённого в одно мгновение. Вода закипела тотчас. И надо было лишь терпеливо выждать, когда упреет уха. Готовил он её уже не по зову плоти, но по прихоти гордого ума.
— Сейчас, сейчас, — приговаривал Мисаил, обращаясь неведомо к кому.
Наваристого линя, с зелёной спиною и золотистыми боками при белом чреве, величиною с поросёнка, получили в подарок от рыбаков, неподалёку от Святой Софии. Добродушно посмеиваясь, рыбаки просили помолиться за грешные души. Сами рыбаки, конечно, торопились в мерзкий шинок. Шинков на киевских холмах не меньше, чем кабаков над московскими оврагами.
— Сейчас, сейчас. А монастырь — завтра...
Своими движениями Мисаил напоминал теперь жирного кота, который пресытился мышами. А если и занимается он каким-то там квёлым мышонком — это уж ради праздного баловства.
Отец Григорий напяливал на себя казацкий жупан. Синее сукно трижды обернул красным поясом. Начал примерять казацкую шапку. Всё это, хвастал, добыто в шинке по смехотворной цене. Лицо его только что было начисто отмыто в ручье, стекающем в Днепр, и когда он, в последний раз одёрнув жупан и поправив шапку, повернулся лицом к костру, то в красноватом свете показался товарищам совершенно незнакомым человеком, спустившимся с киевских высот, на которых цветут вишни, а над вишнями гудут майские жуки.
Его спутников взяла оторопь. Они долго молчали.
— Вот это да! — наконец выдохнул восхищение Мисаил. — Настоящий казак!
Бедняга сунул за голенище ложку, только что вытащенную из котла. Конечно, горячие капли линьего жира причинили ему неприятность, однако он лишь покривил лицо и топнул сапогом.
Отец Варлаам шевельнул губами, глядя на казацкое подобие прищуренным глазом:
— Жаль, в монастырь не попадём сегодня! Хоть бы титра с утра!
Больше ничего не было сказано.
Отец Григорий сделал постное лицо. Опустил глаза и произнёс виновато:
— Последний раз... А завтра утром, — конечно, в монастырь. Но прежде я должен всё вызнать. Не зная броду — не суйся в воду. А где выведаешь, как не в кабаке? То есть не в шинке? Дак не в чернецкой же рясе...
После этого тоже ничего ему не ответили, ни о чём не спросили. Он ещё раз извинился, как бы предчувствуя упрёки по причине своего ухода:
— Ничего, что деньги на храм собираем... На Божие дело всё равно... Сказано бо в Писании: храм в душе нашей... Вы же мне верите? Говорите!
С этими словами, ничего не дождавшись в ответ, да и не требуя его, отец Григорий уже поднимался по склону Крещатой долины. Ловко, одними пальцами рук, касался он верхушек ореховых кустов.
— Я ненадолго!
В ответ защёлкал соловей.
Отец Варлаам перекрестил уходящего вдогонку вялой рукою, проследил глазом за красным поясом и свалился на мягкую пахучую траву.
В долине перехожие люди варили себе на кострах еду. С поля возвращались монастырские пахари, гнали усталых круторогих волов, заговаривали с перехожими.
Мисаил снял с костерка котелок с ухою, примостил его на чёрный дубовый пенёк, предварительно утоптав там буйную крапиву. Затем выдернул из-за голенища ложку, зачерпнул варева и принялся на него так яростно дуть, что из ближнего куста вырвалась какая-то крупная птица и с шумом, ломая ветки, ринулась вниз, к Днепру.
Солнце спряталось. Туман загустел и стал распадаться на отдельные части. На Подоле запели девчата. Как бы в ответ на девичье пение над верхушками деревьев прорезался красноватый месяц — величиною с мельничное колесо. Песни зазвучали уже во многих местах. Из шинков послышалась музыка.
Возвратился отец Григорий на рассвете. Мисаил сквозь сон чуял, как он умывается в ручье, как сплёвывает в воду и что-то бормочет. Дальше Мисаил ничего не упомнил.
Когда же Мисаил и отец Варлаам проснулись и начали уже кумекать насчёт завтрака — отец Григорий продолжал ещё спать под кустом. Они вдвоём подкрепились вчерашней наваристой ухою из подаренного линя, оставив часть её и на долю отца Григория.
— Пообедаем уже в монастырской трапезне, — надеялся отец Варлаам.
Но когда отец Григорий наконец выспался и поднял из травы взлохмаченную рыжую голову, они оба вскрикнули: левый глаз его перекосился и сузился по-татарски — по причине вздувшегося желвака величиною с добрую сливу. Идти в таком виде в монастырь было никак нельзя.
— Вот и монастырская трапезня, — уныло сказал отец Варлаам.
Отец Григорий долго старался рассмотреть в ручье своё отражение. Результаты осмотра, по-видимому, его нисколько не смутили. Спутникам показалось, что он остался доволен таким исходом событий.
— Что же, — заключил он, не глядя на них, — придётся вам сегодня без меня идти.
Отец Варлаам и Мисаил, привыкшие уже во всём подчиняться отцу Григорию, ни словом не возразили. Не было возражений и после того, как оставили отца Григория при курене, сооружённом ими втроём из хвороста и травы. По Днепру скользили лодки под лёгкими парусами, да и на вёслах некоторые. За Днепром бродили коровьи стада.
День прошёл как обычно. На храм в Киеве подавали охотно. Но когда отец Варлаам с Мисаилом неторопливо брели мимо скособоченного шинка на шумном Подоле, то им вдруг почудилось, будто бы под грубо намалёванной кружкой, привязанной к столбу лыковой верёвкой, среди пляшущих в жёлтой пыли казаков в красных жупанах и со взлетающими над головами оселедцами мелькнул знакомый синий жупан. Они переглянулись между собою. Затем осенили неразумных людей крестом и быстрее зашевелили ногами, стараясь подальше обойти предосудительное заведение. Однако поросшая лопухами улица как бы нарочито была выгнута дьяволом и прижата к шинку, ничего не поделаешь. Через мгновение они снова были поражены не менее, нежели сегодня утром. В толпе пляшущих и орущих людей выше всех подпрыгивал отец Григорий, снова переодетый казаком! Кажется, он мог бы легко перемахнуть через невысокий лозовый плетень. Мог бы выделывать коленца как по эту сторону забора, так и по ту, внутреннюю. Более того, он заметил их, своих товарищей. Он успел подать знак, означающий одно: не волнуйтесь и уходите подальше! Казаки тоже увидели этот знак, но истолковали его по-своему: дескать, гусь свинье не товарищ! Не годится божьим людям глядеть на забавы добрых молодцев!
Казаки закричали:
— Уходите, святые отцы!
— Нам уже всё равно! Мы люди пропащие! Вы себя спасайте!
— Да и за нас молитесь!
Невидимые музыканты зачастили на скрипках да на цимбалах. Такая прыть доступна разве что танцорам из преисподней.
Пришли монахи в себя только в Крещатой долине, при пустом курене, из которого веяло сохранившейся прохладой. Они упали на траву и стали дожидаться прихода отца Григория.
Отец Григорий с возвращением не торопился. Он показался только перед закатом солнца. Выглядел бодрым, балагурил, несмотря на то, что желвак под глазом нисколько не уменьшился в размерах, но уподобился по цвету перезрелой сливе и оттого вроде бы увеличился в размерах. От самого отца Григория пахло хохляцкой горелкой, хотя никакой вроде нетрезвости в нём нельзя было заметить.
— Не думайте, друзья мои, ничего плохого! Не терзайте себя! — сказал очень просто, торопливо преображаясь снова в монаха. — Что ни делаю — всё во благо! Вымолю у Бога прощение!.. Вот дождёмся только, когда этот знак на мне исчезнет. — И засмеялся удивительным смехом. У спутников сразу стало легче на душе.
— Значит, и завтра не попадём в монастырь, — для пущей уверенности напомнил Мисаилу отец Варлаам.
А дразнящая воображение казацкая одежда была надёжно упрятана — на самое дно вместительной котомки.
Через месяц отец Варлаам окончательно смирился с жизнью в новой обители.
Ему понравилась келья в древних стенах. Он полюбил бескрайние просторы, созерцание которых захватывает дух. Собственно, он был уже к этому подготовлен своим пребыванием в городе Новгороде-Северском. Ему даже показалось теперь, будто Новгород-Северский — это как бы игрушка по сравнению с Киевом и река Десна, на которой размещён Новгород-Северский, вроде бы ручей по сравнению с могучим Днепром.
Отца Варлаама кто-то словно вытаскивал за руку из душной кельи, как бы нашёптывал: ну где ты увидишь подобную красоту? Он стеснялся своего слабоволия, постоянно твердил молитвы, но не мог насытить глаза созерцанием. Он благодарил Бога за то, что такая красота открылась ему ещё в земной жизни. Она отличалась от красоты храмов, где он проводил свою прежнюю жизнь — в монастырях, в молениях, в кельях.
Правда, Киево-Печерская лавра не могла похвастаться богатствами. Многое лежало в запустении, разрушенное татарами, а многое порушило время. Отец Варлаам вчитывался в старинные свитки, и его брала оторопь: он видит то, что видел святой Владимир, и осязает то, что осязал Ярослав Мудрый. Чернцы, с которыми удавалось общаться, жаловались, что сильные мира сего мало пекутся о православной обители. Не говоря уже о польских магнатах, которые теперь владеют Киевом, перешедшим к ним от литвинов по Люблинской унии 1569 года, — так и православные магнаты теперь стремятся угодить католикам. В Киеве строят костёлы, а православные церкви предаются небрежению. И если не поможет Московское государство (при этих словах чернцы опасливо озирались), то откуда ждать помощи?
Отец Варлаам вздыхал, не отвечая ничего. Не его ума это дело. Однако какая помощь может быть сейчас от Москвы, когда народ там мрёт от голода, — который год неурожаи?
Он только с тревогою ждал того дня, когда отец Григорий скажет, что пора пробираться дальше на юг, к Святой Земле. Ведь именно с этой целью вышли они когда-то из Москвы. Он был бы рад, если бы отец Григорий забыл о том разговоре. В Киево-Печерской лавре отец Варлаам готов был провести остаток своих дней. Поэтому он с радостью узнавал, что отец Григорий правит службу в лаврских церквах, и посещал те службы вкупе с иноком Мисаилом.
Да, отец Григорий вымаливал себе прощение перед Богом за своё недостойное поведение. Он отлично знал церковную службу, имел при том хороший голос, память — всё, всё. И нисколько не кривил душою, заявляя, что стоит ему пробежать глазами написанное на бумаге, как оно навсегда уже остаётся у него в голове.
— Непростая это голова, ой непростая, — говорил отец Варлаам иноку Мисаилу. — Вот только...
Отец Варлаам старался исподволь узнать поболе об отце Григории. Что узнавал — то его не успокаивало, но рождало новые вопросы.
Особенно беспокоила запись, которую отец Григорий оставил в Путивльском монастыре, когда пробирались в Литву. Что там начертано — неизвестно. Но отец Варлаам видел, как переменилось лицо игумена, едва старик прочитал написанное. Игумен не произнёс ни слова. Они, гости, не дождались, когда же он придёт в себя.
Отец Варлаам попытался узнать что-нибудь о той записи, да получил от отца Григория загадочный ответ: «Тайное ещё станет явным!»
А когда станет понятным поведение отца Григория здесь, в Киеве? Что узнавал он в общении с запорожскими казаками? Не дураком сказано: скоморох попу не товарищ. Кто такие казаки, как не скоморохи? Кому служат? Не лукавому ли? Господи, прости! Ходит слава о казацком атамане под именем Герасим Евангелик. Кто это? Не он ли прельщает отца Григория?
И зачем отцу Григорию переодевания? Ночные похождения? Может, всё продолжается и доныне?..
Шла бы речь о рыночной зазнобушке, о полногрудой молодице с чёрными бровями (дело известное, чего не видывал отец Варлаам, пребывая в монастырях Божиих с юных лет) — всё было бы на своих местах. Да здесь не то. Шла бы речь о поганской страсти к зелью, к богомерзкой выпивке — так и не ради этого зачастил отец Григорий в киевские шинки. Сколько выпадало в пути возможностей выпить — не предавался пороку. На предающихся ему смотрит свысока. И если из шинков возвращается с запахом водки изо рта — так только прикладывался к сосудам, обманывая своих нынешних знакомцев. Значит, не то...
Развязка наступила неожиданно, а тем больнее ударила она отца Варлаама.
Всё обстояло вроде бы хорошо, надёжно, прочно. Ничто не предвещало беды. С утра отец Варлаам вместе с иноком Мисаилом и хроменьким послушником по имени Вонифатий отправился смотреть лаврские пещеры. От сухости воздуха в тесных каменных проходах, от запаха оплавленных свечей, от благовония, исходящего от мощей высокодостойных святых отцов, а ещё от криков бесноватого, прикованного в пещере цепью, от сверкающих его глаз и скрежещущих зубов — отцу Варлааму стало худо. Инок Мисаил почти на руках вынес его на свежий воздух, отвергая помощь послушника Вонифатия. Однако это недомогание вмиг оставило отца Варлаама, как только он узнал, что отец Григорий при вставании из-за стола в трапезной вдруг пошатнулся и рухнул на каменный пол. Отец Варлаам даже не дослушал до конца рассказа, но тут же побежал к келье отца Григория, вырвавшись из рук Мисаила. Что творилось в его мыслях — страшно сказать. Свались какой-нибудь хилый инок или ветхий годами старец — было бы всё понятно. А здесь... Юноша в расцвете лет. Его, говорят, даже не слишком торопились поднимать, полагая, что поскользнулся, за что-нибудь зацепился. Но когда его подняли — и тогда тревоги большой не появилось. И с молодым, дескать, подобное может случиться. Ведь они не знали, какая сила у отца Григория.
Упавшего отнесли в келью. Отец Варлаам не мог пока войти в келью, потому что там находился старец Мелетий, который умеет пользовать человека всякими травами. И вроде бы ни о чём опасном мудрый старец не поведал, покидая келью, но отец Варлаам, оставшись со страждущим наедине, так и не смог его разговорить в первый день. Отец Григорий не принимал пищи, лишь знаками требовал себе поболе питья. Сказать бы, что у него в теле жар — отец Варлаам такого тоже не заметил. Вот только дрожал немощный вроде бы от какого-то напряжения.
Инок Мисаил, глядя на своего давнего товарища, не знал, что ему принести, чем помочь.
Отец Григорий на следующий день, так и не вставая с постели и не принимаясь за пищу, попросил снова явившегося в келью старца, знатока зелья, чтобы тот пригласил к нему самого игумена Елисея. Игумен хорошо отзывался об отце Григории. Игумен явился на зов как-то вскоре. О чём они там говорили — никто не знал. Разговор происходил за плотно прикрытой дверью. Игумен вышел из кельи хлопнув дверью, ничего никому не сказал и сердито затопал сапогами по длинному коридору.
Ничего не поведал об этом разговоре и отец Григорий. Он оставался в келье до вечера, никого к себе не впустил, а на следующее утро, выйдя из кельи, сообщил, что пора собираться в дорогу.
5
Климура вдруг заявил, имея в виду недавнюю победу над татарами:
— Если бы подобное воинское счастье привалило царю Борису, когда он выставил войско против татар, — народ простил бы ему всё плохое. Ох и любят московиты победителей! А царь Борис торчал с войском на берегах Оки целое лето. Только сражения не было... — И Климура привычным жестом вздыбил надо лбом упругие кудри.
Стахур, на глазах у своего господина Юрия Мнишека, сандомирского воеводы, вывел сказанное Климурой на бумаге. И вывел по-латыни. Присыпал написанное золотистым песком из шёлкового мешочка, смахнул разбухшие песчинки и покачал глубокомысленно лысою головою. Дескать, может стать достоянием истории.
Климура бежал из Москвы несколько лет тому назад, но говорил о далёком городе так уверенно, будто вчера ещё томился на его шумных извилистых улочках. Хорошенько усвоив шипящую польщизну и даже в известной мере звонкую латынь, Климура частенько переходил на родную ему московскую речь, употреблял такие замысловатые выражения, изображая московитов в лицах, что у пана Мнишека не хватало познаний для полного понимания кондовой Московщины.
Климура уже напрочь врос в свиту пана Мнишека, и это вызвало скрытое недовольство Стахура — учёной головы, секретаря и советника пана воеводы.
Когда неосведомлённые люди, какие-нибудь новые знакомцы, определяли Климуру с первого взгляда как шута при сандомирском воеводе, то они за это здорово платились. Климура задирал выскобленный подбородок и отбривал их так дерзко и ловко, что придраться было нельзя, а присутствующие при том хватались за животы, даже юные пахолки и разные там прихлебатели. Климура же доставал гребешок и расчёсывал золотистые кудри.
Пан Мнишек с удовлетворением воспринял слова Климуры о победе над татарами и сделал заключение, что это сам пан Бог послал ему такую удивительную победу. Подумать только: при живом и здоровом прославленном полководце Жолкевском, при живых и здоровых польных гетманах случившийся в подходящем месте сандомирский воевода собирает воинские силы, объединяет их в кулак и даёт отпор вторгшимся татарам! Татарам, которые готовились к походу всю зиму, улучили подходящий момент. Да ещё какой отпор. Триумф! А оказался он, сандомирский воевода, в нужном месте просто по той причине, что гостил в Каменце, как не раз уже бывало, и оставлял своё сандомирское воеводство вовсе не для ратных подвигов, поскольку прихватил с собою многих родственников и даже любимую дочь Марину.
Конечно, мрачные недоброжелатели прошипят: «Aquila non captat muscas!»[5] Дескать, не против крымского хана обязан стоять с войском коронный гетман или даже польный, но против шведов, турок, московитов. Но если победу заметит и оценит сам король? Если он призовёт сандомирского воеводу и наградит его как положено? Король Сигизмунд любит поступать подобным образом.
Пан Мнишек мечтательно закрывал глаза, забывал о Климуре, Стахуре и прочих людях из своей свиты.
Но происходило всё это уже невдалеке от Острога, на последнем привале. Стояла солнечная погода. Дорога впереди не сулила неприятностей.
Потому и пан Мнишек открыл глаза, ласково посмотрел на Климуру, на Стахура и сказал:
— По коням!
— По коням! — раздалось и повторилось уже в отдалении, по лесной опушке, где остановился обоз пана Мнишека, докатилось до карет с молодыми паннами, что сопровождают панну Марину.
— По коням!
— По коням! Едем!
Сандомирский воевода нисколько не преувеличивал, заверяя князя Константина, что ему по нраву острожская крепость и весь город Острог.
Сандомирский воевода любил замысловатую смесь белостенных хат, которые лепятся по склонам холмов, сочетаясь с видом грозного замка, устроенного с учётом требований европейской военной науки — с башнями, воротами, с подъёмными мостами. Даже каменные стены и рвы вокруг города приобретают здесь удивительную прелесть и привлекательность.
В этот же раз пан Мнишек подъезжал к Острогу в особом настроении и с особыми надеждами, ещё, пожалуй, не очень ясными, а потому и тайными. О сути их не мог рассказать даже самому себе.
Но вот перед ним с грохотом и лязгом цепей опустился подъёмный мост. Вот окутались дымом высокие валы — это салютуют пушки. Вот троекратно прокричали казаки:
— Слава!
— Слава!
— Слава!
Мощное эхо вспугнуло в тополиных ветвях задремавшее птичье царство. Всполошились вороны.
Однако среди надворных казаков пан Мнишек не увидел сотника по имени Андрей Валигура. Он вопросительно посмотрел на пана Стахура — тот поднял плечи. А Климура глядел восторженно.
Казаки, правда, были как на подбор. Рослые, черноусые. В новеньких, с иголочки, жупанах малинового цвета, в одинаковых шапках. Они так ловко и согласно выдернули из ножен и вскинули сверкающие сабли, что совершенно умилили высокого гостя.
Он улыбнулся из седла, давая понять, что ставит это воинство в один ряд с европейским. Что нисколько не связывает их с той дикой и страшной силой, непредсказуемой в своих намерениях и действиях, каковою воспринимаются черкасские казаки прочими вельможами, сидящими в замках в сердце Речи Посполитой...
«Народ необходимо изучать! — был убеждён пан Сандомирский, как любил он сам себя величать — по названию вверенного ему воеводства. Он был сейчас доволен собою. — С таким народом надо уметь управляться. Надо уметь использовать неуёмные силы. Этого не понять случайным правителям».
Мысли тотчас взметнулись так высоко, что иному хозяину впору их испугаться. Что говорить: нынешний польский король — один из случайных правителей. Он не понимает польского народа. А тем более народа черкасского. А ещё — московитского.
Надворных казаков князя Острожского сегодня возглавлял новый сотник, тоже молодой и бравый, но вовсе незнакомый пану Мнишеку. И это не могло не тревожить. Воевода оглянулся на карету, в которой сидела дочь Марина, мечта польских рыцарей. Молоденькая девушка высунула в окошко тонкую руку, обтянутую лёгкой тканью, приветливо помахивала встречающим. Порою она выставляла над рукою нежное лицо — встречавшие враз забывали о главном виновнике торжества, о пане воеводе. Но отца это нисколько не огорчало. Он радовался впечатлению, которое производит на народ любимая дочка.
Воевода снова задумался. Что бы могло означать отсутствие среди казаков сотника Валигуры? Возможно, сотник, отличившийся в недавней битве с татарами, стал у князя кастеляном Острога вместо старого Домуха? Всё прояснится внутри стен. Даже перед воротами княжеского замка.
Стахур держался рядом, верхом на коне. Покачивал головою в такт движениям животного. А получалось — поддакивает своему патрону.
Надо сказать, сандомирский воевода непременно чувствовал в себе какое-то беспокойство, как только ему предстояло встретиться с князем Константином. Разумеется, встретиться один на один.
Встречи же в королевском замке, на сейме, — не имели большого значения.
Конечно, волнения этого никто не в силах заметить. Даже заподозрить. Но сандомирскому воеводе втайне казалось, будто князь Острожский, киевский воевода, старейший сенатор Речи Посполитой, смотрит на него свысока. Что старик гордится своими воинскими победами над врагами Христовой веры и своей высокой учёностью, своими волынскими «Афинами», как принято называть теперь Острог в кругу учёных мужей. Впрочем, что касается учёности, Мнишека это нисколько не волновало. Если понадобится, если Бог позволит долго прожить на белом свете, то учёностью не поздно заняться и в старости. Кроме того, разве Александр Македонский, скажем, стал известным и знаменитым по причине своей учёности? Или Цезарь... Владыки помыкают учёными, а не наоборот. Так было всегда... Что же, можно будет завести в Самборе разные там академии. Стахур о том мечтает. Можно будет учредить типографию при помощи заезжих мастеров. Как сделал тот же князь Константин при помощи Ивана Друкаря, учёного московита, ставшего таковым в Краковском университете. Можно будет толковать с учёными на предмет того, что же именно хотелось сказать Цицерону или Овидию таким-то там и таким-то словом...
Пана Сандомирского беспокоила лишь возможность упустить время и условия, при помощи которых добиваются воинской славы.
Князь Константин добился её в свои молодые годы. С той поры утекло много воды. Но слава прилипает к человеку крепче родимого пятна. Она не забывается.
Подобные размышления не оставляли сандомирского воеводу даже во время весьма приятного путешествия из Вишневца в Самбор. А не заехать в Острог он не мог. Хотелось посмотреть старому князю в глаза если уж не как равный равному, то хотя бы так, как можно смотреть в глаза человеку, с которым тебе по дороге. По дороге, разумеется, которая ведёт к славе. Потому что достигнута победа. Потому что пленные татары наверняка уже пригнаны в Самбор. Как доказательство победы.
Юрий Мнишек нарочито выбрал путь, которого избегал на протяжении двух последних лет. Путь кратчайший, хотя и опаснейший. Он проложен через густые леса, наполненные разбойными ватагами. Конечно, страшны не разбойники. Страшны обвалы, реки, которые вдруг становятся неодолимыми. И выбран этот путь несмотря на то, что в оршаке — дочь Марина с прислугой и компаньонками — всего пять карет.
Надежды пана Мнишека, кажется, окончательно рухнули в княжеском замке.
Потому что встретился там кастелян Домух.
Кастелян был приветлив, как всегда. Но это уже ничего не значило. Это лишь усилило тревогу. Куда же девался Андрей Валигура?
Стахур откровенно развёл руками. Стахур завидовал беззаботному Климуре. Тому недоступны тайные тревоги.
Оставалось потерпеть. Чтобы о судьбе сотника узнать от самого князя Константина.
Казаки подвели коня пана Мнишека к великолепному зданию, рядом с Успенской церковью. Там высокому гостю было назначено остановиться. Пан Мнишек спешился при помощи ловких слуг, уже всходил на крыльцо по ослепительно красивому ковру. Он поднимался по ступенькам, на которых теснились пахолки в сверкающих широких одеждах, и вдруг оглянулся назад. Увиденное заставило остановиться: в толпе унылых бакаляров княжеской академии (здание её неподалёку от княжеских апартаментов в Мурованной веже) он узнал... Андрея Валигуру. Ошибки быть не могло. Десятка три молодых людей в серых длинных одеяниях склоняли остриженные головы теперь уже не перед воеводой, но перед его дочерью. И кланялись так, как им подобает. Но один из них, высокий, с тонким телом, с чёрными кудрями, стоял с таким независимым видом, как мог стоять только Андрей Валигура.
Пан воевода мигом припомнил свою первую встречу с этим человеком, несколько лет тому назад, тогда ещё очень юным, когда случилась беда с каретой, в которой находилась шкатулка с драгоценностями. Пан Езус, да он, Мнишек, до смерти не забудет того мгновения. Он ещё задал юноше дерзкий вопрос: «Ты пастух?» В ответ прозвучало почти гневное: «Я дворянин!» Да нет, он больше чем дворянин... Стоило увидеть ту пещеру. Теперь там нет воды...
Андрей Валигура с восхищением смотрел на Марину.
Впрочем, что удивительного?
В голове у Юрия Мнишека опять взыграли зыбкие надежды...
Встреча не могла начаться с чего-нибудь иного, кроме как с любезностей.
Гость хвалил выучку казаков. Он делал вид, будто ему ещё ничего не известно о странном превращении Андрея Валигуры. В это превращение ему не хотелось верить.
Хозяин же ответил не менее достойными похвалами полководческому таланту и умению того, кто руководил сражением, кто задумал и осуществил смелую акцию. Хозяин не употреблял никаких имён и названий. Он пользовался глаголами в третьем, отвлечённом, лице, но его воспитанность и ум покорили гостя. Это при всём том, что гость нелестно отзывается о «схизматской» вере, которую исповедует князь Острожский, — о православии.
— Надеюсь, князь, — сказал пан Мнишек, — вы достойно, со своей стороны, наградили молодого человека.
Хозяин отвечал без промедления:
— Ещё не родился на свет человек, который окажет услуги князьям Острожским и пожалуется на недостаточное внимание с их стороны. Здесь же услуга оказана государству.
— Я к тому, — попытался сгладить возможную оплошность пан воевода, — что, быть может, мне не удалось выразить в письме весомость подвига юного героя.
— Уверяю вас, пан воевода, он не в обиде. А точность ваших посланий оценят потомки. Как и весомость ваших личных воинских заслуг.
Князь при этих словах почему-то посмотрел на мраморные бюсты, которые подпирают стены его апартаментов, и гостю это понравилось. Ему показалось, будто у князя есть намерения дать указания учёным помощникам описать недавнее сражение с татарами в стихах, к тому же в стихах латинских, не иначе. Bellum, victoria, Deus...[6]
— Но, — придал наконец удивлённое выражение своему лицу пан Мнишек, — я не вижу здесь достойного сотника?
Князь напустил на себя не менее значительный вид.
— К счастью, — отвечал он, — молодой человек решил наверстать то, чего был лишён в ранней юности. Он сядет на бакалярскую скамью.
Пан Мнишек развёл руками, показывая ещё более высокий уровень своего удивления:
— И где же? В какой университет его отправляете? Краков? Падуя? Сорбонна? Надеюсь, он везде окажется достойным учеником.
Ответ прозвучал коротко, почти резко:
— Он учится здесь.
Князь указал жестом за окно. Там виднелась крыша академии. Части волынских «Афин».
После непродолжительной паузы гость спросил, стараясь быть по-прежнему любезным:
— Я восхищен его выбором. Но я уверен, что его призвание — воинская служба. Я хотел было передать ему приглашение на королевскую службу. Если, конечно, вы не станете возражать.
— Возражать не могу, — отвечал князь Константин. — Но, пан Мнишек, должен вас предупредить, что ваши труды заслуживают лучшего применения... Впрочем... Позвольте показать вам фирман крымского хана. Хан сожалеет о действиях своих подданных, которые нарушили его волю. Хан предлагает нам условия соглашения. Эти условия помогут забыть неприятное прошлое. И принудили к этому крымского владыку, полагаю, умелые действия наших войск, которыми руководили вы. Впрочем, о том рассудит король. Это послание всего лишь копия ханского фирмана.
Пан Мнишек на мгновение забыл, что вызревало в его голове относительно будущего для Андрея Валигуры.
Из Острога пан Мнишек уезжал, пожалуй, без тех надежд, с которыми стремился в этот город, зато с новыми надеждами, которые родились в его голове именно в этом городе, особенно после встречи с Андреем Валигурой.
С новоиспечённым бакаляром удалось поговорить наедине. Поговорить без спешки. Жизнь молодого человека стала теперь понятной воеводе лучше своей собственной, проведённой в вечных военных тревогах, в пирушках, пьянках, уловках да в интригах.
Вообще-то жизнь молодого казака из-за своей незначительной продолжительности укладывалась в ограниченные рамки — ему едва исполнилось двадцать лет. Он оказался круглым сиротою, совершенно без родственников. Даже лесным именьицем его управляет такой старый холоп, что не осталось уверенности, жив ли старик до сих пор. Правда, князь Острожский подарил храбрецу новое имение. Но это уже ничего не значило, если принять во внимание то, что туманилось в голове у пана Мнишека.
Молодой человек, однако, отлично помнил поучения своего отца. От отца ему досталось много книг. Книги и поныне хранятся в упомянутом лесном именьице, в старом каменном доме на берегу реки. Чтение породило мечты о Москве, которой юноша никогда не видел, впрочем, как и его умерший отец.
Пан Мнишек открыто любовался собеседником. Как умел, рассказал ему о теперешней Москве, используя услышанное от Климуры.
— Климура? — переспросил Андрей. — Что это за имя?
— Да крещён он Климом, — отвечал пан Мнишек. — А так прозвали его московские дружки. У меня теперь служит. А о Москве думает. Мечтает, мне кажется, когда-нибудь туда возвратиться.
При этих словах своих пан Мнишек заметил: волнуется его молодой собеседник.
— Я мог попасть в Москву, — вдруг припомнил Андрей. — Капитан Маржерет хотел взять меня к себе на службу. Оказывается, он уже тогда собирался в Москву. Если бы я знал...
В душе у пана Мнишека просто запело.
— А так, — продолжал Андрей, — как попадёшь...
— И какому царю служил бы? — спросил пан Мнишек. — Разве не знаешь, кто сейчас на московском престоле? На ком царская корона?
Слова попали в цель. Андрей содрогнулся. Замолчал.
Сожалея на словах, что воинство потеряет на время такого товарища, но с едва скрываемым удовлетворением, пан Мнишек приказал позвать в апартаменты Климуру. Тот пришёл вместе со Стахуром.
Андрей мог услышать рассказы о нынешней Москве из уст человека, который там вырос...
Да, уезжая из Острога, сидя в карете, пан Мнишек так многозначительно посматривал на секретаря Стахура, не говоря ему ни слова, что тот уже был уверен: вызревает что-то очень важное.
Пан Мнишек, оглядываясь на Успенскую церковь на горе, уже высчитывал, когда он попадёт на аудиенцию к королю.
А ещё думал о судьбе своей дочери Марины. Что ни говори, с такой красотою, все уверены, годилось бы носить королевскую корону...
6
Из Киева уходили вроде бы спехом.
Уходили вчетвером. Четвёртым стал инок Пафнутий. И было даже не совсем понятно, то ли его посылает игумен Елисей, то ли он самовольно покинул святую обитель.
Вставало солнце. Полнеба горело розовым пламенем. На пыльную дорогу с деревьев скапывала роса. Капли казались драгоценной мальвазией.
Всё обещало жаркое утро, не говоря уже о знойном полдне.
Уходили на запад, и Киев с западной стороны представлялся не таким, каким увидели его в первый раз, когда подступали к городу с востока. За спинами, из-за сверкающей росою зелени, выглядывали маковки церквей с крестами — и только. Кто ещё не видел Киева, а теперь приближался к нему с запада, тому не догадаться, какое зрелище раскроется перед ним с высоты Днепровых берегов.
А встречные люди торопились в Киев на ярмарку. Гнали стриженых смешных овец, вели покорных телят. За воловьими возами брели предназначенные для продажи клячи, которые предчувствовали, что их ожидает.
Отец Григорий поведал на ходу:
— По утренней прохладе доберёмся до корчмы при шляхе!
— Хорошая корчма, — вставил инок Пафнутий и опустил голову.
Отец Варлаам хранил подозрение, что спешка связана с недавней болезнью отца Григория и с довольно неожиданным его выздоровлением. Конечно, молодой человек очищается от немочи быстро, но всё же...
Отец Григорий угадывал недоумение спутников, сказать вернее — недоумение отца Варлаама. Через полверсты он добавил, что направляются они в Острог, где живёт князь Константин Константинович, который крепко держится православной веры предков.
— Оттуда легче пробраться в Святую Землю.
Последнее было сказано уже совершенно глухо.
Отец Варлаам, осеняя себя крестным знамением, краем глаза уловил, что отец Григорий вроде бы с осуждением, вроде бы с угрозой (а с укором — точно) оглянулся на верхушки золотых крестов.
Отец Варлаам начал усерднее креститься, а до расспросов всё-таки не снизошёл.
Идти было легко. Благо шли в одних рясах да скуфьях, босиком. Сапоги лежали в котомках, а зимнюю одежонку они спустили в Киеве, поскольку отец Григорий убедил, что холода ещё далеко, — к тому времени, даст Бог, оденутся как-нибудь. В придорожных садах красовались вишни. Путники, не останавливаясь, набивали зрелой сладостью рты. Делать этого никто не запрещал. Многочисленные собаки в Киеве так и норовили впиться прохожему в икры, в сапоги, слизнуть с них дёготь, которым сапоги смазывались. Здесь же, прячась от жары, собаки заботились о том, чтобы не пострадали такие ненужные сейчас хвосты.
Широкую дорогу Пафнутий называл шляхом. Шлях этот, чем дальше от Киева, становился всё пустынней. Пробирались кучки монахов, шли какие-то нищие. Ещё спешили гонцы. В полях уже вызревал урожай, потому селяне, у кого не было срочных дел на ярмарке, устремлялись в поля.
Селения при шляхе показывались всё реже, но были они крупнее, в несколько десятков хат. Однако православных церквей там почти не виднелось. В глаза бросались иногда высокие католические костёлы. Впрочем, быть может, и не больше стояло там костёлов, да были они приметней. Церкви же выглядели бедно, наподобие обыкновенных хат, только с огромными крестами над соломенными стрехами.
Надо сказать, что обещанная Пафнутием корчма показалась не скоро. Тени под ногами успели сократиться до двух аршин. Ноги уже подгибались от ходьбы. В голове начинало что-то стучать, наподобие молотков, которыми отбивают косы.
— А вот и она!
Корчма отличалась от крестьянских хат своими размерами. Точнее сказать, она была вытянутой в длину обыкновенной хатой, но сильно запущенной. Соломенная стреха зияла чёрными дырами. Окна казались чересчур маленькими. В рамах вместо стёкол были кое-где воткнуты тряпки.
Корчмарь, добродушный на вид старик с длинными усами, торчал под одним из дубов, окружавших его владения, и высматривал гостей из-под надвинутой на глаза соломенной шляпы. Стоило ему приметить, что сразу четыре босоногих путника отлепились от пыльного шляха и направились в его сторону, как он заорал благим голосом:
— А прошу! А прошу! Тутай будет вам хлеб и до хлеба! Тутай как у Христа за пазухой!
Проснулся отец Варлаам от шума. Вначале подивился, что лежит под огромным деревом на умятом пахучем сене.
— Да, — сказал, припоминая недавнее. — При корчме... А где же... наши?
Однако шум и крики заставили встать на ноги. Спутников поблизости не было. О том, что они всё-таки здесь, свидетельствовали вмятины на сене.
Кричали же сразу за кольцом растущих вокруг корчмы дубов.
Там собралось много мужиков в широких шароварах. Кто был в белой рубахе, кто — до пояса голый. Кто сверкал обритой головою с кровавыми порезами и с длинным оселедцем на макушке. У кого волосы были подрублены наподобие соломы в стрехе. Но все одинаково суетились, тузили друг друга кулаками.
Так действуют лапами коты при виде подвешенной на заборе рыбы. Люди старались пробиться внутрь толпы. Крик там стоял отчаянный. Вокруг обезумевших людей лаяли псы. Где-то ржали лошади и метался ревущий скот.
Отец Варлаам, едва знакомый с мирскою жизнью, всё же сообразил: в утробе толпы кого-то бьют! Его бросило в холодный пот. Невероятные предположения заметались в голове, и волосы на ней отделились от кожи. Непослушною рукою осенил он себя крестным знамением, высоко вскинул медный крест, который постоянно носил на груди, и закричал пересохшим горлом:
— Православны-ы-е! Что дела-е-те! Бог за каждым следит!
На него не обратили внимания. Его голос звучал комариным писком на морде ревущего быка.
Отец Варлаам в отчаянии вскинул над собою руки, уповая на помощь Бога, как вдруг у него за спиною, возле корчмы, с резким топотом копыт и скрипом колёс остановилась телега. Отец Варлаам, едва успев оглянуться, узнал бегущего отца Григория. За ним мельтешили, путаясь в одеяниях, Мисаил и Пафнутий.
Отец Григорий в несколько прыжков оказался у беснующейся толпы.
— Стой! — раздалось. — Молчать!
Сильный голос, удивительное дело, совершил чудо. Толпа онемела. В ушах у отца Варлаама зазвенело от тишины. Вместе с людьми замерли и животные.
— Что тут происходит? — властно спросил отец Григорий. — Ты говори! — ухватил он за руку самого рослого мужика в чёрной шапке и с опалёнными солнцем голыми плечами.
Мужик вертел головою, ища поддержки у сельчан.
— Да я что? Я — с людьми!
— Говори! — приказал отец Григорий таким голосом, которого отец Варлаам от него и не слышал. — А вы придержите ещё парочку свидетелей, — добавил он Мисаилу и Пафнутию.
Толпа тут же начала распадаться, и отец Варлаам увидел человека, которого убивали. Человек лежал в луже крови.
Мисаилу и Пафнутию удалось схватить за руки двух самых слабосильных сельчан, к тому же пьяненьких. Они не понимали, зачем их держат, но головы на всякий случай втягивали в плечи.
Рослый мужик между тем обречённо поведал:
— Так коней воровал... Дело известное... Сам Бог велел бить... Миром... Судьба такая...
Подошедший корчмарь подтвердил его слова. Схваченные свидетели без поддержки толпы тоже начали протрезвляться. Они уже кивали головами:
— Коней, значит...
— Коней... Всегда за такое били...
Избитого конокрада перенесли в тень и бросили на сено. Окровавленную голову прикрыли старым рядном, которое корчмарь принёс из своего овина.
— Пока от мух, — сказал. — А преставится — так глаза накроем... А там... Господь Бог решит... Всем когда-нибудь в землю...
В селе — позади корчмы, над рекою — долго не умолкал человеческий гомон. Красным колесом выкатился на небо месяц, но быстро превратился в серебристую миску, наполнил село молочным светом. И тогда оно угомонилось. Над рекою запели молодые голоса.
Мисаил и Пафнутий, намахавшись вилами при корчмаревом овине (отрабатывали харчи), молча понесли усталые тела опять на сено.
Отец Григорий, который работал не меньше их, не чувствовал усталости. Он присел на завалинке.
Отец Варлаам почти не работал, а помогал товарищам словами. Он совсем не устал, но позабыл о еде и сне. Он примостился в тени яблони. Спина его ощущала тепло древесного ствола. В разговор отец Варлаам не вмешивался, а лишь изредка осенял себя по привычке крестным знамением.
— А было их, говорят, двое, — тянул корчмарь. — Ну конечно. И я так думаю. Перехожие... Таких теперь как звёзд на небе... Сдаётся, оба у меня ночевали. Трудно признать... А что у человека в голове — догадайся. Так один, говорят, на краденом коне ускакал в сторону Киева... А этот... Может, и не виноват... Да уж схватили... Перед Богом ответ держать... Мужики злость согнали — и довольны... Сколько таких за лето перекалечат...
Отец Григорий сам ничего не рассказывал, а всё выспрашивал, сидя спиною к отцу Варлааму. Отцу Варлааму занимательно слушать ответы корчмаря. Будто книгу читаешь, в которой пишется про древнюю землю, где зародилось русское государство, но где русский дух перестал буйствовать по причине татарского нашествия. А затем пришли литовские князья. И вот, не так уж и давно, все эти земли отошли к Речи Посполитой. При литовских властях, да и при польском короле Сигизмунде II, даже при Стефане Батории, Православная Церковь не жаловалась на притеснения со стороны государства и панов, но теперь дела её пошли хуже. Особенно после того, как было принято решение о слиянии Католической и Православной Церквей. Объединение назвали унией.
Мерно струился корчмарев рассказ. Многое в его речи казалось отцу Варлааму превратно понятым. Однако отец Варлаам слушал уже краем уха. А всё более убеждался почему-то, что отец Григорий не тот человек, за кого он выдаёт себя перед людьми.
Так и задремал отец Варлаам под тёплым яблоневым стволом. А когда раскрыл глаза — всё вокруг было красным. Даже несуразная корчма превратилась в розовый дворец. Унылые дыры в соломенной стрехе казались изумрудными заплатами.
Это вставало солнце.
Уйти собирались на следующее утро, но задержались. Уж очень глянулись работники старому корчмарю.
— Озолотил бы вас, добродим, — приговаривал он. — Ну да и так не обижу. Только не уходите ещё.
Наконец изготовились в дорогу. Получили плату за труд. Уже закинули за плечи котомки. А на пороге вдруг вырос какой-то человек.
— Хрещеник ваш, отче Григорий! — всплеснул руками корчмарь.
О конокраде к тому времени совершенно забыли, вроде похоронили. А он, выходит, оклемался. Он даже сходил к реке, умылся. Только на лицо — лучше не смотреть.
Корчмарь стал наполнять кварту горелкой.
— С возвращением! — приговаривал многозначительно.
То был совсем молодой человек. Корчмарь не ошибался: он его уже видел. Пришедший явился в одних мокрых портках, облегающих крепкие длинные ноги. Руки и тело, сплошь в кровавых ссадинах, свидетельствовали об одном: Бог не обидел человека силой.
Корчмарь кивнул служке. Тот мигом выставил на стол деревянную миску с борщом, отвалил ножом скипу хлеба.
— Ешь, Божий угодник!
Однако новый гость, завидев готовых к отправлению людей, упал перед отцом Варлаамом на колени, признав его за главного.
— Святой отче! — умолял. — Христом Богом прошу: возьмите с собою! Я вам пригожусь. Я завтра уже буду в силе. А там и лицо ко мне вернётся... Я сам побывал в монастыре... Да об этом потом...
Отец Варлаам насилу оторвал от себя чужие руки. Отец Варлаам ещё никогда не слышал такой мольбы, обращённой к нему. Он покраснел и уставился на отца Григория.
Решение у того созрело мигом:
— А что? Возьмём. Не на руках ведь нести. Только идём мы не в Киев, а на Волынь.
Какое-то замешательство промелькнуло на лице у конокрада. Он запнулся, но быстро переборол себя:
— Не в Киев... Да... Мне теперь всё равно... Мне бы только отсюда вырваться... Сейчас прихвачу одежонку... В пути высохнет...
Он был прав, этот новый, уже пятый по счету, путник по имени Харько. Он пригодился.
Никто, оказалось, не мог так быстро и ловко исполнить любое намерение отца Григория. Харько и сам предлагал много необычного, но легко переносил отказы. Только отказы не мешали ему вновь обращаться с теми же предложениями.
Так получилось и с приобретением коня и повозки.
— Да сколько можем таскать на себе наши котомки? — настаивал он. — Не лучше ли шагать со свободными руками? Или сейчас приходится думать, как прокормить животное?
Ответ был понятен. Воды и травы хватало с избытком.
Так, ничего не решив, добрались до Житомира.
А в Житомире, перед воротами замка, — море народа. Как раз проходила ярмарка. На стенах замка выставлена стража. На площади расхаживают вояки в медных кирасах, со сверкающими копьями в руках. Будто здесь готовятся к войне. Будто ждут нашествия татар.
Отец Варлаам слышал, как отец Григорий полюбопытствовал:
— Не воевать ли собираетесь?
Ему почти сердито отвечал какой-то селянин, решивший продать пегую клячу:
— А чего удивляться? Опасаются паны. Где-то в подземелье здесь сам Яремака в кандалах. — И оглянулся на замок.
— Кто такой Яремака? — не отставал отец Григорий.
— Ты откуда, святой человек? — удивился мужик. — Яремака... Из ватаги... Сам атаман...
И не стал бы, пожалуй, разговаривать мужик, если бы не Харько.
Харько своё:
— А за сколько, добрый человек, отдал бы ты эту животину вместе с возком?
Мужик преобразился, но тут же выставил свои возражения:
— С возком... А на чём сам домой доберусь?
— Неужели верхом не умеешь? — сощурил глаз Харько.
— Я не умею? — взмахнул мужик руками от негодования. — Да я верхом в такое место ездил... Тебе и не снилось... — И осёкся, взглянув на замок. А там вроде бы прислушиваются часовые.
— Так за сколько? — настаивал Харько. — Чтобы сосватать, как говорится...
Мужик, сморщив лоб, назвал неожиданно смехотворную цену.
Конечно, клячу с возком они купили. Впрочем, кляча эта оказалась довольно приятным мерином, чересчур забитым своим прежним хозяином. Видать, мерин был задавлен бесконечным непосильным трудом. Теперь же, под руководством Харька, он почувствовал совершенно иные, лёгкие обязанности: тащить по шляху возок с небольшой поклажей. Мерин ожил. Через несколько дней бока его округлились и засверкали, поскольку путники не шибко порывались вперёд, а заботились больше о пропитании и кое-каких деньжатах на всякий случай.
Вскоре миновали города Звягель, Корец. И чем ближе подступали к сердцу Речи Посполитой, тем чаще у них на пути попадались грозные крепости, да всё обширнее, а стены их и башни — всё выше и мрачней, и воинские отряды, которые тоже встречались всё в большем количестве, направлялись только к востоку и на юг.
Наконец вступили в город Острог. В городские ворота прошли запросто, даже незаметно, потому что там проходило и проезжало довольно много народа, — и на них никто не обратил внимания. А вот при входе в княжеский замок почувствовали на себе пристальные взгляды казаков в красных красивых жупанах. Вошли вчетвером, так как инок Пафнутий остался с возком возле корчмы на рынке.
В замок их пропустили тоже безо всяких вопросов (сказывался вид чернечьей одежды), однако отцу Варлааму показалось, будто за ними увязался какой-то юный казачок. Они подивились красоте пышной церкви, послушали бой часов на высокой башне и хотели уже было отправиться к княжескому дворцу, чтобы узнать, как попасть на глаза князю Константину (на том настаивал отец Григорий, хотя отец Варлаам его крепко отговаривал), да их внимание привлекло красивое строение с красной черепичной крышей. Молодой человек в длинной серой одежде, которого они повстречали под деревьями, отвечал, что тут находится академия.
— Так вот какая академия в Остроге! — восторженно сказал отец Варлаам. — Я о ней много наслушался! А где здесь можно увидеть князя Константина?
— Да! — кивнул головою в знак согласия молодой человек. — А князя сейчас нет в городе. Уехал в Дерманский монастырь. А вы... из Московии?
— Оттуда, — подтвердил отец Григорий. — Из самой Москвы.
— Что? — просияло лицо молодого человека. — Как? Вы и в Кремле бывали? Вот так входили, скажем, во Фроловские ворота?.. И Вознесенский монастырь видели, и Чудов... И соборы кремлёвские... И на Замоскворечье с высоты смотрели?..
— Да ты сам в Москве бывал, что ли? — удивился отец Варлаам.
— Нет, — с сожалением отвечал молодой человек. — Но всё знаю... И как хотелось бы там побывать... В Китай-городе... Над оврагом с красными глиняными берегами... Всё стоит перед глазами... Господи!
Молодой человек закрыл лицо тонкими пальцами, удалился, ничего перед собою не видя.
Харько, слушая его слова, молчал. А когда он отошёл, то Харько ударил себя рукою по лбу, на котором уже не оставалось никаких признаков недавно приключившейся с ним беды в прикиевской корчме:
— Да это же... Это же... Андрей Валигура... Сотник... Как же он оказался в свитке бакаляра? Удивительно...
Отец Григорий бросился вослед за молодым бакаляром. Харько с Мисаилом, да и отец Варлаам, видели, как он его догнал, взял за руку, как они о чём-то заговорили, улыбаясь, размахивая руками, будто старые друзья.
7
Свиток казался бесконечно длинным.
Но слова читались удивительно легко. Их перебелила заново рука искусного писца.
Рядом лежал другой свиток. Этот был потрёпан. Местами — измят, захватан руками. В нём угадывались запахи далёких земель, через которые его несли, или везли, или бог ведает как уж доставили.
В обоих свитках совпадали все буквы.
— Прочь! — сказал боярин Димитрий Иванович Годунов.
Оставалось при чтении наткнуться взглядом на такое место, где сказано нечто совершенно чрезвычайное. С чем следует тотчас торопиться пред царские очи. Чтобы царь утешился. Чтобы пропали его сомнения. Чтобы перестал он терзать себя, раздумывая, кому отдать предпочтение среди гадателей и предсказателей, которых доставляют ему во дворец со всей Москвы. И даже из отдалённых городов и весей.
Боярин начал читать вслух.
А на бумаге стояло:
«Государь мой Димитрий Иванович! Бьёт тебе нижайше челом твой недостойный раб Парамошка, которому ты прозорливо изволил дать наитруднейшее в мире задание, от какового легко лишиться живота своего. Но и здесь, в чужой стороне, я денно и нощно молю Бога за здоровье нашего государя-батюшки Бориса Фёдоровича, да продлится его царствование бесконечно! А ещё молюсь о твоём здравии и о царских милостях для тебя.
Сам я пребываю в добром здравии. И пришло наконец время, государь мой Димитрий Иванович, чтобы я, по твоему велению, доложил тебе обо всех похождениях моих в чужих землях. Два года минуло с того далёкого дня, как твои люди по твоему разумному велению вывезли меня за рубеж нашего государства и незаметно оставили на площади перед церковью, где было много православного народа. Раскинул я тогда умишком и вдруг, без опеки моего государя, ощутил себя разнесчастным сиротою. Тамошние люди сразу обратили внимание на меня и начали расспрашивать, да так сердечно, кто я да откуда, почему плачу, как здесь оказался, что я даже убоялся, как бы не раскиснуть мне и не рассказать в ответ им чистую правду, зачем я там и куда направляюсь. Рассказал же им так, как было условлено: будто бы меня обидели в Москве, будто бы неправедно лишили отцовского наследства, оклеветали, батогами били, ставили на правёж. Наговорил, как удалось бежать. А когда показал им следы побоев, так ещё жальче мне самого себя стало. Жалели и они меня крепко. Жёнки их слёзно выли. Переночевал я там у добрых православных людей, но нисколько не сомкнул за ночь глаз, а только собирался снова с духом. Потому что одно дело — укрепиться духом в Москве, а иное — когда ты уже за рубежом. И молился перед иконами в горнице, где ночевал. И услышал Бог мои молитвы. Наутро я распрощался с хозяевами и, как в омут, опустился в новую для меня жизнь. Перестал в одночасье быть Парамошкой. За несколько дней добрался до Киева. Помолился перед его святыми церквами и уже без опасения быть уличённым во лжи — Бог простит эту великую ложь! — сказался беглецом из Москвы. Это никого там не удивило. Много бродит по Литве, а лучше сказать — по черкасским землям, русских людей, гонимых голодом, который насылает на нас за грехи Бог. Беглецов везде привечают хорошо, не в пример нам. Особенно ценят беглецов, если они из дворянских родов. Меня, в моих лапоточках и в заплатанном зипунишке, доставили к знатному киевскому пану, в очень богатый дом в Старом городе, что над Крещатой долиной. Там меня первым делом одели-обули — как болярского сына. Когда меня подвели к большому зеркалу, обставленному горящими свечами, то я сам себя не признал. Поскольку я и зеркал таких прежде отродясь не видывал, и свечей столько нигде не насчитывал прежде, то мне это зрелище почудилось вначале таким, что я заподозрил, будто вижу перед собою незнакомого важного человека, который прёт на меня, слегка покачиваясь на ногах. Я ему по глупости своей поклонился, но стукнулся лбом о преграду из стекла, то есть о зеркало. И тогда всё понял. Слуги, которые меня опекали, наверняка получили точный и очень строгий приказ. Никто не покривил в смехе своих уст, глядя на мою неловкость, кроме разве что меня самого. И никто ничего не сказал укорного для меня. Будто я, дурень, по-мудрому поступаю. На мне был уже длинный кафтан из яркого заморского сукна, отороченный светлым собольим мехом, и такая же шапка, лёгкая, словно весенняя птичка. Только лицом я был худ и потому, думаю, невзрачным показался. По этой причине, знать, зачали поить меня и кормить сытно, и когда через неделю я отъел себе хорошее лицо с тугими щеками, то меня в один день представили самому пану. Пан сидел в большой горнице и в большом кресле с подлокотниками, был с золотою тяжеленной цепью на груди, на которой висел золотой же крест. Был пан стар, лыс, худ. Мне подумалось, что это и есть воевода, не меньше. Он долго и обстоятельно расспрашивал меня о Москве, о наших неурожаях, о голоде, о наших людях, о том, что говорят в Москве про царя Бориса Фёдоровича, о слухах относительно покойного царевича Димитрия. Затем говорилось о моей прошлой жизни и о моих прошлых занятиях. Я отвечал на все вопросы не менее обстоятельно, однако только так, как было между нами условлено, как был обучен, то есть как велено было тобою. И тогда мне было сказано, что меня согласился взять на службу знатный польский пан, который гостит как раз в Киеве и которому меня непременно представят.
Так и получилось.
И вот, государь мой, живу я у этого вельможи, имя которого называть здесь не отважусь, не могу, а почему — известно тебе, так что не прогневайся. Всякое может случиться с этим посланием, а коли что — не сносить мне моей головы. Скажу только, что и ты об этом пане хорошо наслышан, потому что в Речи Посполитой он занимает высокое место и слово его здесь немало значит. С королём Сигизмундом он беседует почти как равный с равным. Потому что я сам не раз бывал свидетелем их встречи и своими ушами слышал их разговоры. Правда, не всё я понимал в беседе, поскольку употребляют они большей частью латынь, а я сам ещё не совсем её усвоил и в беглом её виде за ней не поспеваю. Но чтобы утверждать то, что утверждаю, — достаточно было бы даже просто видеть лица высоких собеседников.
Сейчас я щеголяю совсем не в том наряде, в котором был представлен моему покровителю в Киеве, но в таком убранстве, в каком принято ходить здесь очень богатым шляхтичам, а не засцянковой шляхте, как говорят здесь о бедных дворянах. Только о своём содержании теперь я забочусь сам. У меня теперь собственные имения, доходов с которых достаточно для моих нужд. Состояние моё к тому же увеличилось недавно после моего участия в войне против крымских татар-нехристей, вторгшихся в пределы Речи Посполитой неподалёку от здешней крепости под названием Каменец. По московскому нашему обычаю, я не стал прятаться за чужие спины и не ударил лицом в грязь. Я смело бросился на врага впереди отряда королевских драгун. И вообще, всё войско под водительством моего пана одержало довольно дельную победу. Правда, она не такая знаменитая, чтобы слава о ней разнеслась по другим государствам, но взяли мы много пленных. А мой пан вообразил себя после неё чуть ли не Александром Македонским, — наверное, и в московских книгах о том эллинском молодчике можно прочитать.
А сейчас опишу дела в Польше.
Мой теперешний господин до сих пор не может насытить себя расспросами и моими ответами о здоровье нашего царя-батюшки. Потому что здесь постоянно ходят слухи о его болезнях, да продлит Бог его годы до глубокой старости, на благо всем нам. Но не раз даже появлялись здесь уведомления, будто государь наш преставился, будто его убили недруги. А ещё мой теперешний господин мечтает услышать что-то правдивое о появлении царевича Димитрия, который-де избежал смерти в Угличе, остался жив, а вместо него похоронили кого-то иного. И надобно сказать, господин мой Димитрий Иванович, что подобным глупым слухам здесь верят почти все поголовно и что такие слухи здесь рождаются чересчур часто, почти каждый месяц. Иногда они кажутся настолько правдоподобными, что я даже не знаю, как на них возражать, потому что в таких случаях мой господин обращается ко мне с вопросами в первую очередь. Однако человек он умный, и убедить его в чём-то могло бы только что-то очень уж неопровержимое. В глубине души, кажется мне, он уверен, что царевича Димитрия действительно нет в живых, но для того дела, которое не даёт моему пану покоя, совершенно безразлично, явится ли здесь настоящий царевич или же придёт ловкий и богомерзкий обманщик. А дело это — подчинить нашу Русь польскому королю, подчинить нашу веру католической. Потому что здешние паны ни во что ставят веру православных людей в черкасских землях, подвластных им. Они называют её холопской, схизматской. Как будто холопы черкасские веруют не в того же Христа. Такие паны, как мой господин, готовы в любое время, думаю, поддержать ловкого обманщика.
И подобных панов в Речи Посполитой отыщется нарядное количество, чтобы тебе было известно. А так как они располагают большими богатствами, так как у них под рукою много собственных войск, которые неподвластны королю, — то опасность от них воистину велика. В число их в первую очередь нужно поставить панов Вишневецких, особенно князя Адама, который всё время ведёт споры с соседствующими московскими воеводами. К сему нужно добавить, что в этих богатых землях скопилось много праздных гуляк, не имеющих средств к пропитанию, но имеющих крепкие тела, а в руках оружие. Они объединяются в шайки и грабят людей богатых да и не очень богатых. На здешних дорогах грабежи не прекращаются. Многие здешние молодцы бегут на низ Днепра, где есть Запорожская Сечь и где принимают всех. Оттуда они делают набеги на татар, чем очень злят крымских ханов и мурз, так что последние всегда могут обосновать причины своих набегов на земли Речи Посполитой. Королевское правительство издаёт распоряжения, запрещающие казакам нападать на татар, но подобных распоряжений никто не опасается. А ряды казаков, разбойников и всяких бездельников с каждым днём умножаются, потому что в панских имениях, в дополнение к гонениям на православие, мужиков заставляют очень много работать в пользу их господ. Народ сопротивляется, и этой силы тоже надо опасаться.
Однако, господин мой, здесь немало и таких могущественных людей, которые поступают весьма рассудительно и осторожно. Они ни за что не хотят разрывать мир с нашим государем. Первым среди них хочу назвать коронного канцлера Яна Замойского. Ко мнению его, я знаю, очень прислушивается сам король Сигизмунд, который его не любит, даже ненавидит. А превыше всего на свете король польский ставит римско-католическую веру и считает сам себя вернейшим учеником и последователем Папы Римского. О том король постоянно напоминает своим подданным. Что подтверждает и папский нунций Рангони, который живёт в Кракове. Конечно, мне лично никогда не приходилось беседовать ни с канцлером Замойским, ни с королём польским, но с ними часто общается мой нынешний господин. И хотя, разумеется, не всё говорённое там он рассказывает своим приближённым, но из его уст, неожиданно для него самого, частенько сваливается нечто такое ценное, что если его собирать по крохам, да собирать настойчиво и неустанно, постоянно, то можно собрать большой и ценный каравай. Поэтому смело могу отписать тебе, государь мой Димитрий Иванович, что сейчас нету здесь такого человека, который смог бы убедить панов, будто за ним стоят в Москве какие-то силы. А коль он не в состоянии этого сделать — ему здесь никто всерьёз не поверит. Потому и все старания ничтожных людишек выдать себя за царевича Димитрия обречены на неудачу.
А. ещё забыл я упомянуть о православных здешних вельможах. Они уже начинают стесняться своей дедовской веры. И даже такой защитник православия, как князь Острожский, делает уступки католической вере. Он сам был женат на католичке, его сын Януш — католик, дочери выданы замуж тоже не за православных. Если так всё здесь пойдёт дальше, то все православные могут стать католиками, а тогда уж...
Послание же это отправляю с преданными мне людьми православной веры, которые если и способны на какой-нибудь предосудительный поступок, как-то: погулять в корчме, пропить все деньги, — то никогда не способны на одно — предать православную веру. А в твоей награде я не сомневаюсь нисколько.
Писал всё это по здравом рассуждении твой раб Парамошка, а как меня здесь зовут — ты о том узнаешь с Божией помощью. Обо всём прочем расскажу подробнее сам, если Господь Бог позволит мне возвратиться в нашу златоглавую благословенную Москву».
Димитрий Иванович Годунов с трудом дочитал всё это до конца, а дочитав, с удовлетворением улыбнулся.
Он хорошо помнил человека, который вот здесь, на этом полу, валялся у него в ногах, клялся, получал наставления, как и что надо делать за рубежом.
Удовлетворение же было вызвано тем, что можно было наконец успокоить царя. Опасности с запада пока не усматривалось.
8
Отцу Варлааму и здесь понравилось.
Нравился княжеский замок, сложенный из мощных камней. Нравился белостенный город, дома которого лепились по берегам реки. Нравилась река. До слёз волновали девичьи песни, когда мир наполнялся лунным сиянием.
Правда, неудачно получалось одно: в Киеве не довелось увидеть князя Константина. Громадный дом воеводы пустовал, что ли. Конечно, его наполняли усатые гайдуки и чубатые казаки, а при железных воротах с каменными львами торчали чужеземные вояки в медных доспехах, с перьями на бархатных шапочках и с длинными алебардами в руках. В доме, понятно, бывал сын воеводы князь Януш. Однако к нему, воспитанному в католичестве, у черкасских людей нет того почтения, какое они питают к самому патриарху черкасских князей, надежде православия. Князь Константин задерживался на ту пору в своём Остроге. В Киеве говорили, будто старик безнадёжно болеет. Стоило же отцу Варлааму со товарищи пересечь воеводство и добраться до Острога — и старый князь, оказывается, уехал в Дерманский монастырь, а оттуда — в Киев!
Оставалось ждать.
А так в Остроге странников встретили приветливо.
Отец Григорий несколько раз уже отслужил службу в местных церквах. Правда, не в главной, не в златоглавой Успенской, видной издали, в которой покоятся пращуры князя Константина, но в тех, что при рынке и на заречной людной стороне. Для Успенской он не дошёл чином и молод годами. Отец Варлаам пособлял ему. Мисаил удивлял мирян пением на клиросе, к чему, говорит, прежде не выказывал способностей. Но в этой земле всё поют. Доказательством — голоса Харька и Пафнутия.
О Святой Земле как-то не было речи. Отец Варлаам не переставал удивляться богатству почвы, в которую, говорилось, стоит воткнуть вечером прутик, чтобы наутро вымахала оглобля. Прогуливаясь без цели, он срывал с перевисающих на улицы веток яблоки и груши, мял их пальцами, но почти не ел. Он только удивлялся величине и сладости плодов. А вечером пересчитывал коров в стадах. Пыль из-под коровьих ног пахла молоком. Оно брызгало из тугих сосков. Отец Варлаам знал: подобные прогулки по нраву также Мисаилу. Инок всё реже и реже заглядывает в местные шинки.
Но сам отец Варлаам более всего любил сидеть под деревьями в княжеском замке. Из разговоров челяди ему было ведомо: приезда князя Константина пока не предвидится.
Очень нравилось наблюдать за учениками княжеской академии — их называли здесь бакалярами. Они усаживались в тени дубов и бережно листали вынесенные с собою книги. Иногда ему удавалось слышать их разговоры, если они, конечно, велись на русском наречии. Но часто бакаляры переходили на слегка шепелявый греческий — тогда он слушал с ещё большим вниманием, даже благоговением, как будто видел святых, хотя, конечно, ничего не понимал. Когда же бакаляры заговаривали на звонкой латыни — он хмурился и оглядывался. Внушённое в монастырях предубеждение относительно латыни не могло выветриться из него. Он мысленно просил прощения у Бога за свой невольный грех — слушание подобного чтения, а вечером обязательно каялся в молитвах. Впрочем, о чём говорилось по-латыни, он не ведал. Его познаний хватало лишь на то, чтобы вычленить слова этих языков — латинского и греческого.
Однако отец Григорий вёл себя совершенно иначе. И это начинало беспокоить отца Варлаама.
Отец Варлаам заметил, что отец Григорий ежедневно встречается с высоким красивым бакаляром, бывшим некогда казацким сотником, которого с первого взгляда признал Харько и назвал по имени: Андрей Валигура. Отец Варлаам убеждался, что Андрей, появляясь из дверей академии, непременно ищет взглядом своего нового знакомца. Поприветствовав друг друга, они ведут себя несколько странно. Высокий и статный Андрей как бы всем поведением показывает, что уступает по своим достоинствам отцу Григорию, что готов ему услужить. Затем они усаживаются на скамью. Причём Андрей следит, чтобы сесть обязательно после того, как уселся отец Григорий. Либо же бродят по дорожкам, оживлённо беседуя, как бывает свойственно давним друзьям после долгой разлуки.
Иногда отцу Варлааму хотелось послушать, о чём у них разговор. Вроде бы в задумчивости старался он приблизиться как-то так, чтобы подольше оставаться незамеченным. Однако его замечали на расстоянии. Его непременно окликали и старались привлечь уже к новому своему разговору.
А говорили уже о римлянах да греках. Причём не о христианах, но о тех, которые свою жизнь провели в поганстве.
Их было интересно слушать. Отец Варлаам заслушивался и много чего узнал (правда, потом приходилось замаливать грехи). Но однажды, только однажды, он уловил в их речи, пока его ещё не заметили, имя царя Бориса Фёдоровича. Имя было произнесено бывшим казацким сотником, и произнесено с явным оттенком неуважения. Они говорили, значит, о московских делах!
Однажды дошло до того, что отец Варлаам застал друзей за чтением книги, в которой, он заподозрил, стояли нерусские литеры. Отец Варлаам ухитрился в том удостовериться. Правда, увидел не то, что было выбито на страницах книги, но лишь то, что было выдавлено на её сафьяновой обложке. Литеры оказались латинскими. Они сложились в незнакомые слова — уж точно латинские, потому что польские слова он как-нибудь уразумел бы. Конечно, книгу читал не отец Григорий — при всём своём велеречии и при всех своих способностях он не знал латыни, это не вызывало ни малейших сомнений в голове у отца Варлаама. Но читал её бакаляр Андрей. Он знает латынь.
Подойдя поближе, даже участвуя в разговоре друзей, отец Варлаам внимательно вглядывался в книгу. Его утешило то, что книга издана не в европейских печатных дворах, но здесь, в Остроге.
Отец Варлаам не отважился выразить упрёк отцу Григорию, однако явственно почувствовал, что расстояние между ними как бы увеличивается, что он не испытывает уже того бездумного подчинения отцу Григорию, какое испытывал при переходе через литовский рубеж, когда блуждали в северских лесах, спасались от волчьих зубов. И что всё то, что прежде разжигало любопытство, что казалось в отце Григории таинственным, но вовсе не ущербным, не опасным, — что всё подобное выступает теперь совершенно в ином виде.
Отец Варлаам терялся в догадках. А посоветоваться здесь ему было не с кем. Мисаила он почитал человеком тёмным. Харько — не подходил по складу своего ума. А что касается послушника Пафнутия — этот крестьянский сын безумно радовался тому, что сыт, не наг, что его не заставляют тяжело и постоянно работать.
Отцу Варлааму оставалось чего-то ждать, на что-то надеяться.
Как-то ранним утром, творя молитвы в своей келье при академии, где московские странники обитали уже которую неделю, отец Варлаам услышал пение колоколов. Оно наполнило Острог благой вестью.
Отец Варлаам поспешно вышел в садик.
— Едет! — донеслось откуда-то.
Отец Варлаам увидел вместительную карету, украшенную золотыми блестками и влекомую шестёркой коней. Карету сопровождали казаки в малиновых жупанах. Над шапками у казаков сверкали оголённые сабельные клинки. Карета направлялась к Мурованной веже, в которой, отец Варлаам знал, устроены княжеские апартаменты.
Навстречу карете устремился народ.
— Едет!
— Едет!
Отец Варлаам заторопился вслед за каретой. Он сразу понял, что встречать так могут только князя Константина. Позолоченная дверца кареты раскрылась напротив крыльца, из неё неторопливо, надёжно поддерживаемый с двух сторон под руки, выбрался невысокий седобородый старик в чёрной бараньей шапке и в широком тёмном одеянии. Старик мгновение помедлил на самом возвышенном месте крыльца и помахал народу правой рукою.
Народ ликовал:
— Слава!
— Слава!
Старик неторопливо скрылся в огромных дверях, ведущих в башню-дворец.
А ещё через день московские странники уже сами входили в апартаменты князя Константина. Отец Варлаам, будучи взволнованным предстоящей аудиенцией (так в Остроге называли возможность увидеть князя Константина лицом к лицу), просил отца Григория принять на себя труды предстоящего говорения перед вельможей.
Отец Григорий с готовностью согласился, хотя было легко заметить, что сегодня у него отсутствует обычная его уверенность, что он сам чересчур волнуется, что ли, как если бы ему предстояло говорить с господином, перед которым он провинился. Отцу Варлааму всё это показалось немного странным, и он с завистью посматривал на Мисаила, которого предстоящее нисколько не задевало. Мисаил блаженно улыбался, надеясь на благосклонное отношение князя Константина, на его милости, — так водилось издавна. А богатства князя Константина знаемы не только здесь, в Речи Посполитой.
Тревоги отца Варлаама оказались вроде бы напрасными. Потому что стоило им пройти сквозь обильную стражу из казаков и даже из чужеземных вояк в медных доспехах (точно таких они видели при киевском княжеском дворце), стоило вступить по красному ковру за высокую дверь, которую охраняли эти чужеземные вояки, — как они втроём оказались уже под опекой пахолков в белых струящихся одеждах. Отцу Варлааму почудилось, что из мира войскового они мгновенно перенеслись в мир монастырский.
Князь Константин сидел в кресле с высокой спинкой цвета небесной лазури. Крупная лысая голова вначале показалась вошедшим искусно написанной красками на лазурном фоне, тем более что князь продолжительное время всматривался в лица вошедших. О том, что перед ними живой человек, а не парсуна, свидетельствовало шевеление волос в седой бороде.
— Московские духовные люди, — тихо напомнил князю пахолок.
Оживился старый князь, лишь когда с его позволения разговорился отец Григорий.
Князь расспрашивал о царе Борисе Фёдоровиче, о московском голоде, ниспосланном Богом за грехи, о слухах в народе. Становилось совершенно понятно: он тревожится за судьбу Московского государства и его людей.
Отцу Варлааму всё это настолько пришлось по сердцу, что он совершенно позабыл о своей робости и разговорился с князем не хуже отца Григория. Так, по крайней мере, показалось ему самому.
А уж отец Григорий превзошёл самого себя.
В ходе беседы, когда гостям было дозволено осмотреть княжескую библиотеку, князь велел пахолкам показать все книги, которые были выбиты в его типографии, в том числе и те, которые изготовлены московским друкарём Иваном Фёдоровым, сбежавшим в своё время от царя Ивана Грозного и нашедшего приют в Остроге.
Отец Григорий попробовал было направить разговор на слухи об убитом царевиче Димитрии, но князь не дал ему о том говорить. Он заговорил о своей академии. Отец Григорий сумел поддержать и такой разговор. С его уст слетали имена разных учёных людей, о которых отцу Варлааму не приходилось слышать. Ему лишь теперь полной мерой открылась польза от бесед и общения отца Григория с бакаляром Андреем.
Довольный гостями, князь Константин велел пахолкам подать ему одну из книг, осмотрел её и сказал:
— А вот эту — дарю вам!
Он протянул книгу отцу Григорию. Тот просиял лицом. Прижал книгу к груди и наговорил много благодарностей.
Одним словом, всё шло хорошо. Отец Варлаам успокоился совершенно.
Однако, оказалось, успокоился рано.
Они уже уходили, окрылённые милостью князя, но отец Григорий под каким-то предлогом остановился и попросил дать ему возможность ещё раз предстать перед князем. По красному ковру пахолки вывели только отца Варлаама и Мисаила и передали их под надзор казаков.
После множества впечатлений отец Варлаам и Мисаил не знали, о чём можно говорить. Усевшись на скамейку перед входом в княжеский дом, они вслушивались в неторопливые разговоры казаков, в споры буйной многочисленной челяди. Следили, кто и как подъезжает к княжескому дому.
Каково же было их изумление, когда они увидели, что гайдуки ведут отца Григория за руку. Волосы на его голове были сильно растрёпаны, лицо раскраснелось, просто горело, как если бы его поймали на воровстве. Как если бы он перед тем было вырвался и убежал, затем отбивался от погони.
— Что такое?
— Что случилось?
Отец Варлаам хотел прокричать свой неотступный вопрос. Он был готов броситься на выручку. Но какая-то сила удержала его на месте. Какой-то голос властно посоветовал: сейчас лучше промолчать.
Отец Варлаам ухватил Мисаила за полу длинной рясы, потому что Мисаил, с разинутым ртом, действительно устремился было спасать отца Григория. А так как сил у Мисаила оказалось больше, нежели у отца Варлаама, но отец Варлаам превосходил его по рвению, то они оба не уступали друг другу и оба свалились на землю под хохот казаков. Казаки же вовсе не обратили внимания на то, кого ведут гайдуки, куда и зачем. Казаки видели двух дерущихся, следовательно — пьяных монахов.
— Поддай ему, батя! — подначил кто-то.
Подначку поддержали:
— За волосы его!
— Под зад лягни!
— Ха-ха-ха! За волосы!
Отца Григория отыскали уже за пределами замка.
Он стоял как ни в чём не бывало. Но так только казалось. А в самом деле он дрожал от негодования. И всё же рассказывать ни о чём не стал, лишь промолвил:
— Мы должны уйти.
Отец Варлаам тут же понял, что в княжеских апартаментах за то короткое время, пока отец Григорий там находился, возвратившись, произошло что-то невероятно плохое. Отцу Варлааму сразу пришло на ум, будто нечто подобное могло случиться и в Киево-Печерской лавре. Однако он понял, что сейчас не время расспрашивать и не время отвечать.
Гайдуки, а их было с десяток, которые вывели отца Григория за пределы замка, не уходили. Они преграждали дорогу назад в замок, но тоже ничего не говорили. Вид их свидетельствовал об одном: они ждут, когда монахи уберутся.
— Мне необходимо предупредить своих друзей, — надменно сказал отец Григорий гайдукам, предполагая их сопротивление, что ли. А гайдуки согласно закивали головами.
Мисаил тут же побежал в замок и возвратился через непродолжительное время.
Следом за ним шли Харько, Пафнутий и... бакаляр Андрей.
На берегу реки вскоре запылал костёр.
Пафнутий с Мисаилом готовили ужин — запах рыбы разносился по зелёному лугу. Отец Григорий и бакаляр Андрей обсыхали после рыбалки. Они старались не упустить лучей уходящего на покой солнца. Харько без устали горланил неизвестно кому, что он правильно поступил, не согласившись продать коника и возок.
— Как бы мы теперь, а? А так и сеть у нас, и котёл... А рыбы и всего прочего — бери... Лето.
Никто, кажется, кроме отца Варлаама, не горевал, что из Острога придётся убираться.
Отец Варлаам сидел на берегу и смотрел, как за городом, в лесах, прячется солнце.
Отец Варлаам не стал даже ужинать, чем удивил своих спутников. Он готов был расплакаться. А когда над рекою раздались грустные девичьи голоса — он в самом деле расплакался, не стыдясь.
— Бедная моя голова! — повторял он. — Господи!
Что же, он надеялся перезимовать в этом городе.
Надеялся отдохнуть под конец жизни, забыть об обидах, которые претерпел от злых людей. А его спутники, сплошь молодые, желали постоянных перемен. Что же, гусь свинье не товарищ. Не по дороге ему с ними. Да как о том скажешь?
Отец Варлаам всю ночь провёл без сна. Он догадывался, как неспокойно было на душе у отца Григория. Отец Григорий поднялся раньше всех. Заботливо подгрёб сено, на котором спали товарищи, спустился босиком к воде. Попробовал её кончиками пальцев левой ноги и лишь тогда заметил, что отец Варлаам тоже не спит.
— Куда мы теперь? — не удержался от тихого вопроса отец Варлаам.
— В Дерманский монастырь, — махнул рукою по течению реки, в сторону севера, отец Григорий. — Или в Гощу. Там тоже монастырь. Пан Гойский завёл.
— К арианцам? К еретикам?
— Авось не съедят. Посмотрим. Бог-то один.
Говорили тихо, а всё равно разбудили спутников.
Те зашевелились на сене, но не поднимались.
— Отец Григорий! — вдруг сказал отец Варлаам. — Признайся мне, ради Бога, что случилось в княжеском замке?
Он думал, что отец Григорий отделается замысловатой поговоркой. Но отец Григорий ответил очень внятно:
— Я сказал князю, кто я на самом деле. А он рассердился.. .
Отец Варлаам хмыкнул:
— Да кто же ты? Чай, не злодей перенаряженный. Чернец-диакон...
— Нет, отец Варлаам, — очень быстро и резко отвечал отец Григорий. — Я — природный московский царевич Димитрий Иванович!
Это услышали все.
Первым побуждением отца Варлаама было рассмеяться шутке, но что-то снова подсказало ему, что это не шутка. Никаких признаков смеха не увидел он на лице отца Григория. Тогда он перевёл взгляд на прочих спутников.
Услышанное явно не произвело того воздействия, какого ожидал отец Варлаам. Он ещё и ещё обводил глазами спутников, не в силах что-нибудь сказать. Очевидно, бакаляр Андрей знал уже эту новость прежде. Да конечно же, знал, осенило отца Варлаама. Иначе чем объяснить подобострастие и благоговение, с каким он вслушивается в речь отца Григория? Мисаил и Пафнутий, очевидно, и так считали отца Григория не ниже чем царским сыном. Слова последнего ими восприняты как подтверждение прежних предположений. Харько почесал в затылке и только улыбнулся плутоватой улыбкою, которая, правда, вдруг на мгновение озарилась вопросительным выражением: а не переменится ли после этого что-нибудь в его нынешней жизни?
И только он, отец Варлаам, был поражён услышанным. Поражён настолько, что по истечении длительного времени, когда все уже позавтракали, когда все заговорили весело и беззаботно, как будто ничего не произошло, когда все уже бодро шагали вслед за возком, управляемым Харьком, — он и тогда не мог ещё ничего сказать. И лишь когда за лесом окончательно скрылся город Острог, когда рядом оказался почему-то отец Григорий, отец Варлаам попросил еле слышным голосом:
— Отпусти меня в монастырь, отче... Нет мочи ходить...
Отец Григорий, не глядя, кивнул головою.
9
Над ухом прошелестело юным голосом:
— Сестра! Пора в трапезную, видит Бог...
Отроковица, видать, вступила в келью неслышными шагами. Словно ангел.
И снова ни скрипа. Ни звука из длинных сумрачных сеней. Если не считать песенок запечного сверчка. Да жужжания единственной мухи.
Новая послушница, тоненькая телом, но крепкая костью, исчезла так же неслышно, чтобы возвратиться через мгновение ока.
И снова:
— Сестра? Аль сюда притащить?
А за толстыми стенами буйствует рыжая теплынь.
Это чувствует рвущаяся на волю муха.
— Нет, милая, сейчас...
А в голове — кружение. Чёрное с красным хватают друг друга за грудки.
А в поясницу — острыми ножами.
— О Господи! Ножи... Ножики!
И на каждом шагу, в каждое мгновение — удары молотка по вискам.
— Дак матушка-игуменья в беспокойстве... Велено спросить умело...
Послушницы менялись через каждый, почитай, месяц. Если не чаще. Не успеешь привыкнуть к голоску — ан уже новая смотрит ангелочком. Видать, где-то там, в отдалённой Москве, враги-супостаты и поныне не знают для себя покоя. Боятся, что инокиня Марфа войдёт в сговор с черницами и совершит побег из своей обители.
— Куда? Из Выксинского монастыря? Через леса и болота?
Послушница в слёзы:
— Бабушка! Я — как велено...
— Да не тебе, бедовая! Врагам моим слово брошено!
К тому же эта сутолока рыжего света и серого полумрака.
Уж лучше постоянная смена дня и ночи. Как в Москве. Как в батюшкином доме. Как в Угличе...
— Углич! Углич... Снова не тебе, болезная...
Простая смена дня и ночи даёт твёрдое понимание, что время за окнами кельи не остановилось. Что Бог всё видит и каждому воздаёт по заслугам.
— Углич...
Правда, смена дня и ночи ничего уже не значит. Кроме, пожалуй, одного: чем больше случится мельканий темноты и света — тем скорее предстанешь перед взглядом Того, Кто раскроет тайну, истерзавшую душу. Тайну, которая стала невыносимой тяжестью с того самого дня, как довелось увидеть посиневшее личико, такое безжизненное и такое страшное.
— Иду сейчас, милая... Без людей нельзя...
В просторной трапезной матушка игуменья проткнула вошедшую взглядом, но не сронила с уст ни слова. Усохшие руки равномерно перебирали на груди сверкающие каменьями чётки.
Но здесь было подобие земной жизни. Здесь раздавались звуки, напоминающие о потребностях человека. Ложки черпали жидкость. Чьи-то губы постоянно дули на горячее... Что-то говорили...
А когда последовали на общую молитву, то новая послушница (второй день в обители, призналась, из Москвы привезли) по доброте душевной, чтобы сгладить неладное о себе впечатление после первого знакомства, сказала тихонечко, да участливо:
— Бают-де, сестра, как будто за морем прежний наш царевич Димитрий объявился. Меня не видели при разговоре, да я выслушала... — и закричала вдруг, уже беззвучно для инокини Марфы, по-голубиному открывая молодой белозубый рот...
Очнулась инокиня Марфа не под низким потолком своей мрачной кельи, из которой чаяла перейти когда-нибудь в тесный гроб. Лежала на кровати под высоким потолком, в просторной палате с красивым, в драгоценных каменьях, кивотом и с большими окнами, где сияли разноцветные стёкла.
Плавился воск свечей и непрерывно качался удивительный благостный свет — будто переливался старый мёд в тёмном стеклянном сосуде. Подобное помнилось ещё по московскому батюшкиному дому.
— Тебе легше, сестра? — зависло над нею морщинистое лицо с такими древними полинявшими глазами, что дух забило. Будто в глубокий колодец зыркнула. — Ты можешь говорить?
— Могу, матушка.
— Зови меня сестрою, — напомнила старица. — Столько лет провела в обители, но отвыкнуть не можешь. Держит в когтях старое...
— Не забыть, матушка. — И тут же поправилась: — Не забуду, сестра моя.
— Забудь... А Бог тебя не забудет... Сейчас тебе легче станет. Испей вот этой водицы...
В Угличе когда-то приснился сон: будто рука её гладит котёнка. Сон повторился и в следующую ночь. Котёнок выглядел точно так же, как и тот, которого она помнила ещё с детства, видела в доме батюшки. И как она рыдала, когда сенные девушки в слезах, наперебой, рассказали ей, что котёнок убит на кухне поленом, которое неловкий поварёнок швырнул в проворного таракана. Она поведала о ночных наваждениях мамке Василисе Волоховой, а та побледнела. «Плохой это сон», — только и услышала от мамки. Рассказала своим братьям — те задумались. Вроде что-то знали, а открыться не могли, не смели.
Да ей-то что? Боялась одного: дрожала над сыном.
А он рос буйным и отчаянным. И ей становилось ещё страшнее. Таким она представляла себе по рассказам в девичестве царя Ивана Васильевича.
И трепетала при воспоминаниях о словах брата Михаила, когда тот, завидев её в Христов праздник идущей с сенными девушками к заутрене, воздел в удивлении к небу руки в золотых рукавах: «Машка, да ведь попадись ты на глаза царю Ивану, когда он задумает жениться, — и быть тебе царицею на Москве!» И как в воду глядел...
И когда это сбылось, когда её внесли после венца в царскую опочивальню, в сенник, когда её ухватила прямо за грудь холодная, но сильная костлявая рука — она лишилась чувств... И лишалась их каждый раз, несмотря на молитвы Богу, когда её приводили в эту опочивальню.
Только подобное длилось недолго. Она понесла с первой ночи, и когда это стало предметом царских хвастливых разговоров — царю было впредь достаточно иных девичьих тел. Она лелеяла своё бремя, очень справедливо догадываясь, что ребёнок может оказаться первым и последним, вышедшим из её лона. Она денно и нощно клала поклоны перед иконами, чтобы Бог даровал сына. И молитвы были услышаны.
Когда родился сын Димитрий — с того самого дня для неё перестало существовать всё иное в мире. Пусть Бог простит, но её не очень тронула ни весть о смерти старшего царевича Ивана, наследника престола, ни даже весть о кончине самого страшного грешника, Ивана Васильевича.
Она с трудом поняла, что слабое здоровье царя Фёдора Ивановича, вступившего на престол, открывает перед юным Димитрием прямую возможность стать царём, — так толковала мамка Димитрия, Василиса Волохова.
«Матушка-царица, береги его от дурного глаза! — твердила Василиса. — Береги от дурных людей. Как бы Борис Фёдорович не задумал злого, — говорила она о правителе Борисе Годунове, царёвом шурине. — Ведь о престоле мечтает...»
А всё уже шло к опасности. Царица Ирина, сестра Бориса Годунова, напрасно тщилась выносить в своём чреве ребёнка. У царя Фёдора Ивановича всё меньше оставалось надежды сделаться отцом.
Л в Угличе, в удельном княжестве, рос мудрый царь. И она, мать, начала в это твёрдо верить. Потому что в это верили её братья. Они мечтали о том времени, когда будут окружать престол племянника. Мальчик страдал, правда, падучей болезнью. Но знахари твердили, будто это он перерастёт. Что подобное творилось и с покойным царевичем Иваном, его старшим братом. И тот — перерос. Они говорили, а в материнском сердце ширились розовые надежды. А болезнь спешила доказать своё.
В те весёлые весенние дни в Угличе вздохнули в надежде.
Она, мать, измученная бессонными ночами, побывав вместе с сыном у обедни, отпустила его погулять, в заднем дворике вместе со сверстниками, а сама с братом Андреем села обедать в верхней горнице. О Господи! Лучше бы она страдала голодом до конца своих дней! Едва раздался со двора крик, она, так и не вникнув ни тогда, ни впоследствии в слова, уже поняла смысл того крика: совершилось самое страшное...
До сих пор она помнит только одно: у няньки на руках покоилось сыново тельце. Плетями, безжизненно, свисали вниз тоненькие руки в оковах золотых парчовых рукавчиков, а с длинных, закурчавленных в кольца лоскутков волос скапывала чёрная кровь... Она потом колотила поленом по голове мамку Волохову, под звуки громового колокола, который сзывал угличан. Она выкрикивала имена убийц, видела ручьи новой крови. Она сидела день и ночь у гробика. И всё же не могла поверить, что это её сын. Будто в гроб положен кто-то иной. Будто убит не Митя.
А затем последовало наказание. Все Нагие, в том числе и она, мать, в девичестве Мария Нагая, оказались обвинёнными в измене царю Фёдору Ивановичу. Они, дескать, поднимали в Угличе восстание.
А кто бы мог удержать людей от мести убийцам? И город Углич теперь в разорении. Жители кто казнён, кто бит батогами и сослан в Сибирь. И даже колокол, говорят, который булгачил народ, отправлен туда же.
Она равнодушно пропускала мимо ушей какие-то толкования комиссии во главе с присланным боярином князем Василием Ивановичем Шуйским о каком-то ноже, которым Митя-де зарезал сам себя... Этого быть не могло.
Она терпеливо дожидалась, когда у изголовья появится белокурая послушница, поведавшая неожиданную и желанную весть. Потому что уже не единожды склонялась к мысли: в гробике, возле которого сидела столько дней и ночей, лежал не сын. И личико, которое омывала слезами, было не его. Именно из-за слёз она не могла его разглядеть. Её сводил с ума замогильный цвет этого лица. Она не придавала первоначально этому никакого значения, будучи подавленной случившимся, как и не придавала никакого значения всему тому, что с нею делают, куда и зачем везут, зачем переодевают, зачем помещают в полутёмную келью и велят отныне называть себя сестрою Марфою. Но образ сына, которого она помнила отчаянным мальчишкой, она никак не могла связать с неподвижным синим трупиком, лежавшим в пышном золотом гробике. И когда он начал являться ей во сне, всё такой же, по-прежнему неудержимый, — это чувство, что в гробу был не он, усиливалось против её воли, вопреки её пониманию. Ведь достаточно было открыть глаза, взглянуть на своё одеяние, на помещение, где она находилась, послушать тишину, нарушаемую мощным звоном, который в келью проникал очень невыразительно, — и понять, чем вызваны эти страшные перемены в жизни.
Она усердно молилась Богу. Первые месяцы не вставала с колен, кожа на которых огрубела и стала каменной, равно как и кожа на локтях. Она умоляла Бога послать ей успокоение, дать возможность поскорее свидеться с сыном на том свете.
Но в сознание нет-нет да и начинало снова закрадываться страшное сомнение: а что, если она умрёт, если сойдёт в загробный мир и только там узнает, что сын её остался здесь, что её обманули? Зачем? Кому это понадобилось?
Лёжа на жёсткой монастырской постели, она начинала перебирать в памяти свою давнишнюю жизнь и начинала примечать туманные давние полунамёки братьев, что хорошо-де было бы иметь при угличском дворе похожих лицом на царевича мальчиков, что так всегда водилось при царских дворцах, что и у царя Ивана Васильевича было несколько таких человек, которых он даже посылал вместо себя показаться перед боярами, а то и перед чужеземными послами, — и никто ничего не заподозрил.
Тогда она воспринимала подобное как забавные рассказы, вроде тех, какие вслух читали приставленные к царевичу учителя. Она не задумывалась, не примеряла услышанного к Мите. Но здесь, в келье, она начинала отыскивать в прошлом что-то новое и новое. И ей уже казалось, будто неспроста получалось так, что мальчики при угличском дворе, взятые для игр и забав с царевичем, были как две капли воды на него похожи и что неспроста у него вдруг появилась болезнь, о которой она ничего не подозревала прежде, пока он был маленьким.
Она частенько вскакивала с постели даже в те редкие минуты, которые выпадали для отдыха, и, задыхаясь, спрашивала у Бога:
— Господи! Подай мне знак!.. — и бросалась к свечам в углу, которые обливали жёлтым светом Божий лик.
А то старалась забыться во сне, чтобы снова увидеть дорогое подобие, чтобы услышать обещание надежды из Божиих уст.
Только всё тщетно.
И вот сегодня она услышала эти слова.
Это были они. Надо было понять. Надо было поверить.
Но из чьих уст это прозвучало?
Она наконец не сдержалась и спросила у старицы, где же новая послушница, которая была у неё в келье сегодня утром. Старица сначала сделала вид, будто ничего не расслышала. Но когда, спустя какое-то время, вопрос был задан снова, то старица посмотрела на неё с выразительным удивлением.
— Да что ты, сестра? — сказала старица. — Не было у тебя в келье сегодня никакой послушницы. А только ещё будет. А пока поспи... И Бог пошлёт тебе выздоровление...
Однако она не хотела оставаться в чужой просторной палате. Через непродолжительное время она попросила отпустить её в свою келью и ещё по дороге туда задалась вопросом: а знала ли юная послушница, кто скрывается под именем инокини Марфы? Нет, отвечала сама себе. Здесь об этом никто ничего не знает, кроме, наверное, самой игуменьи. Ничего не знает и эта старица. А может, игуменье тоже ничего не известно?
Была ещё надежда, что старица что-то перепутала, что юная отроковица появится снова в келье, стоит лишь туда войти, улечься на постель и закрыть глаза. И тогда всё прояснится.
Однако она вошла, успела прочитать перед иконою святого Николая несколько молитв, и дверь действительно отворилась, и вошла послушница.
— Матушка игуменья велела спросить...
Но это была незнакомая послушница.
На вопрос, где же находится та послушница, которая была здесь сегодня утром, эта громогласно отвечала, что сама она здесь новенькая, что она здесь ещё никого не знает и потому ни на что ответить не может, но готова услужить не хуже прочих.
— Ступай, милая, ступай себе с Богом, — сказала инокиня Марфа.
Ей нужно было понять, кто же подал такую драгоценную весть, которую от неё хотят скрыть, даже сейчас.
Но весть такую послать может только Бог!
И когда послушница удалилась, инокиня Марфа поспешно опустилась на колени, подняла глаза горе и громко сказала:
— Благодарю тебя, Господи! Мне теперь понятно, зачем я ещё живу...
В её мыслях снова кружилась Москва.
10
В киевской корчме, при шумном Подоле, под высокими тополями с пыльной листвою, коваль Свирид окинул коней взглядом и с пониманием покачал головою:
— Что же... Всё сейчас сделаю, — а дальше посоветовал: — И всё же вам лучше спуститься туда на плотах. Кони долго в себя приходят. Коню нужен отдых.
Андрей Валигура задумался. Отец Григорий принялся расспрашивать:
— Да как это лучше сделать? Чтобы на плотах по Днепру?
Он был уверен: люди перед ним не станут кривить душою. Не соврут.
— Главное — без задержки! — напоминал отец Григорий. — Чтобы побыстрее. Чтобы кошевого застать, пока в море не ушёл. Мне Герасим Евангелик говорил.
Коваль расхохотался:
— Без таких молодцов не уйдёт! А плоты Днепро донесёт до Канева. А то и дальше. Оно и безопасней по воде. Если встретится кто с оружием, так только казаки. А коней вам лучше продать. Потому что на Сечи таких огирей увидите, что эти вот меринами покажутся. Знаю... Кошевой вам поспособствует. А что касается плотов — так кум Опанас туда их через день спускает... Есть у него такие плотари... Он наилучшего отправит...
Андрей Валигура и сам ведал: коники эти, на которых добрались до Киева, очень выносливы, да ни один из них недостоин ходить под высоким седоком. К тому же после утомительной дороги ненадолго хватит этих коней. В новой дороге, конечно, они не свалятся, но случись неожиданность — так не унесут от беды.
А очень хотелось Андрею поскорей да побезопасней доставить отца Григория на Сечь. Впрочем, как и остальным его спутникам. Только никто ничем не мог помочь. Ни Харько, ни Мисаил, ни Пафнутий.
Андрей вспоминал дорогу от Кременца до Киева и проникался страшным удивлением: да как же люди не понимают? Как нутром не почувствуют, кто находится рядом? Стоит только пристальней посмотреть на этого человека, когда он сидит в седле! Господи! Даже на таком невзрачном коне, на котором ездил ледащий какой-нибудь казачок при панском дворе. Да сам гетман на лучшем своём жеребце так не проскачет!
Отец Григорий дальше сучил разговор со старым ковалём, который хитро посматривал то на собеседника, то на Андрея, то на Харька с Пафнутием, то на Мисаила и вроде бы догадывался, что имеет дело не с простым ловким казаком, но с человеком знатным. Нужда хоть кого заставит отправиться на Сечь. И казака, и шляхтича, и православного, и католика. Всякого.
А перед глазами Андрея снова стелилась дорога от Корца через Звягель и Житомир. Зримо вставали замки. Андрей знал: отец Григорий уже топтал эту дорогу своими ногами... Андрей тоже не раз бывал на ней, да удивления своего ему ничем не измерить.
Отец Григорий воспринимал всё так, будто сызмальства знал на той дороге каждый камешек и каждое при ней деревцо. И люди, управлявшиеся в полях с плугами да волами, завидев его глаза, сразу становились разговорчивей и доверчивей, Отец Григорий расспрашивал, они отвечали. Вопросы были такими замысловатыми, что Андрей иногда не улавливал, чем их объяснить, каким таким интересом отца Григория? Здесь ему не царствовать.
И опять же: такого человека не смог понять, не поверил ему князь Острожский? Невероятно. Да нет же, думалось Андрею, понял князь Константин Константинович, кто перед ним. Почему-то надо было сделать вид, будто ничего не понял. Зачем? Не хочет способствовать смуте в Московском государстве? Могло быть и так.
Только как же? Злодей сидит на московском престоле, когда истинный царевич, сын Ивана Грозного, скитается по миру? Когда настоящий царевич, сядь он на престол, в состоянии помочь убогому и сирому? Сможет организовать отпор татарскому нашествию... Как же будет князь Константин держать ответ перед Богом?
Отец Григорий тем временем, выспросив у коваля всё нужное, посмотрел на Андрея, понял, что Андрей выслушал этот разговор и со всем согласился. Что для Андрея нет неясностей. Отец Григорий улыбнулся по-дружески и направился в корчму. Оттуда не раз уже выглядывала полногрудая корчмарка. Все прочие спутники, подвесив коням торбы с овсом, направились следом.
Старый коваль, видя, как Андрей замешкался возле коня, поманил казака чёрною рукою.
— Что это, казаче, за человек такой? — спросил, хитро посматривая. — Говорит обыкновенными словами, а вместе с тем чувствуешь, как он землю под тобою на три сажени видит. Не характерник, часом? Конечно, на Сечи не дураки. Но предупредить надо...
Андрей даже обиделся от такого предположения. А потому захотелось удивить старого человека:
— Это московский царевич Димитрий Иванович! Только вам говорю...
Андрей ждал, что старик недоверчиво поведёт усами, подмигнёт бровью: дескать, не впервые нам такое здесь слышать, приходилось даже видеть подобных царевичей, а где они?
Но старик опустил руки и глухо сказал:
— Ишь ты... Человек действительно не простой... Господи, помоги мне и моему куму Опанасу, коли так... Это очень может быть...
Кум Опанас оказался таким же пожилым человеком и с такими же длинными усами — как и сам коваль Свирид. Только глаза его неспокойно бегали под насупленными бровями — словно полевые мышки под клочками оставленной в поле соломы. Он был весь наполнен непонятной тревогой. И это сразу заметил Андрей. Андрей даже хотел выплеснуть своё подозрение перед отцом Григорием, да тот, словно лично ему здесь нечего беспокоиться, улыбнулся старику в ожидании дальнейших слов.
— А что, Панове казаки, — не заставил себя ждать старик, — я согласен... Не впервые. На Сечи молодцы всегда нужны... Сам я когда-то со Свиридом-ковалём, который вас направил, на Сечи все ходы-выходы знал. Если бы не старость. Да что говорить...
— А мы уже готовы, — перебил Андрей. — Мы хоть сейчас...
— Ну, и завтра ещё нельзя... Я плотарей своих подготовить должен. Есть у меня такой Каленик, так завтра сюда прибудет...
И снова стариковы глаза забегали полевыми мышками.
«Уж если кто и характерник, — подумалось Андрею, — так вот он!»
— Жаль! — сказал отец Григорий. Но делать было нечего.
Путники переночевали в старом овине на берегу Днепра. Спали под шум бегущей воды. Проснулись поздно. А когда осмотрелись вокруг, то с удивлением поняли: ночью либо утром несколько плотов, стоявших у берега, исчезло.
Андрей отправился к Опанасу разбираться, что бы это могло означать. Старик отвечал, не глядя в глаза, что да, отплыли некоторые плоты — на них негоже плавать московскому царевичу.
— А вот завтра, — добавил старик, — сам Каленик вас повезёт. Он курень готовит. Если дождь будет. Да и от солнца курень спасёт.
На рассвете следующего дня их разбудили молодые плотари. Гурьбою спустились вниз, к воде, которой не было видно сквозь туман. У самой поверхности воды туман сгущался, так что приходилось по голосам узнавать, где кто находится.
Плотари своё дело знали крепко.
Чей-то низкий голос прорычал:
— Го-го! Прощайтесь с Киевом, казаки... А кто у вас царевич, как бы это без обиды у вас спросить?
Что-то неприятное послышалось Андрею в этом вопросе. Он даже пожалел, зачем открылся вчера перед ковалём Свиридом. А вдруг дойдёт до вражьих ушей?
Но отец Григорий ничего не опасался.
— Это я, — просто и коротко ответил он сам. — Да только этого всем не надо говорить.
В тумане ничего ещё не было видно, но Андрей понял — отец Григорий улыбнулся. Спросивший голос, который исходил от грузного человека (вокруг него колебался туман), неожиданно потеплел:
— Ага... Понимаю... А я — Каленик. Слыхали?
Вскоре путники оказались на середине Днепра.
Туман прилипал к берегам, и на плоту уже можно было разглядеть всех плотарей. То были дюжие молодцы в коротких серых свитках из грубого полотна, в высоких сапогах и бараньих шапках. Под стать им выглядел и сам Каленик.
Каленик высился на мешках с товарами. Мешки занимали половину поверхности всего плота и были покрыты для надёжной защиты воловьей кожей. Воловьи кожи служили также крышей для куреня — не обманул старый Опанас.
Казалось, плотарям не предвиделось больше никакой работы, как только привести плот в движение. Они для приличия не расставались с длинными шестами, чтобы время от времени опускать их в воду. Мощное течение и без их вмешательства делало свою работу, унося плот всё дальше от Киева. Селения, которые вначале прямо-таки облепляли берега, вдруг перестали почти совсем показываться. Берега по правую руку вздымались высокие, были покрыты лесами, а по левую — тянулись низменные, луговые. Плотари почувствовали себя неуютно в присутствии чужих людей. Они уселись в передней части плывущего сооружения, затянули песню:
Ой, у полi вiтер вie...И так продолжалось, можно сказать, без конца. Разговорить этих людей, к удивлению Андрея, не мог даже отец Григорий. По приказу Каленика плотари довольно часто причаливали к берегу посреди дня (ночью плот вообще вытаскивали наполовину на сушу).
А причаливали там, где указывал Каленик. Однако в безлюдных почему-то местах. Каленик перед тем пристально всматривался вдаль. Он следил, не вздымается ли где облако пыли.
На сушу тащили большой котёл, варили на костре кашу из пшена и заправляли её старым жёлтым салом. Когда каша упревала — первым ложку получал отец Григорий. Затем такие же орудия вручались прочим гостям. Плотари запускали ложки в котёл последними, зато дружно и быстро. Для безопасности, чтобы ничего не свалилось на головы гостей, подставляли под еду широкие ладони и время от времени сами отчаянно шипели, словно кошки, стряхивая с кожи комочки варева.
— Ешьте, ешьте, казаки, — приговаривал Каленик. — Да спать ложитесь.
Лёжа под сияющим звёздным небом, Андрей не мог отделаться от подозрений: здесь что-то не так. Однако выдвинуть какие-либо обвинения не мог. Каленик отговорится: знаю, дескать, кого везу. Нельзя торопиться. Нельзя рисковать. Тише едешь — дальше будешь. Каленик вышагивал по краям плота чересчур тяжело, и плот, казалось, вот-вот опрокинется и уйдёт на дно.
Вскоре миновали Канев, Черкассы. Наконец Андрею удалось выведать под большим секретом у молодого плотаря, которого научил по-особому ловить рыбу, что до Сечи уже совсем недалеко. Пожалуй, завтра там будут. Когда же Андрей, в присутствии отца Григория, спросил Каленика, скоро ли Сечь, тот махнул рукою:
— Ещё чего! Не скоро!
Отец Григорий тоже учуял неладное. Он тихо повелел:
— Надо уходить.
Для Андрея это прозвучало громом среди ясного неба. Он представлял себе, как возликуют сечевики, увидев на Хортице царевича. Особенно обрадуется атаман Герасим Евангелик... И вот...
Андрею стало обидно. Но придумать чего-нибудь лучшего он не мог.
Поужинав, плотари завалились спать. Каленик на ночь оставался на плоту. По-видимому, от крепкой уверенности, что сегодняшний ночлег пройдёт как обычно. Потому Андрею, да и всем его товарищам, показалось: задуманное получится без помех. Они незаметно, по одному, оставляли место, где уже храпели плотари.
Собрались под деревом, которое Андрей наметил для сбора ещё с вечера, при закатном солнце. А поскольку они хорошо уже изучили и запомнили положение звёзд на небе, то все были уверены: с пути не собьются. Над головою — Казацкий шлях[7]. И Днепр по левую руку...
Шли всю ночь. А ночь оказалась до удивления короткой. На рассвете набрели на стога прошлогоднего сена.
— Во! — прохрипел послушник Пафнутий, падая от усталости на траву. — Зароемся, никто не найдёт!
Его поддержали Харько с Мисаилом.
Андрей огляделся вокруг — всё спокойно.
Они залезли в шуршащие глубины, полные мышиного писка и возни насекомых, и сразу уснули.
А проснулся Андрей от пронзительного крика. Но может, и оттого, что его держали за ноги и куда-то за ноги же тащили.
— Кто там? Отпустите!
Андрей попробовал ухватиться руками за что-нибудь, да только разворотил копну, в которой ночевал, и оказался под голым небом.
— Держи его! — завопили над ухом.
Вставало солнце. И прежде чем Андрей понял, что произошло, кто его вытащил из копны и держит за ноги, он увидел, как отбивается от злодеев отец Григорий.
— Держи! Держи!
Андрей изловчился и швырнул охапку сена, зажатую в руках, прямо в глаза тому, кто тащил его за ноги. От неожиданности нападавший ослабил клещи, и Андрей почувствовал волю.
— Врёшь! Не удержишь!
В три прыжка удалось Андрею очутиться возле отца Григория. Одного злодея швырнул оземь, так что тому не скоро подняться, на другого навалился всем телом, стараясь вдавить его в землю, пока руки искали чужое горло.
— Врёте! Не удержите!
А с третьим легко уже справился сам отец Григорий.
— Бежим!
Они летели туда, где сдавленным голоском молил о помощи слабый телом послушник Пафнутий и где со стонами извивался на земле клубок человеческих тел. Там отбивался руками и ногами дюжий Харько.
— Держись, Харько!
И тут же их стоптали всадники...
Через какое-то время Андрей уже лежал вниз головою поперёк лошадиного крупа. Изо рта у него торчали какие-то тряпки, которые не давали возможности говорить. Руки были накрепко связаны за спиною. Он успел пожалеть, до чего же легко и глупо попался в руки негодяям, позабыв о предосторожности, не уберёг, не довёз до Сечи царевича, который хочет, чтобы его по-прежнему называли пока отцом Григорием. И ещё показалось, будто слышит он над собою знакомый голос. И всё...
Очнулся Андрей оттого, что голове стало холодно. И было легко дышать. Даже руки за спиною не сдавливала верёвка.
— Жив и этот! — радостно прозвенел всё тот же голос.
Андрей встрепенулся, силясь встать на четвереньки. Открыл глаза и поднял голову.
Он не ошибся. Подняться на ноги сразу не мог, однако убеждённо сказал:
— Петро, ты... — Он узнал голос Петра Коринца.
— Андрей! — бросился к нему Коринец. — Браток! Да как же ты? Да как ты жив остался? Господи! А я сколько раз твою душу поминал! — Коринец с укором бросил слова уже кому-то третьему.
А рядом с ним стоял высокий и чёрный лицом Ворона. И ещё много незнакомых казаков. Они оказались злодеями? Злость подняла Андрея на ноги.
Ворона подхватил:
— Точно, Андрей! Да как тебя угораздило? С этими... Дядько Свирид в Киеве зорко следит, чтобы плохие люди на Сечь не пробирались. И самого Каленика вырядил... А вот...
Андрей уже видел, как отливают водою отца Григория, Харька, Мисаила и Пафнутия.
Харько очнулся первым. За ним пришёл в себя отец Григорий, Мисаил тоже. А Пафнутий лежал без движения.
— Богу душу отдал! — сказал дрогнувшим голосом Петро Коринец и стащил с головы шапку. — А ведь молодой... Где-то мать дожидается... Пусть и чёрту продался...
— Брат! — живо возразил Андрей. — Это хороший человек... Разве стал бы я с плохими людьми на Сечь пробираться? Или забыл ты, как мы с тобою...
— Нет! — встрепенулся Коринец. — Я два года только о тебе и говорил. Как тебя здесь не хватало. Тебя да Яремаки!
— Да кто же это такой? Что за люди с тобою, коли так? — спросил Ворона, невольно вздрогнув при слове «Яремака». — Тебе-то мы верим, конечно. Если это только ты... Потому что я сам тогда крест для тебя вытесал...
— А привёл я вам московского царевича Димитрия Ивановича! — сказал, закрыв глаза, Андрей. — А это всё наши товарищи. И напрасно в Киеве старики старались...
— Что? — закричал Ворона и замахал руками, отстраняя Коринца. — Господи! Ещё этого нам не хватало!
— И кошевого как раз нет! — озабоченно добавил Петро Коринец.
Над послушником Пафнутием остался жалкий холмик.
Отец Григорий прочитал молитву, от себя добавил:
— Никто не знает, где он родился, кто его родители... Да Бог и на том свете не оставит милостью добрую душу, — и даже прослезился.
Казаки чувствовали свою вину. Они старались держаться в стороне.
— Бог вам судья, — сказал примирительно отец Григорий.
Ворона, глядя на всё это, крутил ус. И по привычке посматривал вдаль.
И лишь Петро Коринец достал из дорожной саквы баклагу с горелкой, сунул её в жёлтый могильный холмик, неглубоко разрыхлив землю.
— Чтобы по-казацки... Раз в казацкую землю...
Минуту все стояли молча.
Затем ехали не спеша, поскольку до Сечи рукою подать. Все сидели в сёдлах. Пленников уже и за пленников не считали. За отцом Григорием ехали трое лихих удальцов, которые недавно с ним сражались не на живот, а на смерть (Андрей даже удивился, что все они пришли в себя). Сам Андрей ехал рядом с Петром Коринцом. Очевидно, Ворона поверил, что друзья теперь ни за что не расстанутся, следственно, Коринец был вроде стражи. Дороги хватило как раз для того, чтобы поговорить о самом главном.
Коринец слушал внимательно, но не отрывал глаз от отца Григория, который ловко и прямо сидел в седле и даже о чём-то расспрашивал своих недавних врагов.
Коринец во всём доверялся побратиму.
— Ты вот что, — заметил он под конец разговора, когда уже завиднелась Днепрова вода, а за нею — жёлтый остров, на острове — длинные курени с чёрными крышами при синем дыме над ними, — ты вот что, брат... Люди здесь поверят, что это царевич. Да есть ли у него деньги?
— Денег нет, — без раздумий отвечал Андрей, не совсем ещё понимая, к чему клонит Петро.
— Плохо, — вздохнул тот. — Нужен поход... Много у нас народу, да у всех голые руки... Не в чем и не с чем было отправляться в поход. Так что придётся ждать возвращения кошевого. Он ушёл с войском. А с ним и Герасим Евангелик. А мы тут, при куренях, вроде сторожей... А там увидим. Мы уже три раза ходили под Житомир, где погибает наш Яремака... Да только Ворона что-то не чешется...
Андрей не знал, что отвечать.
На берегу острова, откуда враз посыпались разнообразные челны, уже собирался праздный люд.
11
Три недели отец Григорий правил службу в сечевой неказистой церквушке, которая была всего-навсего укороченным в длину казацким куренём.
Народ же валил валом. Народ на Сечи в большинстве своём оказался новым, пришлым. Без Бога эти люди не представляли себе жизни. А тут — православная церковь. Можно молиться безо всякого опасения, что твой пан, переметнувшийся в ляшскую веру, криво на тебя посмотрит. Что иудей-арендатор сдерёт с тебя лишнюю копейку.
А кто уже давно на Сечи — те соскучились по церковной службе. Потому что прежний батюшка по своей неосторожности утонул в Днепре. А нового где взять?
За три недели отец Григорий перевидел столько народа, что мог бы смело сказать: рядовые казаки его здесь поддержат. Вот только когда возвратится сечевое войско? Когда появится здесь бравый атаман Евангелик? Что запоёт казацкая верхушка? Насколько она сильна?
На четвёртую неделю наконец стали возвращаться первые казаки. И кто за них зацепился глазом, тот сразу понял: не задался поход. Прибывавшие не знали, что́ и говорить. Не могли ответить толком на вопрос, жив ли кошевой. Знали одно: атаман Евангелик погиб. Одолели татары.
— Да какой кошевой? — старались отвечать вопросом на вопросы. — Если про старого речь — то жив. Где-то за нами ногами перебирает. Но мы очеретину у него из рук вырвали. Мы себе нового кошевого выбрали. Жаль, не Евангелика.
— Кого? — вскипали любопытством и тревогою голоса расспрашивавших. — Кого выбрали?
— Да Петра Балабуху... Только зачем говорить? Может, он уже на том свете...
Стало понятно: татары встретились вовсе не там, где хотели сечевики. Встреча произошла в том месте, где им, татарам, хотелось. Много товарищей полегло в степи.
Новый кошевой Балабуха, оказалось, уцелел. Но лучше бы ему не возвращаться на остров. Вырвали и у него из рук Очеретину, то есть булаву, украшенную сверкающими каменьями, — знак власти, а жизнь ему даровали только за то, что хоть и голова его не шибко умная, зато рука твёрдая. Рубил татар нещадно, так что против десяти один выходил.
А когда стали думать-гадать о новом кошевом, то выкрикнули имя куренного атамана Вороны. Застигнутый врасплох Ворона, высокий и чёрный, по обычаям начал отнекиваться, но радости скрывать не стал. Он сделался ещё выше ростом, как только ощутил себя кошевым. Он уже так величественно поблагодарил товариство, что многие диву давались: откуда в нём всё это?
Андрей и Харько с Мисаилом радовались.
Отец Григорий выжидательно молчал.
Но Петро Коринец предупредил:
— Ворона осторожен, как степной лис.
Ворона, правда, в тот же день велел довбышам созвать товариство на новую раду, чтобы отец Григорий мог перед ним высказаться.
Отец Григорий, взойдя на пригорок под грохот казацких барабанов, терпеливо дождался, переминаясь с ноги на ногу, пока довбыши угомонятся, перекрестился в сторону церкви, на её приметный золотой крест над земляною крышей, стащил с золотого чуба скуфейку, взмахнул широким рукавом рясы и начал молодым звонким голосом:
— Панове казаки! Товариство сечевое! Сам я того помнить не могу, но хорошо знаю, что ещё мой батюшка покойный, царствие ему небесное, царь Иван
Васильевич Грозный, с надеждою взирал на казаков, полагая, что только казаки способны стать защитою от басурманов, от врагов Христовой веры. Он призывал к себе на службу князя Дмитра Вишневецкого. А князь Вишневецкий гуртовал вокруг себя смелое казацкое воинство. Но не получилось тогда задуманное. Бога мы часто гневим. Зато теперь, как только, по велению милосердного Бога и с вашей помощью, мне удаётся накрыть свою голову царской короной, которой лишил меня злодей Борис, — клянусь вам, что я сразу же сделаю всё, чтобы освободить наши земли от вечного страха перед угрозой с юга. И помочь мне в том опять же сможете только вы. Потому что никто не умеет так сражаться с этим врагом, как умеете вы. В том я убеждён.
— Верно! Верно! — зашумели вокруг.
Особенно старались те казаки, которые уже слушали проповеди отца Григория. И даже те, кто с ухмылкою смотрел на отца Григория — какой, мол, царевич, когда это поп, дескать, видали мы таких царевичей уже не раз, — даже те смотрели уже приветливей.
А кто-то враз напомнил:
— Так чего же ты, царевич московский, не обратился сразу же за помощью к князьям Вишневецким? Князь Адам тебе с готовностью помог бы. Чай, сосед он Севере московской.
Андрей видел, как вздрогнул от этого крика отец Григорий. И хотя отец Григорий и дальше бойко говорил, однако он всё время посматривал в ту сторону, откуда только что раздался напутственный голос.
Но когда речь была закончена — товариство в ответ покричало, покричало да и разошлось. По словам нового кошевого получалось: вроде бы большинство голосов против того, чтобы подавать помощь московскому царевичу. Нужно, дескать, сперва об оружии позаботиться, о снаряжении, о конях.
На пыльном майдане при Вороне остались только отец Григорий, Харько, Мисаил, Петро Коринец.
— Вот что, — сказал Ворона отцу Григорию и всей его свите, как-то затрудняясь обращаться в отдельности к отцу Григорию, не зная, что ли, как его величать. — Вот что... Подавайтесь пока на Дон. Коней я вам добрых дам. Огирей. Если дончики поддержат — то и за нами дело не станет.
Андрей опередил отца Григория с ответом:
— Хитрец ты, Ворона. Ещё сегодня с утра был человеком, а сейчас кем стал... Ну да я твою хитрость наперёд знаю. Можно ли отпускать московского царевича в такое время в дикие степи без охраны? Или ты на то и рассчитываешь, Ворона, что его татары в полон заберут? Так не будет по-твоему!
Ворона, оскорбись, молчал.
Андрей от себя добавил отцу Григорию:
— Государь! Отпусти меня на Дон. Ещё казаков десяток-другой возьму добрых. Но ты напиши донникам письмо и дай какой-нибудь знак от себя: знамя какое, что ли... И поход скорый на турок пообещай.
Ворона, заслышав это, закивал головою.
Отец Григорий был согласен:
— Так и сделаем.
Но в голове у него зрели какие-то новые замыслы. Он глядел себе под ноги и шевелил губами.
На Сечи Андрей не стал задерживаться. Обращение царевича к донникам приготовили быстро. Получилось великолепно. Андрей как бы догадывался, что их ждёт впереди, потому не расставался с окованной железом скрынькой, прихваченной ещё из отцовского лесного дома. В ней хранил атрамент и перья и даже хорошую бумагу. Андрею помнились обращения московских царей к своим подданным. Их он тоже начитался в отцовском доме. Потому подсказывал царевичу, какие слова следует подбирать для обращения, сам записывал, поскольку был убеждён, что царевичу ни за что нельзя брать в руки перо, а только кисточку, чтобы подписать готовые грамоты. Тайком от царевича и всех прочих спутников, даже от пронырливого Харька, Андрей заказал в Киеве у ювелира печать, на которой было красиво выведено «Димитрий Иоаннович, царь и великий князь всея Руси».
Когда грамота к дончикам была начисто перебелена, многократно прочитана с надлежащим возвышением голоса, как читают в церквах священники, а не биручи на площадях, когда она была размножена и каждый образец её запечатан изготовленной в Киеве печатью — все остались довольны, даже удивлены.
И всё же Андрей ни за что не покинул бы царевича без присмотра, если бы не надеялся на защиту Петра Коринца.
— Смотри, брат, — наказывал ему. — За всё отвечаешь.
А что всё это делалось не напрасно — понял уже после первого дня нового путешествия.
Земли за Днепром лежали безлюдные. Дороги бежали куда какой вздумается, словно здешние немногочисленные жители ещё ни разу не смогли договориться и двинуться в одном направлении. Так что дорогу на Дон приходилось угадывать просто по солнцу, часто переводя коней с одной еле приметной дороги на другую, такую же. Степные реки текли по дну глубоких долин. Они просматривались на большом расстоянии, в виде извилистых сверкающих лент, брошенных в те долины. Вода в них казалась чистой и тёплой, прогретой на солнце. А селения человеческие ютились в этих долинах при воде, были закрыты густой зеленью, так что, если бы не дымы, которые тянулись к небу, да не пёстрые стада, не табуны коней поблизости, — и не догадаться бы, что там расположены человеческие жилища.
— Так безопаснее, пан, — объясняли Андрею казаки. — Люди здесь ложатся спать без особой уверенности, что утром останутся на свободе. Что вообще проснутся. Татары любят нападать как раз на рассвете.
В одном месте, с высокого берега, Андрею удалось даже вроде заглянуть внутрь степного селения — там жила зазнобушка одного из казаков. Поэтому казак знал там каждую тропинку. Андрей поразился примитивности человеческого пристанища: в каждом дворе виднелась небольшая хатёнка с едва побелёнными стенами, ещё какие-то вроде сарайчики для домашней живности, загородки, ограды и колодцы с журавлями. И всё это незаметно переходило в лесные заросли, так что проснувшемуся человеку очень легко удавалось улизнуть от опасности.
Сопровождавшие Андрея казаки были тёртыми калачами. Открытых высоких мест они избегали. Коней старались направлять по травяному покрову, чтобы копыта не вздымали пыль, а при малейшей возможности, как только приходилось пересекать реку, старались подольше проехать по речному дну, чтобы не навести на след недобрых людей. И когда останавливались на отдых, то чересчур долго выбирали подходящее место, спорили, ругались, а если уж выбирали, так обязательно оставляли двух человек бодрствовать, да и отдыхавшие спали чутким, прерывистым сном. Кони казацкие, казалось, были под стать своим хозяевам: они держались кучно, не отходили от спящих людей, как бы проникаясь человеческими тревогами.
Трудной оказалась дорога, но бережёного Бог бережёт.
Только однажды путники увидели ранним утром на окоёме растущее чёрное пятно. Оно напоминало грозовую тучу. Несколько казаков, одновременно спешившись, пытались определить, далеко ли опасность, припадая к земле ухом.
— Бог милостив, — обронил один из них, улыбаясь белозубым ртом. — Большая сила прёт, да нас не заденет. Помолимся за души тех, кому умереть придётся. — И он первый осенил себя крестом.
На Дону всё обошлось как нельзя лучше. На первой же казацкой заставе, едва узнав, откуда гости, встретили по-братски.
— Да у нас, — поведали, — атаман Заруцкий спит и видит поход. Уж больно хочется ему повоевать. Уж больно горяч. Третья станица отсюда на юг. Там он временно обитает.
Так советовал молодой донской казак, глядя, как ловко сечевики управляются с угощением.
Но старый его напарник сначала всё разузнал о московском царевиче, внимательно осмотрел запечатанные грамоты, увидел присланное знамя — красное полотнище с золотым двуглавым орлом — и лишь тогда высказался:
— Чует моё сердце, братове, что царевич наконец настоящий. Обманщиков мы нагляделись. Езжайте с этими грамотами к атаману Кореле. Вот к кому. А живёт он в третьей станице на север. И нет сейчас для казаков более надёжного батьки, нежели он.
Атаман Корела (именно к нему первым делом отправился Андрей) оказался низкорослым длинноруким казаком, как бы вырубленным из камня, который выпирает из земли, — иногда так бывает. Кожей он чёрен, а всё лицо его исполосовано сабельными ударами, так что кажется оно составленным из отдельных кусков, чудом сросшихся. Хорошо воевал атаман. Впечатление только усилилось, когда Андрей увидел Корелу на коне. Будто одно существо перед тобою, с длинными руками. И сабля в этих руках сверкает. И неважно, в какой руке она оказалась, в левой ли, в правой. Всё равно. Противнику не увернуться.
Корела без раздумий созвал казацкое коло, на котором почётнейшее место было отведено старикам с седыми, в шрамах, головами и суковатыми палицами в руках вместо острых сабель. А за стариками высились горячие молодцы с саблями в ножнах да с ножами при поясах.
— Читай! — повелел атаман царевичеву посланцу.
Какой шум стоял — а сразу угомонились.
Многие, кажется, и не вдумывались в слова. Важно для них то, что грамота — от царевича. Они уже готовы садиться на коня. В станице, кажется, заголосили уже, запричитали молодицы. Плачем провожают казаков на войну.
— Хорошо! Любо нам! — заключил атаман Корела, как только слова в грамоте кончились. — Пойдём!
Кореле, получалось, и без выступлений земляков понятны их настроения и мысли.
— Любо! — в самом деле раздались дружные крики.
— Любо! Любо!
— Любо! Пойдём!
Не успело коло при Кореле натешиться добрыми вестями, как уже прискакали другие казаки, из дальней, знать, станицы.
— Вот! — указал рукою Корела. — Иван Заруцкий пожаловал.
Иван Заруцкий выглядел полной противоположностью Кореле. То был высокий молодой человек, кудрявый черноволосый усач, писаный красавец.
— Мы о вас наслушались! — сказал он с улыбкою, спрыгнув с коня и приблизясь к Андрею. — Мы этого только и ждали. Давайте нам грамоты и знамя. Сами поедем рассказывать народу, какое счастье привалило. Царевич воистину жив!
— Жив! Жив!
— Жив, слава тебе, Господи!
Казаки смотрели на Заруцкого как на икону.
Назад на Сечь Андрей возвратился безо всяких приключений и даже без особых опасений. Его со спутниками-сечевиками сопровождала целая сотня дончиков. Атаманы Корела и Заруцкий таким образом стремились лишний раз показать свою готовность служить московскому царевичу.
Но самого царевича на Сечи уже не было.
Петро Коринец рассказал побратиму, что поделать он ничего не мог. Царевичу на месте не усидеть. Царевич велел передать по секрету: он направляется в Брагин. Во владения князя Вишневецкого.
— К Вишневецкому? — удивился Андрей. — К князю Адаму? Надумал всё-таки.
Единственное, что мог предпринять Петро Коринец, так это отправить с царевичем своих верных людей вместе с доброю сотнею казаков. Они доставят его в Киев. А дальше — он превратится снова в никому не ведомого странника.
— Так мне велено, — разводил руками Петро Коринец. — А тебе, брат, пробираться в Брагин, — добавил. — А что дончики хорошо встретили царские грамоты — это на Сечи известно. Царевич знал. Это его обрадовало.
12
Князь Константин Вишневецкий просыпался очень рано. И первый взгляд обращал непременно в сторону юга. Там возносится к небу вверенная ему королевская крепость Каменец — заслон от татар.
Привычка не оставляла князя никогда и нигде. А стоило проснуться ему в любимом Вишневце — так и подавно.
Сегодня он проснулся как обычно. И через какое-то время не удержался от смеха.
— Езус-Мария! — сказал, не отрываясь от чтения. — Да что он пишет!
Князь посмотрел на дверь. Где-то там, в своих покоях, почивала его юная жена. Князь разбирал принесённые на золотой таце[8] послания. Они, по мнению секретаря, пана Пеха, требовали как можно более скорого ответа. Однако и среди отобранного Пёхом княжеский глаз безошибочно отыскивал уж самое важнейшее — gravissimum.
Конечно, писания тестя, сандомирского воеводы, не подлежат ранжировке вообще.
Но как тут не засмеяться?
— Езус-Мария! Пан отец был сильно под мухой!
Пан Пех в ответ развёл руками. Бывает. Недаром, мол, говорится: старый — что малый. Да старый куда хуже. Ребёнок рад утехе. И только. Ребёнок увлекается, забывает обо всём. И ребёнку не нужны похвалы за то, что он славно забавляется. А тут... Старик вообразил себя Юлием Цезарем. Или Ганнибалом. В такие-то годы. О подобном следовало заботиться в юности. Благо в Речи Посполитой были такие орлы, как Стефан Баторий. Когда шумела осада Пскова. Когда вся польская конница и вся венгерская пехота были брошены против московитов. Или ещё до того... Или потом... Когда воины в приграничных селениях каждый день хватались за сабли да ружья. Нет, старую голову вскружила рядовая победа над татарскими загонами. Победа, где командование досталось ему просто как почётному гостю. Как будущему тестю. Чтобы заметнее угодить своей невесте, теперь уже супруге, — очаровательной Урсуле... А тогда, в свои молодые годы, говорят, пан Ержи потворствовал тогдашнему королю Сигизмунду, без ума любившему красавиц...
Оставив письма, князь Константин глянул в окно кабинета. Он увидел, как тает над рекою густой туман. Как просыпается всё вокруг. Как встаёт солнце. И боязнь повредить каким-нибудь образом сну молодой жены исчезла. Как исчезает туман. Смех сменился горькой усмешкой.
— Всему своё время, пан Ержи.
Пан Пех согласно кивнул головою.
Тесть, измученный долгами, опять заводит разговор о каком-то казаке, который годился бы в случае чего на роль... Это весьма опасная затея. Этого не хотелось вслух говорить.
Князь не мог ничего написать на краях крепко пропахших парфумами листов бумаги — для рядовых писарей, какой дать ответ. Письмо сначала должна прочесть Урсула, которая (сущий ещё ребёнок) спит обыкновенно до обеденной поры.
Но от чтения писем никуда не деться.
Второе письмо оказалось ещё более любопытным. Пан Пех снова развёл руками. Впрочем, даже не любопытным, скорее интригующим. Даже загадочным. Двоюродный брат, князь Адам Вишневецкий, оказывается, прислал его с нарочным гонцом. А в письме — сообщение: пан Адам уже в дороге. По крайне важному делу.
— Уже едет. Узнаю́, — сказал князь.
— Да кто же его не знает? — подтвердил пан Пех. — Горячий, как цыганский борщ.
Вот и ломай себе голову, подумал князь, что взбрело на ум брату Адаму. То ли снова на ножах с русскими воеводами, снова готовит вооружённый наезд, чтобы отнять прихваченное ими, то ли сам намерен у них что-то прихватить? Как бы там ни было, а для подобного предприятия нужны воинские силы... То ли затевает рокош[9] против собственного короля? Ему не привыкать. Присягал королю-католику, а сам — православный.
Князь Константин ограничился пока что распоряжениями маршалку двора относительно того, какие следует сделать приготовления в замке. Посоветовался с ним, где разместить оршак пана Адама. Да ещё прикинул, как забавнее, какими словами передать вычитанное пани Урсуле. Чтобы не заподозрила чего-либо обидного. Насчёт этого советовался с паном Пёхом.
Князь Адам явился через день.
Лёгкая коляска, с вензелями «А» и «В», вкатилась во двор уже вслед за ним, а сам он гарцевал верхом на красивом белом коне.
— На Бога! — раздался его весёлый голос. — Как хорошо доехали!
Из окон своего кабинета князь Константин увидел огромный оршак. Бравые казаки на одинаковых буланых конях; забрызганные дорожной грязью возы с провизией, с поварами и слугами. Успел ещё заметить рядом с княжеской коляской другую, такую же богатую, но только без вензелей, и удивился: для кого предназначена? Правда, в коляске никого не было. Но рядом с князем Адамом вертелось много богатых всадников.
Пан Пех тоже ничего не понимал, разводил руками.
А дальше князь Константин не мог ждать. Брата надлежало встретить у входа в замок.
Князь Адам начал разговор уже почти с порога кабинета.
— Знаешь, — сказал он многозначительно, ещё даже не сняв с себя саблю, — кого я с собою привёз? Вовек не догадаешься.
Князь Константин вспомнил о богатой коляске. Спросил:
— Турецкого султана?
Князь Константин хотел сразу настроиться на шуточный тон. Подобным образом общался всегда и со всеми, если не было грозящей опасности, спешки.
— Гм, султана пленить... — оглянулся князь Адам, принимая тон брата. — Султана тоже бы неплохо...
Это следовало понимать так, будто бы тот, кого он привёз, может считаться важнее султана. Во всяком случае ему не уступит.
Князь Адам потребовал удалить из кабинета всех присутствующих, даже пана Пеха. Оставшись наедине с хозяином, всё равно снизошёл до шёпота. Это служило знаком особой серьёзности того, что он скажет.
— Я привёз московского царевича Димитрия Ивановича, — поведал гость, глядя на хозяина какими-то незнакомыми ему глазами.
— И где ты его купил? — всё ещё не мог настроиться на потребный тон князь Константин.
Однако гость посмотрел уже неодобрительно. Хозяин вынужден был сделать извинительный жест и склонить голову.
— Он был у меня в Брагине, — смилостивился князь Адам. — Впрочем, он уже давно на Волыни... И слух о нём разлетелся уже далеко.
Князь Константин встревожился. В голове снова мелькнуло недавнее послание тестя.
— Из черкасских казаков?
— Кто? Как это из казаков? — начал возмущаться князь Адам. — Он — царевич!
— Откуда же он взялся?
— Из Москвы.
— Да каким образом?
— Дело не в том. Важно, что царевич. Он зимовал в Дерманском монастыре у князя Острожского. Затем служил у пана Гойского в Гоще. Многому там научился. Побывал на Сечи... Он хотел набрать тех лайдаков и вести их на Москву, отнимать отцовский престол.
— Допустим, — рассуждал князь Константин уже со всевозможной серьёзностью. — Кто бы он ни был, можно ему спасибо сказать, если уведёт бездельников... Да только как ты узнал, что это царевич? У него на лбу не написано. А вокруг столько слухов. Как он к тебе подступился?
— В том-то и дело. Долго рассказывать, — снова перешёл на шёпот князь Адам. — Тебе трудно будет поверить.
— Да уж послушаю. Если я не поверю, то кто поверит?
— Кого угодно заставлю сейчас поверить! — возвысил неожиданно голос князь Адам.
— Заставить — это одно, — имел своё мнение князь Константин. — Ты сумей убедить.
— Сумею. А нас никто не слышит?
Князь Адам бросился к дверям. Распахнул рывком, но тут же закрыл и отступил. За дверями никого не было.
— Извини, пан, — сказал. — Очень тонкое дело.
Князь Константин вздохнул. Вечные подозрения.
Особенно на пана Пеха. Он дёрнул красный шёлковый шнурок — на пороге тотчас вырос пахолок в белой одежде.
Князь велел принести венгржин. И как только за пахолком захлопнулись двери, гость начал рассказ:
— Видит Бог, брат, в это трудно поверить. Но я расскажу всё без утайки. Как попу на исповеди... Был вечер. А я был зол. Меня не успокоила охота. Не успокаивало ни вино, ни баня. Ты ведь знаешь этих московских воевод. Извели. И князь Острожский ни мычит ни телится. Хотя ему король поручил рассудить наши споры.
— Вот я и говорю, — вставил князь Константин, уже восемь лет как перешедший в католическую веру. — Трудно православному среди католиков. Потому и сыновей своих князь Острожский не принуждал оставаться в православии.
— Не о том речь, пан, — отрезал князь Адам. — Я православным был, им и останусь. И если православный поступает по-свински — так и скажу ему в лицо. А если католик — так и ему та же честь. Ты меня знаешь.
Князь Константин кивнул головою.
Князь Адам продолжал:
— Я сидел после бани. Слуги опасались попадаться мне на глаза. Они как-то устроили, что на мой зов поспешил казак. А ты меня знаешь. Мне показалось, будто он поднёс тёплое пиво. Я ударил его по лицу. И тут...
Князь Адам решительно оглянулся. Вскинулся с кресла, хотел уже сделать шаг к дверям. Будто снова кого заподозрил в подслушивании. Да удержал себя.
— И тут... Он ударил меня! Веришь? Только между нами...
— Трудно поверить, — заключил князь Константин.
— Сам не могу поверить, — шипел, припоминая, князь Адам. — Князя Вишневецкого ударил хлоп! Уже хотел распорядиться, чтобы во дворе возводили виселицу, зарывали в землю кол. Чтобы его четвертовали. Я не мог ещё придумать достойной казни. А он, представь, стоит передо мною и не думает убегать! Не думает о спасении. Не падает на колени. Словно жизнь ему — грош. Стоит с виду спокойный, как изваяние. Только напряжённый, как статуи древнеэллинских атлетов. И говорит: «Знаешь, князь, кого ты ударил? Я — Димитрий Иванович, сын Ивана Грозного!» Расстёгивает жупан, обыкновенный жупан, какие у меня носит любой казак, и показывает золотой крест. Беру крест в руки, но чувствую: это уже ничего не значит. Будто Бог мне шепнул: это правда! Отважиться на подобное способен только царский сын! Я взял с него слово: о случившемся люди узнают только от меня. И предложил ему рассказать о себе.
Князь Константин молчал. Он размышлял. Он предполагал, как воспримет всё это пан Мнишек.
— Вину он возлагает на Бориса Годунова, — продолжал князь Адам. — Борис не боится ни огня, ни железа. Царь Фёдор Иванович ничего не мог с ним сделать. После смерти слабевшего царя Борис сам надумал стать царём, но Димитрий Иванович, мальчик, ему мешал. Многие это понимали, да не знали, что делать. Однако нашёлся человек, который подменил царевича в Угличе, и подосланные убийцы зарезали в темноте не царевича, но другого мальчика. Мать-царица от горя не поняла, кого оплакивает. А вскоре её заточили в монастырь. Спасённого же царевича увёл тот добрый человек, укрыл и воспитал. И когда он состарился и почуял близкую смерть, то передал юношу под опеку своему верному другу. И вот после смерти Фёдора Ивановича царскую корону получил злодей. А настоящий царевич мыкается по монастырям, потому что новый его покровитель тоже вскоре умер. Более того, царевичу пришлось постоянно скрываться. Коварный Борис его не пощадил бы. Но как юноша ни скрывался, да какой-то человек признал его, завидев у него на груди золотой крест, о котором я тебе говорил.
Князь Константин упорно молчал. Он глядел в окно. Во дворе, внизу, не унимался шум, вызванный приездом гостей. Однако князь никого не различал. Он видел перед собою только лицо тестя.
Князь Адам упивался собственным рассказом.
— Представить не можешь, брат, — уже кричал он, — как этот молодой человек скачет на коне! Как великолепно сидит в седле! Как рубит саблей... Разве простой смертный способен на подобное? Нет, он рождён царствовать. Он упражнялся в воинских занятиях у меня на глазах. Да ты сам всё увидишь и оценишь!
Конечно, князю Константину хотелось бы немедленно посмотреть на привезённого братом молодца, однако он медлил. Он не сомневался в искренности брата Адама. Он высоко ценил его ум и прозорливость. И всё же сейчас, в сию минуту, он не разделял его восторгов. Он спросил:
— Брат, а ты не опасаешься мести Бориса Годунова?
— Годунова? Что мне Годунов? Да то и не царь. Узурпатор! Он не имеет права на московский престол. Его в Москве ненавидят. В Москве сейчас постоянный голод, и народ разбегается оттуда. Что творится в соседней с моими землями Севере! Я всё знаю.
— Но ты не всё учёл, пан. Борис Годунов избран на царство. Московиты ему присягали. Он — законный государь. Его признали прочие государи. В том числе и наш король. Как посмотрит на твои поступки король? Что скажет сейм?
Князь Адам возмутился:
— Что мне король? Царевич отнимет корону не у него!
— Да, но король заключил с Москвою перемирие. С этой целью в Москве чуть ли не год сидел канцлер Лев Сапега. И война нам не нужна. Тем более с Москвою. Король занят мыслями о том, как взойти на столь желанный ему шведский престол, который принадлежит ему по праву, но который у него отнял его дядя.
— Всё это не должно тревожить меня. Я рад проучить московских воевод. И у меня всё получится.
После длительного молчания со стороны князя Константина последний наконец сказал:
— Полагаю, следует известить моего тестя. Его советы помогут лучше всего. Кстати, он у нас скоро будет. Приближаются именины моей жены. И приедет всем семейством.
Князь Адам с этим легко согласился. Очевидно, он и рассчитывал на такой поворот дела.
Хозяин кликнул пахолков. Сейчас он с гостем спустится к обеду. Надо предупредить пани Урсулу.
— Впрочем, с этим делом справится и пан Пех, — вспомнил он о своём секретаре, а тот уже стоял на пороге.
Что говорить, князь Константин находил утешение в одном: появление человека, назвавшего себя московским царевичем, должно напрочь отвлечь пана Ержи от вредной и опасной затеи использовать в подобной роли черкасского казака, который был прежде сотником у князя Острожского. Князю Константину хотелось надеяться, что тот, кого привёз брат Адам, окажется человеком дельным, хоть и рисковым — это уж наверняка.
Однако стоило князю Константину спуститься вниз вместе с гостем, как он тут же замер на месте: на лестнице, устланной алым турецким ковром, стоял молодой человек в малиновом жупане, а рядом с ним... Рядом с ним высился именно тот казак, о котором не устаёт говорить пан Мнишек.
Князь Константин с недоумением оглянулся на князя Адама, стараясь понять по выражению его лица, кого же он привёл, о ком сейчас они говорили...
А из других дверей в сопровождении говорливого пана Пеха шла уже юная пани Урсула.
13
Царь Борис возвращался с медвежьей охоты.
Вчера, на закате дня, боярский сын Яшка Пыхачёв, наряженный в царские одежды, подсунул под вздыбленного медведя длинную рогатину, а рука его ловко взмахнула коротким татарским ножом.
Охотники ликовали. Под лай собак и пение рожков славили мнимого царя. Так что боярин Димитрий Иванович Годунов, дядя настоящего царя, самолично отобрал у счастливого медвежатника окровавленную сталь. И тут же с неба ударило запоздалым громом. Посыпался дождь, срывая с поблеклой травы звериную кровь, от запаха которой ярились и сходили с ума неугомонные собаки.
Сейчас уже вставало утро. С московских мокрых холмов соскальзывали в овраги ошмётки седого рыхлого тумана. Под солнцем кое-где вспыхивала золотая листва. Однако деревья в большинстве своём уже тянули к небу голые беспомощные ветви. Вид их понуждал царя торопиться домой, в тёплые кремлёвские стены. Осень взрыхляла мысли о бренности всего земного. К тому же ночь довелось провести в подмосковном дворце, наполненном дымом и продуваемом сквозняками ото всех дверей и окон. Под лай и завывание собак.
Правда, царь любил наблюдать за собою со стороны — и это отвлекало от тягостных мыслей. С недавнего времени он убедился, что только так, в наблюдении, можно понять значение и величие верховной власти. Он чувствовал, что голодные годы роют пропасть между ним и московским людом. Что завалить эту пропасть не удаётся пока никак и ничем.
Сейчас он невольно умилился созерцанием московского люда, который стелился на улицах прямо в грязь, примечая издали царский поезд. Удивляло обилие красных стрелецких кафтанов — стрельцы кланялись в пояс, щадя кафтаны. Поражало и то, насколько искусен Яшка Пыхачёв. Лицо ему умело закрасил цирульник-волох. Цирульника же привёз в своём обозе и уступил недавно, во время заключения перемирия с Речью Посполитой, великий гетман литовский и канцлер Лев Сапега.
А Яшка, получалось, действительно становится опасным. И быть может, не совсем напрасно твердит Димитрий Иванович, что времена для таких затей миновали. Недаром, дескать, сам Иван Васильевич Грозный редко дозволял своим двойникам представлять царскую персону. Уж если донимала смертельная тоска... И то лицедей в царском убранстве, как две капли воды похожий на Ивана Васильевича, появлялся лишь в присутствии двух-трёх ближних бояр. Причём под большим секретом и под страхом смерти за разглашение тайны...
Конечно, даже при осеннем солнце, взмывшем над златоглавою Москвою, царь Борис ничего не опасался. Хотя опасностей в последнее время добавлялось и добавлялось с каждым днём. Но торопиться заставлял не только холод. Торопили дела. Вот и сегодня из Выксинского монастыря должны тайно доставить инокиню Марфу. Царь хотел услышать подтверждение этого из уст Димитрия Ивановича, но Димитрий Иванович постоянно находился рядом с Яшкой Пыхачёвым.
Когда голова царского поезда с гиком и звоном бубенцов втянулась под тёмные челюсти кремлёвской башни и Яшка Пыхачёв уже суматошно, не по-царски, замахал руками перед крикливой челядью, осыпая её деньгами, — настоящий царь Борис, одетый обыкновенным боярином, облегчённо вздохнул. Он увидел, как из строя чужеземных наёмных воинов пожирает глазами мнимого царя капитан Маржерет — человек чрезвычайно умный и проницательный. Заблуждение чужеземца говорило в пользу лицедея Яшки...
А в царском доме всё стало на свои места.
Мнимый царь превратился снова в дородного и бесшабашного Яшку Пыхачёва. Он попросил ледяного квасу, получил желаемое и был тут же уведён верными людьми, под присмотром Димитрия Ивановича, в назначенные ему палаты, под самой крышей дворца. Ему никак нельзя давать доступа к вину.
Царская семья, встречая хозяина, по-прежнему ничего не подозревала о проводимых превращениях, или метаморфозах, как сказала бы царевна Ксения. (Царь всегда с гордостью сопрягал эти слова — царевна и Ксения.)
Царевна Ксения и царевич Фёдор поведали отцу о своих занятиях в его отсутствие, а жена Мария Григорьевна начала рассказывать о появлении в столичном городе новых гадателей. Она уже знала, кого из них надо привезти во дворец.
Внешне царь слушал всё это внимательно, хотя сам следил за выражением лица Димитрия Ивановича. Получалось, что инокиня Марфа уже здесь.
Однако не только это читалось на лице царёва дяди. А что-то ещё очень важное, пусть и непонятное. А потому страшное.
Царь еле дождался окончания обеда. И сразу же, держась за голову, удалился в свои покои. Остался наедине с Димитрием Ивановичем.
— Привезли? — был первый вопрос.
— Да, государь, — начал отвечать Димитрий Иванович.
Царь не стал слушать. Почти крикнул:
— Так приказывай вести!
Это было второе секретное занятие царя Бориса. Он наблюдал за приводимыми к нему людьми незаметно для них. Во дворце давно уже была устроена тайная горница, где этим людям судилось коротать кому час, кому день, а то и несколько дней. Через отверстия в стене царь в продолжение необходимого времени всматривался в лица и в глаза невольных узников, чтобы сделать верные заключения об их мыслях, опасениях и прочем.
Инокиня Марфа молилась перед иконой. Она бил а поклоны, и когда разгибалась, то в глазах её разгоралась надежда, которой прежде там уже не было.
Это пугало.
Царь Борис как ничто иное помнил глаза этой женщины. Её привозили в Москву и помещали именно в эту палату сразу после того, как усилились слухи о чудесном спасении царевича Димитрия Ивановича. А было это три года назад, когда пришлось круто обойтись с боярами Романовыми. Их обвинили в том, что они хотели извести царя. Неужели за это время что-нибудь изменилось в Выксинском монастыре? Неужели и туда проникли какие-то подлые слухи?
Царь в недоумении посмотрел на дядю: дескать, всё ли в порядке в Выксинской обители?
Димитрий Иванович понял опасения...
Когда они оказались уже в таком месте, откуда их голоса не могли дойти до ушей молящейся инокини Марфы, то Димитрий Иванович, стараясь видеть выражение царских глаз, поведал ещё более тяжёлое для царя известие. Очевидно, оно томило боярина ещё за обедом.
— Из Речи Посполитой, государь, — начал он, но осёкся, видя, как бледнеет племянниково лицо.
Царю уже всё стало понятным: вот оно...
— Говори же! — прошептал царь.
— Прибыл монах Варлаам Яцкий. Он извещает, что там объявился человек, который называет себя царевичем Димитрием Ивановичем... Что человек тот именно такого возраста, каким мог быть в Бозе почивший юный царевич. Что явился злодей ко двору киевского воеводы — Волынского князя Константина, наречённого при рождении Василием, прозванного Острожским. И рассказал ему бродяга, как он спасся в Угличе...
Слова старого боярина камнями стучали о царскую голову. И сердце уже поднялось до горла. И кровь хотела хлынуть наружу ручьями... И что-то понуждало кровь, чтобы хлынула... И ноги стали непослушными. И приходилось держаться за подлокотники кресла, чтобы не упасть на пол...
Царь старался не пропустить ни одного слова, но улавливал только то, что появился человек, о котором ему говорили все без исключения гадатели и знахари (хотя говорили по-разному)... И сейчас уже мало что значила твёрдость князя Острожского, который выставил бродячего наглеца за пределы своего замка. Наглеца, осмелившегося заговорить преступно о великой московской короне.
Когда наконец Димитрий Иванович Годунов решил сделать перерыв в своём рассказе, царь спросил уже в сплошном тумане:
— Где же этот монах?
— Здесь, государь, — указал куда-то на стену Димитрий Иванович.
— Так давай его сюда...
Боярин кивнул головою. Он и без расспросов понял, что инокиню Марфу следует пока удалить в келью Вознесенского монастыря.
Отец Варлаам, приведённый в незнакомое помещение, где сидел важный боярин, как припал к полу, так и не мог от него оторваться. Его насилу приподняли и поставили на ноги дюжие слуги.
— Отойдите! Отойдите!
Он принялся молиться перед иконой.
Конечно, монаха успели вымыть и причесать. Ему дали хорошую новую рясу. Его наверняка накормили и напоили. Но ничто не могло убрать с его лица измождённость, приобретённую им в продолжительном пути. Это было лицо святого мученика. И это лицо вызвало доверие царя Бориса, который смотрел на отца Варлаама из своего укрытия.
— Бью тебе челом, боярин, — сказал наконец отец Варлаам, произнеся молитвы, которые считал наиболее удобными для произнесения и наиболее лёгкими для понимания, — чтобы ты доложил царю-батюшке, Борису Фёдоровичу, какая зреет опасность для Московского государства. Потому что это не человек, но Антихрист, обольщающий людей, хотя он и принял вид христианина. И ему легко поддаются черкасские казаки и всякие прочие люди, потому что в черкасской земле много праздного люда, готового пойти ради наживы за кем угодно. И надо сказать, что там уже давно говорят о воскресшем царевиче.
Димитрий Иванович, выслушав первый напор чернецовых слов, милостиво предложил:
— Ты бы, отче, обо всём по порядку... Так-то понятней... Да поспокойней.
Отец Варалаам повёл подробный рассказ, а всё же неспокойный. Он снова проделывал путь из Москвы до Киева, снова каялся, как это он, монах, поддался на уговоры первого встреченного на московских улицах мнимого собрата и отправился с ним неведомо куда, чтобы в конце концов попасть в Святую Землю. Он рассказывал так живо о своём путешествии, что в голове у царя Бориса зримо вставал человек, назвавшийся теперь открыто царевичем Димитрием. И подкрадывалось опасение, которое он постоянно изгонял из мыслей, будто в самом деле то мог быть царевич Димитрий, что слукавил, обманул некогда боярин Васька Шуйский, посланный в Углич во всём разобраться... О Господи!
Царь терял уже нить рассказа преданного престолу монаха Варлаама. И напрасными казались ему намерения противопоставить самозванцу, буде такой появится, своего мнимого царевича Димитрия, которого они с дядей Димитрием Ивановичем Годуновым готовили уже давно... Только где уж... Шустрый мальчишка, как две капли воды похожий в детстве на убитого царевича, с годами превратился в увальня и бездельника, проводящего дни за выпивкой. Сможет ли такой немощный человек противостоять дерзкому злодею, о котором говорит боговдохновенный монах?
А монах продолжал:
— И как только удалось мне молитвами отвадить от себя этого беса, боярин, так сразу устремился я назад в Острог. Бросился ко двору князя Константина, вымолил разрешение попасть ему снова на глаза. Я хотел молитвами же добиться, чтобы и князь вышел из омрачения, которое напустил на него бес. Я хотел, чтобы князь приказал своим казакам схватить самозванца и передать его в руки нашего государя. «Княже, — сказал я, — ведь он теперь открыто отступил от веры Христовой и отправился уже в Гощу, к еретикам-арианам, которые не признают Христа Богом, но считают его земным человеком». Но князь Константин выслушал меня и сказал со вздохом: «Не принято в нашем королевстве указывать человеку, во что и в кого он должен верить. Вот и сын мой Януш состоит в католической вере, и дочери мои не за православными мужьями. Могу только о себе сказать, что никогда не отступлю от веры моих предков... А что пан Габриэль Гойский проповедует в Гоще арианство, так за то ему самому держать ответ перед Богом, равно как и этому человеку, о душе которого ты так печёшься, отче!» И перекрестился святой старец при сказанных словах на кресты Успенской церкви, которая видна там из окон его горницы... И когда я вышел из замка, то Господь указал мне, грешному: «Иди в обратный путь, иди один, ничего не бойся, но передай эту скорбную весть своему государю, чтобы не случилось беды русскому государству!» И что претерпел я уже в этом пути — о том Господу Богу известно и то мне зачтётся после смерти. А ты, боярин, скажи царю-батюшке, чтобы спешно действовал. Потому что злодей, я слышал, может запросто поехать на Сечь, если уже не отправился туда, и подобьёт там сечевых казаков воевать против Москвы. А это страшно...
Рыдания сотрясали тело отца Варлаама. И снова стал читать он слова молитвы...
Димитрий Иванович догадывался, как тяжело воспримет царь слова монаха.
Боярин приготовил в голове решение, о котором, впрочем, уже не раз заводил разговор с царём. Хотел с этого начать, как только оказался перед царскими глазами.
Однако начать не смог.
Он вдруг увидел перед собою совершенно иного, изменившегося человека, полного решимости. Как будто перед ним был снова Яшка Пыхачёв во время медвежьей охоты — когда в Яшкиной руке сверкнула острая сталь!
Подобная решимость на царском лице могла появиться вот только что.
Говорить начал царь:
— Кузьме с ним не совладать.
Кузьмой звали молодца, выкормленного для того, чтобы выдавать его, при надобности, за царевича.
Впрочем, они понимали друг друга с полуслова. С давних дней.
Боярин молчал. Он соображал, как обезвредить самозваного царевича.
— Вот что пришло мне в голову, — продолжал царь. — Монах болеет за Русь... Говорит он правду. И мы обязаны воспользоваться тем, что монах знает самозванца в лицо и может указать его человеку, которого мы пошлём!
— Было бы хорошо, — с готовностью согласился боярин Димитрий Иванович. — Но... Кто способен такое учинить? И кому можно довериться? Кто не прельстится его речами?
— А Яшка Пыхачёв, — коротко ответил царь.
Боярин мысленно вскинул над собою руки. Такого он не предвидел. Быть может, пора на покой?
Именно Яшка Пыхачёв, убивший вчера матёрого медведя, не побоится какого-то человека. Он глуп, но ловок и силён до невероятия. Он не соблазнится ни на какие посулы. Потому что вся его родня сидит в царских темницах, а ещё — в монастырях.
— А ещё, — добавил царь с необычной для него в последнее время уверенностью, — нам следует отправить посланцев в Речь Посполитую к самым знатным панам, в первую очередь к великому гетману и канцлеру литовскому Льву Сапеге и к великому гетману и канцлеру Речи Посполитой Яну Замойскому. Надо убедить их, что это — самозванец. А пока что надо вызнать, кто бы это мог быть... А ещё, не дожидаясь ничего иного, послать верного человека в черкасские земли, чтобы отвадил он черкасских казаков от этого злодея.
Боярин слушал и удивлялся. Яшка Пыхачёв, убив вчера медведя, подействовал своим,поступком на царя. А царь теперь понимает, с кем ему следует бороться. Уже не с тенью, как чудилось прежде...
14
Завидев отца в сверкающем золотом гусарском убранстве, юная Анна всплеснула по-детски тонкими руками. Будто хотела вспорхнуть над Самбором и понестись птицею над густыми лесами, что его окружают, по-над быстрым Днестром. Так и залилась звонким смехом:
— Ой, диво дивное!
Болтушка Ефросиния поддержала сестру:
— Да, диво! Правду говоришь, я никогда не видела татуся в военном строе!
Они спорхнули с верхней галереи, окружили отца. А тут и молодые кавалеры подоспели — все в военных убранствах. Шум, хохот.
И только Марина посмотрела на отца по-взрослому. Как бы глазами своей старшей сестры Христины, недавно попросившейся в монастырь. И вроде бы какое-то ожидание мелькнуло в девичьих глазах — больших и удивительно красивых, как у её покойной матери Ядвиги, из дома Тарлов. Такие глаза у всех женщин из того славного рода.
Пан Мнишек махнул на дочерей рукою:
— Сороки-стрекотухи...
Им легко рассуждать: «Не видела», «Диво дивное!..» А не видела потому, что воеводе частенько просто некогда заниматься тем, чем следовало бы заниматься в первую очередь. И знали бы вы, сороки, как приходится ему вертеться: и войско содержи в порядке, и замки, и шляхту ублажай забавами, вроде балов да охоты, и за порядком в воеводстве присматривай. А вдобавок ты ещё и староста львовский, и подкоморий коронный, и управляющий королевской экономией в Самборе, то есть вот этим старинным королевским замком, сложенным из могучих камней. А одну Либерию прокормить, начиная от маршалка двора и заканчивая последним гостем, которого не знаешь даже как зовут и никогда, пожалуй, не увидишь больше, но который уже месяц-второй сидит у тебя во дворе, запамятовав, куда и зачем ему ехать, ест и пьёт за твой счёт, коней кормит, слуг... Ох-хо-хо!
Конечно, ни о чём подобном пан воевода не заикнулся вслух, а лишь улыбнулся дочерям. Да и не улыбнулся — засмеялся. Сын Станислав, староста саноцкий, очень похожий на отца, только в два раза тоньше, принял отцовский смех за чистую монету — расхохотался, как умеют хохотать беззаботные рыцари.
Смех одолевал всех молодых кавалеров. А что касается собравшейся Либерии и многочисленных гостей — все уже проснулись, умылись, главное — наелись и напились. Всем было весело.
Даже Климура счёл нужным заметить:
— Эх, пан воевода! Будет вам награда от короля!
Наверное, подумалось пану Мнишеку, Климура имеет в виду знаменитую победу под Каменцом, — известно. Но от короля нет никаких вестей касательно этого. Наоборот, одни напоминания о долгах. Впрочем, от весны ещё и не было возможности свидеться с королём. Так что придётся потерпеть. Но если бы что намечалось — двоюродный брат Бернард Мацеевский, кардинал и епископ Краковский, написал бы непременно... Ну да ничего. Зимою будет сейм. Будет встреча с королём. А там... Состоится разговор, как объединить буйных молодцов, черкасских казаков — под рукою московского царевича — Андрея Валигуры! Ха-ха... А пока что надо думать о деньгах.
Панна Марина, узнав, куда направляется отец, сказала сразу и решительно:
— И я хочу поглядеть на наше войско!
Сёстры дружно засмеялись. Да тоже спохватились, поразмышляв немножко. Столько молодых людей будет! Воинов. Столько женихов. Столько забав.
— И мы с тобою, Марина!
— И мы! Да-да!
Они, стрекотухи, правда, долго собираются. И то им не так, и это. Десятки нарядов переберут. Так что отец не мог дожидаться. Накинув бархатный плащ на сверкающие доспехи, он отправился в сопровождении сына Станислава. Дочери придут с кавалерами. А во главе всех кавалеров — князь Корецкий, недавно возвратившийся из чужих земель.
Климура сопровождал пана Мнишека до плаца. Он балагурил, забегая наперёд и стараясь глядеть патрону в глаза.
Плац был заново выровнен пленными татарами, пригнанными из-под Каменца после той знаменитой победы.
— Отправились по шерсть, а возвратились стрижеными, — съязвил Климура при виде согбенных татарских фигур. — Да и не возвратились, — добавил.
Играла музыка. Сверкали под солнцем трубы. Ржали кони. Тихохонько шумели вокруг леса.
Смотр войска вселил настоящую радость в сердце старого воеводы.
Молодые гусары, с лёгкими крыльями за плечами[10], вступив на плац, умело выполняли любые команды. Они с такою скоростью промчались перед зрителями, что Марина, не проронив ни слова, ухватилась за руку отца и так и держала её, пока всадники не скрылись за лесом. А глаза её блестели, будто она сама скакала на коне.
Отец впервые видел дочь в таком настроении, хотя она не раз наблюдала в его присутствии, как скачут гусары. Младшие дочери визжали по-детски:
— Ой, татусю!
— Ой, страшно!
Стройными рядами взбили ботфортами пыль иноземные наёмные воины. Они шли под командою усатого капитана Бланкй. Капитан этот частенько вспоминает в разговорах своего земляка Якова Маржерета. Тот уехал в Москву. От него иногда доходят вести. Он доволен новой службой. Там хорошо платят. А Маржерет — воин достойный.
Чужеземцы, с перьями на широкополых шляпах, с длинными шпагами, улыбчивые, также понравились Марине.
Князь Юзеф Корецкий, высокий и стройный, стоял рядом с Мариной. Он снисходительно улыбался в тонкие усики, наблюдая всё это. Сам он был в бархатном камзоле. Шляпа его отличалась невероятными размерами. И эти размеры свидетельствовали о его мирных намерениях. Он не хотел сейчас смешиваться с толпою. Он проявит себя на поле битвы. Когда настанет время. Потому что многому научился в чужих землях. Его и в рыцари посвятили в тамошних замках.
Общему восторгу не было предела, когда всадники в одиночку стали демонстрировать свою выучку. Они вскакивали на коней, едва касаясь луки седла. А ещё на скаку, не целясь, а только вскинув над головою мушкет, на клочки разносили выстрелами шапки, брошенные в воздух из толпы Либерии. А что выделывали их сабли! Сверкавшие клинки мелькали так же быстро, как бритва в руках итальянского цирульника.
Смотр продолжался долго. Много собралось в Самборе удальцов. Своё умение показывали даже те, кто совершенно не имел отношения к войску сандомирского воеводы. Но им хотелось показать себя. Да и как удержаться, когда на тебя смотрит столько горящих глаз? Когда панянки-воеводянки кричат от восторга и приседают, словно простые девчонки!
Однако всему приходит конец. И когда смотр приближался к завершению, пан воевода сам выехал верхом на буланом скакуне, на котором сражался под Каменцом. Он тоже решил блеснуть своим ещё не забытым умением. Правда, в схватке с врагом оно не могло иметь большого значения, потому что заключалось в броске на всём скаку копья вперёд и вверх с таким расчётом, чтобы на скаку же это копьё схватить рукою. Приём был отработан до такой степени, что никак не мог не получиться. Рукоплескания Либерии перешли в крики «виват», и всё это не смолкало очень долго.
— Сто лет жизни нашему воеводе!
— Браво! Браво!
Но когда смотр уже почти завершился, пана воеводу тронул за рукав откуда-то явившийся Климура.
— Ой, что я вам скажу, пан воевода! — зашептал Климура, выворачивая нижнюю челюсть.
Пан Мнишек невольно встревожился. Он заподозрил что-то ужасное, случившееся по его недосмотру.
— Говори!
Но вид у Климуры показался скорее ликующим, нежели печальным. То, что Климура узнал, просто не давало ему самому покоя. Он должен был высказаться.
— Ой, что скажу! Я только что видел одного знакомого из Острога. Теперь все черкасские казаки стоят на ушах!
— Что? — поразился воевода, невольно хватаясь за рукоять сабли. — Им Наливайка мало... Снова?..
— Да не то, о чём вы думаете, пан воевода, — торопился успокоить его Климура. — Казаки готовы идти на Москву походом. Как уже не раз ходили в молдавские степи восстанавливать там законных властителей. Потому что к ним сейчас явился московский царевич Димитрий!
В голове у пана Мнишека запело. Вот оно... Само начинается... Теперь королю не отсидеться...
— Откуда он? — с надеждою спросил пан воевода. — Кто он? Не бывший ли казацкий сотник? Не служил ли он у князя Острожского?
— Да нет! — удивился такому предположению Климура. — Он бежал из Москвы. И хочет набрать войско, чтобы вести его на царя Бориса. Чтобы отнять отцовский престол.
— И где же он теперь?
— А у князя Адама Вишневецкого. В Брагине...
Больше ничего особенного Климура сказать не мог. Но удержаться на месте тоже не мог. Он понёс свою весть дальше. Он спешил, словно хотел спихнуть с рук скоропортящийся товар.
А пан воевода уже хотя и с приветливым выражением лица слушал бесконечные похвалы своему войску и своему личному воинскому умению, однако ни на минуту не мог прогнать из головы сказанного Климурой. Пан воевода даже посетовал, что до сих пор ему ничего об этом не сообщил его зять, князь Константин Вишневецкий. Ведь князь Адам приходится князю Константину двоюродным братом. И князь Адам, конечно же, написал обо всём в Вишневец.
Сетования пана Мнишека прекратились в тот же день к вечеру. Возвратясь после смотра войска в замок, он получил депешу от зятя.
Послание подтверждало: Климура нисколько не ошибся. Впрочем, подобное заключение можно было сделать сразу, едва раскрыв пакет. Послание было выведено рукою самого князя Константина. Он не мог доверить новость писарям. Кроме того, послание начиналось этой новостью. А завершалось приглашением в гости, в Вишневец, на именины пани Урсулы.
Пан воевода несколько раз перечитал письмо, стараясь выудить в нём какие-то подробности о московском царевиче. От напряжения мыслей он как-то не сразу понял, что таилось в последних строках письма, но когда прочитал их уже в десятый раз, то стукнул себя кулаком по лбу и сказал, оглядываясь:
— Какой же я, право... Вот оно... Вот оно...
Князь Константин писал, что пан Адам приехал к нему сам и привёз с собою московского царевича! Так что пан отец имеет возможность лично познакомиться с наследником московского престола. А высокий гость, кстати, очень надеется на советы сандомирского воеводы, умудрённого опытом жизни и близкого к важнейшим сановникам в Речи Посполитой и даже к самому королю!
Пан Мнишек почувствовал после чтения дрожь в теле. Как на охоте, когда мимо тебя пробегает вспугнутая загоняльщиками дичь. Зверь несётся на тебя, и тебе надо успеть уложить его выстрелом, не промахнуться. Надо успеть заслужить себе похвалу.
Первым побуждением было броситься в кабинет и писать депешу епископу Мацеевскому. А то и самому королю. А то и канцлеру Замойскому... Или...
Однако пан Мнишек понял, что писать сейчас не может. Уж очень сильная дрожь овладела его руками и телом. Вместо всего этого велел собрать семейство и торжественно объявил:
— Едем в Вишневец. На именины Урсулы. Князь Константин прислал приглашение...
До именин Урсулы, действительно, оставалось уже немного времени. Девушки сразу подняли весёлый шум. Засуетились, закричали, тут же готовые бежать в кладовые, тормошить нянек, гувернанток, ключников.
Пан Мнишек озадачил их ещё одной новостью:
— И хорошенько надо готовиться. Там будет московский царевич Димитрий.
Он ждал, что эта новость заставит дочерей замолчать, а затем вызовет массу вопросов. Ведь слухи о появлении царевича, которого якобы давно убили в Угличе, очень часто добирались до Самбора... Но сегодня, удивительно, девушек подобная сторона известия никак не интересовала. Они готовились к занимательной и длительной поездке, к празднику, танцам, маскарадам — вот что им казалось главным!
И только юная Анна сообразила спросить:
— А царевич молод?
Этот вопрос заинтересовал всех дочерей. Отец не успел ещё ничего ответить, как его опередил князь Корецкий, По причине родства он считался почти членом семьи.
— Царевичу должно быть чуть более двадцати лет, — сказал князь. — Он родился за три года до смерти своего отца, тирана.
— О! — пропела Ефросиния. — Он — жених!
Дочери переглянулись между собою многозначительно, включая и маленькую Анну, и начали с интересом расспрашивать, а что ещё пишет князь Константин. Отцу было нечего отвечать. Он предоставил возможность князю Корецкому забавлять панн своими рассказами, а сам удалился к себе в кабинет. Писать письмо епископу Мацеевскому. Пока что только одному епископу.
Дней через десять из Самбора в сторону Львова выехал длинный обоз. Он сразу растянулся вдоль берегов Днестра. Вслед за полусотней гусар катилась карета, в которой сидели юные панны. Во второй карете ехала панна Марина с мачехой, пани Софией. Эту карету сопровождал верхом князь Корецкий. Дальше тянулись прочие кареты и различные повозки. Сам пан Мнишек держался позади обоза, на приличном даже расстоянии, чтобы не глотать пыль. А за ним уже скакала ещё сотня гусар.
Пан воевода мысленно воображал тот день, когда доберётся до Вишневца, и ломал себе голову, как же выглядит московский царевич, как себя с ним вести.
15
Папский нунций Клавдио Рангони пережил несколько неприятных мгновений.
На крутом и мокром изломе Бернардинской улицы над Вислой под его каретой раздался было противный треск. Он почувствовал, что куда-то летит. Однако полёт (или падение) получился короткий и без видимых последствий. Самое худшее предотвратили руки дюжих гайдуков, стоявших на козлах. А пособили гайдукам ещё и королевские гусары, приставленные в качестве почётного эскорта — как всегда. И всё же карету пришлось заменить. На то ушло время.
А потому, привычно взбегая по лестнице в королевском замке, нунций терзался мыслью, что ему, такому аккуратному с раннего детства, придётся сейчас давать что-то вроде объяснений, почему он опаздывает на зов короля. Правда, стрелки часов на Мариацкой башне и стрелки часов на вавельском замке упирались в различные цифры, причём и там и там их положение было в пользу опаздывавшего. Однако Рангони верил своим часам, скрытым у него в складках широкой сутаны.
А за высокими окнами в знакомом кабинете, куда его провели королевские камердинеры, вдруг засияло солнце. Это показалось невероятным. Какое-то мгновение нунций смотрел туда, где только что было хмуро, мокро и ветрено, где лошади стучали и скользили по льду копытами. Очевидно, он чуть-чуть опоздал с извинениями, что ли, как это принято у светских людей, не у духовных лиц. Идущий навстречу король одарил его подобием скупой улыбки:
— Невинная задержка (я понимаю), ваше преподобие, привела к тому, что я ознакомился с только что полученными документами. И это делает предмет нашего разговора ещё более важным. Потому что всё это теперь currit quattuor pedibus[11].
Король широким жестом указал на одно из кресел, приставленных к сверкавшему лаком столу. Рангони с удовольствием опустился. Во время аудиенции он будет иметь возможность созерцать великолепный фламандский пейзаж. Король, сам художник и создатель многих живописных произведений, знает любовь своего гостя к живописи, а потому он нарочито сделал соответствующие распоряжения.
— Дайте мне собраться с мыслями, ваше преподобие, — сказал король и зашагал по кабинету, вдоль окон.
И ещё одно приятно насторожило Рангони. Король сегодня говорит с ним по-польски. Это служило верным признаком того, что разговор пойдёт о делах государственной важности. Если бы разговор начался латинскими фразами — он касался бы духовной жизни. Если бы итальянскими — светской. Ну а по-французски здесь говорят о делах военных. Таких разговоров король не одобряет.
— Сейчас, сейчас, — не забывал король о госте.
Рангони скользил взглядом то по знакомому лугу на полотне, где носились весёлые ребятишки и паслись рыжие коровы, то по фигуре короля и в который раз убеждался, что, не знай он, кто перед ним, он бы ни за что не сказал, что это польский король. Король Сигизмунд никак не походит на людей, землёю которых он управляет. Правда, Рангони отлично знал, что в жилах этого человека струится польская кровь, что мать его — Екатерина Ягеллонка. Но вместе с тем кровь польского короля густо перемешана со шведской. Ведь он приходится двоюродным братом Густаву-Адольфу, знаменитому шведскому властителю. Он — сын Иоанна Вазы, другого шведского короля.
— Сейчас, сейчас, — повторял король.
Да, польский король по внешнему виду казался Рангони настоящим шведом. Высокий, худощавый. И также нетороплив в движениях. Русая короткая борода и длинные, тоже русые, усы вроде бы польские. Но в сочетании с такой фигурой усы эти выглядели не на месте. Будто приклеены. Да, поляки теперь явно жалеют, что позволили себя уговорить Анне Ягеллонке, вдове покойного Стефана Батория, и избрали на престол её племянника. И что за польза им от того, что он преданный католик? Для короля важнее всего прочего — государственный ум. А здесь...
В королевском кабинете обильно горели свечи. Но стоило королю, который никак не мог остановить своей ходьбы, попасть под солнечные лучи, рвущиеся из окон, — и на камзоле у него ярко вспыхивал орден, присланный Папой Римским Климентом VIII.
Напутствуя нунция на эту трудную дипломатическую службу, Папа много говорил ему о задачах польского короля. А ещё больше твердил о том кардинал Боргезе, секретарь Папы.
— Вот, ваше преподобие, — на минуту остановился король, махнул рукою и снова зашагал.
Король никак не мог начать разговор. Это Рангони не удивляло. Он знал всё, что говорится в Кракове об обитателе вавельского замка. Да и не только в Кракове. И не столько в Кракове. Великий гетман и канцлер Речи Посполитой Ян Замойский, опечаленный неожиданной кончиной Стефана Батория, единомышленником которого он был, настоял тогда, чтобы поляки приняли предложение Анны Ягеллонки об избрании на престол именно Сигизмунда. Но когда этот человек прибыл в Польшу, то Замойский не сдержался и сказал в присутствии многих вельмож: «Какие немые черти его к нам принесли!»
Да, король Сигизмунд постоянно погружен в свои мысли. Он всегда молчалив.
— Ах да, ваше преподобие!
Наконец король присел в кресло и открыл рот. Он старался придать своему голосу как можно больше доверительности, хотя это казалось ненужной затеей: у нунция, как и у всех поляков, не было никаких сомнений в том, что король Сигизмунд благоговеет перед его святейшеством Папой Римским. Так уж воспитала его мать, Екатерина Ягеллонка, истая католичка. Пожалуй, подумал Рангони, Сигизмунд своей преданностью католичеству напоминает испанского короля Филиппа II, если отбросить надменность последнего.
— Мы получили достоверные известия, — медленно начал король, — что появился человек, который выдаёт себя за царевича Димитрия Ивановича, сына Грозного.
Прозвучи это по-латыни — Рангони продолжал бы сидеть и внимать королевским устам. Но это прозвучало по-польски.
Рангони почти привстал с места. Он почувствовал как бы удар молнии.
— Но, ваше величество, — заставил он себя всё-таки высказать своё удивление. — В который уже раз...
А внутри запело.
Король остановил его:
— Нет, ваше преподобие. На этот раз человек объявился не в казацкой толпе, не в шинке, но во дворце князя Адама Вишневецкого. Который, как известно, придерживается православного вероисповедания. И как бы там ни было, такой человек, как сенатор Адам, во всём разбирается. Его владения граничат с Московским государством. Это говорит о многом...
После такой продолжительной речи король не мог усидеть. Он снова стал прохаживаться по кабинету, закрывая долговязой фигурой манящий фламандский пейзаж и солнечный свет из окна, — день между тем разгорался.
Конечно, Рангони мог запросто воспроизвести ход королевских размышлений. Наверное же, король в сию минуту жалеет, что не последовал советам канцлера Яна Замойского. Что не стал продолжать того, о чём мечтал и что начал успешно осуществлять Стефан Баторий, — не стал обуздывать своевольных магнатов. А Стефан Баторий смело и решительно поступил со Зборовским, с Осупкой. Не побоялся изгнать этих вельмож из их родовых имений. Не убоялся рокошей. Потому и во внешней политике добился значительных успехов. А здесь... Король ни шагу не волен сделать, чтобы не оглянуться при том на сейм. А в сейме достаточно какому-нибудь пьянице из засцянковой шляхты, попавшему на сейм случайно, закричать «veto!»[12] — и всё пропало.
Однако Рангони был уверен, что аудиенция эта назначена не просто для того, чтобы проинформировать папского нунция о слухах о каком-то человеке, что в голове у короля зреют важные планы, связанные с этим известием. И Рангони уже начал представлять себе предстоящую встречу с кардиналом Боргезе совершенно не так, как могла бы она произойти сейчас. Победителем в Рим можно въехать тогда, когда настоящее Христово учение будет продвинуто на Восток. Чтобы затмить успехи, правда мнимые, которых добился когда-то аббат Антоний Поссевин. Аббат по велению Папы Римского помирил Стефана Батория с Иваном Грозным. Затем он вёл с Грозным переговоры о догматах веры. Он хотел устроить соединение католической религии с православной — под верховенством католической.
Король наконец сказал:
— Я решил обратиться к князю Адаму с повелением дать мне полный отчёт, что это за человек. Хотя бы потому, что московский царь уже наверняка обо всём знает. А ещё думаю издать распоряжение, чтобы казакам никто не смел продавать оружие. Чтобы они не смогли готовиться к походу.
Конечно, Рангони понимал, что черкасские казаки — люди своевольные, что они нисколько не станут подчиняться подобным королевским повелениям, что король ничего серьёзного не может предпринять без позволения сейма, что его мучат и тревожат разногласия с канцлером Яном Замойским, что он опасается нового рокоша...
Но дело было сейчас в ином.
Эта аудиенция укрепляла Рангони в его догадках, придавала ему сил для исполнения того, чего от него ждали в Риме.
Рангони слушал королевскую скупую речь, глядел в окно на солнечный жёлтый свет и начинал чувствовать, что ему улыбается судьба.
16
Пиры у князя Константина Вишневецкого продолжались уже вторую неделю.
Пан Мнишек раздувал усы. Люлька его пыхала дымом.
— Многие гости до того уже обессилели, что мечтают вырваться отсюда, — повторил он в который раз.
Климура поддержал патрона:
— Особенно старые да слабые здоровьем.
Но молодой пан Станислав Мнишек посмеивался над такими словами:
— Мне здесь нравится, далибуг!
Таких, кто сбежал бы с этого празднества, не понимали также дочери пана Мнишека. Особенно юная Ефросиния.
Да только об отъезде нельзя было и заикнуться. Во-первых, просто потому, что по причине торжеств пьяные кучера валялись у дверей конюшен да возовен на жёлтой соломе, что лошади были загодя угнаны в самые отдалённые луга, а возы там, кареты, коляски — всё было заперто в княжеских возовнях. Во-вторых, потому, что кто посмеет ослушаться князя и уехать до срока? А попробуй до него добраться. Когда из-за сплошной музыки, песен и криков голоса своего не слышишь. Когда своих гайдуков не найдёшь. А княжеский оршак — все в дорогих ливреях, в жупанах, все в золоте, в блеске. Княжеские слуги — сами большие паны. Им слова не скажешь. Не спросишь.
— Беда мелкой шляхте, — жалел гостей Климура. — Лучше уж кому-нибудь прислуживать.
Уехать, разумеется, приехать, снова уехать могли только те, кто с князем Константином на равной ноге. Как его брат Адам. Ну конечно, как его тесть пан Мнишек. А так все здесь под его рукою.
Славили гости красоту именинницы, пани Урсулы. (Гладили сердце старого отца такие похвалы, не только сердце мужа). Старались хоть одним глазом увидеть московского царевича Димитрия, о котором здесь говорили и стар и млад. Да и не только здесь. Каждый черкасский казак уже думал о нём. И не только черкасский. Думали и на Дону. Или кто собирался стать казаком. Желали послушать его речей. А речь у него плавная и громкая. Ни у кого не оставалось сомнения: это царевич.
Но большинстве гостей не мучились и прежде никакими сомнениями: царевич есть царевич.
Князей Вишневецких не проведёшь. Даже Климура, казалось, поверил бесповоротно. Хотя в дороге, особенно по выезде из Самбора, ещё во Львове, да и после Львова, он загадочно поднимал плечи.
Что касается молодёжи — молодые поголовно были в восторге от царевича. Когда гости увидели его на коне, в гусарском убранстве, все так и ахнули!
Он перелетел верхом через нарочито возведённый забор, на котором перед тем застряли было трое или четверо юных шляхтичей, чуть себе шеи не сломали, — о, что тогда творилось в Вишневце!
Молодой Станислав Мнишек не отставал от царевича. Он перемахнул забор пусть и не сразу за царевичем, а вслед за Андреем Валигурой, но перемахнул и сказал, что готов идти за таким человеком в огонь и в воду.
Отец лишь улыбнулся. Климура посмотрел на молодого пана как-то озабоченно, обронил:
— За таким пойдут...
Пан сандомирский воевода сам заслушивался речей царевича. Все приметили. Потому что пан воевода казался более доступным, нежели его зять. И все гости видели, как любовался он царевичем, когда тот, разгорячённый после прыжка через плетень, поднял жеребца на дыбы! Это было зрелище! Кажется, сыном своим так не любовался пан воевода.
А ещё все видели, что хозяин Вишневца очень гордится московским гостем. При таком огромном количестве съехавшейся шляхты, когда многие престарелые люди из древних славных родов вынуждены спать почти что на полу, на соломе, в нижнем этаже дворца, — царевичу был предоставлен красивый флигель над широким прудом, поросшим кудрявыми ивами. В спокойной воде отражались белые колонны с высоким фронтоном. А на фронтоне красовался княжеский герб. И у дверей постоянно виднелись чужеземные воины с длинными алебардами.
Пан Мнишек был помещён напротив этого флигеля, но в куда меньшем доме. Да ещё вместе с князем Янушем Острожским в нижнем этаже. А князь Януш тоже приехал с многочисленными людьми. Так что в редкие минуты отдыха пан Мнишек имел возможность наблюдать за флигелем царевича и видеть всё как на ладони.
Юная Ефросиния, сидя вместе с отцом у окна и рассматривая роскошную карету, которая то ли дожидалась царевича, то ли так просто была выставлена, на показ, Ефросиния сказала задумчиво:
— Вот бы нашей Марине выйти замуж за московского царевича! Говорят, Московия большая и богатая.
Пан Мнишек от слов дочери оглянулся: кто это слушает? А рядом находился один Климура. Климуру услышанное не удивило.
— Кто-то уже пустил подобный слух, пан воевода! — оказал Климура — Будто царевич может стать вашим следующим зятем. Люди приметили, что панна Марина ему глянулась. Да и как не глянуться?
— Ой, правда! — захлопала в розовые ладошки Ефросиния.
Соврал ли всё это Климура, нет ли — пан Мнишек не успел сообразить. Климура как ни в чём не бывало продолжал:
— Сначала этому кое-кто не верил. Царевич, мол, берёт себе в жёны царевну. Но стоило им увидеть саму панну Марину — и согласились. Именно такие бывают царицы.
Пан Мнишек не нашёлся вот так сразу что-либо ответить. Однако почувствовал, что ему стало жарко.
Под конец разговора незаметно появился князь Юзеф Корецкий. Хоть и не слышал он всего сказанного Климурой, но многое понял. И лицо его покривилось...
А сам пан воевода, признаться, сначала — по приезде в дом зятя — был удивлён несказанно. Он сидел уже в зятевом кабинете. Князь Константин предупредил: сейчас появится царевич. И тут же вышколенные пахолки бесшумно раскрывают дверь и входит... Андрей Валигура. Какая-то сила подняла пана Мнишека с кресла. А что говорил он ещё в Самборе? Что ответит Климура? Но оказалось, это так положено по московским обычаям: впереди вельможи должен шествовать самый преданный ему человек. Именно таким человеком успел сделаться при царевиче Андрей Валигура. А царевич вошёл следом. На первый взгляд, после красавца Андрея, царевич показался не очень важным из себя. Ростом ниже Андрея на полголовы. Светловолосый. Без усов и бороды. На носу какое-то пятно, что ли... Не таким представлялся сын Ивана Грозного... Хотя так из себя парень он очень ловкий и сильный... Но стоило вошедшему произнести приветствие, стоило сказать несколько фраз — и пана Мнишека будто подменили. Это царевич. Пан Мнишек чуть не закричал: это он!
— Пан сандомирский воевода, мой тесть, — обратился князь Константин к царевичу, указывая на пана Мнишека. — Он готов посодействовать вам во всех ваших затруднениях.
Молодой человек учтиво склонил голову и отвечал на чистом польском языке:
— Я сумею оценить благородство, пан воевода! В этом убедитесь сами. И можете убедиться в скором времени. Я вымолю у Бога снисхождение к моей отчизне, которую попирает ногами узурпатор и злодей!
Голубые глаза царевича сверкнули твёрдым ясным светом. Он продолжал говорить так складно и красиво, что пан Мнишек не смел перебивать его своими обыкновенными словами. Собственная речь пану воеводе показалась бледной и неприглядной. Он ужаснулся: как же это? Впрочем, тут же утешил себя: равняться с царевичем нечего! Он даже удивился тому, что уже хотел подбивать (и подбивал!) знатных людей на то, чтобы выдавали за московского царевича Андрея Валигуру!
Смешно и грешно! Господи, спаси и помилуй.
А Валигура стоял при том и слушал только царевича. Валигура и не подозревал, конечно, какие надежды возлагал на него недавно сандомирский воевода. Бравый сотник, видать, уже позабыл, как расхваливал его пан воевода, как возносил его подвиги под Каменцом! (Даже слепых лирников подкупал, чтобы песни распевали о подвигах!)
Что же, даст Бог, всё станет на свои места.
Пан воевода в задумчивости крутил усы.
Пан Мнишек не любил охоты, однако никогда не отказывался присутствовать при таких занятиях.
Правда, на этот раз он обезопасил себя своим нездоровьем. Он выехал в карете, не верхом. А в руке держал издали приметную палицу, какою обыкновенно пользуются старики, страдающие подагрой. Палица была с золотым набалдашником, сама вызолочена на три четверти и даже украшена родовым гербом — пучком перьев. Чтобы избежать необходимости отвечать на вопросы — как это, мол, получилось, давно ли он болеет, — он сначала прошагал за каретой какую-то часть дороги, поддерживаемый с одной стороны всё понимающим Климурой, а с другой — старым камердинером Мацеем, да ещё в сопровождении князя Юзя Корецкого, который ради того спешился. Пан Мнишек хромал так выразительно, что сам князь Константин приметил его издали, повернул к нему и посочувствовал, придержав жеребца.
Но князь Константин задерживаться не мог, ускакал. Без него охота не начнётся. Князь Юзьо тоже нехотя уехал. Он не любит охотиться. Он оделся не для охоты, но для панн, которых ему назначено сопровождать.
А пану Мнишеку только того и надо. То есть чтобы князь Константин ведал о его болезни.
Пан Мнишек сразу сел в карету, почти перестав хромать, чем нисколько не удивил Климуру и старого Мацея. Даже юная Ефросиния что-то поняла и улыбнулась. Пан Мнишек приказал кучеру гнать лошадей. Теперь можно было всё хорошенько видеть.
Он вскоре увидел своих дочерей. Они скакали верхом на конях, и среди них (что говорить!) выделялась красотою Марина. К её красоте добавилось что-то божественное. И это впечатление усиливалось развевающимся белым платьем и мятущимися при езде чёрными кудрями, которые выбивались из-под расшитого драгоценными камнями берета. Такое бросится в глаза любому царевичу, улыбнулся про себя пан Мнишек. Князь Юзьо уже ехал рядом с чудесными наездницами, но держался как бы чуть сбоку и как бы на расстоянии, тогда как с другой стороны, на более коротком расстоянии, скакали на белых конях царевич и Андрей Валигура. Да и не одни скакали, но уже в сопровождении целой свиты. И такое соседство этих молодых людей, очевидно, приходилось очень не по нраву князю Юзю Корецкому. У князя нервно подёргивался тонкий ус. И сабля на боку подпрыгивала как бы сама по себе.
Надо сказать, что беспокойство князя Юзя передалось в какой-то мере и пану Мнишеку. Ох, тяжело быть отцом красавицы. Но беспокойство омрачало недолго. Климура, сидевший в карете рядом, за всем наблюдавший и всё понимавший, обратил его внимание на длинную цепочку трубачей, которые разом выскочили из синего леса на пригорже. Они вскинули сверкающие на солнце трубы — и над полями, над внимающей землёю понёсся всё покоряющий рёв металла. А как только он смолк — отовсюду, кажется, начал приближаться вал человеческих голосов и брёх миллионов собак.
Охота начиналась.
День получился довольно интересный.
Случались моменты, когда пан Мнишек жалел, что прикинулся больным подагрой. Ему хотелось пересесть на коня и скакать куда-то туда, куда ускакали дочери в развевающихся на ветру платьях. Ему почему-то хотелось увидеть, что делает московский царевич.
Местность возле Вишневца холмистая. И склоны многочисленных возвышенностей почти везде распаханы. Они были засеяны, но уже освободились от урожая. Везде сверкала жёлтая стерня, если не считать отдельных клиньев поздней гречихи. Видно было далеко и отлично. Потому что осенью воздух чист и прозрачен.
— Ту-ту-ту! — разносилось.
Пан Мнишек старался всё увидеть, но не везде поспевал.
Ему уже чудилось даже, что вот его карета ворочает свои колёса на этом пригорке, а главное тем временем совершается за холмами, за лесами. Вон мелькнул и пропал за ветряком белый конь, что под князем Константином. А за князем — ватага всадников. И трубы, трубы, ту-ту-ту! Словно войско на татар идёт. Но пока туда доберёшься — главное уже творится в ином месте. И хотя поля уже почти везде голые (в хорошее время пришла на свет пани Урсула), да на карете напрямик не покатишь. А тут ещё Ефросиния. Визжит от восторга. Словно поросёнок.
В одном месте пан Мнишек увидел на жёлтой стерне, под защитой дуба, окровавленные головы с мощными рогами. Там лежали лосиные туши. Лошади учуяли кровь, рванули по стерне не разбирая куда. Еле справился с ними дюжий возница. В ином месте случилось наблюдать, как разъярённые запахами крови собаки терзают красную лису.
Климура устал от такой езды в карете и попросился в седло. Ускакал. Ефросинии тоже захотелось в седло, но отец на неё даже прикрикнул. Она захныкала:
— Я тоже хочу видеть! Как Марина, как Урсула!
И так продолжалось до вечера. Центр охоты, её остриё, словно дразнясь, то приближался, то уходил. Как на войне. Встревоженные селяне, занятые в поле трудами, молились Богу. А ещё спрашивали пана воеводу, не идут ли сюда татары? Ведь паны всполошились и носятся по полю подобно зайцам.
А вечером, когда солнце скатилось с неба, в полях вдруг стало по-осеннему прохладно. Ефросиния даже закуталась в шубку.
Везде проступала красноватая пыль. Она сгущалась в низинах, делала окружавшее нереальным, сказочным.
Карета пана воеводы уже подкатывалась к замку, когда её догнал верхом на коне Климура. Он склонился к окошку кареты и сказал тихонечко, как только он умеет:
— Плохи дела, пан Ержи...
— Что? — встрепенулся пан Мнишек. — Кто-то упал...
— Да нет. С нами всё в порядке. А вот послушайте...
Клубы красной пыли со всех сторон тянулись уже к Вишневцу.
Добравшись до своего временного пристанища в Вишневце, пан Мнишек хотел сразу же обратиться за помощью к зятю. Но Климура Христом Богом умолял не делать этого.
— Пан только заставит их всё отложить... Я уж как-нибудь сам... Что-нибудь придумаю...
В Вишневце снова закипел пир. Вернее, вспыхнул с новой силой. Он не прекращался днём, ведь не все отправились на охоту. Теперь же готовилось мясо убитой дичи. Все разговоры теперь вертелись вокруг охоты. Все наперебой хвастались своими успехами. Над Вишневцом разносились острые запахи жареного мяса. На эти запахи, кажется, собирались коты и собаки со всей округи.
Пан Мнишек внимательно смотрел на дочерей. Но девушки будто ничего и не знали (а быть может, и в самом деле ничего не знали?). Разве что в глазах Марины отец заметил какой-то дерзкий огонёк, которого прежде там никогда не замечал.
— Ой, как здесь славно, татусю, — громче всех заверяла его Анна.
Урсула, хозяйка, была просто на седьмом небе.
Но удержать дочерей при себе пан Мнишек не мог. Над Вишневцом снова взошла луна и небо усыпали яркие звёзды. Ночь наступала, конечно, уже не летняя, не очень тёплая, но бодрящая, светлая. Как раз для танцев и для веселья.
— Вот что, — сказал пан Мнишек Климуре. — Бери моих гайдуков, бери гусар, сколько нужно, бери пахолков, кого хочешь. Но сделай так, чтобы ни один волосок не упал с этих голов... Ты понимаешь...
Климура кивал головою. А потом сказал:
— Я уже всё знаю. А хотите, пан, и вас с собою возьму...
Пан Мнишек согласился.
Они скрывались в тени густых деревьев.
Было свежо, и пан Мнишек чувствовал в теле дрожь. Однако не от холода. От понимания важности момента. От опасения, что переоценил способности Климуры. Что сейчас произойдёт непоправимое. А тогда... Прощайте, надежды. Потому что... Потому что судьба московского царевича уже переплелась с судьбою Андрея Валигуры. Что бы ни случилось сейчас с одним, то непременно подействует и на другого.
Конечно, пан Мнишек знал, что эта лесная поляна находится рядом с замком (оттуда доносились звуки музыки). Что она незаметно и надёжно окружена гайдуками и гусарами. Однако он опасался, что в случае нелепого исхода того, что задумано, ему придётся держать ответ перед зятем. А ещё — перед князем Адамом, человеком очень дерзким и необузданным. Конечно, лучше было бы прикинуться ничего не знающим. Взять в руки палицу и жаловаться на подагру... И что с того, что молодые люди затеяли ссору из-за панны, как поведал Климура (хотя, конечно, отцу приятно об этом слышать). Будь они простые шляхтичи — тогда бы что. Подрались бы, и всё. А зачем ему в это вмешиваться? Впрочем, уже поздно назад. Вот и сын Станислав так говорит. Вернее, своим видом показывает. Душою он сейчас там, где танцуют.
Пан Мнишек не мог унять своей дрожи. Пахолок не успевал набивать ему люльку.
Климура, видать, тоже переживал. Но старался казаться спокойным. Он раз за разом вскакивал с места — а сидели на каких-то брёвнах — и бежал смотреть на дорогу, которую заслоняли густые деревья. И каждый раз возвращался без слов.
— Неужели на этой поляне решено драться? — спрашивал, лишь бы спросить, пан Мнишек.
Климура всякий раз кивал головою:
— Да... Точно знаю.
Свист раздался неожиданно. Вдали. А повторился где-то рядом.
Климура тут же увлёк пана воеводу и его сына подальше в заросли.
Дрожь в теле пана воеводы настолько усилилась, что он забыл о планах Климуры, о которых тот недавно, вот только что, рассказывал. А переспрашивать было бы совершенно глупо.
Всадники приблизились с той стороны, откуда пан воевода совсем никого не ждал. Их было двое. Ехали очень тихо. Копыта коней, без сомнения, были обвязаны мешковиной. И когда всадники спешились, то пан воевода без труда признал в одном из них князя Корецкого. Князь явился с камердинером, оруженосцем, которого привёз из чужих земель. Под тёмным плащом у пана Юзя сверкнула против месяца медь панциря. На боку у него болталась длинная сабля.
— Этот готов, — шепнул молодой пан Мнишек.
Спустя мгновение с другого конца леса послышался более резкий конский топот. Оттуда также появились всадники. В переднем все узнали Андрея Валигуру. Пан Мнишек ухватил Климуру за руку. Но и второй всадник, явившийся с Валигурой, нисколько не походил на царевича.
— Вот так дела! — сказал негромко пан Станислав. — Надо выйти.
Только его удержал Климура.
Очевидно, князь Корецкий сразу понял, что царевича ему здесь не увидеть.
— Послушайте, — спросил князь Корецкий хриплым и глухим голосом. — Что всё это значит? Где пан, с которым мы условились встретиться здесь и в это время?
Андрей Валигура отвечал очень громко, вроде был уверен, что из-за музыки, доносившейся из замка, их разговора никто не слышит.
— Мой государь, — сказал он, — не волен распоряжаться своей жизнью. Его подданные ему такого не позволят. Если вам угодно, можете сразиться со мною.
— Что? — взвизгнул князь Корецкий. — Да я... Мой дед с королём за одним столом...
— Я тоже дворянин, — перебил его Валигура. — Но если князю не угодно со мною сражаться, то всё же предупреждаю: я тотчас заставлю сражаться всякого, кто вздумает сказать о моём государе что-нибудь неподходящее.
Князь Юзьо, не говоря ни слова, сделал знак оруженосцу, чтобы тот подавал коня.
Через мгновение на поляне остался только Андрей Валигура со своим оруженосцем — каким-то стройным молодым казаком.
17
В который раз уже будоражили довбыши сечевиков, призывая их на майдан, на раду.
Казаки, шумно ругаясь, всё-таки сходились снова и снова. Вздымали шароварами пыль и вставали по куреням, как приходили, не перемешиваясь между собою.
Потому что задумывались до одури.
А когда на раде ничего ещё не решено — без драки не обойтись. А в драке куда сподручней рядом со своими побратимами. Не то — не доведи, Господи! — сомнут тебя, как букашку. Сапогами затопчут. До смерти, может, и не прибьют. Не покалечат. Но так измолотят кулачищами, что отплёвываться кровью придётся до весны.
Но время ли сейчас бока отлёживать?
Надо готовиться к весеннему походу. Жить на что-то надо. Есть-кусать...
Вот только куда в поход? В какую сторону? Против кого?
Изнывали в думах казаки. Народ же прибывал каждый день. И такого наслушаешься на Сечи! Все вновь прибывшие — голодные и холодные.
Кончалась тёплая пора. Последними каплями скапывала.
По обоим берегам Днепра земля уже заметно очистилась и сверкала под солнцем ярким жёлтым да красным песком, а деревья везде, в том числе и на самом острове Хортица, вспыхивали кострами невиданной красоты. Однако речная вода при пологих берегах хранила в себе тепло. Была она как в корыте, в котором тебя пестовали в детстве материнские руки. А тепло манит к себе. И многие молодые казаки, соблазнённые этим теплом, купали в Днепре коней, не заботясь о раде. Что рада? И без них решат всё как следует.
Куренной атаман Петро Коринец только что явился с Дона. И наслушался он там, и нагляделся всего. А как только приехал на Хортицу, как услышал, о чём говорится уже который день на раде, — и поверить сначала не мог. Едва расседлал коня — и на майдан, к своим казакам. Правда, многих казаков уже нет, из тех, что весною здесь были, но... Ворона жив-здоров. Он тогда всё слышал. Он тогда говорил по-иному.
Остановился Коринец ближе всех к жёлтому кругу, посредине которого бугрилась круглая возвышенность.
Кошевой Ворона топтался на этой возвышенности возле врытого в землю столба и смотрел на собравшихся диким степным орлом. Таких орлов встретишь на каждом, почитай, кургане. Что не так — кошевой взлетит и без крыльев. Заметив Коринца, нахохлился пуще прежнего. Забеспокоился.
«Чует кот, чьё сало съел!» — подумалось Коринцу.
Кошевого окружало несколько старшин. Писарь среди них — из польских шляхтичей, без сомнения, хоть и человек православной веры — покручивал тонкий ус. Другой рукою поправлял при красном поясе белый каламарь с чернилами. Пока всё это без надобности. Не тронут писаря, говорил его вид, доколе кошевой остаётся кошевым. Да ведь в любое мгновение у Вороны могут отнять длинную палицу с золотыми драгоценными блестками, Очеретину, как говорят казаки. А как накроют на власть шапкою кого иного — о, тогда и писарю могут надавать по шее. Старшины при кошевом также понимали: их положение здесь — что у чайки при битой дороге. Того и жди беды.
И лишь чёрные, как головешки, довбыши с увесистыми деревянными довбнями, при двух широких барабанах каждый, стояли с такими равнодушными лицами, словно им вечно жить. Им что? Они как петухи на рассвете. Прокукарекали — а там хоть и не рассветай вовсе. В который раз уже за эти дни выходил на жёлтый песок царёв посланец Петро Хрущ, или Хрущёв, как он себя называл, отправленный из самой Москвы. Вышел он и сегодня. Подобрав длинные рукава красного кафтана, стащил с головы соболью шапку и бросил её в песок. Только пыль взвилась.
— Славно! — сказали с лёгким смехом.
Казаки же в основном загудели: дескать, знает и почитает московит сечевые обычаи.
— Казаки! — сказал Хрущёв бодрым громким голосом, даже на краю острова услышали его те, кто коней купал. А на майдане стало тихо в самых дальних углах. — Христиане! Великий царь московский Борис Фёдорович помнит и ценит ваши услуги христианской вере и Церкви Христовой. Он сегодня обращается к вам с твёрдым увещеванием: не поддавайтесь на уговоры лукавого человека, который выдаёт себя за покойного царского сына. Никакой то не царевич. То беглый монах из Чудова монастыря, по прозванию Гришка Отрепьев. И читал я вам про то царскую грамоту уже несколько раз, а сейчас говорю для тех, кто ещё не слышал. А грамота уже у вашего кошевого атамана! Проворовался этот Гришка Отрепьев, но отвечать за содеянное было страшно. Вот и вздумал броситься в бега. И занялся чернокнижием. Дьявол дал ему силу. Сблизился он с врагами православной веры и хочет народ православный обратить в латинскую веру, чему рад будет Папа Римский. И многих удалось уже совратить с пути истинного, кто в Бога слабо верует! Так что одумайтесь, казаки, потому что ведомо царю: и среди вас есть такие, кто готов помогать Гришке окаянному! И есть у царя-батюшки известия, что некоторые из вас готовы воевать против Московского государства! Что вы уже собираетесь в шайки.
Как уж ни торопился Хрущёв, наученный опытом последних дней — да и не только последних, знал казацкую натуру, — а не успел снова высказаться. Оборвал его гром голосов.
И что началось!
— Врёт он, братове! — кричали с одной стороны. — В шею его, проклятого!
— В Днепре утопить!
И даже пытались приблизиться. Только кошевой Ворона не позволил. Крикнул, что это — посол. И дюжие казаки стеною стали на защиту Хрущёва.
А с другой стороны накатывалось не менее грозное:
— Правду режет! Нельзя на царя православного!
— На турка ударим!
— На ляха! — кричали третьи. — Это ксёндзы придумали!
Петро Коринец улучил мгновение, оказался рядом с Хрущёвым. Царский слуга от неожиданности прикрыл голову руками.
Казаки захохотали, поняв его испуг. И тут же узнали Петра Коринца.
— Го! — закричали уже ему. — А ты откуда?
— Коринец?
— Ты же на Дон уезжал!
Коринец решил воспользоваться замешательством кошевого Вороны.
— Казаки! — закричал уже Коринец. — Есть на свете беглый монах Григорий Отрепьев! Правду говорит Хрущ! Я сам видел того монаха на Дону. Да только лет ему за пятьдесят. И нисколько он не выдаёт себя за царевича Димитрия. И бежал он действительно из Чудова монастыря. А что правду говорю — так это вы от него самого услышите! Потому что через неделю-другую Гришка Отрепьев будет здесь! Он сам расскажет вам, почему бежал из монастыря. И расскажет правду о том, как поступал вор Борис Годунов, лишив царевича Димитрия отцовского престола и даже чуть не зарезав его. Богом клянусь, что правду говорю!
Хрущёв, опомнившись, выпучил глаза. Он обернулся за содействием в сторону кошевого. А тот поднял беспомощно плечи: дескать, что я могу? От смерти тебя спасаю, хоть это цени!
— Враки! Враки! — закричал что мочи Хрущёв, отстраняясь от Коринца.
А Коринец ещё громче:
— Какие же это враки? Царевич весною был вот здесь, у нас! Вот на этом месте стоял! Ещё остались казаки, которые его видели и слушали! Не все ушли в походы. Не все сгинули. Отзовитесь!
В толпе раздались голоса:
— Да! Видели! Был!
— Молодой был и бравый!
— И помощь ему обещали!
Коринец взглянул на кошевого. Подтвердит ли тот? Но лицо кошевого сделалось красным, как варёный днепровский рак. Он что-то шептал Хрущёву на ухо и указывал на казаков, которые купали за куренями коней.
— Царевич просил у нас помощи против супостата! Мы должны ему помочь! — возвысил голос Коринец. — Обещали! На Дону казаки готовы выступить хоть сегодня. Вместе с Григорием Отрепьевым они пришлют к нам своих послов! Ждите!
От речей Коринца количество криков, направленных против Хрущёва, явно увеличивалось.
Хрущёв попытался ещё что-то сказать, но вдруг сообразил, что растерял всё то, чего добился было за эти несколько дней. А виною всему — Коринец. Царёв посланец опустил голову.
— Хруща под секвестр! — закричали казаки. — Под секвестр собаку!
— Будем ждать Гришку Отрепьева!
— А если правда всё то, о чём сказал Коринец, то закуём Хруща в оковы!
— Да! И отправим к царевичу!
18
Как только Андрей Валигура оказывался в покое на первом этаже княжеского флигеля, где жил теперь московский царевич, он всякий раз ловил себя на мысли, что его неудержимо тянет к окнам.
Окна были высокие, стрельчатые. А то, что можно было видеть сквозь небольшие стёкла, забранные свинцовой тонкой рамой, складывалось в чудесную картину. Украшением картины выступало каменное крыльцо с белой балюстрадой в доме напротив, в котором жил теперь воевода Мнишек. Андрей без труда, но с волнением заключал: притягательной для него в этих окнах стала сама возможность появления на крыльце воеводской дочки, панны Марины.
Простоватый Харько, который везде находит обожающих его молодиц, осторожно сказал, завидев впервые княгиню Урсулу: «Вот это краля! Во сне бы такую... прижать!» Андрей ответил сразу: «Сестра у неё красивей!» Харько посмотрел недоверчиво. «Красивей не бывает! — ответил, подумав. — Впрочем, что пирогу до ветряка? Нам и наших красоток хватит!»
Эти слова несколько остудили Андрею голову. Почудилось, будто Харько, можно сказать бродяга, ставит его, Андрея, потомственного дворянина, на одну доску с собою. Это не понравилось.
А царевич, услыхавший разговор случайно, даже не откликнулся. Андрей был готов пожалеть царевича: для него, конечно, существуют царевны. Да все ли царевны так хороши? Этого Андрей не знал. И не задумывался над подобными загадками. Он только понял: прекрасней девушки, увиденной когда-то в лесу, над речкой, ради которой, конечно же, прыгнул в ледяную воду, не из-за какой-то шкатулки, — прекрасней этой девушки нет существа на свете!
Теперь он мог рассматривать Марину из своего окна всякий раз, как только она выходила на крыльцо, чтобы скрыться в карете, чтобы сесть на коня, прогуляться в окрестностнях Вишневца в сопровождении брата да ещё князя Корецкого, которому он, Андрей, утёр нос, лишив его возможности сразиться на дуэли с царевичем.
А царевич, которому Андрей впервые показал дочку сандомирского воеводы вот от этого окна (царевич случайно заглянул было сюда), — царевич тогда просто застыл на месте. Выражение его лица и навело на новую, удивительную мысль. «Что же, — сказал себе Андрей. — Харько прав. Не моего поля ягода... А такое, говорят, бывает: женятся царевичи не на царевнах».
С новой мыслью Андрей носился теперь как дурень с писаной торбой.
Впрочем, и так было за что хвалить самого себя. Андрею было достаточно понимания, что он достоин похвалы. Понимания того, что всё сейчас получается так, как хотелось. У него появилась надежда возвратиться когда-нибудь на землю предков. Да что там когда-нибудь! Возвратиться очень скоро, если поможет Бог.
Слов нет, Андрея огорчил приём, оказанный царевичу на Запорожской Сечи. Огорчали поступки не простых казаков, но кошевого Вороны.
Петро Коринец обещал лично отвезти на Дон новые царевичевы грамоты. Коринец, конечно, слово сдержит. Но куда звать казаков? Где им собираться? Под Киевом? На московских рубежах? Под Киевом — неплохо бы. Да вот старый князь Острожский пригрозил употребить силу. Сам он, конечно, одной ногою стоит в могиле. Но во главе его войска — сын Януш, решительный и дерзкий. И Януш вроде бы заверил отца: «Ни одного мятежного горлопана не выпущу отсюда, который захочет воевать с московским царём Борисом!»
Обретаясь на Сечи и по дороге назад, Андрей наслушался рассказов о князе Адаме Вишневецком. Много людей убегает из его владений, спасаясь от непосильных тягот. Они и поведали, как враждует князь с московскими порубежными воеводами. Московиты в конце концов отняли у него город При луки. И не отдают назад.
Стремясь настичь царевича, Андрей загнал коня. Последние вёрсты преодолевал пешком. Но царевича настиг. Тот сидел в пустующей келье в маленьком монастыре. Корпел над церковными книгами. А на самом же деле — размышлял. Как поступать ему дальше?
Андрей поведал об увиденном на Дону. Царевич слушал, ни о чём не расспрашивал.
Андрей подозревал, что к царевичу неспроста приходят по ночам какие-то люди. Они отыскивают его везде. Говорят с ним обязательно наедине. Тихонечко. Если что-то говорят. Затем исчезают, словно мыши.
Андрей проговорил с царевичем в тесной келье весь вечер. А наутро они незаметно ушли. Подобно людям, которые навещают царевича. Конечно, прихватили с собою Харька и Мисаила. До Брагина, где обычно любит жить князь Адам, добирались ещё два дня. Шли пешком, как ни стонал Харько, подбивая купить новую повозку и нового коника. Нет, было сказано твёрдо. Скоро будем ездить на иных возах. Харько пропускал намёки мимо ушей. Ничего не отвечал. Но было понятно: после поездки на Сечь Харько слегка разуверился, что перед ним действительно царевич. Что же, тем более сильное удивление его ожидало...
Маршалок княжеского двора в Брагине с удовольствием записал пришедших в подвластную ему либерию. Приказал одеть в кунтуши, выдать сапоги и шапки.
«Пока в гайдуки вас, хлопцы! А там и в казаки переведу. Если сами на глаза князю не попадёте!» — «Да как не попадёт на глаза московский царевич?» — хотелось крикнуть Андрею. Но сдержался.
И верно поступил. Сам Бог помог царевичу объясниться с князем Адамом. Как уж там было — неизвестно. Царевич не открывает. Говорит, слово дал. Да только князь Адам приказал вдруг одеть царевича как пана. Подарил великолепную карету, в которую запрягают шестёрку коней. Приставил к гостю гайдуков, разных слуг. Громогласно объявил: «Это московский царевич Димитрий Иванович!» Конечно, хорошее отношение князя ощутили на себе Андрей и Харько. Даже Мисаил получил в дар удивительную рясу, о каковой и не мечтал.
Вишневец продолжал свою весёлую жизнь. Она была наполнена банкетами, маскарадами, танцами, охотой и разными забавами. Задумывали всё это княгиня Урсула и её сестра Марина. Скорее, конечно, княгиня Урсула, как хозяйка. Марина подчинялась сестре. Собственно, Марина выступала душою маскарадов. Ради них одевалась то скромною пастушкою с венком на голове, то поселянкою, а то разбитною корчмаркою. Но как ни одевалась — никакие костюмы и никакие маски не могли скрыть или изменить её красоты.
Впрочем, красота эта, увиденная вблизи, просто-напросто испугала Андрея, когда он однажды, в танце, будучи одет немецким рыцарем, позванивая доспехами, встретился с Мариной и заглянул ей в глаза, прикрытые золотистою маскою. Показалось — заглянул в бездну. Тогда ещё гостил в замке воевода Мнишек (он уехал через день после банкета, оставив дочь на попечение хозяев Вишневца), и Андрей поспешил сразу после мазурки отвести дочь под отцовскую опеку. Марина была одета черкасскою крестьянкою, а пан Мнишек — усатым черкасским хлеборобом.
Помимо шермерки[13] и верховой езды — во всём царевич показывал отличные успехи ещё в Брагине, у князя Адама, — князь Константин снабдил его теперь ещё учителем танцев, старым и сухим, как полено, итальянцем по имени синьор Капричелли. И вот в самом просторном зале флигеля, где жил царевич, теперь каждое утро, после непременной шермерки, давались уроки танцев. Синьор Капричелли с одинаковым увлечением наставлял не только царевича, но и Андрея, и даже Харька, даже молодых казаков и московских людей, прослышавших о царевиче и влившихся в его свиту. Надо сказать, царевич и в танцах проявлял себя дельным учеником, так что синьор Капричелли хвалил его более прочих, и хвалил заслуженно!
Однако в просторном княжеском зале, где танцы были многолюдные, где взоры танцующих устремлялись непременно на царевича, последний снова чувствовал себя всё тем же учеником, что и в зале флигеля. Он не мог пока сравниться с людьми, которые учились танцам с детства. Какая-то скованность не оставляла царевича и на маскарадных балах. Особенно в паре с панной Мариной. Такое поведение царевича озадачивало Андрея. Андрей пробовал заводить с царевичем разговор о девушке и вскоре удостоверился, что Марина с каждым днём всё сильнее нравится его господину. Андрей уже свыкся с мыслью, что эта панна не его поля ягода. Ему оставалось сожалеть, почему Господь Бог не наградил царевича такой же лёгкостью в обращении с женщинами, какую получил от рождения, скажем, Харько. Для Харька, позволь ему его положение, не было бы трудностей в разговорах с панной Мариной, в разговорах с царицею, царевной, королевной.
Подобного рода мысли не оставляли Андрея даже тогда, когда он в свободное от увеселений время помогал сочинять грамоты. Грамоты предназначались для московитов. В первую очередь — для населения тех мест, по которым царевич намеревался начать поход на Москву.
— Это будет Севера, Андрей, — сказал царевич как о деле решённом. — Я там был. Я знаю: там всё дышит ненавистью к Борису. Там меня поддержат. И там найдут поддержку казаки.
— Значит, на Чернигов? — интересовался Андрей. — Почему же ты, государь, не сказал о том раньше? Когда мы были на Сечи. Казаки бы знали, куда отправляться.
— На Чернигов, — подтвердил царевич. — Да о том не следует до срока распространяться. Особенно перед казаками. Иначе Борис начнёт укреплять Северу. Пускай в Москве помышляют, будто я пойду там, где всегда ходили поляки, — через Смоленск.
Грамоты для русского народа получались изрядные. Начисто перебеливать их приходилось Андрею да ещё писарю пану Пеху, приставленному к царевичу князем Константином. Царевич только высказывал главные мысли. Андрей использовал свои знания, чтобы эти мысли расцвечивать.
А затем, ночью, появлялись во флигеле люди, о существовании которых, быть может, не ведал даже князь Константин. Они забирали готовые грамоты и уходили прочь не мешкая. Приходили под видом православных монахов, калик перехожих, нищих бандуристов с огромными бельмами на глазах, что не мешало им, однако, видеть дорогу даже в темноте.
Однажды, взяв из рук Андрея свежеизготовленную грамоту, один из таких таинственных людей, не открывая лица, спрятанного под чёрным наголовником, заговорил.
— Знаешь, сын мой, — сказал он, — нашему государю грозит много бед ещё до того, как он отправится в поход. Скоро здесь появится человек от литовского канцлера Льва Сапеги. Тот человек должен подтвердить, что царевич — истинный сын Ивана Грозного. Ты правильно поступил, отведя от царевича опасность, исходившую от князя Корецкого. Ты славно поступаешь, способствуя сближению царевича с панной Мариной. А теперь ты должен добиться, чтобы человек Сапеги принародно признал царевича!
— Как? Откуда знаете? — успел прошептать Андрей. — И как узнать того человека? Сам он скажет? Или...
Однако пришелец в чёрном не стал отвечать. Он только сунул в руку Андрею увесистый кожаный мешочек, набитый монетами, — их округлость ощущалась даже сквозь кожаную оболочку.
Андрей выскочил за пришельцем на крыльцо, под колючий осенний дождик. Но человек успел раствориться в темени.
Андрей спустился с крыльца. Пройдя несколько шагов, увидел вдали сторожевых казаков с фонарями, услышал шаги. Но как ни напрягал слух — ни во дворе, ни за его пределами уши не различали никаких иных звуков, кроме топота казацких сапог. Ночь же выдалась чёрная, непроницаемая, как хорошее немецкое сукно.
Андрей снова взобрался на крыльцо, поднял голову. Наверху, над ним, во втором этаже, колыхалось в окошке слабое сияние, там читал свои книги царевич.
Андрей посмотрел на дом напротив — на верхнем этаже в нём тоже горело окошко. Андрею подумалось, что там сидит панна Марина. Что занимает её душу? Панна понимает: она нравится царевичу...
Андрей так живо представил себе сидящую при столе девушку, что тут же решил: «Сегодня же расскажу ей на маскараде, как её любит царевич. А там... Придумаю, как обнаружить человека, которого послал канцлер Сапега...»
Андрей покачал в руке увесистый мешочек с монетами и впервые почувствовал себя очень уверенно.
19
Графу Замойскому чудилось, будто он снова в Италии, в Падуе, снова торопится в тамошний университет.
Извозчик, по-местному — веттурино, стоял возле белой стены. Коричневую кожу на его лице прописала кисть самого Тинторетто.
«К фонтану... Снова...»
Веттурино вскрикнул. Мулы вздрогнули и потащили скрипучий возок.
Перед глазами плыла разноцветная шумная толпа.
Возле фонтана выросла фигура девушки. На узком плече в золотистого цвета кувшине плескалась вода. Капли сверкали под солнцем.
«Здесь!»
Веттурино повернул голову, протянул руку. Пальцы впились в плечо седока.
«Иди за мною!» — вдруг оскалились белые зубы между чёрными губами.
Стало нестерпимо больно...
— О Господи! — сказали знакомым голосом. — Вот сюда, синьор Паччионелли. Езус-Мария!
На крепких руках у лекаря Паччионелли застывали капли крови.
— Что снилось, serenissime[14]? — спросил, улыбаясь как всегда, лекарь.
— Всё то же. Был студентом в Падуе.
Пациенту хотелось ответить бодрым голосом. Но голос звучал тихо.
— Это хорошо, — выразил своё мнение лекарь. — Но сегодня придётся отдохнуть, пан канцлер. Поспать... Даст Бог, снова побываете в Падуе. Теперь хотя бы во сне.
— Но... Мне надобно работать. Надо успеть.
— Завтра, полагаю, serenissime, всё уладится.
— Завтра... Завтра...
Граф Замойский, великий канцлер и коронный гетман Речи Посполитой, молил сейчас Бога только об одном: дать ему возможность составить надлежащую речь для произнесения её в сейме.
Речь могла стать его vox ultima cygnea[15]. Его завещанием. А потому канцлеру хотелось выразить свои опасения и свои советы: как надлежит поступать в дальнейшем королю и сейму ради благополучия государства.
И вот...
Болезнь отыскала во сне.
— Нет ли известий из Кракова? — спросил канцлер.
Из Кракова — это от короля.
Секретарь понимал. Секретарь ответил:
— Нет.
Лёжа на постели, приготовленной в кабинете, канцлер сожалел, что не успел, не смог и уже не успеет и не сможет обезопасить государство, как успел, ему казалось, обезопасить своё родное гнездо — Замостье. С юга Замостье прикрыто глубокими прудами, с севера и запада — непроходимыми болотами. С востока крепость обрамлена особой оборонительной стеною. Это при том, что оборонительные стены города по всему периметру способны выдержать продолжительную осаду неприятельского войска. На них достаточно башен и достаточно пушек. Расставлены они к тому же по науке и требованиям первейших европейских авторитетов. А в ширину эти валы, тоже по всему периметру, достигают таких размеров, что на них спокойно разминутся встречные экипажи.
Но Речь Посполитая, огромное государство, открыта почти со всех сторон. И защищать это государство должны люди. А этих людей надо уметь организовать.
— Именно. Организовать. — Канцлер поднял с подушки голову.
Мысль его подтверждали самым наглядным образом две карты, которые висели на стенах кабинета. Одна из них представляла собою Замостье в развёрнутом виде, как бы с высоты птичьего полёта. Границы города, его стены, очерчивали чёткие линии. На другой, где изображена вся Речь Посполитая, государственные границы проступали как-то размыто, особенно на востоке. Но в ещё большей степени размытость их представала на юге. Будто картограф не успел там вывести всем известную надпись: «Hie sunt leones»[16].
— О Господи! Дай мне своё позволение!
Уже не первый месяц Замойский с горечью чувствовал, как оставляют его телесные силы. Прожитые сейчас дни начинал считать подарком судьбы и нисколько не был уверен, придётся ли ему вот так же завтра отходить ко сну, как удалось это сделать сегодня.
Горькие раздумья лишали сна, хотя и поддерживали дух, когда становилось невмоготу, посреди ночи он скатывался с постели, пробирался к конторке и склонялся над рукописью. Писал, писал, зачёркивал и снова писал. Чтобы наутро снова всё переиначить. Он понимал, что речь должна быть чрезвычайно краткой (длинных речей в сейме не слушают), зато очень убедительной. В сейме достаточно не угодить кому-нибудь одному: тот прокричит своё veto — и все твои старания пропали даром.
— Serenissime, — предупредил его, качая головою, синьор Паччионелли, — давайте говорить о чём-нибудь ином. Нельзя так...
А ещё в промежутках между писанием канцлер погружался в чтение книг римских авторов. Его увлекал не столько строгий стиль и выверенность композиции, присущие Цезарю, Цицерону, Вергилию, сколько выразительность языка, которую чувствовали Плавт или Теренций. Сочинения Плавта и Теренция постоянно лежат на его столе.
Он понимал, что речь, при своей краткости, должна быть чрезвычайно убедительной. Стоять у конторки с каждым днём становилось труднее. И всё же старый канцлер не полагался на помощь многоопытного врача. Синьор Паччионелли окончил курс в том же Падуанском университете, в стенах которого 3амойский провёл свои лучшие, студенческие, годы жизни. Он, Замойский, тогда ещё совершенно юный, успел к тому времени объехать всю Европу, надолго задерживался в Париже, в Страсбурге. Увлекаясь латынью, написал трактат о римском сенате. Надо сказать, что синьор Паччионелли обучался в Падуе примерно в то же время, прибыв туда, правда, несколькими годами раньше. Возможно, они не раз встречались на узких улочках и уж точно носили одинаковые широкополые шляпы с перьями, одинаковые длинные шпаги с серебряными колёсиками на кожаных ножнах. Обучаясь на разных факультетах, они лично не познакомились. Зато теперь в разговорах воскрешали названия падуанских улочек и площадей, припоминали, как выглядят развалины античных строений, чем пахли замшелые стены древних замков. Толкуя о давнем, они отчётливо представляли глаза итальянских девушек, таскавших от фонтанов кувшины с водою. Они слышали голоса тогдашних веттурино и скрипы возков, влекомых медлительными мулами. Девушек могли назвать по именам. То были очаровательные создания, красотою которых любовались питомцы всех факультетов. Господи, мысленно произносили бывшие падуанские студенты, глядя друг на друга, как быстро убегает время — tempora effugiunt[17].
Синьор Паччионелли, старше графа двумя годами, выглядел сейчас довольно моложавым человеком. Нельзя было сказать, что ему пошёл шестьдесят шестой год.
«Такого ещё могут взять в гусары!» — одобрительно говорил Замойский. «Готов служить только под вашими знамёнами, serenissime», — в тон ему отвечал синьор Паччионелли.
Сам же Замойский старился на глазах. У него недоставало передних зубов. Он уже плохо различал буквы, всё чаще поручая чтение секретарю. Но неважно и слышал. Он почти лишился сна. Особенно донимали длинные зимние ночи. Не приносила утешения даже возможность бесконечного бдения над книгами, о чём когда-то мечтал, обретаясь в дальних походах. Утомляло однозвучное завывание ветра в бесчисленных трубах на свинцовых крышах замка. И это при том, что едва-едва миновало три года с последней уже наверняка победы, когда войско под его руководством разбило турок в молдавских горячих степях.
«Что же, — утешал себя старый воин и дипломат, — состарила меня до срока верная служба Речи Посполитой. И мне нечего стыдиться». — И тут же припоминал, как подкосило его здоровье известие о смерти короля Стефана Батория. Horret animus meminisse[18].
Стефан Баторий, избранный на престол после смерти Сигизмунда-Августа, пленил молодого Замойского грандиозными планами о создании славянского союзного государства, способного противостоять исламскому миру. На турок следует ударить из Москвы, через Персию! В новосозданное государство должны были войти славянские земли. Именно на войну с турками были даны деньги в Ватикане. Но война, которую Баторий вёл с московитами, утомительная осада Пскова — всё это воочию показало: осуществить задуманное очень трудно. Если вообще возможно. Если доступно человеку. Баторий понял, какими неистощимыми силами обладает Московское государство. Заключив в конце концов мир с Иваном Грозным, Баторий тут же обратился к реорганизации самой Польши. Он многого успел добиться. Он бесстрашно ограничивал власть польских магнатов. Он был уже на пути отмены права liberum veto[19]. Но Баторий вдруг уснул навеки. Папа Римский Сикст, узнав о том, говорят, заплакал.
Баторий умер, не оставив наследников.
Замойский тогда использовал всё своё умение и всю свою ловкость, для того чтобы на престоле сел нынешний король Сигизмунд III. Замойский надеялся найти в нём единомышленника и продолжателя дела Батория. Тем более что за Сигизмунда стояла его родная тётка Анна Ягеллонка, супруга покойного Батория.
Но как горько осознавать ошибку сейчас. Когда уже иссякают силы. И почти ничего не сделано. Король Сигизмунд, оставаясь в душе шведом, уповает на слепое поклонение всех народов Папе Римскому. Себя он считает папским вассалом. Сигизмунд не понимает, каким благом для Речи Посполитой может стать мир, заключённый с Москвою на ближайшие двадцать лет. Мир стоил больших усилий. И его надо оберегать. Болью для Речи Посполитой остаются сейчас отношения с Оттоманской империей. Турки всё ближе. Всё ожесточённей рвутся к сердцу Европы.
А Сигизмунд способен в любой момент разорвать мир с Москвою. Он тешит себя надеждами на появление царевича Димитрия, сына Ивана Грозного. В последнее время тень московского царевича связывают даже с именами князей Вишневецких. Будто он — в их владениях. Будто они его признали, помогают готовить войско для похода на Москву. И король не отмежевался от подобных деклараций. Точно известно: он потребовал от князя Адама Вишневецкого объяснения, вернее — подтверждения, что у него находится царевич Димитрий. Вместо того чтобы взять самозванца под стражу.
Стоять у конторки иногда уже невозможно. И вот — новая напасть.
Однако это вовсе не означало, что канцлер полностью передал свои обязанности вице-канцлеру Петру Тыльскому, с которым, кстати, как с человеком покладистым, старается общаться король Сигизмунд.
После привычной утренней молитвы и утешительной беседы с духовником иезуитом да с лекарем Паччионелли канцлер с особым интересом приготовился следить за докладом секретаря. Его тут же насторожило послание короля. Подобные послания теперь нечасто прибывают в Замостье.
Сначала канцлеру показалось, будто это один из тех элементов переписки, которую следует поддерживать между собою королю и канцлеру, лишь бы не вызывать нареканий сейма. Которая, впрочем, ни к чему не обязывает ни того, ни другого. Но тут же канцлер понял: дело обстоит не так.
То был запрос сенаторам. Король извещал о появлении в пределах государства московского царевича Димитрия Ивановича и спрашивал мнения, как поступить ему в необычных обстоятельствах.
— Он ещё спрашивает! Езус-Мария! — вырвалось из уст канцлера. — Будто он не король.
Из слов запроса получалось, что король нисколько не сомневается: да, царевич — истинный. Король как бы исподволь старался навести на такую мысль сенаторов. А в качестве предварительного доказательства, что речь идёт именно о той особе, о которой говорится, к запросу было приложено жизнеописание предполагаемого царевича, рассказанное им самим, а записанное рукою князя Адама Вишневецкого.
Канцлер велел прочитать жизнеописание трижды. Рассказанное совпадало с известиями, которые канцлер получил уже из других источников, так как ещё располагает властью в государстве.
Негодованию не было предела.
— Как? — прервал канцлер секретаря на третьем чтении. — Поверить сказке? Убили в Москве человека и даже не посмотрели, того ли убили? Убили у матери сына, она же сидела у гроба покойного на протяжении шести суток, знаем точно, — и не поняла, сердцем не почувствовала, что это вовсе не сын? Езус-Мария! Нет! Это похоже на комедии Плавта или Теренция! И король посылает нам подобные сказки! Он не заботится, как отнесутся к этому в Москве. Он терпит такого человека в своём государстве. Он не выражает негодования князю Адаму Вишневецкому, у которого, понятное дело, имеются причины враждовать с московскими воеводами. Но почему должна страдать Речь Посполитая? О temporal О mores![20]
— Serenissime! Умоляю вас!
Синьор Паччионелли, тут же явившийся в кабинет, ломал пальцы рук, понимая, насколько бессильны сейчас все средства, которыми он располагает и которые, по его указаниям, пахолки уже подавали пациенту.
— Serenissime! Умоляю! — складывал на груди руки синьор Паччионелли. — Что всё это значит перед вечностью? Подумайте! Умоляю.
Замойский срывался с подушек:
— Нет! Нельзя допустить, чтобы он усыпил бдительность сенаторов! Мир с Москвою надо беречь! Мы — соседи. В этом со мною солидарны, я знаю, многие. Князь Константин Острожский, канцлер Сапега, гетман Жолкевский, Ходкевич... Самозванца поддержат, помимо Вишневецких, сандомирский воевода Мнишек, его брат Мацеевский — епископ Краковский, ещё краковский воевода Николай Зебжидовский, ещё найдутся такие... Но что они могут противопоставить Москве, когда у нас нет Батория? Когда у нас каждый сам себе начальник? Что значит храбрость каждого в отдельности?..
Больному стало дурно. Он начал бредить. Ему вновь виделась Падуя...
Канцлер пролежал целый день. Он повторял слова королевского запроса и слова из жизнеописания предполагаемого московского царевича.
Однако синьор Паччионелли вскоре сделал верное заключение: пациенту станет гораздо лучше, если он избавится от своих забот хотя бы частично, если его гнев выплеснется на бумагу, а бумага будет отослана.
— Serenissime! — сказал синьор Паччионелли. — Давайте напишем ответ!
Ответ писали, можно сказать, втроём: канцлер диктовал, секретарь облекал сказанное в более мягкие формы, стараясь не пропустить ни одной буквы, а лекарь следил за состоянием здоровья канцлера, время от времени подбрасывая бодрые замечания.
— Главное, — говорил в изнеможении канцлер, — убедить его, чтобы он дождался сейма.
«А там будет видно, — думал он про себя. — На сейме дадим ему сражение!»
20
Снега в Вишневце ждали с нетерпением.
Князь Константин, выходя по утрам на балкон, распахивал на груди турецкий халат разительно алого цвета и с надеждой всматривался в небо, но тучи со снегом не появлялись.
Князь покручивал длинный чёрный ус. Он возвращался в кабинет и посылал казачков с приказами к маршалку двора:
— Готовиться к охоте!
Княжеский приказ будоражил Либерию и всех гостей, как тех, кто радовался предстоящему занятию, так и тех, кто уже пресытился подобным до отвращения. Всё приходило в движение. Собаки на псарнях визжали и лаяли. Кони в конюшнях били копытами по деревянным полам. Охотники пением придавали себе дерзости.
А в замке было известно — у князя лежит королевское письмо. Его величество призывает князя в Краков. Да не одного. Но с московским царевичем.
Бесконечная осень, кажется, не удручала только Андрея Валигуру. Он был уверен: время работает на царевича. Он убеждался, что люди в Вишневце с каждым днём проникаются всё большим уважением к высокому гостю. Уважение это усилилось после того, как здесь побывал человек из свиты литовского канцлера Льва Сапеги, по фамилии не то Петров, не то Петрушевский. Как потом оказалось, он видел царевича в Угличе, в детстве. Ему запомнился золотой кафтанчик, отороченный собольим мехом. Ещё — игрушечная сабелька в тонких ручках. И вроде бы небольшое пятнышко на детском личике.
С той поры уплыло много времени. Сам Петров (или Петрушевский) на войне попал в плен, скитался, пока его не приметил канцлер Лев Сапега.
Всё это Андрей узнал заранее, задолго до того, как Петров добрался до княжеского замка. Потому что Андрей предупредил корчмарей на дорогах, ведущих в сторону Литвы, кого он ждёт. Один из предупреждённых известил о вроде бы желанном путнике. Более того, корчмарь задержал гостя под благовидным предлогом: под коляской у того обнаружили сломанную ось, хотя коляска стояла во дворе корчмы. Андрей явился в корчму, потолковал с проезжим. Деньги, полученные некогда от таинственного ночного гостя, очень пригодились при этом разговоре. Посланец Сапеги любил выпить. Оказалось, с одинаковым успехом мог он подтвердить как то, что узнал царевича, так и то, что не узнал его. Затем он несколько дней просидел в княжеском замке, убеждая маршалка двора, будто привёз из Литвы бумаги для князя. Когда же князь принял его в зале, в присутствии важных гостей, посланец этот сделал неожиданное заявление.
«Ваша светлость! — обратился он к князю, указывая на присутствовавшего там царевича. — Я готов под присягою подтвердить, что этот человек — сын Ивана Грозного. Это Димитрий Иванович. Точно такое же пятнышко, как и на лице, есть у него на правой руке, у основания кисти. А правая рука его к тому же длиннее левой!»
Удивлённый царевич взглянул на свою кисть, поднял её — и все увидели: посланец Сапеги прав!
Царевич был предупреждён, что́ ждёт его в княжеском кабинете. Царевич внимательно посмотрел на гостя и радостно прокричал: «Я так и думал! Ты — Петров!» — «Господи! — завопил Петрушевский (или Петров). — Да ты, государь, до сих пор помнишь моё прозвище! Я сам его позабыл. Потому что давно уже отзываюсь на прозвище Петрушевский!»
Князь и его гости были приятно удивлены увиденным и услышанным. Гости рукоплескали.
Конечно, Андрею снова было чем гордиться.
Он гордился уже тем, что в замке никого больше не удивляли постоянные встречи панны Марины с московским царевичем. Молодых людей видели на прогулках в опустевшем парке. Царевич верхом сопровождал карету панны в экскурсиях из Вищневца.
Он скакал, прижимая коня к стенке кареты. Раскрасневшееся лицо его делалось неузнаваемо красивым, когда он склонялся к окошкам кареты при каждом удобном случае.
Князь Корецкий сообразил, в чём тут дело: он навсегда вытеснен из сердца очаровательной девушки. Он смирился и перестал участвовать в прогулках и в охоте, оправдываясь нездоровьем.
А всё это стало возможным в результате того, что он, Андрей, одевшись на костюмированный бал испанским разбойником и скрыв лицо под плотной маской, поведал панне Марине, что о ней постоянно думает человек, которому скоро будет подчиняться полмира. Девушка, естественно, сразу поняла, о ком речь. Голос её задрожал. Она с достоинством возразила: «Таким людям, господин разбойник, суждено думать о королевнах!» — но тут же спросила, не дождавшись ответного хода Андрея: «Царевич сам поручил вам это сказать?» Марина была одета в костюм московской боярышни (очевидно, не без умысла). «Конечно, боярышня», — отвечал Андрей.
Он не грешил против истины. Царевич не скрывал своей любви к Марине. Вечером накануне бала он признался Андрею: «Ничего на свете не боюсь. А вот боюсь услышать отказ. Я ведь ещё не сел на отцовский престол. А пока мне это удастся — Марина может стать чужою женой!» — «Такого не случится, государь!» — твёрдо пообещал ему Андрей. И царевич признательно улыбнулся...
Разве это не значит, что царевич поручил передать его слова панне Марине? В тот же вечер царевич, одетый испанским идальго, постоянно танцевал с Мариной...
Однако вскоре Андрей понял, что только зима поможет развитию событий. Осеннее бездорожье удерживало князя Константина дома. А так всё уже было приготовлено для зимнего путешествия. Ведь князь не может ослушаться короля. Preces regis — praecepta![21]
Снег выпал в середине января. Он бесшумно валился с неба на протяжении трёх дней и трёх ночей. После этого выглянуло солнце и ударили морозы. Всё вокруг настолько и вдруг переменилось, всё показалось до того новым, очищенным, что людям в Вишневце и в его окрестностях почудилось, будто они покончили со своей вчерашней жизнью, полной прегрешений, обмана и слёз. Целый день люди топтались по белому снегу в обманчивом обаянии, в приподнятом настроении, боясь показаться друг другу по-вчерашнему грубыми и глупыми. И только через несколько дней, когда снег осел, уплотнился, когда на его белой поверхности появилось множество следов, когда эта поверхность была уже осыпана остатками зелёного сена, золотистой соломы, серой древесной корою, испещрена испражнениями животных и людей, — лишь тогда люди начали вести себя по-прежнему, если даже ещё не хуже, не шумней, потому что жизнь зимою не заполнена теми занятиями, какие припадают на тёплое летнее время. Зима дана человеку для отдыха от трудов.
А ещё через день Вишневец узнал княжеский приказ: послезавтра отправляться в дорогу. На свежем снегу уже были пробиты хорошие следы. Путь к Кракову пролегал через Самбор.
Самбор встретил мощным вороньим криком. Птицы кричали в облепленных снегом деревьях.
Извилистая дорога, глубоко врезанная в белые заносы, долго петляла между выступами каменных скал. Наконец привела к замку на крутом днестровском берегу. Укрепления под снегом казались огромными, загадочными и неприступными. Их окружали густые бесконечные леса.
Андрей уже знал, что король никогда не жил в этом замке. Самбор превратился в родовое гнездо панов Мнишеков, поскольку сандомирскому воеводе король доверил управление своими здешними землями. Под защитой замковых стен появилась на свет и выросла панна Марина. Здесь родились и её многочисленные братья и сёстры. Андрей слышал разговор Марины с царевичем ещё во Львове, где останавливался обоз князя Вишневецкого (там у пана Мнишека также имеется дворец как у старосты львовского). Так что Андрей кое-что знал о Самборе.
Как только обоз достиг замка — из его башен ударил гулкий гром. В глазах у людей зарябило от взмахов чёрных вороньих крыльев и от взметнувшегося пушистого снега.
Сандомирский воевода встречал гостей у главных замковых ворот. Перед воротами только что с грохотом опустился подъёмный мост. Над головой у воеводы красовался на стене башни его родовой герб — пучок взъерошенных соколиных перьев. А королевский герб был помещён на башне слишком высоко. Из-под снега проступал угол квадратного щита, изображённого на красном фоне.
— Какая честь! Какая честь! Дорогие гости! Как я рад!
Пан Мнишек говорил заученные слова, предназначенные для зятя и дочери Урсулы. Впрочем, обращался он и ко второй своей дочери, Марине. Но главное внимание его было направлено всё же не на них, но на московского царевича.
— Как перенесли путешествие, государь? Как показались вам наши земли? Как находите наши города?
Пан воевода нарочито громко произносил слово «государь», кажется впервые употребляемое им в разговоре с царевичем, и Андрею понравилось такое обращение. Понравилось оно, безусловно, и самому царевичу. А князя Вишневецкого вроде несколько озадачило.
Царевич учтиво отвечал:
— Путешествие меня нисколько не утомило, но было в радость. Я ехал с такими очаровательными особами! А земли и города, которые нам встречались, могут благодарить Бога за своего земного попечителя!
От похвал пан Мнишек возносился до нависавших над Самбором туч.
Что касается прочих гостей, присутствовавших при этом и слышавших всё это, не говоря уже о простом народе, — прочие гости воспринимали всё как должное. Конечно, это государь. Ведь столько людей его признало! Ведь признали сами московиты, которые видели его ещё в Угличе. Даже которые ему прислуживали, как вот нынешний пан Петрушевский из свиты литовского канцлера Сапеги! О том говорится сейчас везде и всеми.
Для царевича пан Мнишек заготовил речь, пересыпанную латынью, которую произнёс без единой запинки. Речь начиналась словами: «Serenissimus et invictissimus rex Demetrius!»[22] Андрею даже понравилось, что пан воевода не допустил ни малейшей ошибки в латинской грамматике.
Восторг народа и окружавших пана Мнишека шляхтичей после этой речи не поддавался никаким сравнениям.
— Виват!
— Виват!
— Да здравствует московский царевич!
— Да здравствует московский государь Димитрий Иванович!
— Сто лет!
— Сто лет!
А ещё рядом с паном Мнишеком стояли важные духовные чины в золотистых с красным облачениях и в высоких остроконечных шапках; потом лишь Андрей узнал, что были то аббат Помаский и отец Анзеринус. Они ласково смотрели на московского царевича и осеняли свою паству взмахами золотых увесистых крестов.
Внутри замковых стен в Самборе стояло несколько отдельных дворцов: для короля, для королевы, для гостей.
Царевичу отвели самое большое здание: дворец короля.
Развлечения на новом месте последовали своим чередом. Однако были они разнообразнее, нежели подобные им в Вишневце. Но это уже не удивляло Андрея. Он лишь отметил, что пан Мнишек изо всех сил старается выставить напоказ своё богатство.
А ещё то поразило Андрея, что его всё чаще и чаще разъединяют с государем. В замок к пану Мнишеку каждый день наведывался аббат Помаский, и каждый раз аббат уединялся с царевичем да ещё с князем Константином во внутренних покоях королевского дворца. Они вели там бесконечные беседы. Иногда к ним присоединялся и отец Анзеринус — тогда беседы длились ещё дольше.
Через неделю Андрей уже знал, что аббат Помаский является секретарём королевского двора. Он чрезвычайно красноречив, и при королевском дворе его чтут, а мнением его дорожат, как ничьим иным. Отец Анзеринус, сказали ему, долгие годы провёл за рубежами Речи Посполитой. Там изучал богословие, да так основательно изучил, что нынче в государстве с ним не сравниться никому. Его называют «Замойским ордена бернардинцев».
Андрею всячески давали понять, что эти люди — вместе, конечно, с князем Вишневецким, который тоже стал ревностным католиком — наставляют царевича, готовят его к встрече с польским королём. Ведь он был лишён в Москве правильного обучения. Кроме того, царевич незнаком с порядками католического государства. Эти люди помогают составлять нужные письма к высоким властителям.
Андрею оставалось довольствоваться подобными объяснениями. А сам он радовался коротким встречам с царевичем. И царевич, как-то вроде стараясь избегать глядеть Андрею прямо в глаза, подтверждал: да, это правда.
21
Нунций Клавдио Рангони порою чувствовал себя вознесённым на вершину судьбы, а порою — низвергнутым в пропасть. Подобное ощущение он стал замечать в своей довольно ровной и счастливой прежней жизни с того самого момента, как был неожиданно вызван к Папе Римскому и направлен на берега Вислы, в загадочный город под названием Краков.
В Риме Краков считают городом вполне европейским, но при более близком рассмотрении, полагал Рангони, Краков совсем не достоин такого названия. Конечно, здесь неприступная крепость. Здесь высокие дома, узенькие улочки, которые на ночь можно запросто запирать при помощи цепей. Но сарматы, чьими потомками почитают себя утончённые представители этой страны, — они и есть сарматы, дикие кочевые племена. Правда, поляки пытаются увязать свою историю с историей древнего Рима, но это так наивно, бездоказательно, по-детски...
В часы раздумий, прогуливаясь в карете по весеннему Кракову, нунций вызывал в памяти благостное настроение, какое овладело им в Ватикане, в кабинете Папы Климента VIII. Ровным голосом его святейшество говорил о важном дипломатическом назначении, об объединении двух важнейших ветвей христианства. Польское королевство, утверждал он, исходное место для распространения католической веры на восток. Упомянутое должно совершиться под верховенством Рима. Папа рассматривает православие как отколовшуюся ветвь истинной христианской веры. Но православие избрало себе особый путь. А сейчас, во время величайшей угрозы христианству со стороны ислама, это способно принести страшные бедствия. Христианство должно собраться в единый кулак, и в этом кулаке славянские народы могут, обязаны, сделаться главной составной частью. С Божией помощью польский король способен совершить очень многое. Если ему удастся объединить под своей властью два соседних государства — Польшу и Швецию, престолы которых принадлежат ему по законам обоих государств.
Так говорил Папа Римский, сидя в глубоком фотеле[23] и потрясая лиловой мантией, по которой струились солнечные лучи.
Но то, что видится в радужном свете на расстоянии, часто теряет весёлые краски при более пристальном взгляде и в действительности представляется вовсе не таковым. Сигизмунд, не очень надёжно сидя на польском престоле, назначил правителем Швеции своего дядю Карла Зюндерманландского. Однако этот правитель был признан шведами за своего законного короля. Сторонники Сигизмунда в Швеции терпят поражение за поражением. Чтобы им помочь, необходимо вести со Швецией войну. А в Польше такая война никому не нужна. С Московией Речи Посполитой удалось заключить мир на двадцать лет. Когда же на мирных переговорах в Москве литовский канцлер Лев Сапега затронул вопрос объединения двух религий, то тамошние бояре сразу дали понять: о подобном бесполезно даже заикаться. Всё дело в том, что католицизм в Москве считают не ветвью христианства, но ересью. Особенно там не доверяют иезуитам. Их не любят.
Посматривая из кареты на неприступную твердыню Кракова, на так называемый Вавель, где находится резиденция короля, Рангони соглашался: Сигизмунд — никудышный полководец и слабый государь. Однако Сигизмунд готов ухватиться за малейшую возможность, чтобы доказать свою преданность Папе Римскому. Именно так поступил он, заслышав о царевиче Димитрии Ивановиче.
Получив копию жизнеописания царевича, рассказанного им самим, а записанного князем Адамом Вишневецким на польском языке, Рангони велел перевести всё это на латинский язык. Копию перевода спешно отослали в Рим. Нельзя сказать, чтобы Рангони надеялся на большую себе похвалу, но то послание, какое он получил в ответ от кардинала Сципиона Боргезе, личного секретаря Папы, показалось ведром холодной воды. Со свойственной ему скрытой издёвкой Боргезе извещает, будто его святейшество внимательно перечитал полученное и на полях манускрипта собственноручно начертал: «Sara uno alto re di Portogallo resuscitato»[24]. Конечно, имеется в виду самозванец, осмелившийся недавно выдавать себя за португальского короля.
Было бы хорошо, если бы история с жизнеописанием на том и завершилась.
Но не успела депеша уйти в Рим, как нунций получил послание от предполагаемого царевича с описанием его бедствий и с просьбою помочь в его бедах. С просьбою рассказать о нём королю.
Конечно, тогда ещё нельзя было предположить, каков будет ответ Папы Римского. Только осторожность подсказала не отвечать на письма пока что загадочного человека. Между тем слухи о царевиче наводнили Польшу. В чудесное спасение верит много людей. Охотно поддавшись всеобщему мнению, король желает знать и мнения сенаторов. Он разослал опросные листы. Более того — король ждёт к себе в Краков князя Адама вместе с таинственным московитом.
И вот совсем недавно на имя папского нунция в Кракове получено новое письмо царевича. Чья-то рука продолжает упорно направлять ум этого молодца. Потому что сам он, по всем данным, по всем рассказам и слухам, очень молодой ещё человек. Он не мог постичь тонкостей государственной политики, не будучи при дворе, но скитаясь в низах народа. Или он сам — выдающихся способностей? Но об этом не говорилось в период его младенчества, когда он жил в Угличе, считаясь номинально тамошним удельным князем. А может быть, он и проявлял подобные способности, но слухи не могли распространяться из-за противодействия всесильного Бориса Годунова? Может, получилось даже наоборот: способности царевича как раз и подстегнули Бориса на убийство. Или же в Угличе под присмотром царицы рос совершенно иной какой-то мальчишка, смерть которого на время усыпила бдительность кровожадного Бориса?
От раздумий и разного рода предположений у нунция кружилась голова. Может быть, смелому молодцу покровительствует всевышний Бог? Тогда подобные предположения не имеют абсолютно никакого значения.
Кто бы он ни был, этот молодой человек, — сделал заключение Рангони, продолжая прогулки вдоль берегов Вислы, — но им задумано и начато опасное и очень значительное дело. Оно может привести к чему угодно.
И всё же Рангони подкупало то, что новое письмо царевича показалось ему очень лояльным по отношению к польскому королю и к Католической церкви. Молодой человек, получалось, благоговеет перед Папой Римским. Он напоминает, причём с пониманием государственных интересов, какую пользу извлечёт Польша, если она поддержит его в трудную минуту. Выиграет дело, которому служит польский король, истинный католик!
Письмо полно обещаний щедрой оплаты в будущем.
И как бы там ни было, думалось Рангони, но то, на что намекает автор послания, действительно очень важно. Московия не Польша, где слово короля иногда ничего не значит. В Московии царь — настоящий повелитель. В сознании тамошнего народа царь стоит на втором месте после Бога. Говоря о непонятном, московит обязательно скажет: «О том ведает только Бог, а ещё царь!» Если помочь такому человеку занять престол, кем бы этот человек ни был, то от него действительно можно ждать огромной пользы. Следует лишь взяться за дело осторожно и умело. Пока надо тщательно собирать и хранить бумаги и документы, исходящие от него. Чтобы потом, в случае удачи, иметь на него воздействие... Но как это понять кардиналу Боргезе, сидящему на вилле в окрестностях Рима? И как доложить о том самому Папе, когда все донесения проходят через руки кардинала Боргезе?
Да, новые надежды не могли не взыграть в голове нунция. Он уже перебирал в памяти имена первейших польских вельмож, мысли которых так или иначе перекликаются с его мыслями, вспоминал известные высказывания представителей высшего польского духовенства. Он прикидывал, какие ответы от важнейших сенаторов мог получить на запрос король Сигизмунд. Картина складывалась пёстрая, не совсем понятная. Однако он чётко знал, что самое главное во всём этом заключается в личности предполагаемого царевича.
Где-то в глубине души Рангони был почти уверен, почти знал: настоящий московский царевич не мог уйти от ножей убийц, подосланных Борисом Годуновым. Но с другой стороны, он был полностью уверен: от его собственного зоркого глаза ни за что не ускользнут попытки любого человека выдать себя не за того, кем он является, фальшь в поведении людей Рангони научился определять с первого взгляда.
Да, прогуливаясь по Кракову, нунций с нетерпением ждал возможности лично увидеть московского царевича. Пока что так называемого. А там будет видно.
Желание Рангони осуществилось через неделю. Мартовское небо над свинцовыми крышами сияло в полдень римской синевою. Правда, в благословенной Италии подобной синевы оно набирает уже в феврале.
Разогретые солнцем деревья исходили паром и готовились утонуть в зелёных брызгах. Весело щебетали птицы.
Расплёскивая голубые лужи, карета остановилась у крыльца дома Фирлеев. Там уже теснились различные экипажи. Там стоял весёлый гомон и толпилось множество народа в разнообразных нарядах.
Рангони поднялся на вычурное крыльцо, вступил между белыми колоннами во внутренние покои дворца. Его приветствовали хозяева предстоящего банкета — сандомирский воевода Юрий Мнишек со своим зятем, черкасским князем Константином Вишневецким.
— Сюда, сюда, ваше преподобие!
— Как мы рады вас видеть!
Рангони прошёл по красивому ковру, удивляясь, что роскошный дворец обычно пустует и лишь изредка используется для различного рода торжеств. А ещё удостоверился: князя Адама Вишневецкого здесь нет, правду говорили. Его замещает брат Константин.
Едва Рангони добрался до огромного зала, где удивительным блеском лоснился каменный пол, исходящий благовониями, сверкали хрусталём да золотом сервированные столы, поставленные вдоль голубых высоких стен, а по всему пространству сновали бесчисленные слуги в причудливых пёстрых одеждах, как уже раздался удар колокола — призыв к началу банкета.
Сидя за столом, на одном из самых почётных мест, в соседстве с краковским епископом Бернардом Мацеевским, Рангони тешил глаза разнообразием красок. Ими переливалось убранство польской знати.
За столами, вперемешку с мужчинами, сидели женщины в роскошных светлых нарядах. Разговоры и хохот сопровождались аккомпанементом звонкой посуды. На высоких хорах, опоясывающих полукружием весь зал, попеременно играли два оркестра придворных музыкантов. Музыка не прекращалась ни на минуту. Музыканты подчинялись малейшей прихоти маэстро — высокого и тонкого человека с развевающимися волосами. Он был одет в тёмный узкий кафтан, стоял на возвышенном месте. Взмахи длинных рук с выразительными в жестах пальцами были видны отовсюду. Музыка звучала задорно, и этот задор раньше всех ощущали шуты. Они кривлялись и плясали в разных концах зала.
Рангони приготовился увидеть человека, ради которого явился сюда. Рангони осаживал ретивых пахолков, которые неустанно стремились наполнить его чашу. Он весь превратился во внимание. Но пан Мнишек, произнося тост, выражался так замысловато, так туманно, что в его словах позволительно было уловить что угодно, да о московском царевиче понять можно было только одно: он здесь, среди московских людей, одетых в красивые красные одежды, отороченные собольими мехами. Московиты сидели справа от пана Мнишека. Их насчитывалось с десяток. Нунций знал, что московиты садятся за стол по установленному ими же порядку. Если следовать этому порядку, то московит, сидящий первым от хозяина, и должен быть царевичем. А ближе всего от пана Мнишека сидел черноволосый стройный красавец, очевидно — высокого роста, с открытым лицом и чёрными же усами. Как бы там ни было, молодой человек Рангони понравился. Рангони стал прислушиваться, намереваясь уловить, о чём там говорится. Но расстояние оказалось приличным, слов он не различал. А вскоре в голове у него возникли сомнения: да царевич ли это? Ему почудилось, будто черноволосый красавец выражает явные знаки почтения другому московиту, сидящему от него справа.
Как только разговоры после первых тостов, произнесённых паном Мнишеком и князем Вишневецким, достигли высокого накала, Рангони решил обратиться с вопросом к епископу Мацеевскому.
— Ваше преосвященство, — старался он казаться как можно более равнодушным, — а где же, по-вашему, главный виновник торжества?
Мацеевский, работая крепкими челюстями, придержал кубок с венгржином.
— Царевич пока здесь инкогнито, — заметил епископ. — Его не надо показывать.
— Помилуйте! — возразил Рангони. — Да весь Краков знает, что это всё делается ради него. Что его привезли князь Вишневецкий и пан Мнишек. Что его хочет видеть король. Разве нет? Наверное, в этом зале один я не знаю, который из московитов их царевич.
— Не наговаривайте на себя, ваше преподобие, — сказал епископ. — Вы, конечно, сразу поняли, что царевич тот, кто сидит дальше всех от пана Мнишека. Но я... Я этому никак не могу поверить, хотя знаю истину от самого пана Мнишека.
Рангони направил взгляд на того, о ком говорил епископ. То был светловолосый молодой человек, весьма сдержанный в движениях, широкоплечий, крепкий телом. Что выделяло его из числа собратьев — так это голубые глаза. А ещё — он как-то по-особому, с достоинством, поднимал и подносил к губам кубок.
Заинтригованный Рангони совершенно перестал следить, как делал обычно, уже по привычке, за всем происходящим в зале. Его внимание поглощали люди, на которых указал епископ Мацеевский.
А банкет продолжался. Кушанья и напитки на столах поражали разнообразием, тосты — высокой торжественностью, скрытым подтекстом и наполненностью латинскими выражениями. Рангони удивился, как быстро настало время «цукеров». На столах уже появились сверкающие сооружения из сахара. И вот в зал внесли нечто белоснежное в виде двуглавого московского орла. Царевич первым поднялся с места и громко, на весь зал, произнёс звонким высоким голосом:
— Да поможет нам Всевышний Бог возвратить отцовский престол! Да покарает он злодея, заставившего нас искать прибежища и взывать к помощи добрых людей!
Московиты за столом тотчас отреагировали на первые же слова своего предводителя. Они стояли с суровыми выражениями лиц и осеняли себя крестным знамением. Молодые, крепкие, уверенные в справедливости своего дела, одетые в одинаковые одежды, они показались Рангони представителями священного воинства. Они ему нравились уже шее.
Конечно, московская дружина понравилась публике.
Крик одобрения плеснулся о высокий потолок:
— Виват!
— Сто лет царевичу Димитрию!
— Да здравствует московский царь Димитрий Иванович!
Оживление в зале перешло во всеобщий восторг. И этот восторг усилился вместе со звуками музыки и стараниями шутов. Одновременно заиграли оба оркестра. Казалось, в зале может сорваться с места потолок — с нависающими люстрами, со множеством свечей, — и тогда все люди враз поднимутся над столами и куда-то унесутся.
Танцы открыл князь Константин Вишневецкий (говорили, что пан Мнишек плохо себя чувствует, устал). Князь вышел в паре с молодой женою Урсулой. То была удивительная пара. Князь сверкал белозубой улыбкой. Он с таким усердием да удалью стучал о каменный пол красными высокими сапогами, что из-под сапог сыпались искры. А карабеля[25] в золотых ножнах не находила себе места. Пани Урсула порхала степною птичкой. Ноги её не касались пола.
Следом за княжеской четою выскочила другая пара — и Рангони, наблюдавший за всем этим от блестящих колонн, просто не поверил своим глазам. Во второй паре был московский царевич с молодою княгиней Червинской, племянницей пана Мнишека.
Рангони, не искушённый в искусстве танца, не мог даже объяснить, что ему понравилось в танце молодого московита. Однако он почувствовал во всём его облике какую-то особую силу.
Одним словом, Рангони еле дождался окончания банкета, вернее, того момента, когда позволительно прощаться с хозяином.
Сидя в карете, Рангони уже воочию видел своё донесение в Рим. Оно будет написано сейчас же, а утром отправлено. Первые строки там будут выглядеть так: «Московский царевич — чуть старше двадцати лет. Во всём облике его чувствуется царская порода».
22
Отец Варлаам одолевал эту дорогу уже в который раз. Он не мог пожаловаться, что тяготы вынужденного путешествия утомили его пуще прежнего. Скорее наоборот. В этот раз он сидел на отдельном просторном возу. Его везли, его кормили. О его безопасности заботились другие. А ему ничего так не хотелось, как поскорее добраться туда, где зреет страшное лихо для русского царя, а стало быть, и для России-матушки. Однако отцу Варлааму казалось, что сил, выделенных в Москве, очень и очень мало. Он даже подозревал, что бояре передали царю Борису не все его слова, что-нибудь переврали, утаили, коль царь приказал снарядить такую незначительную рать. Правда, это были молодцы как на подбор. Но вмещались они всё-таки на трёх возах. То есть их набиралось десятка полтора (отец Варлаам как-то вскоре сосчитал-таки всех — получилось число четырнадцать, пятнадцатым оказался он сам).
Вскоре обоз добрался до Северы — и Северу теперь было не узнать. Нет, внешне эта земля нисколько не переменилась. Всё так же издавали непрерывный гул влажные и густые леса, наполненные зверьём и даже птицами, хотя уже стояла осень и леса оголялись. Всё так же была Севера негостеприимной для путешественников. Но жители её переменились. Севрюки наперебой говорили путникам, что впереди полно ратных людей на заставах, что за рубеж сквозь те заставы сейчас не просочиться никому, потому что от царя Бориса получен строгий приказ: в Литве свирепствует моровая язва, посланная Богом за человеческие прегрешения; она косит литвинов денно и нощно, и туда нельзя пускать московских людей, чтобы не перенести заразу на православный народ. Но молодцы, окружавшие отца Варлаама, особенно Яков Пыхачёв, которого все в обозе называли боярским сыном и которому все подчинялись. — Яков в ответ беззаботно посмеивался и отваживал самых настырных советчиков уверениями, что его на любой заставе пропустят, есть у него на то разрешение.
— От самого царя Бориса, что ли? — переспрашивали угрюмые севрюки. — На торговлю, что ли, с литвином? Али даже с немцем?
Отца Варлаама подмывало на возу надоумить Якова, подсказать, шепнуть, чтобы меньше распространялся о каком-то разрешении, потому что слухами земля полнится. Слухи раньше времени долетят до ушей попа-расстриги по имени Григорий Отрепьев — именно так, образумили его в Москве, и следует называть того, кто воровски прибрал себе высокое имя покойного царевича Димитрия. Но ничего подобного отец Варлаам не сказал. Не было подходящего места, и времени не выпадало. Да если бы и оказались они один на один, так и то опасно было бы говорить. Уж больно грозен на вид боярский сын Яков.
Дорогу преграждали непроходимые болота, реки, лужи. Продвигались путники чересчур медленно, и отец Варлаам уже морочил себе голову тем, что вот скоро ударят зимние морозы, посыплется снег и тогда придётся менять колёса на полозья, а это не так просто делается.
Однако насчёт полозьев его заботы оказались пустыми и никому не нужными.
Обоз ещё какое-то время колесил по лесу, в мокрых туманах, постоянно натыкаясь на вездесущие заставы из бородатых стрельцов в измызганных кафтанах, вовсе не таких, как в Москве, но чаще из конных сердитых казаков, которые опасливо посматривали на Якова после того, как он показывал им какую-то грамоту, хранимую у него за пазухой кафтана. Посмотрев на ту бумагу, не читая её (не шибко грамотны казаки), ратные эти люди удалялись обычно первыми, кое-как описав дальнейшую дорогу.
— Уже скоро, — сказал наконец Яков после одной из таких встреч с казаками. — До Днепра, говорят, версты две.
И действительно, после его слов возовые колёса стали проваливаться в болото почти наполовину — что свидетельствовало о близости большущей воды. Молодцы не могли уже сидеть на возах. Они шагали следом, по обочинам дороги, еле приметной, проваливались в ямы, прыгали и крепко проклинали гиблые места.
А сверху сыпался дождь. Лес уже стоял наполовину голый. Он был насквозь пропитан влагой. Зашиты от дождя не было и не предвиделось никакой.
Тучи же над головою висели таким плотным слоем, что влаги на небесах могло хватить ещё на несколько мокрых недель.
И вдруг Яков истошно закричал, указывая вдаль мокрыми пальцами:
— Вот он!
Между разбухшими от влаги стволами деревьев угадывалось море воды. Ветер со свистом гнал по ней белую широкую волну — словно какой-то великан сдирал тонкую бесконечную холстину.
— Днепр!
— Днепр?
В обозе загудели так радостно, будто добрались наконец домой после утомительного путешествия.
Отец Варлаам не разделял такой радости, потому что не понимал её. Предстоит переправа. Там, за Днепром, Литва. А переправиться с возами в такую погоду — ой как это сложно и даже опасно.
Да только и здесь он напрасно осуждал чужую радость. Это обнаружилось очень скоро.
Возы дружно остановились на берегу Днепра, так близко от воды, что лошади шарахались от белых брызг, однако из-за усталости они даже не пытались сдвинуть возы с места.
Кто-то вздумал было развести костёр — не получилось.
Отец Варлаам всё ещё продолжал греть под собою на возу сено. Один из возниц, который, видать, отлично знал эти места, зачем-то призвал к возу Якова и ещё одного молодца, по имени Андрон, и стал им объяснять, что предстоит увидеть за Днепром (почему-то только им, остальных молодцов это вроде бы не касалось).
— Вот, господа хорошие, как переправитесь через Днепро, так вёрст через десять попадёте в город Брагин. Там живёт сейчас в своём дворце князь Адам Вишневецкий. Он хоть и на ножах с московскими воеводами, но православной веры держится крепко, ещё не было такого случая, чтобы у него не нашли себе приюта чернецы, которые направляются ко святым местам... А там уже сообразите, куда дальше.
Из слов возницы получалось, что переправляться предстоит лишь отцу Варлааму с двумя этими молодцами, то есть с Яковом и с Андроном.
Отца Варлаама подмывало спросить, а в каком же месте будут переправляться остальные товарищи, со своими возами? Однако он не успел ничего такого спросить, как уже Яков снял с воза увесистую котомку и сказал каким-то очень обыденным голосом:
— Слезай, стало быть, отец Варлаам. Надо прощаться. Чай, отсидел себе ноги...
На прощание все хорошенько выпили. Даже отец Варлаам приложился к резко пахнущей жидкости, которая обожгла его нутро адским огнём. Затем набили себе животы раскисшим хлебом. И вот возы с двенадцатью молодцами, вмиг повеселевшими, тотчас отправились в обратный путь, а отец Варлаам поплёлся вслед за Яковом и Андроном вдоль топкого берега, в направлении дымка, что стелился по головам густо наставленных сосенок на небольшом желтоватом пригорке. Там, по всем соображениям, находился домик перевозчика. Перевозчик мог перебросить их на противоположный берег Днепра, который виднелся в дымке дождя, — высокий, голый и какой-то таинственный.
На высоком берегу Днепра погода вдруг переменилась, будто путники неожиданно очутились в ином времени года. Небо очистилось от тяжёлых туч, а в лужах вдоль хорошо уезженной дороги заплескались солнечные зайчики, да такие яркие, что от них пришлось закрываться руками. И леса здесь стояли ещё в сплошном золотом убранстве, будто и ветра они не чувствовали.
Яков на этой дороге тоже преобразился. Стал ещё как-то выше ростом. Он и впрямь, как сам не раз утверждал, очень походил сейчас на царя Бориса, прости, Господи, за такое сравнение. А царя Бориса отец Варлаам видел не раз, и с близкого весьма расстояния. Говорливый на том берегу, Яков здесь превратился в молчуна, время от времени хватался рукою за рясу, в которой что-то скрывал, что ли, и постоянно глядел куда-то вдаль, будто намеревался что-то там увидеть. Андрон, который и на том берегу не отличался говорливостью, теперь с напряжением переставлял ноги, как бы стараясь показать, что он идёт вперёд не по своей воле.
Город Брагин, владение князя Адама Вишневецкого, предстал перед глазами путников очень вскоре, потому что шагали они весьма быстро. Город стоял на высоких пригорках на берегу неширокой, по сравнению с Днепром, реки. Княжеский замок был замечен издали: сверкал белыми стенами и синеватой кровлей. Впрочем, там виднелось много строений, одно другого краше. Они были как бы подпоясаны земляными оборонительными валами и отделены от всего прочего широкими и глубокими рвами. В котором из строений мог жить сам владелец Брагина — поди разберись.
Да только путникам нечего было в том разбираться. Князь Вишневецкий их не интересовал. Не сговариваясь, они тут же прошли по тропинке вдоль зелёного ещё от травы оборонительного вала к неприглядному строению невдалеке от церкви со сверкающим золотым крестом.
И не ошиблись. Дом принадлежал старому дьякону.
Надо сказать, что все три путника были одеты в монашеские рясы, поэтому дьякон им очень обрадовался. Завидев гостей с крыльца, он мигом скатился вниз, на траву, затараторил:
— А заходите, люди добрые! Вижу и слышу по говору, что мнихи вы московские. Тяжело вам сейчас, горемычные, но вскоре полегчает. Ой полегчает!
— Это почему же нам тяжело? — спросил отец Варлаам, сотворив всего лишь краткую молитву в сторону сияющего на церкви креста. — И почему должно полегчать?
— А вы ещё ничего не знаете? Горемычные вы мои! — зачастил дьякон, так что седая косичка у него на узком затылке затрепыхалась телячьим хвостиком. — Да ведь царевич московский объявился! Да ведь теперь супостату вашему придётся держать ответ перед Богом и перед царевичем!
— Какой такой царевич? Какой супостат? — прикинулся ничего не ведающим отец Варлаам, в то время как его спутники просто застыли на месте от такой неожиданности, от таких дерзких слов, за которые в Москве сажают сейчас на кол. Они сгорали от злости — о том свидетельствовали белые желваки на крепких красных лицах.
— Как же! Как же! — петушился дьякон, увлекая гостей за собою в дом, откуда уже высовывались носы молодых прислужниц. — Я сам его видел на княжеском дворе! Князь нарочито нас собирал, всех людей из Брагина, и всем показывал. А пришёл он к нам как-то вовсе незаметно. Записали его в княжескую Либерию, и никто ничего не знал. Только шила в мешке не утаишь. Бог пособил... Ну да так не раз уже бывало. Почитаешь зимними вечерами Святое Писание — уж такого начитаешься!
— Что? — остолбенел от услышанного отец Варлаам и остановился на пороге, не в силах его преодолеть. — Он был здесь? Когда?
— Так говорю же, говорю! — дошёл до самой крайней высокой ноты дьякон. — И князь Адам его признал. А князь Адам уж такой человек, что только Бога над собою признает, а с королём не всегда считается. Одел князь Адам его по-царски, на банкетах рядом с собою усаживал и заставлял нас всех ему кланяться. А потом повёз его к своему брату Константину, в Вишневец. И королю дал знать.
— И какой же он из себя? — решился на последнее отец Варлаам, надеясь услышать что-то такое, что уж совсем не укладывается в голове. — Этот царевич, как ты говоришь...
— Да лет ему двадцать, не высокий и не низкий, но в глазах что-то такое... Сияние излучают... Я... таких глаз и не видел ни у кого.
Они затем сидели в низенькой горнице, в которую свет вливался сплошным снопом жёлтой соломы, каковою она бывает в летнее время, каковой видел её отец Варлаам за Киевом, по дороге на Житомир. Прислужницы ставили на стол новые кушанья, а дьякон говорил и говорил, всё об одном и том же: о царевиче Димитрии, о котором, утверждал, теперь говорит уже вся Речь Посполитая. Скоро, скоро придёт облегчение для Московии.
На его речи отвечал очень скупо, без радости, только один отец Варлаам. И это наконец угомонило дьякона.
— А что твои товарищи? — спросил он. — Неужто оба немые?
Яков и Андрон едва не поперхнулись за столом.
Они поняли, что переусердствовали в своём молчании.
Они вздохнули и в один голос попытались оправдаться:
— Утомились мы, отче, — и снова тяжело вздохнули.
В Брагине они провели несколько дней. За это время успели высушить мокрую одежду и хорошенько отдохнуть, набраться сил после путешествия из Москвы до Днепра, особенно от дороги через Северу.
Дьякон кормил превосходно, ничего не жалел. Прислужницы так и сновали между горницей и погребами, отягощая столы яствами и напитками.
Отогревшись и отоспавшись на сеновале в затишном овине, что у самого крепостного вала, путники побывали на многих церковных службах, потолкались среди народа в городе и убедились: всё, что говорил дьякон касательно беглого монаха Григория Отрепьева, — всё это верно. Он здесь был, и князь Адам увёз его отсюда в Вишневец, к своему брату Константину.
А ещё поняли, что заикаться перед местными людьми о том, будто царевич вовсе не царевич, совсем не стоит. Это даже опасно. В Брагине могут за это побить.
Когда уходили от людей и оказывались в овине, отцу Варлааму становилось страшно. Куда они идут, всего втроём? Он всё-таки ещё надеялся, правда, что хотя бы те молодцы, которые были на возах и остались на том берегу Днепра, как-нибудь доберутся сюда.
Когда же побывали в княжеском замке, нагляделись там на бесчисленную Либерию, на буйную челядь, различных казаков и гайдуков, то отец Варлаам, возвратясь с товарищами в овин, не смог наконец удержаться от вопроса:
— Где же остальные наши люди переправятся через Днепр?
Яков захохотал:
— Да они уже на московской дороге!
Последняя надежда оставила отца Варлаама.
— Дак что мы сможем сделать?
Яков строго осадил:
— Кто это «мы»? Ты своё знай, отче. Ты только помоги найти этого человека. Веди хоть в Вишневец, хоть в сам Краков, не знаю куда, — но приведи и скажи: вот он! А остальное сделаю я. Ну ещё вот Андреи пособит. Если понадобится.
Яков вскочил на ноги, выхватил наконец из-за пазухи кривой охотничий нож. Сталь сверкала огнём. И Яков с силой метнул оружие в чёрный уголок стола.
Удар получился как нельзя более точным.
— Вот! — свирепел между тем Яков, ворочая чёрными глазами. — Я не раз охотился на медведя. И ни разу не было, чтобы медведь ушёл. А человек... Мне терять нечего... Если случится что, так только родным моим полегчает... Все они там... Что говорить... — Он закрыл лицо руками.
Отец Варлаам и Андрон понимающе молчали.
На следующее утро, когда туман клубился над городом, путники тихонечко выбрались из овина.
В доме дьякона не раздавалось ещё ни одного звука.
23
Краков Андрею понравился. Точнее сказать, город ошеломил его своими размерами и своими строениями. А ещё точнее — покорил напором жизненных сил. Потому что ничего подобного Андрей ещё не видел. В сравнение с Краковом не шли города, где Андрею уже приходилось бывать, а именно Каменец, Киев, Острог.
И ничего так не желал Андрей, как услышать из уст царевича речь, сочинённую им, Андреем. Сочинённую ради польского короля.
Речь была готова ещё в Самборе. Собственно, готовилась ещё в Вишневце, как только князь Константин поведал о королевском повелении привезти царевича в Краков. Что говорить королю — о том царевич наслушался в Вишневце. Но требования уточнялись, изменяясь по мере бесед с князьями, а ещё — в общении с паном Мнишеком. А ещё (в том Андрей был уверен и не одобрял подобного) после встреч с монахами в Самборе — Помаскием и Анзеринусом.
Царевич, прочитав сочинённое, обрадовался. Он привык восхищаться всем, что писал для него Андрей. Но иногда завидовал.
«Послушай, мой друг, — говорил он в таких случаях. — Неужели я вовсе не способен составить подобную речь? Конечно, не такую, но...»
На этот раз Андрей сумел осадить высочайший пыл. «Государь, — сказал Андрей, — возьми к примеру господина и его слугу. Неужели господин не в состоянии налить себе в кубок вина, или накинуть на себя шубу, надеть на ноги сапоги? Или далее убраться в покоях? Однако господин родился не для такого занятия... Конечно, ты бы сделал это даже лучше меня. Может быть. Но у тебя свои задачи. Другого такого государства нет на свете, как наша Русь». Царевич не возражал.
А в глубине души Андрей был твёрдо уверен: никто в мире не способен составить лучшей речи для ушей короля, нежели он, Андрей. Как никому не составить лучших писем для панны Марины. Никому. Никто не любит так панну Марину, как он, Андрей... Но... Не судьба... Панна Марина читала полученное, полагая, что читает признания царевича. Она ничего не узнает. Она должна стать московскою царицею. Всё так и будет.
С банкета царевич возвратился в радостном возбуждении. Банкет давался ради него, именно ради него. И пан Мнишек, и князь Вишневецкий постарались.
«Вы сослужили хорошую службу, — сказал царевич. — Чудесную службу».
Перед ним стояли Андрей, Харько и все преданные ему молодцы.
Харько был изрядно пьян. Он только улыбался. Он не совсем понимал, за что его хвалят. Харько скорее опасался, не наговорил ли он на банкете чего-нибудь лишнего. Ведь общался с такими панами, перед которыми поспешно стягивал с головы шапку. А теперь...
«Надо готовиться к аудиенции у самого короля, — сказал царевич. — В вавельском замке».
Господи! Как возгордился Андрей!
«Государь! — сказал Андрей. — Поручи мне прочитать твою речь перед королём. Я постараюсь». В первый раз царевич выглядел озадаченным. «Потом скажу». Как будто не ему решать, что следует делать. «Воля твоя, государь, — отвечал Андрей с лёгкой обидой в голосе. — Готов произнести без единой запинки. Хоть сейчас». — «Речь хороша, — ещё раз согласился царевич. — Я сам её знаю наизусть. Но потерпи, говорю. А пока что — готовьтесь».
Через два дня за царевичем прислали карету с золотыми вензелями «С», но без гербов. Прибыла она без надлежащего эскорта, как можно было предполагать, а в сопровождении всего лишь нескольких пар верховых гайдуков.
Карету, конечно, ждал не только царевич. Ждали её и пан Мнишек, и князь Вишневецкий.
Андрей, Харько и прочие люди из свиты царевича уселись в другие кареты, поданные по приказу пана Мнишека. Сам пан Мнишек и князь Вишневецкий ехали в своих экипажах и со своими эскортами. Получился довольно приличный обоз, который сопровождали гусары пана Мнишека. Таким обозом краковских обывателей не удивишь. Конечно, они снимали шляпы перед королевскими вензелями и перед гербами вельможных панов, как обычно. Но не более того.
Этого приглашения и этой поездки все ждали. Но когда перед глазами Андрея выросли неприступные тёмные стены, когда показались тысячи закованных в железо воинов, засверкали шлемы, копья, сабли, мушкеты, а ещё самые разнообразные и самые щегольские убранства, тогда Андрей понял, что для него, а в первую очередь для царевича, начинается что-то очень серьёзное. Вернее, это «что-то» уже начало совершаться. В это дело вовлечены слишком грозные силы.
Карету с царевичем в крепости направили вовсе не к центральному подъезду королевского дворца, как можно было предполагать, но к какому-то второстепенному подъезду. Колонны там выглядели поскромнее, были пониже, пореже поставлены вокруг красного крыльца. Красный цвет на стенах в том месте уступал по яркости другим пристройкам. И стража стояла там не такая грозная и не такая многочисленная, каковой она представлялась у главного подъезда, куда подкатывали богатые экипажи с огромными свитами сплошь из всадников на одинаковой масти конях. Получалось, подумывал Андрей, что в королевском дворце царевича не считают главным гостем.
Карета остановилась заученно точно. Гайдуки, в великолепных жупанах, открыли дверцу там, где начиналась алая ковровая дорожка. Царевич ступил на алое сапогами из розового сафьяна. Тут же приблизились остальные кареты. Царевича увлекали вперёд взмахами рук склонённые перед ним придворные слуги в роскошных ливреях и с золотыми галунами. Андрей и прочие молодцы шли за царевичем уже не непосредственно, но после пана Мнишека и князя Вишневецкого. Шли, невольно перемешиваясь с важными панами, которые сопровождали вельмож.
Алая ковровая дорожка резко изогнулась влево и потянулась прямо вверх. Она была прекрасно освещена непонятно откуда льющимся светом. Свет этот даже не колебался, но горел не мигая.
Когда царевич, как бы торопясь, как бы опасаясь, что опоздает, прибавил шагу и оторвался от свиты, ему всё же пришлось остановиться там, наверху. Случилось так, что Андрей, стараясь не отставать от государя, бросился за ним и обогнал вельмож — Мнишека и Вишневецкого. И тут же увидел удивительную картину: перед ним стоял ещё один царевич, из-за спины которого выглядывал красивый черноволосый молодой московит. А за московитом, хватаясь рукою за сердце, поднимался бледный пан Мнишек, бодро шагал князь Вишневецкий, крепкий и невозмутимый, ещё — знакомые московиты с напряжёнными, строгими лицами.
Андрей оглянулся. Всё то, что он видел перед собою, в самом деле творилось за его спиной. Приветливый и красивый московит, который стоял за царевичем, — это был он сам. Царевич остановился, получалось, просто потому, что увидел огромное зеркало, искусно вделанное в стену. С двух сторон у подножия зеркала стояли полуобнажённые великаны. Напрягаясь телами, они держали зеркало. Но великаны не были живыми людьми, а только их каменными подобиями.
Андрей несколько смутился своему предположению: неужели царевичу никогда не приходилось видеть таких огромных зеркал? Ведь он родился и жил во дворце. Жил, сам говорил, до десятилетнего возраста. Их никогда, это правда, не видел Андрей, дело понятное. В лесной глуши, в полупустом старом доме зеркала водились маленькие, потемневшие, в рамах, которые своими размерами превосходили их в десятки раз. О зеркалах большого размера он читал в отцовских книгах. Более того — деревенские старушки даже на крохотные зеркальца, на их обломки, смотрели как на изобретения тёмных сил, на искушение дьявола.
Но царевич... Неужели в Москве не пользуются ничем подобным?
Однако задерживаться на этом месте, перед огромным зеркалом, было некогда. Алая дорожка справа от зеркала обрывалась, и там начинался гладкий, сверкающий пол, разделённый на квадратики и треугольники. Квадратики, треугольники и различные завитушки более тёмного цвета служили украшением этого пола. Они сочетались весьма причудливо и образовывали узоры.
Все поднявшиеся по лестнице, по красивой алой дорожке, оказались в просторном помещении, украшенном белыми подобиями людей, преимущественно прекрасных девушек. А возле одной стены возносились лёгкие колонны, обрамлявшие высокую дверь, вход в другое какое-то помещение. Четверо высоких воинов были готовы в любой момент преградить туда путь своими длинными алебардами.
Важный человек в ливрее жестом указал царевичу на кресло, находившееся в центре помещения. Когда царевич уселся, то человек обратился к остальным вошедшим, приглашая их похожим жестом усесться на кресла, расставленные уже вдоль стен. По тому, как этот важный человек посматривал на высокую дверь, можно было заключить: там находится сам король.
Андрей уже чувствовал, что его начинает бить мелкая дрожь. Нечто похожее, он заметил, творилось и с царевичем.
Увиденное вконец смутило Андрея. Подойдя к царевичу, он счёл нужным его ободрить. Шепнул на ухо:
— Государь! Тебе нечего волноваться... У тебя всё готово...
Андрей не стал напоминать, что до сих пор так и не понял, кто же будет произносить приготовленную речь. Однако томиться непониманием долго не пришлось. Высокая дверь медленно раскрылась. Вышедший оттуда не менее важный человек, очень высокого роста, одетый ещё пышнее, сказал приветливым и зазывным голосом:
— Его королевское величество ждёт великого князя московского!
Царевич приподнялся, как бы ещё не веря, не понимая, к нему ли относится обращение, оглянулся, соображая, кто ещё должен с ним идти. Но вышедший человек сделал рукою такое движение, которое свидетельствовало, что приглашение относится исключительно к царевичу.
С явным недоумением царевич обвёл взглядом привставших с мест Якова, пана Мнишека, князя Вишневецкого, откуда-то появившихся в зале священников и монахов. Все отвечали ему подобным выражением лиц.
И высокий человек увлёк царевича за собою.
Пышная дверь бесшумно затворилась.
24
Краковский кастелян — князь Януш Острожский торопился на встречу со своим отцом, князем Константином. Он надеялся застать старика в Остроге. Согласно полученным известиям, тот сильно хворал и предпочитал проводить время в родовом гнезде.
Князь Януш хотел поскорее рассказать, свидетелем чего он стал в Кракове. Его тревоги были связаны с человеком, выдающим себя за московского царевича. Собственно, не с одним его появлением, но с тем, что с этим появлением его самым неожиданным образом связаны такие люди, как князья Вишневецкие и сандомирский воевода пан Мнишек.
В Кракове, уже как о решённом деле, говорили об обручении дочери Мнишека с московским царевичем. Обручение, пожалуй, становилось наглядным доказательством того, что претендент на московский престол — фигура очень серьёзная. Возможно, он действительно сын Ивана Грозного. Пронырливость и расчётливость пана Мнишека у всех на виду. А князь Януш своими глазами видел, как сочувствовали пану Мнишеку первейшие польские вельможи, собранные у него на балу в честь царевича. Царевича поддерживают епископ Бернард Мацеевский, вице-канцлер Пётр Тыльский, краковский воевода Николай Зебжидовский и прочие, прочие. Князь Януш знал уже благосклонное отношение к этой ещё загадочной, но привлекательной для него фигуре папского нунция Рангони. И хотя из Рима ещё не было получено подтверждение, что московского царевича поддерживает сам Папа, но по тому, как засуетились вокруг молодца иезуитские и бернардинские монахи, можно было полагать, что Ватикан не останется в стороне и не упустит возможностей извлечь для себя выгоды.
Конечно, немало значило и то, что старый канцлер Ян Замойский старался предостеречь короля и сейм от признания московского «княжича», как он называет этого человека во всех своих посланиях, в том числе и в личном послании к князю Янушу. Но кто сейчас слышит голос Замойского? Старик почти не вылезает из своего Замостья. Говорят, готовит речь для произнесения в сейме. Там она прогремит, точно. Да когда ещё соберётся сейм? Доживёт ли до него тяжело больной канцлер? И что удастся провернуть к тому времени пану Мнишеку, Мацеевскому, Зебжидовскому, князьям Вишневецким, литовскому канцлеру Сапеге? Удастся ли правительству сдержать силы, которые готовы ринуться на зов любого злодея? На этот раз он обещает добычу за счёт Московского государства.
На всём пути от Кракова до Острога, торопясь, прихватив с собою лишь отряд казаков, а обозу повелев следовать обычной скоростью, князь Януш заставлял ближайших помощников старательно собирать слухи и мнения о московском царевиче.
Слухи и мнения не радовали. Даже на чисто польских, исконно польских землях, можно сказать, люди готовились к возможному походу. Говорили о сокровищах, которые ждут царевича в Москве и которых он не пожалеет для тех, кто выручит его из беды. А пока что возникали надежды на помощь, которую окажут царевичу магнаты. Они снабдят его средствами, чтобы потом получить вознаграждение вдвойне, втройне.
Конечно, князь Януш понимал, что надежды эти не отвечают состоянию дел в государстве. Однако его тревожило само настроение масс. Что, можно предположить, творилось в умах казаков-гультяев на Украине? Если наёмные воины из Польши — из чужих краёв, иноземцы — не пойдут в поход, не получив за свой труд платы вперёд, то казаки, особенно сечевики, из Дикого Поля, с Дона, готовы подождать с обещанной платой. Они не могут сидеть без ратного дела.
Князь Януш ощущал усиление воинственного настроения людей по мере приближения к Острогу. И потому так срочно хотелось ему свидеться с родителем.
Когда же князь наконец увидел часы на городской острожской башне — стрелки их как раз прикрывали собою цифры «10» и «12», — он облегчённо вздохнул и ослабил поводья.
Старый князь действительно находился в родном Остроге. По словам секретаря, он уже которые сутки не вставал с постели, слушая чтение из чужих уст. В качестве чтецов были подобраны в академии молоденькие бакаляры.
— Это ничего, — хотел утешить прибывшего секретарь. — Точно так было прошлой весною. А как повеяло теплом — князь словно переродился. Так и теперь будет.
Старик встретил спокойным глухим голосом:
— Хорошо, что ты поторопился. Нам нужно советоваться.
Старик лежал на высокой деревянной кровати. Над его головою висел огромный портрет его предка, князя Яна Красного. На столике рядом с кроватью высилась груда книг в дорогих золочёных обложках и с золотыми замками.
Чтецы-бакаляры стояли у окна. Они низко и часто кланялись, краснея и без того розовыми юными лицами.
Старый князь лёгким подобием жеста разрешил юношам удалиться.
— Ещё поживу, — успокоил он сына, как и секретарь, перехватив перед тем его вопросительно-тревожный взгляд. — Бог даст, успею увидеть конец этой глупой и опасной затеи, которая так по нраву князьям Вишневецким. Не говорю уже о многих их адгерентах, сидящих в Кракове. Знаю.
— Бог милостив, — кивнул головою князь Януш, припадая устами к отцовской руке. — Господь не оставит нас без тебя, отец. Не осиротит в такое время.
Рука старого отца, однако, поразила его холодом сухой шершавой кожи.
Во всём Остроге, во всём Киевском воеводстве, пожалуй, не осталось уже человека, который помнил эту землю ещё без власти над нею князя Константина. Всем обывателям воеводства он казался живущим вечно. О его библейском долголетии в народе ходили сказки. Старые люди всерьёз уверяли: сколько они себя помнят, — а прожили на свете немало! — так вот, сколько они себя помнят — князь Константин всегда был стариком. Стало быть, он прожил на свете не один век. В том никто никого не разуверял. Наоборот, мнение о чудесном долголетии князя, об особом небесном покровительстве ему, всячески поддерживалось.
— Говори, — повелел князь сыну. — Что ещё надумали в Кракове? Что ответили сенаторы на опросные листы молодого короля?
Князь Януш не удивился тому, что отец называет молодым короля, который сидит на престоле уже два десятка лет, короля, которому перевалило за сорок. С высоты почтенного возраста такое временное расстояние, как двадцать или даже сорок лет, почти ничего не значит.
— Трудно сказать, отец, — отвечал князь Януш, усаживаясь в кресло, пододвинутое пахолками к самой кровати. — Никто, кроме короля, не может дать на то ответа. Однако король уже принял московского царевича во дворце. Правда, принял неофициально. В присутствии Рангони и ещё нескольких доверенных лиц. Что говорилось — точно не известно. Но в ответ на речь царевича он наградил его подарками.
Старый князь долго молчал, соображая.
— Нити опять тянутся к Риму, — сказал он глуше обычного. — Этого, впрочем, и следовало ожидать. Это предсказывал канцлер Замойский. Редко доходят от него послания. Но если получаю, так это значит, что в государстве совершается что-то необычное. Или что-то очень важное. Последнее послание было, помнится, когда он уговаривал меня выступить за поддержание мира с Москвою. За то, чтобы утвердить соглашения, подписанные в Москве Львом Сапегою. И вот в новом послании он убеждает меня поддержать этот мир, потому что мирным отношениям с Москвою угрожают действия людей, подобных князьям Вишневецким. А я никогда и не придерживался иного мнения.
— Но этого сейчас мало, отец, — сказал князь Януш. — Полагаю, злодей примется собирать собственное войско. Ему дадут для начала необходимые средства. А король не будет чинить препятствий. Нам следует предотвратить его выступление из пределов киевского воеводства.
— Хорошо бы, — отвечал старый князь. — На это подстрекают меня также из Москвы.
— Из Москвы?
Старый князь указал рукою на шкатулку у изголовья:
— Возьми и прочти. Послание Патриарха Московского Иова. Доставлено таинственными ночными посланцами.
Князь Януш развернул слежавшуюся бумагу, прочитал.
— И что же ты ответил, отец? — спросил он.
— Ничего, — выдохнул старый князь. — Мне нечего отвечать. Уже не в первый раз оказываюсь в таком положении, что вынужден либо ничего не отвечать, либо врать. Я превращаюсь в последователя Макиавелли. И с этим трудно что-либо поделать.
Князь Януш понимающе промолчал. Отец ничего не отписал на королевский запрос по поводу предполагаемого московского царевича. Дескать, он ничего о том не слышал. Будто и не было у него разговора с молодым проходимцем в этом вот кабинете. Но ведь он сам рассказывал, что расстрига, надеясь найти поддержку, безо всяких обиняков заявил: «Я хочу усесться на отцовский престол!» Князь-отец, по его собственным словам, не дал молодцу больше ничего добавить, но приказал удалиться не только из дворца — из Острога вообще!
А как переживал отец переход на сторону самозванца бывшего своего сотника Андрея Валигуры! Молодой бакаляр подавал большие надежды в академии. Чем обольстил его проходимец?
— У нас достаточно сил, — напомнил князь Януш. — Хоть сегодня могу выставить три тысячи воинов. Этого достаточно, чтобы не выпустить негодяя отсюда.
— Что же, собирай, — соглашался старик. — Но не предпринимай решительных действий. Помни: за его спиною князья Вишневецкие, Мнишек, Зебжидовский... Никому не известно, сколько войска удастся ему собрать. Сколько наберётся таких людей, как Андрей Валигура, которые пойдут за ним без надежды на вознаграждение.
Князь Януш предполагал, что упоминание о Валигуре снова вызовет поток отцовского гнева, однако этого не последовало. Очевидно, старик уже смирился с горькой для себя потерею.
Старый князь помолчал, пожевал губами и добавил:
— А дела в Москве, насколько мне известно, идут так, что если бы в самом деле это был настоящий царевич, и тогда бы нам не следовало пускать его в Московию... Это к добру не приведёт...
— Да! Да!
Князь Януш уже прикидывал, какие распоряжения следует отдавать немедленно.
25
Это походило на шахматные сражения.
Сражения разгорались каждый раз, и притом каждый раз они вспыхивали мгновенно, стоило собеседникам встретиться в просторном кабинете с высокими стрельчатыми окнами, на стенах которого висят потемневшие портреты прежних польских королей и выразительные фламандские пейзажи, которые с течением времени становятся всё новее и правдоподобней.
Рангони так и сказал:
— Ваше королевское величество! Нам приходится снова разыгрывать одну и ту же партию в шахматы!
Король, шагая по кабинету, механически кивнул квадратною, не польскою головою. Нисколько не задумываясь, он отвечал:
— Да, да, ваше преподобие... Шахматы — это хорошо...
Король в последнее время просто не имел возможности над чем-либо, задумываться, если предмет раздумий не увязывался с тем, над разрешением чего он мучился уже который месяц. Мучился с того самого дня, как ему стало известно о роковом решении князя Адама Вишневецкого.
Но, вышагивая по кабинету, король сообразил, что сравнение с шахматною игрою касается впрямую их разговора, а стало быть, касается и всего того, что его мучит.
— Ах да, — спохватился король, — конечно же... Как я мог не учесть. Но в шахматах важен результат... Важен счёт.
Рангони хотелось продолжить сравнения. Однако те, что уже вертелись у него на языке, могли быть сейчас неправильно поняты. А сегодня, здесь, при этом разговоре, каждое слово имело особый вес. От верного понимания сказанного здесь зависело очень многое как в судьбе Рангони, так и в судьбе государства.
— Будем внимательно считать, — улыбнулся Рангони.
При встрече с московским царевичем в этом кабинете король был явно ошеломлён посланием канцлера Яна Замойского. Он получил его как раз накануне аудиенции. Теперь известно точно. Царевич на аудиенции остановился вот на этом месте. А послание Замойского, только что прочитанное королём, звучало в кабинете ещё каждою своею буквою. Оно лежало вон в том ящике роскошного секретера — его едва удалось туда укрыть. Да и царевич тогда вошёл в кабинет в какой-то растерянности. Он был явно смущён. Его ни о чём не стали расспрашивать. Рядом с ним не было никого из доверенных людей, с которыми он прибыл в Вавель. На аудиенцию решено было не допускать даже князя Вишневецкого и воеводу Мнишека. Рядом с королём сидело всего несколько человек, в том числе и папский нунций. Это была частная встреча, и всё. Царевич по-детски, беспокойно оглянулся назад, как бы надеясь, что плотно прикрытая за его спиною дверь всё-таки пропустит ещё кого-нибудь из вестибюля. Не дождавшись ничего подобного, он, внимательно оглядел кабинет, смутился, сообразив наверное, что стоит с глазу на глаз с польским королём. Голубые глаза его вспыхнули каким-то огнём, и после небольшой, но всё же излишне длинной паузы царевич произнёс пространную речь. Он взывал к человеческим и отцовским чувствам. Он приводил примеры из древней истории, когда в трудное положение попадали известные персонажи. Он вспомнил Геродота, притчу о лидийском царе Крезе и его сыне, немом от рождения. Юноша вдруг обрёл дар речи, когда его отцу грозила смертельная опасность. Так получилось, дескать, и с ним, царевичем. Он должен был возникнуть из небытия, возвысить свой голос, вступиться за поруганную Русь. Царевич говорил напыщенно, быть может чересчур. Так говорят бродячие актёры. Было понятно, что речь заготовлена и отшлифована даже не им. Но отшлифована — так было принято в древней Элладе, где это искусство развивали отцы риторики. Речь производила всё же впечатление чего-то книжного. Она казалась надуманной и не могла понравиться Рангони... Да, всё было заранее предрешено. По крайней мере, в мыслях короля. Это было похоже на то, как если бы в шахматном сражении одна сторона получила слишком большое преимущество, в виде лишней фигуры — не ниже ферзя.
Король молча выслушал московского царевича и ничего не ответил. Молчал король и тогда, когда царевич ждал ответа вне кабинетных стен. Король был вроде разочарован видом московского гостя.
Царевичу через какое-то время отвечал от имени короля вице-канцлер Пётр Тыльский. В инструкции, данной вице-канцлеру, не говорилось ничего о конкретной помощи...
— Ваше величество! — сказал Рангони. — Сегодня начнём всё сначала. Ваше решение должно быть понятным...
Король остановил своё хождение по кабинету. Он присел в кресло напротив собеседника. Очевидно, и в его памяти возникло всё то, что возобновил в своей голове Рангони.
— Я готов, — сказал король.
А Рангони ещё раз невольно подумал, что впоследствии, когда в этот кабинет войдёт новый хозяин, портрет нынешнего короля будет резко выделяться среди прочих изображений польских королей, висящих на дальней стене. И будущие посетители, быть может, сочтут нынешнего короля, из-за своей неосведомлённости, очень умным, решительным, образованным правителем. А всё — из-за формы его головы. И только.
— Ваше величество, — продолжал Рангони, — необходимо исследовать вопрос ещё раз. От самого начала. Этого человека признали потентаты, которым подвластны пространства, превосходящие своими размерами европейские государства. Nominana sunt nota[26]. Его признают мужи, которые дорожат своими государственными постами. Их мы тоже знаем. С ним, наконец, открыто решили породниться люди, которые знают, что делают и на что идут. Воевода Мнишек открыто говорит о помолвке с царевичем своей дочери Марины. К нему, сверх всего, готовы присоединиться воины в таком количестве, какое могли бы выставить совместно несколько европейских государств. Плата за воинскую службу такому числу людей опустошит любую казну. А царевичу эти люди готовы служить за одни обещания получить вознаграждение. И если перед аудиенцией, данной вами этому молодому человеку, я мог судить о нём лишь по его посланию, писанному ко мне явно с чужого голоса, по чужим указаниям, да ещё по личным впечатлениям, которые я вынес с банкета, где он пребывал инкогнито, то сейчас говорю уже после личной встречи и продолжительной с ним беседы.
— Я вам пособлю, так и быть, ваше преподобие, — не усидел король в кресле, снова отправляясь в хождение по кабинету. — Скажите, что вы заметили при личном общении?
Король остановился напротив портрета Стефана Батория. Свет из стрельчатых окон обливал его сзади. Для Рангони, сидевшего в кресле, впечатление получалось странное: будто бы Стефан Баторий стоял в одном строю с нынешним королём. Дышал ему в затылок.
— Он говорил со мною на сносной латыни, ваше величество! — сразу выставил свои козыри Рангони.
Однако ожидаемого эффекта слова нунция не произвели.
— И что же? — вопросительно поднялись брови на квадратном королевском лице.
— Ваше величество! — Рангони окрасил высказывание, насколько позволительно, лёгким удивлением, даже непониманием, даже недоумением. — Он провёл несчастное отрочество среди православных московитских монахов, для которых латынь то же, что для быка красная ткань. Он научился языку в короткие сроки, будучи в непривычной обстановке, подвергаясь опасностям.
— И что же? — всё так же вопросительно произнёс король.
— Такие способности, ваше величество, присущи лицам царского звания, — заключил с облегчением Рангони. — То, на что люди тратят всю свою жизнь, он сумел сделать в невообразимо короткий срок.
Король хранил молчание.
Рангони продолжал:
— Но всё это лишь подступы к самому главному. Теперь посмотрим, какую пользу извлечёт Речь Посполитая, поддержав претендента и тем самым заручившись его поддержкою.
Король остановил своё движение. Уже готовился сесть в кресло.
— Я теперь отлично знаю мнение московского царевича о Папе Римском, ваше величество. Папа Римский для него — «великий отец, великий пастырь, защитник угнетённых». Я дословно повторяю его выражения. Он готов клятвенно заверить вас, ваше величество, что московские воинские силы будут приобщены к европейским армиям, которые будут выставлены против мусульманской угрозы. А мусульманскую угрозу считает главнейшим лихом для Польши канцлер Замойский. Вы это знаете. И канцлер не одинок в своём мнении. Но подобное заверение царевича способно остудить горячие головы. Пойдём дальше. Лично московский царевич готов принять католическую веру. Да, ваше величество! — почти вскрикнул Рангони, завидев, что король, едва усевшись в кресло, готов снова сорваться с места.
— Доказательства! — сказал король.
Рангони с готовностью продолжал:
— Царевич с удовольствием слушал поучения монахов-бернардинцев ещё в Самборе, у пана Мнишека. Его покорили своими речами аббат Помаский и отец Анзеринус. Царевич с благодарностью принял в Кракове из рук епископа Мацеевского книгу о соединении христианских Церквей. Иезуит отец Каспар Савицкий наставляет его сейчас на путь истинной веры. Молодой человек всё сильнее проникается убеждением, что католическая вера превосходит православную. Царевич посещает богослужение в краковских монастырях и костёлах. И я более чем уверен: уже недалёк тот день, когда мы приобщим его к лону нашего Иисуса Христа! И тогда будет окончательно решено всё то, чего не удалось добиться самому Антонио Поссевину!
— Fiat voluntas tua, Dei![27] — закрыл король глаза.
Рангони внимательно следил за собеседником, радуясь, что в запасе остаётся ещё много такого, чем можно удивить короля.
— Он клялся, что сразу после воцарения уступит Речи Посполитой Смоленскую и Северскую земли.
Король не знал, что отвечать.
Рангони ковал горячее железо.
— И это ещё не всё. Царевич готов пособить вашему величеству в борьбе за шведскую корону. Если понадобится, сказал, он лично во главе московитского войска придёт в Стокгольм!
Король наконец жестом остановил нунция. Он уже сам хотел говорить. Потому что лавина обещаний грозила хоть кого выбить из колеи.
— Конечно, ваше преподобие, я мог бы выставить перед вами массу контрдоказательств, — сказал король. — Но не хочу повторяться. Впрочем, вы должны помнить мои доводы. Но вы представить себе не можете, какая буря негодования ждёт меня на сейме! Какие доказательства всего того, на что я никогда не решусь, уже измышляются и даже втайне готовы!
— Ваше величество! — сказал Рангони, уже отчётливо понимая, что победа в сражении, уподобившемся шахматной партии, начинает благоприятствовать ему. — Ваше величество! Победителей не судят.
— Победителей? — переспросил король. — Что послужит доказательством победы?
— Пока время, ваше величество, — уже почти пропел Рангони. — Только время. Надо отодвинуть как можно далее заседание сейма. Победа царевича в пределах Московского царства будет столь оглушительной, что его недоброжелателям останется развести руками!
Король в раздумье шагал по кабинету. Наконец остановился против фламандского пейзажа. Наверное, ему очень хотелось перенестись в страну, где люди заняты привычными постоянными трудами, где над головами день и ночь машут крыльями скрипучие мельницы. И где не надо задумываться над страшными вопросами. Не надо решать их спешно и почти в одиночку, принимая на себя величайшую ответственность.
— Но что скажете в подтверждение его обещаний? — обречённо спросил король. — Говорю на тот случай, если он действительно окажется тем, за кого себя выдаёт и за кого его принимают многие, в том числе и ваше преподобие. А если, не приведи Господи, его действия накличут на Речь Посполитую бедствия, о которых предупреждает канцлер Замойский?
Рангони подобный вопрос не застал врасплох.
— Всё будет подтверждено письменно и скреплено его подписями и печатью, — улыбнулся Рангони. — А многое уже готово.
Король тоскливо отвёл взгляд в сторону. Скользнул им по фламандскому пейзажу. Простые люди, там изображённые, по-прежнему наслаждались жизнью.
А Рангони уже был уверен: если и не удалось убедить короля, что в Кракове находится сын Ивана Грозного, то удалось убедить его в главном — выгода из всего этого получится несомненная.
Шахматное сражение обретало признаки перелома.
26
Шесть недель в Кракове показались шестью годами.
Андрей уже рвался назад, в Самбор. Он устал в каменном Кракове, с его высокими синими крышами и островерхими пышными костёлами. Его томили бесконечные красные стены и бесчисленные торговые лавки и лавчонки. Уже не радовали чудесные дворцы и надёжные за́мки, куда ведут подъёмные мосты. Не притягивал даже такой загадочный старинный Ягеллонский университет, куда ежедневно стекаются студенты в широких разноцветных плащах из заморского бархата, в квадратных шапках с длинными перьями, со шпагами под плащами и частенько даже со слугами, несущими за ними принадлежности для писания.
Андрею очень хотелось увидеть панну Марину. Хотелось поскорее приступить к делу, которое непременно должно вознести царевича на московский престол, а панну Марину сделать тамошнею царицею. Ради этого он, Андрей, и жил теперь на свете.
Уезжали из Кракова осыпанные нежными лепестками. В белой пене стояли городские сады. Город выглядел праздничным и нарядным, как никогда.
Князь Константин Вишневецкий отбыл с княгиней Урсулой и с многочисленной свитой днём раньше, поскольку получил известие, что на южных границах его воеводства показались, как то бывает почти каждой весною, татарские хищные отряды.
А пан Мнишек уезжал с гораздо большим числом людей, нежели приехал. Потому что нашлось уже немало воинов, которые твёрдо вознамерились поступить на службу к московскому царевичу.
Обоз пана Мнишека походил теперь скорее на войско, изготовившееся для похода. Помимо гусар из города Самбора, которые просто возвращались в свои казармы, за обозом следовали другие конники, которыми командовал ротмистр Станислав Борша. С этим молодым человеком сразу подружился его тёзка, молодой пан Мнишек, староста саноцкий. Они держались теперь рядом. Они гарцевали на одинаковых белых жеребцах, которым только отпусти поводья — так и полетят! Впрочем, таковыми казались и сами эти всадники. Молодой пан Мнишек решил участвовать в походе на Москву вместе с тёзкой и вместе со своим старым отцом.
Царевич пребывал в приподнятом настроении. Он был в серебристых рыцарских доспехах, в лёгкой бархатной шапочке с перьями и в красном широком плаще. На боку красовалась длинная сабля в вызолоченных ножнах. Он хотел предстать перед невестою достойным женихом.
Царевич ничего не рассказывал Андрею о том, что происходило с ним в Кракове в те моменты, когда паны уводили его с собою в дальние покои дворцов, монастырей, когда с ним беседовали бернардинцы, иезуиты, даже сам краковский епископ Бернард Мацеевский и краковский воевода Николай Зебжидовский. Когда он, царевич, становился отъединённым от своих московитов.
Царевич избегал о том заговаривать, хотя в обозе всем было известно, какие подарки получены им от короля. Андрей даже видел королевский красочный портрет, подаренный царевичу.
Впрочем, то, что творилось в Кракове, уже не очень занимало Андрея. Пропадали, изглаживались из памяти недавние вроде обиды. Царевич находился теперь рядом. Царевич без конца говорил о предстоящем. Он то пересаживался в карету к старому пану Мнишеку, который хоть и жаловался на подагру и хирагру, но не скрывал удовлетворённости поездкою в Краков, и разговор будущего тестя с будущим зятем вертелся вокруг одного: сколько уже навербовано воинов? от кого получены твёрдые обещания? что за люди приедут в назначенные сроки и в назначенные места? В беседах прикидывали, сколько собрано средств на содержание войска. Собрано как под залог, так и в виде подарков, добровольных взносов. Как надлежит распорядиться собранным. Как лучше устроить войско. Где назначить пункты сборов. Сходились на одном: ядро войска, его ударная сила, — это конники-рыцари. Их удара не выдержит никто. Жаль, что их так мало. Затем царевич снова оказывался в седле, снова скакал рядом с Андреем. Глаза его искрились весёлым, задиристым смехом. Он снова делился планами на будущее. Прошлое не вызывало никаких тревог.
— Друг мой Андрей! — повторял царевич. — Для всех воинов, которые придут к нам из западных земель, я назначил местом сбора город Львов. А для тех, кто прибудет с востока, — назначим сбор где-то возле Киева. А ещё, знаю, они собираются в Лубнах, во владениях князя Адама Вишневецкого. Он обещал...
Андрей находил всё это правильным. И только.
В Самборе Андрей снова увидел панну Марину. Девушка встречала отцов обоз стоя на балконе дворца. Она махала рукою, улыбалась. Но видела, кажется, только жениха.
Андрею и этого было достаточно.
Маленький, по сравнению с Краковом, Самбор наполнился пришлым людом.
Андрей велел своим помощникам, во главе с Харьком, основаться в просторной корчме на краю города, что при широком шляхе на Львов, на высоком берегу Днестра. Прибывавший люд останавливался там чаще всего.
В эту корчму Андрей наведывался по нескольку раз в день. Вместе с Харьком принимал гонцов с берегов Днепра. Однажды, неожиданно для самого себя, увидел там побратима — Петра Коринца.
— Брат! — закричал Коринец, широко разбрасывая руки.
— Брат мой! — эхом повторил Андрей.
Радости они не скрывали. Петро раздался в плечах. Он стал вроде бы даже выше ростом, хоть одевай его полковником. Приятели мигом перебрали в разговорах прошлое.
— А Яремака наш, — сказал Петро, отводя взгляд, — всё там же. Попытался я снова с товарищами, да... Недоступны подземелья житомирского замка. Есть там такой кастелян Глухарёв...
— Ничего! — утешал его Андрей. — Теперь уже недолго. Будем идти через Житомир — освободим.
— Дай-то Бог! — сверкнули у Петра глаза.
— Был разговор, с государем, — намекнул Андрей.
— Да, — встрепенулся от этих слов Петро. — Мы привезли ему подарок. Как доказательство, что не Борису-злодею будем служить, но природному царевичу.
— Какой подарок?
— Пойдём посмотрим.
Под лёгким казацким возком, прячась от горячего солнца, сидел человек, прикованный к грядке довольно длинной цепью. Был он сам лыс и толст. Лицо закрывала рыжая борода, в которой кудрявилось много седых волос.
При виде подошедших человек хотел встать на ноги, но цепь не позволила распрямиться.
— Петро Хрущёв, — пояснил Андрею Коринец. — Приходил к нам на Сечь мутить товариство.
Бородач упал на колени.
— Не по своей воле, Панове! — заныл он как-то привычно, не очень-то надеясь чего-нибудь сейчас добиться. — Принудил меня к тому подлый Бориска!
— Вот как теперь поёшь! — отмахнулся Коринец. — А что говорил на Сечи?
— Так не по своей воле! — снова забился в рыданиях Хрущёв.
— Государю всё расскажешь! — решил Андрей.
Петро Коринец был представлен царевичу — тот поблагодарил за верную службу. Он выслушал рассказ об участи Яремаки, но, вопреки предположениям Андрея, ничего определённого не сказал.
Приведённого на цепи Хрущёва царевич тоже встретил без гнева. Он уже знал об этом человеке. Он только спросил:
— Что говорят обо мне в Москве?
Хрущёв, упав к его ногам, со слезами отвечал:
— Там я, государь, пробыл всего пять деньков. Взяли меня из моего дома, привезли в Москву и приказали: ты, дескать, знаешь казаков. И они тебя знают. Ещё отца твоего знали и уважали. Так что вразуми их. А как вразумить, чем вразумить — не сказали. Вот и вразумил. А в Москве что услышишь, если Борискины люди везде шастают? И только имя твоё услышат от кого — так и замели!
Ничего о тебе в Москве не услышишь, кроме обмана страшного...
Так же, без гнева, царевич приказал увести пленника и дать ему возможность отдохнуть под стражей. Но накормить. Потому что это христианская душа.
Затем царевич долго расспрашивал Коринца, что же творится на Сечи, что думает сечевая старшина. Не мешает ли вооружаться простым воинам да собираться в отряды. Он велел отправить грамоту кошевому Вороне. В грамоте, написанной Андреем, было сказано: царевич крепко надеется на поддержку сечевиков. А приходить им было велено на ратную службу уже поближе к московскому рубежу, собираться на Днепре, к северу от Киева, уже за Вышгородом.
Не успел Андрей распрощаться с Петром Коринцом, чтобы встретиться и больше никогда не расставаться, как уже прибыли посланцы с Дона. Их привёл атаман Корела. Сверкая чёрными сверлящими глазами, Корела клятвенно обещал, что он сам приведёт отряд в тысячу сабель. А сколько ещё дончиков наберётся к нужному сроку и под его началом, и под началом других донских атаманов — о том можно лишь догадываться.
— Многие льнут к атаману Ивану Заруцкому! — напомнил Корела.
А дальше произошло нечто необычное. Представленный царевичу, Корела вдруг резко выхватил из ножен длинную кривую саблю, так что она издала настоящий змеиный свист, и так же быстро бросил её к ногам царевича, принимавшего гонцов на боковом крыльце самборского королевского дворца.
Получилось это настолько неожиданно, что Якову морозом обсыпало кожу. Он услышал, как на балконе дворца кто-то в ужасе вскрикнул. Он не мог, ему некогда было смотреть туда, хотя он и подозревал, что наблюдать за приёмом гонцов могла сама панна Марина. Он только теперь сообразил, как мало ещё знает Корелу. А Корела, не приведи Господи, мог запросто успеть за это время пустить саблю в ход. Ведь царевич стоял на нижних ступенях...
Корела улыбнулся широкой улыбкою на чёрном белозубом лице, покрытом сплошною жёсткою щетиною.
— Наше оружие, государь, в твоих руках! — крикнул он.
Царевич, совершенно свободный от подозрений, которые поразили Андрея, с восхищением смотрел на действия Корелы. Он похвалил бравого дончика.
Корела также получил указания, куда вести отряды, когда настанет пора.
Корела ускакал, готовый на всё...
Случай с Корелой очень встревожил Андрея. Он сразу вспомнил предупреждения ночных посетителей: враги могут попытаться извести царевича ещё до того, как он выступит в поход. Поэтому Андрей сразу отправился к пану Мнишеку.
Тот, выслушав его, побледнел:
— И правда! Это ещё здесь... А что будет в Московии...
Пан Мнишек распорядился:
— Бери, голубчик, моих гусар! Придумай, что можешь... Я вижу, ты верно служишь своему государю! Мне Марина говорила... Она всё видела...
Андрей решил учредить при царевиче что-то вроде службы телохранителей. Отныне его должны были постоянно сопровождать четверо дюжих гусар.
Однако вскоре выяснилось, что и этого недостаточно.
Однажды Андрей зашёл на корчемный двор. Раскидистая липа перед корчмою уже покрывала землю пёстрой тенью. Под липой был поставлен прочный дубовый стол. Писарь, сгорбившись над потемневшими голыми досками, записывал имена двух забредших в Самбор московитов.
То были дебелые молодцы, высокие ростом и крепкие телами. Оба назвались Иванами. Они убеждали Харька, который расспрашивал их, что добрались сюда из самой Москвы.
— Люди мы подневольные, пан! Но службою своему государю надеемся заслужить себе волю! — ныл один.
— И хорошую жизнь! — добавлял другой.
Андрей в разговор не вмешивался. Уселся в стороне. Его неприятно поразил взгляд одного из пришельцев. Взгляд сверкнул, словно сабля в руках у Корелы. По этой, знать, причине Андрей продолжал невольно рассматривать пришельцев и потому заметил, что одежда на них чересчур изодрана. Чтобы так обноситься, нужно, по крайней мере, пробираться по лесам от самой Москвы, что ли.
Андрей так и не вмешался в разговор Харька с этими пришельцами. Внимание его отвлекла стая новых охотников повоевать. То были люди из ближних к Самбору селений. Они шумно рассказывали друг другу в каких сражениях успели побывать, какую добычу кому удалось оттуда привезти. Они явно набивали себе цену. Потому и не поддавались на посулы в будущем, на которые не скупился Харько. Они не спешили записываться без предварительной платы.
— Без денег, пан, не заманишь! Что нам Москва?
Харько истово переругивался.
Наслушавшись всего этого, Андрей наконец снова вспомнил о двух подозрительных, как ему показалось, московитах. О двух Иванах. Да их уже и след простыл.
— Ищут пристанища! — хотел успокоить Андрея Харько. — Пускай. Пускай набираются сил!
Против этого было трудно возражать. Однако тревога не оставляла Андрея, потрясённого происшествием с дружественным, как казалось, Корелою.
Новые заботы привели его вскоре на городской рынок, и там, ещё издали, заметил он знакомых московитов. Они разговаривали с невысоким человеком, оживлённо размахивая при том руками.
Однако Андрею снова не удалось их настичь. Московиты быстро исчезли в густом саду, примыкавшем к рыночной площади. А человека, разговаривавшего с ними, впитала в себя толпа прихожан, вывалившая из костёла. Андрей всё же не терял надежды отыскать этих людей и поговорить с ними, чтобы успокоить себя. Он потолкался в толпе. И вдруг заметил, как искомый человек отделился от толпы. Догнать его теперь удалось в два счёта.
— Приятель! — сказал Андрей, взяв человека за рукав тёмной свитки. — Ты вот только что толковал с моими знакомцами. Куда они ушли, скажи Бога ради? С утра ищу.
Человек промямлил неуверенно:
— Нет, пан... Вы ошиблись... Я иду из церкви. То есть, я хотел сказать, из костёла. И ни с кем я не разговаривал...
Андрей деланно рассмеялся:
— Врёшь, дядя! Не был ты в костёле!
И тут Андрею вдруг показалось, будто человек этот ему знаком. Стоит только приставить к этому лицу бороду...
— Отец Варлаам! — не хотел ещё верить собственной догадке Андрей. — Ты это?
— Нет! — замахал руками человек. — Никакого Варлаама не знаю! А что в костёле не был — так правда! Я — православный! Сбежал от пана и хочу послужить царевичу!
— Быть не может! — твёрдо уже стоял на своём Андрей. — Ты расстался с нами после Острога. Было утро. Ты попросил отпустить тебя в Дерманский монастырь. И царевич позволил! Я помню!
Смертельная бледность покрыла лицо человека. И всё же он продолжал твердить своё:
— Нет! Нет! Нет! Деревня моя отсюда далеко. Это правда. Аж за Днепром. Возле Чернигова! Мне с трудом удалось перейти рубеж! Потому что Борискины слуги не пускают!
— Постой, братец, коли так! — крепко ухватил его за рукав Андрей, озираясь, где же тут поблизости казаки, гусары. У него уже не оставалось сомнений: это отец Варлаам. Но почему в таком виде? Кто его расстриг? Почему не признается? Почему запирается? О чём толковал он с двумя московитами?
Вручив подозрительного человека дюжим казакам, которым повелел отвести его в тюремную башню в замке, Андрей полетел к царевичу.
Схваченный, кстати, не проронил больше ни слова.
Андрей успел вовремя. Царевич как раз возвратился с верховой прогулки, куда отправлялся теперь непременно вместе с панной Мариной. Он уже спешился и с ласковой улыбкою смотрел вслед своей невесте, которая поднималась на крыльцо. За нею по крутой лестнице, украшенной яркими розами, с весёлым смехом и щебетаньем вилась вереница компаньонок и служанок в разнообразных ярких убранствах. Над белыми платьями пестрели красные банты, свет лые шляпки, струились пышные кудрявые волосы. У подножия лестницы переругивались, кривляясь, разгорячённые шуты.
Молодые ротмистры Мнишек и Борша, участвовавшие в прогулке, тоже успели спешиться. Они держались несколько в стороне, наблюдая то ли за царевичем, то ли за шутами в пёстрых одеяниях.
Царевич лёгкой походкой направился к ажурной решётке ворот, за которыми его ждала толпа. Гусары, приставленные как стража, следовали чуть позади. Они впивались взглядами в толпу.
Толпа, завидев царевича, зашумела от восторга. Некоторые люди, обнажив головы, низко кланялись. Некоторые падали ниц. А некоторые подбрасывали шапки над собою и кричали «Виват!». А кто уже тянул руку с написанными на бумаге просьбами.
Царевич знаком приказал раскрыть ворота настежь. Всё с той же восторженной улыбкой отвечал он на приветствия. Он был беспечен, как всегда. Он не помнил, не хотел помнить никаких предостережений.
Андрей, движимый тревогою, стал пробиваться сквозь толпу. Ещё издали заметил он впереди себя двух московитов, двух Иванов, которые исчезли было в прирыночном саду. Молодцы легко прокладывали себе дорогу. И так получилось, что Андрей оказался впритык к спине одного из них, того самого, который обжёг его взглядом на корчемном дворе.
Московиты уже почти выбрались из толпы, увлекая за собою Андрея. Он ни на пядь не отставал от них, будучи ими не замеченным, но готовый в любой момент обезопасить царевича. Эта-то собранность как раз и пригодилась. Потому что один московит, именно тот, о котором он думал очень плохо, быстро скользнул рукою под чёрную широкую свитку и рванулся всем телом вперёд. Не будь Андрей начеку, не ожидай он подобного — и случилось бы непоправимое. Ему удалось настичь злодея через два его шага, свалить ударом сапога под колено и придавить к земле своим телом.
— Убива-ю-ют! — раздался где-то резкий женский голос.
Андрей хотел нащупать нож, зажатый в чужой руке, но тут же почувствовал, что под ним ворочается что-то неодолимое. Ещё мгновение — и неодолимое это приподнимется. Злодей встанет на ноги. А в руке у злодея нож! Но вот пальцы Андрея коснулись с трудом отысканной стали. Боли он не почувствовал. Ощутил что-то липкое, рвущееся из-под кожи. И тут же на него навалились телами гусары. Злодей под ним обмяк и захрипел...
Когда злодеи, выдававшие себя за московитов или бывшие ими на самом деле, были укрощены при помощи крепких верёвок, то один из них, который наверняка решился на убийство, закричал, обращаясь к царевичу, стоявшему перед ним в небольшой вроде бы растерянности:
— Ты вор, а не царевич! Ты — Гришка Отрепьев! Ты — поп-расстрига! И быть тебе на колу!
Один из гусар-стражников замахнулся уже было саблей, чтобы ударом плашмя утихомирить злодея, но царевич остановил его взмахом руки и спокойно, чересчур спокойно, сказал:
— Sancta simplicitas![28] Одурили тебя в Москве, братец! А какой бы мог получиться защитник родной земли! О Господи! Что они делают с бедной Русью и за что ей такие кары!
27
Пан Мнишек переживал вторую молодость.
Всё, что происходило с ним недавно, вот хотя бы славная победа над татарами под Каменцом, теперь казалось игрушкою по сравнению с тем, что ему ещё предстояло совершись.
А предстояло, возможно, такое, чего не удалось добиться Стефану Баторию.
Предстоял, без сомнения, удачный поход.
Король Сигизмунд обещал не препятствовать никому, кто вознамерится помочь справедливому делу московского царевича.
Успех предвещали сообщения людей, набедовавшихся на московской земле. То, о чём прежде говорил, кажется, один Климура, теперь подтверждалось стоустно. Климура рос в собственных глазах.
— Пан Ержи! — сам по себе задирался у Климуры нос. — Я знаю, что́ говорю. Я всегда знаю, что́ говорю!
Власть Годунова, говорилось, зашаталась в Московии повсеместно. Там его почитают великим грешником. Он не остановился перед убийством невинного дитяти. Он совершил страшный грех. Бог уберёг от козней царского сына. Но от грехов правителя страдает Русь. И бедствия, голод — всё из-за него.
Пан Мнишек заказал себе в Кракове добротные доспехи. Потому что те, которые носил прежде (правда, надевал не часто), те доспехи давно не годились не только для военных походов, но даже для военных парадов. Проще говоря, он в них не влезал. И под Каменцом пришлось наряжаться в панцирь слуги-оруженосца.
Надев доспехи, пан Мнишек покрасовался перед зеркалами и перед дочерьми с сыном. Ни одно зеркало его не вмещало. Приходилось поворачиваться боком и отступать подальше.
Юная Ефросиния, как всегда, причитала громче всех:
— Ой-ой-ой! Ещё одно диво дивное! Тато стал самым важным рыцарем!
Марина посмотрела на сестрёнку так укоризненно, что та поперхнулась и убежала, заливаясь румянцем. Марина разительно переменилась с тех пор, как в её жизнь вошёл московский жених. Она вдруг забыла о детских проказах. Но ещё заметнее это стало с тех пор, как отец объявил ей, что лично отправится с царевичем в поход.
Климура тоже смотрел на детские восторги без одобрения. Кривил рыжий ус, сидя за столом с бумагами.
Климура тоже переменился. Когда он разговаривает с царевичем — он бледнеет и преображается. В нём говорит русская кровь. Возможно, он надеется возвратиться назад в Москву.
Но пан Мнишек не досадовал ни на дочерей, ни на Климуру.
— Сороки, — говорил пан Мнишек дочерям. Он был счастлив.
Свой кабинет в самборском замке пан Мнишек превратил в кабинет полководца. В его стенах, обвешанных пёстрыми картами-мапами, которые непременно перерезала синяя лента Днепра, он чувствовал себя великолепно даже в громоздких доспехах. По поручению царевича пан Мнишек обсуждал в кабинете детали предстоящего похода. Обсуждал с ротмистрами, с капитанами, с казацкими атаманами. Особенно любил говорить с умным Станиславом Боршей.
Наконец собеседниками пана Мнишека и его советчиками стали призванные из Львова, из тамошнего воинского лагеря, полковники Адам Дворжицкий и Адам Жулицкий.
Попивая венгржин, полковники в один голос твердили:
— Медлить нельзя, пан воевода!
Собравшееся войско, дескать, пусть его и не так уж много, как надо, не может сидеть без дела. Оно уже буйствует. Держать его в бездействии опасно, а сдерживать — трудно. И львовское мещанство уже отправило жалобу в Краков.
— Знаю, — разводил руками пан Мнишек. — Его величество король понимает и воина, и мещанина. Сроду так было: их примирить трудно.
Полковник Дворжицкий, с перерубленным в сражении носом, криво сросшимся над жёсткими усами, настаивал:
— Те, пан воевода, кто пришёл, могут переменить свои намерения. Вольному шляхтичу не прикажешь. Могут податься в иное место, где постоянно пахнет порохом и где драка не прекращается. А надеяться на казаков, а то и на просто бродячий люд, оставшись без европейски правильно организованного войска, — нельзя. Война — это наука. А казаки смотрят на ратное дело как на простой разбой.
Полковник Жулицкий, наголо остриженный, но с длинными чёрными усами, только поддакивал:
— Всё в порядке, пан воевода!
Царевич иногда присутствовал при подобных беседах. Он и сегодня пришёл. После нападения московитского злодея, подосланного Годуновым, царевич казался слегка задумавшимся и выглядел бледным. Бледность его усилилась после казни злодеев на городской площади.
В детали будущего похода царевич не вникал. Он доверялся будущему тестю. Он доверял всем. Царевич долго смотрел на синюю ленту Днепра. Кажется, он полагал, что разговоры эти ведутся впустую. Сражений на том берегу Днепра не будет. Стоит переправиться с войском...
И напрасно кривоносый Дворжицкий старался раззадорить царевича. Разговорить. Сам полковник воевал ещё под знамёнами Стефана Батория, будучи совсем зелёным юношей. Его увлёк клич Батория. В московский поход тогда двинулись молодцы со всего пространства от Карпат до моря, от Вислы до Днепра.
Но о силе московитской рати полковник говорил с невольным уважением. И не только перед царевичем. Нет. Полковник Дворжицкий никогда не кривил душою. Что правда, то правда. Пан Мнишек это знал. Московиты отчаянно защищали город Псков, и с ними ничего не мог поделать там даже Стефан Баторий.
— Если бы московитам дать современную воинскую выучку — о, то была бы сила! Такая армия! — заключил свою речь полковник.
Ему никто ничего не отвечал. Все уже смотрели на мапы.
Полковник начал порицать казаков:
— Это — орда! Налетят, навалятся... Получилось — получилось. А нет — спасаются бегством!
Полковник Жулицкий, чтобы не стучать о стол пустым кубком, старался почаще наполнять его венгржином.
Своими словами полковник Дворжицкий всё-таки раззадорил царевича.
Царевич остановил его, оторвав взгляд от мапы.
— Пусть они и казаки, — сказал царевич, — и строя у них нет, а всё-таки они верны мне, как никто. Я был на Сечи. Всё своими глазами видел. А на Дону был Андрей Валигура. О русских вскоре заговорит вся Европа, пан полковник. Дай Бог мне поскорее сесть на отцовский престол. То, на что я здесь нагляделся, наши люди усвоят в два счёта.
Это прозвучало так многозначительно, что оба полковника переглянулись. Затем посмотрели на пана Мнишека — и спешно перевели разговор на военный лагерь.
— Мы, конечно, стараемся увести жолнеров подальше от Львова. Мы нашли подходящее место в Глинянах. Там можно упражняться.
— Да! Да! — соглашался пан Мнишек. Он сам настаивал на таком выборе. Он его подсказывал.
Слова будущего зятя нисколько не смутили пана Мнишека. Он был доволен царевичем. Он был теперь им постоянно доволен. И ничего не значило, что речи о свадьбе пока не заводили. Царевич дал письменное обещание, скрепив его своей подписью и своей печатью: как только усядется в Москве на престол, так сразу же пришлёт в Самбор посольство, которое увезёт невесту в Москву. На издержки путешествия он выделит миллион флоринов. В подарок невесте отдаст в вечное владение города Псков и Новгород. Она получит разрешение строить там костёлы, монастыри, школы. Там не будет никаких препятствий для веры её предков. То будет её вотчина. Тесть же обретёт Смоленскую и Северскую земли, за вычетом, конечно, тех городов, которые прежде принадлежали польскому королю. Они будут возвращены польской короне. Потому что с Речью Посполитой у царевича особый договор.
Это пан Мнишек говорил открыто. Всем и каждому.
И всем показывал грамоту, выведенную яркой киноварью: «Nos serenissimus et invictissimus rex»[29]. Писал это собственной рукою Андрей Валигура, весьма искусный в латыни. А подпись — «rex Demetrius».
Однако многого пан Мнишек не мог сказать вслух.
Не мог сказать открыто, что царевич успел в Кракове тайно принять католическую веру, — о том пану воеводе, как брату, поведал по большому секрету епископ Бернард Мацеевский. Не мог пан Мнишек сказать кому-либо и о тайных беседах царевича с папским нунцием Рангони.
Правда, ничего определённого о том пан воевода и сам пока не ведал. А знал лишь, что должен, обязан всячески способствовать царевичу в его намерениях. Что король велел часть доходов от его самборской экономии передать царевичу для снаряжения войска. Не говоря уже о пожертвованиях многих важных панов.
Гораздо лучше знал пан Мнишек о беседах иезуитов и бернардинцев с его дочерью Мариной. Конечно, какая благородная девушка не мечтает стать царицею? Да ещё царицею на Москве. Но Марина, по отцовским наблюдениям, ответила на любовь московита не совсем по зову сердца. А может быть, и совсем не по зову сердца. Кажется, ей больше по нраву Андрей Валигура. Но кто такой Валигура? Девушка это поняла. Она лишилась чувств, узнав, что на царевича совершено покушение. Значит, он ей не безразличен? Она уверена, что её жених — настоящий царевич. И никакие письма самых знатных людей, вроде писем канцлера Замойского, известного всей Польше, не отвратят её от такой уверенности. Она, можно сказать, поверила отцам иезуитам. А им в первую очередь было нужно, чтобы назвавшийся царевичем оказался именно царевичем.
Раздумывая подобным образом, пан Мнишек иногда ловил себя на страшной мысли. Получается, будто бы он сам пытается убедить себя в том, что царевич — истинный! Но разве он, воевода, когда-нибудь в этом сомневался? О Езус-Мария!
— Мы так ударим, ваше царское величество, — принялся уверять полковник Дворжицкий, — что путь к Москве вам откроется сразу!
— Да, — поддакивал полковник Жулицкий. — Главное — переправиться через Днепр.
— Придумаем! — горячился пан Дворжицкий. — Не беспокойтесь, ваше царское величество!
Царевич не выказывал ни малейшего беспокойства. Он пробыл в кабинете ещё какое-то время и ушёл. Его наверняка ждала Марина. Теперь он отправлялся с нею на прогулки каждый день.
Выпроводив наконец изрядно подвыпивших полковников, которые уже так разошлись, что голоса их наполняли кабинет и вызывали головную боль у хозяина, дав им твёрдые наставления, что делать дальше, назвав очередные сроки выступления, которые (о Господи!) будут снова передвинуты, пан Мнишек запёрся в кабинете уже наедине с Климурой.
— Будем писать письма!
В первую очередь диктовал письмо Замойскому. Хотелось-таки переубедить падуанского студента, мудреца. Доказать ему то, чего не в силах доказать король: царевичу следует оказать помощь со стороны государства. Польза от этого превысит затраты сторицею.
Письмо начали с укоров. Почему царевич до сих пор не получил ответа на свои письма? Как согласовать подобное с правилами дипломатии, принятыми в Польше?
У Замойского, конечно, будет один ответ: это не царь. Царь в Москве — Борис Фёдорович Годунов. Если это и законный сын Ивана Грозного — пусть московиты сами разбираются в своих внутренних делах.
Но позволительно ли терпеть несправедливости, творящиеся у соседа? Как не помочь обиженному? К тому же все успели убедиться, или почти всё, что царевич — настоящий. И это уже вина Замойского, что он до сих пор не пригласил наследника московского престола в своё Замостье.
А есть ещё доводы Замойского: король, дескать, не давал вам, пан воевода, такого поручения, чтобы вы начинали войну с дружественным государством. Так вот: мир этот, по неведению, заключён с Борисом, узурпатором и преступником. Его можно не соблюдать.
Царь Борис, твердит ещё Замойский, без труда одолеет армию мнимого царевича и принесёт войну на земли Речи Посполитой. Речь Посполитая к войне не готова. Вся ответственность, все беды, все слёзы матерей падут на вашу голову, пан воевода! Вы не частное лицо. Вы — представитель нашего государства.
— Но царь Борис, пан канцлер, сразу будет свергнут с престола, как только царевич перейдёт рубеж! — не удержался пан Мнишек и произнёс это вслух.
Климура пыхтел и кряхтел, подбирая выражения.
Климура жаловался:
— Да ведь у падуанского этого студента железная логика! Ему трудно что-либо доказать.
— Да на Бориса он смотрит как на рыцаря, — отвечал пан Мнишек. — У меня есть копия письма, отправленного Замойским королю. Замойский начисто отвергает предложение поддержать царевича на государственном уровне.
Пан Мнишек порою чувствовал недовольство самим собою: зачем затевал переписку с Замойским? Однако что-то снова и снова заставляло его усаживать Климуру за стол.
Облегчение, правда, доставляли письма папского нунция Рангони. Рангони извещал: в Риме благосклонно относятся к предстоящему походу. А ещё писал о двух капелланах, которые будут сопровождать войско в походе. Там ведь наберётся много католиков. Капелланы получили инструкции. Это очень надёжные служители Бога: отец Николай Чиржовский и отец Андрей Лавицкий. Оба состоят в ордене иезуитов. Отец Николай — спокойный, уравновешенный человек. Очень рассудительный. Отец Андрей — золотое сердце. Он ещё очень молод, но уже давно мечтает о миссионерской службе в Индии.
Капелланы также побывали в кабинете у пана Мнишека. Они ему понравились. Он признался, что крепко надеется на их поддержку.
С капелланами можно было говорить о самом сокровенном, самом тайном. Они подтвердили сказанное Мацеевским: царевич принял католическую веру. Однако это и впредь должно оставаться секретом не только для московитов. Оставаться вообще в строжайшей тайне. Конечно же, до поры до времени.
Естественно, к разговору этому не был допущен Климура. Да он и не стремился быть допущенным. Он готов оставаться в неведении.
Но признание иезуитов породило в голове у пана Мнишека новые заботы. А что, если известия о переходе царевича в католическую веру просочатся в войско? Если слухи распространятся среди народа? Пойдут гулять по Московии? Дойдут до ушей московских бояр? А что скажут ближайшие друзья царевича, вот хотя бы Андрей Валигура, Харько, Мисаил? А если проведает про то брошенный в тюремную башню отец Варлаам, лично знавший царевича ещё во времена его скитаний? Отец Варлаам, теперь нет сомнения, и привёл сюда убийц. О подобном страшно думать. Ведь именно Андрей Валигура спас царевича от смерти, уготованной ему Борисом Годуновым. Убийцы же не раскаялись и перед смертью. Особенно поражал своей стойкостью боярский сын Яков Пыхачёв, которого сразу признал Климура. Стоило только взглянуть — так и побелел от злости. Он знал его ещё по Москве. Климура больше всех и настаивал на казни. Царевич хотел отпустить убийц, но Климуру поддержали прочие московиты. А Климура обласкан царевичем. Он будет взят в поход.
Климура, сидя за столом, вдруг приостановил движение руки над бумагой и высказал важное замечание, пока ещё в виде вопроса:
— Пан Ержи! А как полагаешь, достаточно у нас войска, чтобы пробиться к Днепру силой, если князья Острожские вознамерятся нас не пропускать? Как думаешь? В Остроге царевичу анафему читают. Его там называют попом-расстригой! Так назвал его сам Патриарх Московский Иов! И такую грамоту прислал он старому князю Константину. Умоляет схватить царевича и привезти в Москву!
Пан Мнишек в который раз подивился уму секретаря. Даже высказал удивление:
— Откуда всё знаешь?
— А догадываюсь, — отвечал Климура.
Но ответить с ходу на вопрос пан Мнишек не мог. Для ответа нужно отправлять гонцов вслед за полковниками во Львов.
— Я думаю, — продолжал Климура, глядя на голубую ленту Днепра, изображённую на мапе, — тысячи три нам понадобится воинов. Иначе князь Януш просто закроет дорогу. А за Днепром уже неважно, сколько воинов у нашего государя.
— Если с казаками считать, — отвечал наконец пан Мнишек, — то наберётся три тысячи. Казаки нас будут встречать возле Житомира. Андрей Валигура договорился со своим другом Коринцом, который сейчас на Сечи.
— Ну, запорожцев — где один, там и десяток, — сказал Климура. — Да ненадёжные они. Пан Дворжицкий говорил правду.
— В житомирском замке сидит их дружок, — объяснил пан Мнишек. — Придут освобождать.
— Под шумок, стало быть, — улыбнулся Климура. — Но князья Острожские...
— Ну не знаю, не знаю, — отвечал пан Мнишек, глядя вниз из окон кабинета.
А там уже выезжала вереница всадников. И впереди, на белых конях, ехали царевич и Марина.
Стражу из гусар возглавлял сам Андрей Валигура. У него была перевязана кисть правой руки.
Пан Мнишек сделал заключение, что прогулка предстоит дальняя.
Вечером того же дня, сразу после прогулки, царевич явился к пану Мнишеку.
— Сегодня, пан Ержи, — сказал он, — только что, встретили мы семь свадебных обозов!
Пан Мнишек с улыбкою развёл руками, недавно освободившимися от тяжёлых воинских доспехов:
— Неймётся молодым! — и осёкся.
Царевич глядел на него взглядом человека, который уличил другого человека в обмане.
Не отводя взгляда, царевич сказал тоном приказа:
— Мы с вами, пан Ержи, уже всё приготовили. Завтра едем во Львов. Там решим остальное.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
имитрий Иванович Годунов торопился к племяннику-царю безо всякой радости.
Уже в который раз хотелось попросить об увольнении. Пускай царь передаст эту должность Семёну Годунову. Тоже ведь царский родственник. А он, Димитрий Иванович... Своё отслужил...
Во-первых, старый боярин чувствовал в голове постоянную боль. Голову сжимают невидимые обручи. Во-вторых, бешено колотится сердце. Будто в тесной конюшне молотят копытами по стене необъезженные лошади.
Но главное заключалось не в этом. Было серьёзное основание полагать, что Яков Пыхачёв со товарищи ничего не сделал. Более того, Димитрий Иванович опасался, что боярский сын — человек от природы горячий, а к тому же предоставленный самому себе, лишённый опеки — легко мог попасться на удочку хитрого самозванца, которому помогает нечистая сила, не иначе. Потому что случись что-нибудь с самозванцем — так стоустая молва вихрем пронижет всю землю, до самой Москвы. И непременно отыщутся доброхоты, которые загонят своих лошадей, лишь бы первыми донести до царя радостную весть. Лишь бы получить богатый подарок.
Поднимаясь по лестнице во дворце, боярин еле-еле переставлял отяжелевшие ноги.
А царь Борис, сверлило мозги, только делает вид, будто спокоен. Будто ему не страшен самозванец. Таков ответ получили шведы. Они передали предложение своего короля Карла: король готов помочь войсками, если самозванец придёт на Русь с войском. Конечно, у шведского короля свои интересы. Ему хочется поссорить Польшу с Русью. Но что отвечал царь Борис? «Нет, — отвечал царь, — мы всегда всех били. А уж беглого монаха побьём без чужой помощи. Собственно, тут ц о сражениях речи быть не может». Подобный же гордый ответ получил и посол немецкого императора. Он предупреждал, что в Речи Посполитой какой-то проходимец собирает войско. Что он готовится идти походом на Москву. «Мы, русские, — отвечал послу царь, — ничего о том не ведаем, зато твёрдо знаем одно: царевич Димитрий давно умер».
Димитрию Ивановичу становилось стыдно от воспоминаний.
Особенно тяготили воспоминания о встрече царя с князем Фёдором Ивановичем Мстиславским.
Царь так и не понял своего унижения. Князь вошёл в палату робким и неуверенным, а вышел со сверкающими глазами. Будто переменили ему глаза. Потому что до недавнего времени царь старался держать князя в небрежении. Не разрешал ему жениться. Род Мстиславских выше прочих боярских родов. Потому-то и отца его ещё при царе Фёдоре Ивановиче, сыне Грозного, Борис повелел постричь в монахи. А сестру его заточил в монастырь. Борис, тогда ещё правитель при Фёдоре Ивановиче, опасался, как бы бояре не выдали её замуж за слабоумного царя, разведя его предварительно с Ириною Годуновой, сестрою Бориса Фёдоровича.
И вот...
«Раздави гадину, князь, и ты сможешь жениться хоть бы на царской дочери! Уважишь — рубаху последнюю отдам!»
От этих слов все ахнули.
А ещё слышали треск красной ткани на царских плечах. Царь любит наряжаться по-простонародному.
Князь Фёдор Иванович так и застыл с раскрытым ртом.
«И-и-и», — сказал он по-детски.
Однако князь быстро сообразил, что это всё может значить. Оттого и вышел из царской палаты с горящим взглядом.
Что же, он устремился в Калугу. Туда, по приказу царя, совместно с собором и думой, со всей Руси отправляют ратных людей. Ото всех поместий, вотчин, в том числе и с монастырских земель. Созданный там полк пойдёт против самозванца. Пока воеводы будут держать его при Чернигове.
Вот как.
Но не только это занимало Димитрия Ивановича, пока одолевал он лестницу в царском дворце.
У него не было известий от Парамошки. С тех пор как прилетели в Москву первые сообщения о появившемся в Речи Посполитой царевиче Димитрии, Парамошка замолчал. Ни одного донесения. Ни одного упоминания о нём в донесениях других подобных ему молодчиков.
Конечно, Парамошка только один из нужных людей, которые рассыпаны за рубежом. О Парамошке нет пока надобности сообщать царю. Не надо расстраивать государя ещё и таким вроде бы пустяком. Но Яков Пыхачёв... Вестей о нём царь дожидается.
Когда были оставлены позади последние ступеньки, когда рынды распахнули последнюю дверь, царь, встречая дядю, и не думал скрывать от него своего мрачного настроения. Вернее, настроение это и мрачным нельзя было назвать. Ему подходило обозначение «безнадёжное».
— Ой, Господи! — вздохнул беспомощно царь.
Димитрий Иванович попытался заговорить о чудесной погоде. Как раз подходит мужику, чтобы собрать урожай. А Бог послал наконец добрый урожай. Уже второй после предыдущих страшных недородов.
Но царь взмахнул красными рукавами, прерывая само начало подобного разговора.
— Ой, Господи! — уставился он на дядю-боярина измученными глазами. — Ну?
Димитрий Иванович опустил руки.
— И никто не скажет утешительного слова, — промолвил Борис Фёдорович, отводя глаза, которые, Димитрий Иванович знал, начали заволакиваться слезами.
Ну как сказать о своём уходе? Как оставить его на попечение боярина Семёна?
— За что меня Господь карает? — продолжал царь. — Начни я гробы сколачивать — никто умирать не станет! Господи! Я ли не радею о родной земле? Я ли не готов поделиться с ближним последней рубахой?
Он отошёл в тёмный угол, упал на колени перед иконами, начал бить поклоны.
— Господи! Ну кто это затеял? Романовы — рассеяны... Черкасские? Голицыны? Шуйские? Не посмеют! Кто? Кто?
Ещё сильнее заколотилось сердце в груди у старого боярина. В каком-то тумане наткнулся на кресло.
Наконец и царь добрался до кресла. Уселся и, как бы продолжая вчерашний разговор, согласился:
— Ну что же, пусть ведут его сюда.
Скорбное выражение преобразило лицо старого боярина.
— Государь, — сказал он, не в силах встать из кресла. — Позволь ещё раз напомнить, о чём я говорил вчера. Этот Отрепьев слишком ничтожен. Его не допустят на глаза важных панов. Государь! Посылать его — всё равно что послать по важному делу последнего слугу, который чистит сапоги. Или подаёт воду.
Царское лицо покривилось.
— Так велено свыше, Димитрий Иванович. Через божьего человека. Слушай и ты, Димитрий Иванович, божьих людей. В своё время я их не слушал. Теперь сожалею. — И перекрестился в сторону тёмного угла с иконами.
— Государь! — всё ещё не мог уступить Димитрий Иванович. — Выслушай меня ещё раз, государь. Срочно отправь посольство к королю Жигимонту. Объясни в грамоте, как водится, что этот человек вовсе не тот, за кого он себя тщится выдать. Припугни, наконец, Жигимонта, будто перемирие будет нарушено. Ведь ляхам очень нужно сейчас перемирие. Жигимонт боится сейма. Там его недолюбливают, знаю. Просто не любят. Да и во всей Польше не любят. В сейме много людей великоумных, начиная с Замойского, которого хорошо знаю. А этот самозванец — или нам будет немедленно выдан, или же будет вынужден убраться куда-нибудь подальше от Руси и Польши. А там он уже не страшен. Лишь бы ляхи его на Дон не пропустили или даже на Запорожье. Государь...
Туман заволакивал старую голову.
— Нет, — обречённо выдохнул царь. — Слушай, Димитрий Иванович, советы божьих людей. Я без их советов ничего не предпринимаю. А мы все в Божиих руках. Зачем посольство... Зачем сор из избы...
— Государь! — почти стонал уже Димитрий Иванович. — Да ведь в чужих странах, в первую очередь у ляхов, могут подумать, будто мы и сами не ведаем, что это за человек к ним пришёл. Подумают, что мы и сами его за царевича почитаем. Но ведь нам известно, что царевич умер и воскреснуть уже не может! Ведь Василий Иванович Шуйский на кресте клялся!
Димитрий Иванович, прогоняя боль, изловчился и стал хватать царя за рукава красной рубахи. Но тот не глядел на него. При упоминании о Шуйском царь судорожно вскинул голову и простонал:
— О Господи! Этот... Этот... Двадцать раз продаст! И все бояре такие... Да и... Сам знаю... — Затем попросил: — Приказывай.
Вошедший человек в самом деле оказался весьма невзрачной личностью. Конечно, это заключение удалось сделать не сразу, но лишь после того, как тот встал на ноги. Потому что сразу, войдя в палату и оказавшись перед глазами царя, он со всего маху ударился лбом о пол. А когда наконец поднялся, подчинившись приказам, и выпрямился, то царь и его дядя увидели человека средних лет, одетого в богатый, но явно с чужого плеча зелёный кафтан со сверкающими позументами, — на польский лад, что ли. Рыжие волосы спадали с остроконечной головы клочками гречневой поздней соломы, хотя над ними, без сомнения, потрудился придворный цирульник.
«Неужели и его племянник выглядит подобно? — подумал Димитрий Иванович, имея в виду человека, который выдаёт себя за царевича. — Быть не может! Разве что с нечистою силою договор заключил! И люди не видят? Господи! Вразуми меня! Вразуми царя!»
Царь молчал.
Чтобы прервать молчание, Димитрий Иванович поставил вопрос от себя:
— Как прозываешься?
Приведённый отвечал мгновенно:
— Данило Смирной-Отрепьев!
Ответ весьма глухо доходил до ушей Димитрия Ивановича. Но он продолжал расспросы:
— А есть у тебя родственники?
Боль сжимала боярину голову.
— Был у меня ещё брат Богдан. Да убили его, пожалуй, лет двадцать тому... А был он стрелецким сотником на Москве...
Тут уж в разговор вмешался сам царь.
— А были у него дети? — с какою-то надеждою спросил царь.
— Были, государь, — обрадовался царскому вопросу Смирной-Отрепьев. — Был у него сын Гришка.
— И сколько ему лет? — очень тихо спросил царь.
Димитрий Иванович наставил уши.
— Да кто ж сосчитает? Он умер.
— Сын умер?
— Умер. Посинел и в одночасье — как корова языком слизала.
— Что ты говоришь? — выдавил из себя Димитрий Иванович. — А Гришка?
— Ах да, — вспомнил Смирной-Отрепьев. — Был у него после того ещё один сын. Тоже Гришкой назвали.
— И сколько этому лет? — настаивал Димитрий Иванович.
— Этому? Этому, почитай, лет двадцать с лишним будет... Да только где он... Ищи ветра в поле...
— А каков он из себя? — спросил царь. — Боек ли?
— Он? — по привычке переспрашивал Смирной-Отрепьев. — Боек! Что правда, то правда! Боек!
Но дальше Димитрий Иванович уже ничего не слышал. Ему на миг показалось, что он прилёг на длинной скамье, что над ним склонилась матушка, которая отдала Богу душу очень давно, а на помощь матушке торопится Семён Годунов.
2
Шатёр царевича стоял на самом высоком месте, под раскидистым дубом. Он был поставлен заранее. Ради этого Андрей прискакал сюда загодя.
А царевич прибыл в сумерках, вместе с паном Мнишеком, чей шатёр разместили на соседнем пригорке. При свете костров и факелов, конечно, царевич не мог по достоинству оценить местоположение своего временного жилища.
Зато ранним утром, появившись из шатра, он по-детски воскликнул:
— Чудо! Чудо!
Андрей был счастлив. Он улучил момент, чтобы видеть радость на лице государя.
Конечно, этого выхода не могли заметить в войске, отделённом от шатра просторным жёлтостернистым полем. Но так получилось, что там как раз запели трубы. Звуки беспрепятственно понеслись в утренней тишине. Они разбудили, наверное, всё живое в окрестных рощах, селениях и садах.
— Ту-ту-ту! — разносилось. — Ту-ту-ту!
Оказалось, что к этому полю приближается ещё одна рота польской конницы. Из-за бугра показались верхушки пёстрых ярких знамён. Затем взвихрились струйки красноватой пыли. Она с трудом отделялась от почвы по причине вчерашних ещё дождей. Красноватой её делали не только солнечные лучи. Здесь повсеместно из-под зелени проступает красная земля. Не случайно ближайшее селение получило своё название — Глиняны. А дороги после дождя, в море прижухлой зелени, словно прорисованы кистью большого изографа.
Конники остановились на краю поля. Они стояли стройными рядами, уже готовые к бою. Но тут раздался иной, расслабляющий звук трубы — та-та-та! — и ряды рассыпались, и воинство вмиг превратилось в праздный цыганский табор.
— Молодцы! — всё так же восхищался царевич. — Ах, какие молодцы! Это ляхи. Но я своих подданных в Москве обучу подобным образом! Ей-богу!
А с другой стороны затрещали многочисленные барабаны: тра-та-та!
Сверкая медью, оттуда приближалась пехота. Пехотинцы высыпали на стернистое поле гораздо ближе от царевичева шатра, так что Андрею и царевичу, да и всем, кто находился с ними рядом, удавалось рассматривать каждого отдельного человека. А были там люди высокие, крепкотелые. Земля задрожала, когда они, подчиняясь приказам ехавшего на буланой лошади своего начальника, одновременно ударили подкованными сапогами. А тут ещё увидели реющее над шатром знамя — и разом прокричали что-то торжественное.
Разобрать, правда, можно было только одно:
— Гав-гав-гав!
Царевич издали помахал в ответ рукою и тоже посмотрел на знамя. Оно красовалось под солнечными лучами: ярко-красное, а посредине, на золотом основании, парил двуглавый орёл. Знамя изготовили во Львове лучшие мастера. Знамя будет в Москве!
Трубные звуки разбудили всех.
Из своего огромного шатра показался в громыхающих доспехах пан Мнишек. За ним следовал его секретарь Климура. Климура был одет в узкий фиолетовый камзол с золотою перевязью для шпаги. На голове у него вместо шляпы красовалась бархатная шапочка с длинными изогнутыми перьями. А всё это, да ещё вкупе с длинною шпагою на боку, делало Климуру издали похожим на бравого иностранного мушкетёра.
Царевич уже направился к своему будущему тестю, понимая, что главная роль во всём происходящем принадлежит как раз ему. Но царевича отвлекли гонцы с письмом. Письмо могло быть только от панны Марины. Царевич так и договорился с нею: каждый день отправлять по письму. Пускай гонцы несутся навстречу друг другу. Андрей был свидетелем разговора в Самборе.
Царевич поспешно взял письмо, лицо его просияло. Но этого ему было мало. Радость и любовь не вмещались у него в груди. Он должен был с кем-нибудь поделиться всем этим.
Царевич почти побежал навстречу пану Мнишеку.
— Великолепное утро! — осадил его своим восторгом пан Мнишек. — Сейчас, государь, увидим ваше войско, которое собрано здесь. Вот Панове полковники, капитаны и ротмистры подтвердят: они привели воинов, которые без раздумий пойдут за вами!
Рядом с паном Мнишеком стояли знакомые Андрею полковники Дворжицкий и Жулицкий. Они поклонились царевичу, а третьего полковника пан Мнишек представил такими словами:
— Пан Станислав Гоголинский!
Третий полковник был внешне непримечательным человеком, если не считать высокого его роста, жёсткого выражения лица и слишком волевого подбородка. Впрочем, иным военного человека Андрей представить себе не мог.
— Я привёл вашему величеству полторы тысячи воинов, — хрипло сказал полковник Гоголинский.
Его слова послужили как бы сигналом. Прочие полковники сочли за долг назвать числа приведённых ими воинов.
— Три тысячи, государь! — сказал пан Мнишек, выделяя слова «три тысячи». — Вместе с казаками. И ещё подойдут казаки, — добавил он, оборачиваясь к Андрею.
Андрей подтвердил:
— Будут ждать возле Житомира.
Капитаны и ротмистры ждали расспросов, но царевич ограничился тем, что ласково улыбнулся окружавшим пана Мнишека военачальникам и поинтересовался настроением воинов. Все военачальники отвечали так, как ему было приятно слышать.
Через час с небольшим царевич уже делал смотр выстроенному на стернистом поле войску. Рядом с ним высился на коне пан Мнишек. Андрей и полковники ехали позади Мнишека. Ротмистры и капитаны придерживались своих отрядов, подавали команды.
Видом войска царевич остался доволен. Особенно по душе пришлись ему кавалеристы: кони у всех как на подбор, сбруя горит украшениями. Сами всадники — красавцы. Оружие — если не в серебре, то в золоте. Пехотинцы при более близком рассмотрении выглядели ещё громаднее ростом. Прямо гвардейцы, явившиеся со дворов европейских монархов. В большинстве то были немцы, шведы и швейцарцы. Казаки держались отдельно, строя не соблюдали, показывали чудеса во владении саблей и конём.
В войске, надо сказать, были представлены не только кавалеристы и пехотинцы. Имелась даже артиллерия — небольшие, правда, по размерам и калибру пушки. Их насчитывался целый десяток.
Артиллеристы демонстрировали царевичу своё умение и выучку. Они дали залп по выставленным на пригорке стогам сена — от стогов не осталось ничего, а над пригорком взвилось облако красноватой пыли. В деревьях всполошилось птичье царство. Где-то в селении заревел скот.
Кавалерийские польские роты ринулись на тот же пригорок и одна за другою скрылись в густой пыли. Пройдя по кругу, они возвратились на свои места и там затихли.
Казаки вовсе не стали мучить лишними передвижениями ни себя, ни коней. И пехота тоже не стала тратить порох, но лишь продемонстрировала быстрый бросок всё на тот же пригорок. Там она выстроилась, стройными криками приветствуя царевича.
Царевич повелел избрать гетмана и прочих начальников и утвердить походные правила.
Гетманом крикнули, по предварительному договору, старого пана Мнишека. Он выехал на самое высокое место на пригорке, так чтобы его увидели все, и все, с нетерпением дожидаясь выдачи платы, которая находилась на возах, охраняемых дюжими немецкими рейтарами, дружно закричали:
— Слава гетману Мнишеку!
— Слава! Слава!
— Пусть ему и с травы, и с воды! — это кричали уже, по своему обычаю, буйные казаки.
Мнишек поклонился, насилу сдерживая в себе волнение.
— Слава! Слава! — ещё сильнее заревели вокруг.
Андрей заметил слёзы в глазах своего старого знакомца.
Полковников утвердили ещё быстрее. Так же быстро управились и с походными правилами.
— А теперь получайте плату, — велел прокричать царевич. И тут же обратился к пану Мнишеку: — Пан гетман, вы здесь распоряжаетесь всем!
Пан Мнишек поднял коня на дыбы.
Андрею показалось, что пан Мнишек обрадовался своему гетманству, подобно ребёнку, которому родители привезли неожиданный гостинец.
Но пан Мнишек старался быть достойным доверия.
Посоветовавшись с полковниками, новоиспечённый гетман велел готовиться к выступлению немедленно, в тот же день. Иначе, полагал он не без основания, жолнеры, получив плату, начнут пить-гулять. А после пьянки их придётся собирать не один день.
Особенно пугало настроение казаков. Что на уме у бесшабашного народа?
Поход позволял отсечь от войска всех ненадёжных, даже ненужных в сражении людей (таких насчитывалось немало, особенно среди казаков). Получалось в общем-то неплохо.
Казаки, обрадовавшись плате, уехали подозрительно быстро, как только деньги с возов перешли в их карманы. Для соединения с основным войском им был указан Киев. А кому удастся, говорилось, тог волен пробираться прямо в город Остер, уже за Днепр, на тот берег.
Казаки выбрали путь покороче. Они будут держаться берегов полноводной Припяти, подальше от гнева князей Острожских, поближе к владениям князя Адама Вишневецкого. Так надёжнее.
Пехота, погрузив тяжёлое снаряжение на возы и для себя запасшись возами в достаточном количестве, надеялась угнаться за конницей, которая пойдёт при самом царевиче. Пехоты насчитывалось всего четыре сотни.
А конники, уже в центральной колонне, которую собирался вести царевич, составили три роты: Станислава Мнишека, Станислава Борши и Андрея Фредра.
Для остального войска путь пролегал южнее.
Андрей Валигура, как только выступили из Глинян, оказался на плоской возвышенности, уставленной мощными вековыми буками. Оттуда он враз увидел войско как на ладони — не было только казаков. С высоты войско показалось таким незначительным, малочисленным, а красное знамя выглядело таким всего-навсего небольшим пятнышком, что Андрей даже усомнился: а не рано ли выступаем? Замахнулись ведь на огромное государство. Господи... Какой-нибудь магнат, задумав учинить наезд на хутор своего соседа, берёт с собою большее число воинов. Однако Андрей вспомнил слова пана Мнишека, сказанные вчера: даже это маленькое войско съело все деньги из государевой казны. А больше денег пока не предвидится. Следовательно, медлить с походом нельзя. И Андрей облегчённо вздохнул. Надо брать пример с царевича. Ведь царевич, без сомнения, знает о положении с деньгами. Однако не унывает. Если что и расстраивает его, так это расставание с панной Мариной.
«Понимаешь, друг мой Андрей, — говорил царевич, — чем быстрее будем продвигаться к Москве, тем раньше мы с нею встретимся! Тем скорее её обниму! Тем скорее сыграем свадьбу!»
Андрей всё понимал.
Он и про себя мог сказать нечто подобное: «Чем быстрее будем продвигаться вперёд, тем скорее увижу освобождённого Яремаку. И тем скорее увижу Москву, родину...»
В полях собирали поздние яровые. Сельчане оставляли работу, завидев войско на дороге, и следили за его продвижением из-под приставленных к голове загорелых до черноты рук. Когда войско проходит мимо, чьё бы оно ни было, для обывателя это большая радость. Плохо, когда войско находится рядом с обывателем. Ещё хуже, когда оно у него во дворе.
Как-то незаметно скатилось с неба покрасневшее солнце. Из низин повеяло свежестью. Однако надежды на остановку и на близкий ночлег не было никакой.
— Какая из дорог на Киев самая короткая? — спросил царевич у Мнишека.
— Пожалуй, через Житомир, — отвечал тот, озабоченный чем-то иным.
— Через Житомир? — переспросил царевич. — Я был в Житомире.
Он велел позвать Харька, который исполнял теперь обязанности интенданта в войске, и спросил, помнится ли тому Житомир.
— Как же, — с готовностью откликнулся Харько. — У меня там кума Христя осталась. Над речкою Каменкой хата стоит. Весь тын в цветах.
У Андрея запело внутри.
— Государь, — сказал Андрей. — Отпусти меня в Житомир. Там я встречу сечевых казаков. Их приведёт Петро Коринец. Ты его помнишь. Я уже послал гонцов на Сечь.
Царевич оживился. Под чистым украинским небом, которое удивляло своей прозрачной высотою, наполненной звёздным сиянием, в его голове, наверное, всплыли приятные воспоминания.
Царевич сверкнул глазами и сказал:
— Поедем вместе. Ещё раз увижу этот город.
В «малеваной» корчме на берегу Каменки — где эта шустрая речка врезается в красные скалы, чтобы влить свои воды в прозрачный Тетерев — грудастая корчмарка Галя выставила на столы всё варёное и печёное, потому что поджидала гостей с днепровского Низу. А что касается питья — так на нехватку этого в корчме ещё никогда не жаловались.
От того дня, как Андрей побывал здесь в последний раз, когда спешил с царевичем на Сечь, корчмариха заметно спала с тела, но красота её нисколько не слиняла. Красота будто въелась в белую кожу, чтобы затвердеть и закрепиться там уже навсегда.
Корчмарь Данило, бывший запорожец, цедил из огромной бочки пиво в глиняные кружки и едва успевал заправлять за уши поседевшие длинные усы. Он старался казаться равнодушным. Дескать, на всяких людей нагляделся я за свою жизнь с тех пор, как приворожила корчмарка Галя, — так и на этих гостей погляжу. А если и кажутся они птицами высокого полёта (по убранству видно, по оружию, да и по самим коням крутошеим), так можно будет при случае козырнуть знакомством. И тогда «малеваная» корчма (а назвали её так по причине выкрашенных глиною дверей, завалинки и оконниц) — тогда «малеваная» корчма сделается ещё более известной во всей округе, от Житомира до Чуднова.
Царевич и Андрей сидели за дубовым столом у небольших окошек, прорубленных в толстой стене. Они слушали рассказы Петра Коринца. По причине летней ещё жары деревянные рамы были вырваны из стенных проёмов вместе со стекляшками, конечно, и в отверстия виднелись башни житомирского замка. Они были расположены на приличном расстоянии, на противоположном берегу Каменки. А казалось, будто вошедший в корчму человек видит перед собою чудесные картины в тёмном обрамлении.
— Сегодня ночью прибудут все остальные, — горячился Петро Коринец. — И будет, государь, как обещано — две тысячи. Это точно. Да только замок этот с ходу не взять. А Яремаку... Без него не уехать... Хоть и в Москву.
Сидели, прихлёбывали пиво, гадали, чесали затылки.
Прочие гости за столами меньше всего о том думали. Яремаку они никогда не видели. Пили и ели. Слушали пение слепого бандуриста, что во дворе под тыном. Ему подпевал тоненьким голоском мальчишка-поводырь.
Харько, только что вошедший в корчму, пробирался как раз мимо хозяйки. Корчмариха остановила его горячим шёпотом:
— Скажи, казак, что это за гость? — И повела глазами на царевича.
Харько так же взглядом указал ей куда-то в задымлённый потолок с вырезанными там крестами.
Корчмариха зажмурила красивые глаза:
— Ой, Господи... Неужели... Царевич?!
Она ещё продолжала что-то шептать, глядя уже на мужа. Чтобы и тот проникся пониманием. Она указывала ему на красное знамя с двуглавым чёрным орлом, которое развевалось над забором под присмотром трёх дюжих казаков.
Петро Коринец сетовал:
— От реки не подступиться. По этим скалам. А с той стороны голая площадь. Одни камни. Долго вгрызаться в землю. Если на приступ.
Андрей тоже вздыхал:
— А побратима не оставишь.
Царевич спросил, двигая по столу кружку с пивом:
— Кастеляна знаете?
— О! — сразу насторожился Андрей. — Надо вот кого захватить.
Корчмариха решила, что настало время прислужиться.
— Пан Глухарёв сюда заглядывает, — сказала она с некоторым смущением. — Очень любит пиво.
— Вот как? — вопросительно посмотрел Андрей на царевича. — Ему известно, что казаки уже на подходе?
Царевич, конечно, сразу прочитал мысли Андрея.
— Кастелян из московитов? — спросил царевич корчмариху.
Корчмариху опередил её муж Данило.
— Да! — сказал Данило, со стуком опуская на стол очередную кружку пива. — Иван Глухарёв.
Царевич тут же принял решение.
— Нет, — покачал он головою. — Воевать будем без обмана. И не только здесь. — Ещё немного подумал и добавил: — Лучше будет, друг мой Андрей, если отправим послание. Дадим за Яремаку выкуп. Кроме того, я увезу его за пределы Речи Посгюлитой. Следовательно, он не будет вредить польскому государству.
— Было бы хорошо, — ещё не очень уверенно отозвался Андрей.
Письмо сочинили тут же. После одобрения царевича Андрей переписал его начисто, а ротмистр Борша вызвался лично отвезти его житомирскому кастеляну.
Трудно было предположить, какой ответ привезёт Борша. В корчме о том гадали и так и сяк. Некоторые предполагали, что кастелян испугается наказания со стороны королевского правительства. Он будет опасаться гнева киевского воеводы князя Острожского.
Много чего говорили, а царевич только посмеивался, слушая песни слепого бандуриста и вводя в смущение глазевшую на него красавицу Галю. Он думал о чём-то своём, ещё более важном.
Ответа пришлось ждать не более часа.
Царевич с Андреем и Коринцом стояли как раз под дубом возле корчмы, когда вдруг послышалось оживление во дворе. Тут же раздался резкий топот конских копыт. У ворот корчмы остановился всадник в лёгком панцире и в медном шлеме. Мгновенно спешившись, он бодрым шагом направился прямо к царевичу, отыскав его взглядом.
— Государь! — остановился прибывший за несколько шагов от царевича. — Я Иван Глухарёв, кастелян житомирского замка! Я прошу вас взять меня в ваше войско. А что намерения мои самые серьёзные — так доказательством тому послужит вот что!
Он сделал знак — и прискакавшие с ним гусары тотчас подвели и поставили перед царевичем бледиого высокого человека с длинными свалявшимися волосами.
— Яремака! — закричал Коринед. — Брат! Это ты!
Вослед за Коринцом к бледному человеку бросился Андрей.
Да, то был Яремака. Он дышал воздухом свободы. Он смотрел на всех, но ещё ничего не понимал.
А Глухарёв приблизился к красному знамени, опустился на колени и приложился губами к двуглавому орлу.
— Мне говорили о царевиче, да я не верил, — признался он. — А теперь — вот он!
3
Андрей чувствовал себя на седьмом небе. Теперь он был рядом с побратимами.
Коринец повелевал запорожскими казаками. Конечно, под Житомиром, при «малеваной» корчме, их насчитывалось не столько, сколько ожидалось, но всё же... И предводительствовать сечевиками Коринцу предстояло вплоть до подхода сечевого товариства, которое обещал привести на помощь царевичу кошевой Ворона.
А Яремаке царевич поручил начальствовать надо всеми московитами, что пристали к войску в пределах Речи Посполитой. Их набиралось не меньше тысячи.
От Житомира до Фастова летели как на крыльях.
Яремака, самый лёгкий, истощённый сидением в житомирском подземелье, увлекал за собою всех.
Попадись, кажется, навстречу казаки князя Януша Острожского — сомнут их, следа не оставят.
Так думалось.
А в Фастове соединились три колонны царевичева войска. Все пришли без потерь. Войско князя Острожского тянулось по сторонам от главных шляхов, как бы просто приглядываясь, что ли.
Пришли казаки из Сечи. Под началом Коринца их насчитывалось уже более двух тысяч.
В Киев вступили с песнями. Киевляне смотрели на войско приветливо. Киевляне расспрашивали, что да как. Желали царевичу удачи.
И вот...
Гетман Мнишек, сидя верхом на баском коне, в окружении гусар, слушал донесения. Гетман уже не снимал с себя просторных доспехов. Освобождался от них только перед тем, как взойти на паром. Но так положено. В случае чего — в доспехах не выберешься.
Климура, гетманов секретарь, свесив рыжий ус на одну сторону, внимательно записывал.
Гетман успел убедиться, что переправа через Днепр завершилась благополучно. Князь Януш Острожский, приказав угнать вниз по Днепру все паромы, лодки да суда, не предпринимал никаких серьёзных действий, пока войско царевича поджидало на берегу подхода новых средств для переправы. Часть их сколотили заново, часть пригнали с деснянских вод. Когда на закате солнца на берег выбрался последний казак, одолевший Днепрово течение безо всякой лодки, держась за гриву коня, на оставленном берегу Днепра показалось много всадников. Наверное, что-то выкрикивали. Кони не могли устоять на месте. Вечерний воздух наполнился звуками мушкетных выстрелов.
— Радуются нашей удаче? — спросил царевич.
— Нет! — отвечал Андрей. — Рады, что могут разъехаться по домам.
— Вот как, — улыбнулся слегка озадаченный царевич.
Андрей ничего не хотел скрывать.
Потерь при переправе не было, если не считать молодого шляхтича, который то ли хотел отличиться, то ли не мог совладать с самим собою. Он бросился в прохладную воду, чтобы первым вплавь добраться до парома, который приближался к берегу. И топором ушёл на дно. Труп выловить не удалось — настолько быстрое там течение. Очевидно, смерть юноши послужила предостережением для прочих. Преждевременной гибелью он спас другие жизни.
Царевич, как только завидел Днепр, ещё в Киеве, так и просиял лицом. Тревогу, внушённую Мнишеком относительно замыслов князя Острожского, как рукой сняло.
— Эта река меня любит! — сказал царевич.
Наверное, он вспомнил, как пробирался когда-то на Украину. Только не сказал с кем. Что-то недоброе мелькнуло в его глазах.
— Едем, государь, — напомнил Андрей, оставшись наедине с царевичем.
Позади них был только небольшой казацкий отряд.
Двигались уже берегом Десны. А Днепр оставался по левую руку. Дорога отклонялась всё дальше к востоку, к Десне. Дорогу обступали белостенные хаты. Дворы были уставлены стогами необмолоченных хлебов. Солнце светило и грело по-летнему. Однако деревья уже были обвешаны охапками золотой краски. Казалось, золото налеплено там нарочно, с целью придать дороге торжественности.
Это чувствовали все. А потому продвигались необычно спокойно. Еды и питья хватало. В войске сильно удивлялись дешевизне предлагаемого сельчанами, а сельчане радовались, что у них ничего не отнимают силой, но за всё взятое платят звонкой монетой. Сельчане умоляли указать московского царевича. Когда его указывали — они ликовали так, будто узрели святого, сошедшего на землю.
— Какой молодой!
— Какой красивый и добрый!
— Пусть Господь ему помогает!
Царевич повелел остановить войско на границе. Глядя на покрытый мхами каменный столб, он хотел что-то произнести, да только улыбнулся своим сокровенным мыслям и махнул рукою в сторону заброшенного монастыря, что виднелся вдали на пригорке.
В монастырском подворье, где бродили немногочисленные монахи, в присутствии своих военачальников царевич принял приграничного остерского старосту Ратомского. Тот попросился на службу, желая уйти в Москву. Староста пришёл не один, но с небольшим количеством московских людей. Они решили служить царевичу, а не оставаться в забытом Богом городишке.
Царевич похвалил Ратомского и сказал Яремаке:
— Прими под крыло. Как принял ты своего бывшего сторожа.
Он имел в виду житомирского кастеляна Глухарёва. Глухарёв, оказывается, тоже мечтал попасть в Москву.
И тут же в монастырском подворье состоялся военный совет.
— Мы вступили в пределы моего государства, — сказал царевич, как только утихомирились военачальники. — Я уже разослал грамоты во все концы. Я жду повиновения. А сейчас, пан гетман, отправьте запорожских казаков с грамотой в крепость Моравск. Это будет первая крепость, которая пришлёт мне свои ключи.
Польские военачальники не могли поверить, что это говорится всерьёз. Но казаки ждали подобного заявления. Стоило Петру Коринцу отъехать от монастырского подворья — и через мгновение все услышали, как задрожала земля от множества конских копыт. Под рукой у Коринца — атаманы Дешко, Кунько и Швейковский. И у каждого отряд казаков.
А наутро Коринец прислал гонцов: моравская крепость сдаётся без боя! Воеводы Ладыгин и Безобразов попытались склонить обывателей и ратных людей к сопротивлению, но народ заковал воевод в кандалы. Крепость ждёт царевича!
Царевич, выйдя из шатра, сначала успел подтрунить над польскими военачальниками, которые готовились к жарким схваткам:
— Так-то, Панове полковники! На Руси почитают законную власть!
Пан Мнишек поздравлял царевича со слезами на глазах.
— Кто бы мог подумать, государь! Ведь столько лет прошло! Да что говорить! Бог всё видит! — не находилось у него слов для выражения радости. — При таком походе, даст Бог, и гетману не придётся надрываться.
А вот польские полковники, внешне разделявшие всеобщую радость, не скрывали своей озабоченности. Разве на такую войну вели они своих подопечных? Не пахнет здесь добычею. Если так пойдёт дальше, то воевать здесь не придётся. И командовать будет некем.
Войско царевича тут же выступило из лагеря. А вперёд, в город, он отправил Андрея, придав ему гусар под командованием Станислава Борши.
— Скажи, друг мой Андрей, — велел царевич, — что я тороплюсь к ним со всем войском. Я хвалю их и благодарю, своих славных и верных подданных. Я освобожу их от власти ненавистного узурпатора!
Моравск оказался хорошо обустроенной крепостью. На высоких земляных валах возносились деревянные башни. Оттуда можно было вести пушечный огонь и продержаться там бог весть как долго.
Но ворота крепости были настежь распахнуты. Перед ними толпились московские ратные люди в красных стрелецких кафтанах, с бердышами в руках. Ещё больше виднелось там обывателей из предместий, что утопали в пожелтевших садах. Но более всего — сечевых казаков.
Многие были навеселе. Они громко хохотали, горланили песни, сновали то в корчму, то из корчмы, которая широко раскинулась на жёлтом пригорке при въезде в крепость. Оттуда раздавались звуки музыки. Перед маленькими окошками с зелёными оконницами кто-то садил гопака. Его подзадоривали взрывами криков.
Андрея с ротмистром Боршей встретили радостными возгласами. Тут же к ним подскакал на вороном коне Петро Коринец.
— Брат! — не мог скрыть своего восторга Коринец. — Хорошо получилось!
В крепости всё свидетельствовало, что царевича ждут и встретят хлебом-солью. Какие-то севрюки-доброхоты наперегонки водили Андрея по всем укреплениям, поднимались в башни, показывали запасы вооружения, пороха, никем не охраняемые, и говорили, что ждут не дождутся освободителя. И ждут его милостей для себя.
— Государь милостив! — отвечал без устали Андрей.
Он уверовал в искренность этих суровых людей. Он пренебрёг указаниями гетмана Мнишека насчёт того, что в оборонительные башни, к пороховому погребу, на крепостные ворота нужно поставить своих людей, драгун, — на всякий случай. Нет, Андрей не мог не верить обывателям Моравска.
И не ошибся.
Когда на следующий день, на белом коне, сопровождаемый паном Мнишеком, в город въехал наконец царевич, то его действительно встретили все от мала до велика. Встретили церковным звоном, хлебом-солью и криками благодарности.
— Дети мои! — говорил в ответ царевич, не утирая слёз с лица. — Вот и свиделись мы. Злодей Борис, захватив мой отцовский трон, загнал вас далеко от первопрестольной Москвы, от ваших родных мест. Но Бог поможет мне возвратить престол. Я в том уверен. Вы первые привечаете меня после долгого изгнания, а потому я дарую вам свободу ото всяких пошлин и налогов, отныне и навеки. Оставайтесь такими же верными мне и впредь. Спешите, кто может, не щадите ног своих, идите и рассказывайте правду всем, кто ещё ослеплён коварной ложью и ещё противится моей власти. Несите правду во все концы моего государства! И Бог не оставит вас!
— Пойдём, государь! — отвечали громом.
— Пойдём! Пойдём!
— Прямо сейчас!
Пан Мнишек даром времени не терял. С ласковой улыбкою рассказывал о себе. Говорил, что царевича признал польский король. Что король пришлёт своё войско, если московский народ не поможет царевичу поскорее занять отцовский престол. Пан Мнишек также со слезами на глазах убеждал севрюков идти во все уголки царства. Рассказывать о доброте, о милостях царевича. Даже бояр Ладыгина и Безобразова, которые не хотели его признать, он приказал освободить от оков!
Народ ликовал.
Ликовали и в царевичевом войске. Оно подошло уже к городу и остановилось верстах в трёх от крепости. Вскоре оттуда донеслись звуки частых выстрелов — там на радостях палили в небо.
Подобное начало похода обескуражило не только польских военачальников.
Не меньше, если не больше удивлялись сечевые казаки. Своё удивление они без тени стеснения высказывали атаманам Куцьку, Дешку и Швейковскому. А те передавали всё Петру Коринцу. Что это, дескать, за поход без поживы? Не пристало казаку грабить мирного обывателя, который принимает своего государя!
Коринец, по причине молодости, не видел пока в настроении казаков никакой опасности. В этом походе для него лично всё было яснее божьего дня. Восстановить справедливость. Непременно. А царевич щедро наградит. Как только возьмёт власть.
Но казаки рассуждали по-своему. Это проявилось уже в ближайшее время, сразу под Черниговом, куда войско направилось после короткого отдыха под Моравском.
Чернигов, конечно, с Моравском не сравнить. Чернигов город большой и весьма укреплённый. Получись здесь так же, как в Моравске, — о, тогда бы и дальше всё пошло как по маслу. Но получится ли?
Гетман Мнишек и здесь поступил подобно тому, как поступил под Моравском. Он выслал вперёд казаков с приказанием городу подчиниться своему государю.
От Моравска до Чернигова расстояние приличное. Обозу его надобно одолевать дня три, а казаки добрались туда за день. На следующее утро, когда войско царевича было ещё на середине пути к Чернигову, царевича встретили не посланцы Коринца, но гонцы от черниговских жителей. Они привезли жалобу на сечевых казаков. Казаки, оказывается, подступили к городу с предложением сдаться, но воевода Татев, стоявший за Бориса Годунова, приказал открыть огонь из пушек. Не всем казакам удалось уклониться от ядер, но кто уцелел, те набросились на посады и стали разорять мирное население. Им, мол, надо укрепиться там до подхода царевича с главным войском. Пока они это делали, в крепости взяли верх сторонники царевича. Воеводу Татева связали. Город готов признать власть законного государя, но казаки продолжают грабить посады.
Царевич успокоил гонцов:
— Всё будет возвращено. Город сдался — вот что самое главное.
Царевич счёл достаточным отправить к казакам ротмистра Борщу. Ротмистр повёз строгий приказ: возвратить обиженным всё у них взятое!
Царевич ничего плохого не подозревал. Казаки исполнят его приказ. И всё же он что-то предчувствовал. Потому что сразу, как только удалились обнадеженные гонцы вместе с ротмистром Боршей и его гусарами, царевич обратился к Андрею:
— Поедем и мы. Хочу посмотреть на верных мне черниговских людей!
Так и сделали.
Значительно опередив оставленное позади войско, они утром приблизились к Чернигову. Ещё на подходе к городу, при колодце с высоким скрипучим журавлём, узнали новость: казаки приказу не подчинились.
Царевич поднял на дыбы своего белого коня. Царевич не поверил:
— Как? Где гетман? Где Коринец?
Коринец явился тут же. Его было трудно узнать. Казаки не хотели и слушать о возвращении добычи.
— Что, таковы казацкие обычаи? — негодовал царевич.
Андрей поспешил на выручку товарищу.
— Обычаи не обычаи, государь, но захваченного на войне казаки не возвращают, — подсказал Андрей.
— У меня возвратят! — злился царевич. — Я поеду к ним сам!
— Не делай этого, государь! — загородил ему дорогу Андрей. — Это тебе только повредит! Давай грамоту. Я поеду к ним.
Грамота ещё писалась, а в небольшой домик на окраине Чернигова, в котором остановился царевич и который заволакивало дымом от пожаров, уже стали приносить сообщения о новых грабежах. Более того, казаки даже сами приходили объясняться с царевичем: они-де хотели помочь государеву войску, когда захватывали предместья, иначе здесь закрепились бы его враги, которые держат сторону злодея Бориса!
Казаков слушать не стали, к царевичу не допустили.
Царевич, выслушав прочие донесения, неожиданно спросил:
— Когда подойдут наши войска?
— Вероятно, сегодня вечером, — откликнулся Андрей.
Царевич встал с места, выпрямился и решительно выдохнул:
— Тогда пиши вот что, друг мой Андрей! Если казаки к завтрашнему утру не возвратят награбленное — завтра в обед с ними будут биться мои войска!
Присутствовавший при этом Коринец закрыл лицо руками. Андрей хотел что-то возразить, но царевич говорить ему не дал.
— Пиши, что я решил.
Московских людей у царевича в войске значительно прибавилось после Моравска. А что касается воинов, пришедших из-за Днепра, — то была уже серьёзная сила. Это знали все...
К утру начали поступать первые донесения: казаки пусть и с руганью, со скрипом, с бранью, с драками между собою, но начали возвращать отнятое у черниговцев добро.
Царевич приказал готовиться к торжественному вступлению в город, который признал его власть. Он начал советоваться, как наградить ему верных людей.
4
Воеводу Басманова разбудили на рассвете.
Он сразу всё понял.
Разбудить осмелились по его приказу.
— Так что пора...
— Знаю!
Не слушая объяснений, натыкаясь на углы столов и скамей, воевода направился до ветру.
На высоком крыльце, после душной горницы, было свежо и хорошо. Спускаясь босиком через три ступеньки, в чуть сереющем покрове чёрной ночи, воевода ощутил на своём носу прикосновение чего-то лёгкого, пушистого, но холодящего кожу и вроде бы даже влажного.
Вокруг было непривычно тихо. Онемела на время даже стража на крепостных башнях. Башен не было видно, но местоположение их воевода мог указать с завязанными глазами.
Справив за сараем малую нужду, воевода вдруг почувствовал, что ноги его опираются на что-то мокрое и скользкое. Он отступил назад, готовый посмеяться над собственной оплошностью, но земля вдруг сделалась влажною и на новом месте, где он теперь стоял.
«Ба! — подумал воевода. — Да ведь это первые снежинки! Да ведь и пора уже!.. Да... Ни раньше, ни позже... Да... То-то будет воплей!»
На крыльце воеводу настигли хриплые петушиные голоса. Петухи горланили в ближнем предместье.
«На Чеботарёвке!» — догадался воевода.
И тут же подала голоса стража:
— Не спи-и-и!
— Не спи-и-и!
Воевода содрогнулся и как бы с досадой захлопнул за собою тяжёлую дверь.
Петушиный крик, да ещё в предместье, лишний раз напомнил, что сегодня придётся отдать приказ делать именно то, чего ему хотелось избежать любой ценою.
Воевода велел слугам зажечь в горницах свет и позвать стрелецких сотников. Уже одетый и обутый, сидя в кресле, он выслушал гонцов.
Трое молодых казаков, из тех, что состоят у него на службе, но день и ночь кружат на своих конях на дальних подступах к городу, с южной стороны, как раз и подтвердили то, чего он не хотел услышать.
— Шайки самозванца, — сказал один из них, — не сегодня завтра будут здесь! Во всяком случае — сюда движутся конники!
Воевода был уверен: злодеи ничего здесь не смогут добиться. Покричат, постреляют. А всё же, всё же...
Конечно, воевода до последнего времени надеялся, что настырные слухи о добровольной сдаче грозного Чернигова окажутся в конце концов ложными. Он знавал воеводу Ивана Андреевича Татева и никак не мог поверить, чтобы тот, обласканный Годуновым, на каких-либо условиях согласился сдать старинный русский город. Воевода либо убит, либо опасно ранен, либо предан своими же, пленён и находится в руках самозванца. Он не дождался помощи, с которой спешил в Чернигов воевода Басманов.
Предательства, надо сказать, больше всего опасался и сам Басманов. Он знал, что Северский край наводнён людьми, которые ненавидят царя Бориса. Что правительство давно ссылает сюда подобного рода ненадёжных подданных. Что стоит появиться здесь какому-нибудь отчаянному человеку, заявившему о своей враждебности к царю Борису, — и вокруг такого человека тотчас соберётся множество приспешников. Конечно, на это рассчитывал злодей, выдающий себя за сына Ивана Грозного (или так ему подсказали?). Знал Басманов и то, что подобного рода люди населяют посады Новгорода-Северского.
Правда, будучи в московском Кремле, он, Басманов, не подозревал, что ему придётся оборонять Новгород-Северский. Полагал, что злодея остановят где-то ещё под Моравском, а уж под Черниговом — точно. Там он проторчит до подхода князя Мстиславского. У Мстиславского огромная рать. Всё должно быть покончено. Иначе смута расползётся по этим землям. Да что по этим! Далеко. И тогда придётся пролить немало крови. А пролитая кровь породит новых врагов.
Вошедшие стрелецкие сотники, оба заросшие бородами, оба здоровенные, как, впрочем, и все стрелецкие сотники и головы, стали тотчас пожирать воеводу глазами.
— Стрельцы на ногах? — спросил воевода.
— Как приказано, боярин! — отвечали сотники в один голос, будто сговорившись заранее. — День и ночь смотрят.
— Это хорошо! — заключил воевода. — Как начнёт светать — так и зажигайте. Ты запалишь с Чеботарёвки, а ты — с Ковалёвки. И чтобы — дотла.
Сотники отступили шаг назад.
— Как это? — спросили снова в один голос. — Так ведь никакого неприятеля ещё не видно? Да, может быть, куда в иное место понесёт его нечистая сила? Бают, что разругался он с ляхами.
— Так надо! — не слушал нареканий воевода. — Пора. Кто что успеет унести — пусть уносит. И чтобы — дотла, говорю. Чтобы, как заявятся супостаты, и зола уже остыла. Чтобы на снегу сидели, пока к нам подоспеет подмога.
— А куда... посадским? — опомнился один сотник.
Наверняка он предвидел, он понимал, чем это всё обернётся.
— Известно куда, — сказал воевода, отворачиваясь. — Сюда. За крепостные стены. Как обычно... Не то окажутся у злодея.
Сотникам оставалось поспешить к своим стрельцам.
Что говорить, воевода Басманов как-то сразу полюбил этот город. Ему нравилось глядеть с высокого берега, с крепостных валов и стен, на широкую Десну и на задеснянские дали. Это напоминало картины, которые открываются с высоты московских холмов. Видно было далеко. Особенно красивым казался противоположный берег. Деревья стояли ещё в россыпях ярких красок, а краски эти менялись ежедневно. Утром их покрывало сплошными седыми туманами, к обеду они сияли, как начищенное золото, как багрец на церковных стенах, чтобы к вечеру снова окутаться лёгкой синеватой дымкой.
Конечно, не будь воевода занят военными приготовлениями, не дожидайся он всё-таки подхода сюда противника — он мог бы часами, пожалуй, глядеть на волны красавицы Десны. Мог бы до одури рассматривать белые стены предместий, которые лепились по берегам, а берега спускались к воде уступами. Хороши были новгород-северские хаты и днём, и вечером, и утром, когда из каждого дымохода поднимались розовые дымки, так что враз и многократно увеличивалось вроде количество тополей, которые стоят в городе на всех улицах.
И вот эти предместья должны исчезнуть в огне и дыму!
Воевода, отдав распоряжения, попытался было снова уснуть, забыться, но сон не шёл. Ему казалось, что сквозь мощные бревенчатые стены дома проникают звуки из предместий, особенно из верхнего — из Ковалёвки, которая ближе от крепости и в которой неприятель должен появиться прежде всего. Воевода выслушивал донесения, прикидывал, что предпримет самозванец, достойный ли он соперник, кто с ним ещё придёт сюда, будет ли с кем сражаться князю Мстиславскому, будет ли чем последнему хвастаться перед царём. Воевода знал: на полк Мстиславского царь Борис возлагает главнейшие свои надежды. Счастливый поход, говорят, может обернуться для Мстиславского тем, что он станет царским зятем.
И всё же как ни старался уберечь себя от неприятных переживаний воевода Басманов, а вскоре почувствовал он крепкий запах дыма. Он вышел на дальнее крыльцо, и ещё только открыл дверь, как был ошеломлён волною человеческих криков. Крики эти, лай собак шли уже не только от Ковалёвки. Гул наполнил уже саму крепость, куда стрельцы сгоняли посадских людей. А дым валил и валил, и на фоне белого снега, который уже сплошь покрывал землю, крыши домов, деревья, зелёные кроны тополей, полосы этого дыма выделялись так отчётливо, что казались неестественными.
Воевода не удержался. Он взобрался на самую высокую крепостную башню, откуда накануне любовался задеснянскими далями. Да, стрельцы делали свою работу основательно, их сегодня не в чем было упрекнуть. Красные кафтаны мелькали в дыму так часто, словно стрельцов там было не меньше тысячи. На краю посада, который был расположен у самой реки, уже чернели пожарища, и только отдельные деревья ещё, обугленные и мёртвые, стоя испускали струи дыма. А дальше всё уже утопало в чёрной сплошной пелене.
Да, Басманов умом понимал бедствие людей, которые лишились вдруг крова, пристанища для детей, понимал, что они тем самым как бы невольно стали ближе к злодею-самозванцу, что они поддержат его при первой возможности, поддержат не по каким-то там соображениям долга, но просто потому, что им захочется отомстить власти, которая их жестоко обидела. Басманов это отлично понимал, но поступить иначе не мог. Он должен удержать хотя бы эту крепость — во что бы то ни стало. Он клялся царю. А что касается увеличившегося числа возможных сторонников самозванца, так он надеялся превзойти их бдительностью и воинской силою.
Да, посады исчезали. Но они уже не могли принять у себя самозванца. Не могли увеличить число его воинов.
Как бы там ни было, но в эту ночь, в переполненной народом крепости, воевода уснул спокойным сном человека, честно исполняющего свой долг.
Конные казаки самозванца, как и предполагалось, появились на следующий день после того, как были сожжены посады.
Басманову дали знать, и он лично видел сотни людей, которые с гиком, подобно татарам, прискакали к чёрным пепелищам. Удивлению и возмущению их не было предела. Они чувствовали себя обманутыми. Они кричали, размахивали руками, сверкали саблями. Они проклинали, конечно же, защитников крепости, которые лишили их лёгкой добычи. Наверняка они хорошо ведали, кто сейчас хозяин в крепости, и были убеждены, что такой воевода им не уступит. Они хотели занять посад, чтобы отогреться, потому что сразу после выпавшего обильного снега ударили крепкие морозы. Они надеялись сытно поесть-попить в посадах... А что получилось? С высоких крепостных валов на них глядели защитники, грозили мушкетами и пушками.
Не солоно хлебавши казаки самозванца удалились на ночь куда-то в ближние леса, подальше от крепостных пушек. Они коротали время у костров, могли поживиться мясом скота, разбежавшегося при пожаре в посадах. Но крепость была им не по зубам.
Они дожидались своего предводителя. Он же приехал через день после их прихода.
К этому времени в Новгороде-Северском распространились слухи, будто севрюки повсеместно встречают самозванца хлебом-солью. Будто навстречу ему выходят даже те обитатели лесных чащоб, которые любое начальство считают нечистой силой, которые при появлении самого ничтожного должностного лица стремятся забраться как можно дальше в лес, лишь бы не подвергнуться порче от дурного глаза. Зато попадись им такой начальник в подходящий миг, в подходящем месте — ни у кого из них не дрогнет рука, чтобы прикончить его, как вредное насекомое. Самозванца встречают колокольным звоном в церквах, и навстречу ему вместе с народом выходят священники с иконами и причтом. И всех он привечает ласково, ни на кого не держит зла. Всех прощает. Он простил даже черниговского воеводу Татева.
Эти слухи, конечно, доходили до Басманова. Более того, воевода выслушивал показания беглецов из Чернигова, у которых были свои основания оставаться верными Борису Годунову и которым посчастливилось бежать и добраться до Новгорода-Северского. Слышал Басманов и о том, что к Чернигову подошли донские казаки, что явились туда и запорожцы во главе с кошевым Вороною. Конечно, у самозванца собирается огромная армия. Однако Басманов знал и о раздорах в этой странной армии. Слышал, что часть поляков ушла, не получив условленной платы. А что касается казаков да лесных разбойников — Басманов ни во что не ставил такое войско.
Когда появились основные силы самозванца, Басманов внимательно наблюдал за ними из бойниц крепостной башни. Он даже велел доставить в башню одного перебежчика из Чернигова, который уверял, будто разговаривал с самозванцем и, стало быть, может узнать его в какой угодно толпе.
Басманов понимал, что слухам следует что-то противопоставить, развенчать образ справедливого властителя. Но придумать пока ничего не мог. Басманов уповал на своих стрельцов, в меньшей степени — на верных царю казаков.
Погода как раз установилась ясная. На белом чистом снегу, как нарисованные, показались те же, наверное, казаки, которые уже подходили к крепости накануне. Но казаки выступали только обрамлением для десятков трёх всадников, оснащённых и вооружённых на европейский лад. Басманов сразу решил, что среди этих всадников находится и самозванец. Басманов старался не выпускать из глаз одновременно и эту группу всадников, и стоявшего рядом с ним черниговского перебежчика. Когда всадники приблизились на расстояние двух мушкетных выстрелов, перебежчик радостно завопил:
— Вот он, боярин! Вот он! Разрази меня нечистая! Это он, богомерзкий!
Черниговский перебежчик имел в виду всадника на белом красивом коне. На всаднике был медный шлем и ниспадающий золотистый длинный плащ. Он ехал впереди всех, не считая, конечно, казаков, которые мельтешили перед глазами, перемещаясь то туда, то сюда. Указанный всадник внимательно следил за крепостью. Рядом с ним покачивался в седле ещё один важный человек — из-под плаща у того сверкали доспехи. Этот последний ездил по-стариковски медленно и спокойно, вроде бы даже с опаскою, как бы готовясь повернуть коня и ускакать подальше от крепости.
— Гетман Мнишек! — сразу определил черниговский перебежчик.
— Гетманов нам ещё не хватало! — сказал Басманов.
У Басманова тут же появилось желание приказать своим пушкарям прицельным выстрелом разметать эту кучку всадников. Более того, он почувствовал на своих ладонях жжение кожи, порывался лично навести как следует огромную пушку. Но какая-то сила удерживала его, хотя сами пушкари уже не раз высказывали подобные намерения.
— Нет! — сказал Басманов.
Ему почему-то хотелось дождаться, увидеть, что же сейчас предпримет самозванец, чтобы знать, чего от него следует ожидать впредь, как обороняться, когда он бросит войско на приступ. Однако в глубине души Басманов уловил своё невольное стремление поближе узнать этого смелого юношу, понять, что подвигнуло его затеять опасную и никчёмную в конце концов игру: выдавать себя за царевича, кости которого давно сгнили в могиле.
Самозваный царевич остановился на пригорке. Тотчас же от него в сторону крепости направилось несколько быстрых всадников. На конце сабли один из них вёз бумагу, которая белым цветом выделялась даже на фоне повсеместного чистого снега. Конечно, то было предложение сдать крепость. Всадники, среди которых различалось несколько людей одетых по-московски, а несколько — в убранстве польских рыцарей, направились к главным крепостным воротам. Они как бы не обращали внимания на высыпавших на крепостные стены ратных людей Басманова, которые кричали оскорбительные слова. Оскорбления относились уже и к персоне самозваного царевича. Подъезжавшие терпеливо сносили всё, вплоть до того момента, пока стрельцы — конечно же, с разрешения своего начальства — не открыли огонь из мушкетов. Целились, без сомнения, в того всадника, который вёз на конце сабли бумагу. С того человека, одетого в польский гусарский мундир, сбили пулей с головы шапку и, кажется, ранили его в руку, потому что он уронил бумагу на снег, а саблю перехватил другой рукою. Прочие всадники разом повернули назад, стараясь сдерживать бег коней. От непрерывного огня с вала их спасло то, что местность была холмистой, кроме того — они раз за разом меняли направление движения, пока не оказались вне опасности. На одном из пригорков остановились, посовещались и направились к самозванцу, который всё так же торчал на отдалённой возвышенности.
К Басманову в башню уже взбирался стрелецкий сотник — наверное, за разрешением ударить по самозванцу из пушки. Но воевода остановил его своим криком ещё на ступеньках:
— Не сметь! Ещё не пора! А бумагу — подобрать!
Сотник тут же повернул назад. Он был озадачен сомнением, так ли понято им сказанное воеводой, а если так, если правильно, то что всё это может означать?
А Басманов утешил себя мыслью, что самозванцу надо сохранить жизнь, чтобы доставить его живым в Москву, а ещё — чтобы иметь возможность с ним просто поговорить после пленения, узнать, что же это за человек.
Что говорить, самозванец, который как ни в чём не бывало (а ведь он отлично слышал ругательства с валов, направленные против него лично!) приблизился к крепости на расстояние прицельного мушкетного выстрела, приветливо улыбаясь и помахивая рукою в железной рукавице.
Басманов внимательно его рассматривал.
— И что он намерен делать дальше? — произнёс Басманов вслух, как только самозванец удалился.
На вопрос пока ещё никто не мог ответить. Даже сам Басманов.
Впрочем, полагал он, не смогли бы ответить на это и в лагере самозванца.
Военные действия начались без промедления. Так и было обещано в письме самозванца, которое не довезли его посланцы, но которое Басманов получил из рук своих стрельцов. В тот же день нападавшие подвезли к крепости небольшие медные пушки, десятка с полтора. Некоторые из них лежали на возах. Возы тащили мощные рогатые волы. Остальные катились на собственных огромных колёсах, которые оставляли на белом снегу заметные чёрные следы. Выстрелами из этих пушек нападавшие попытались пробить деревянные стены в намеченных для приступа местах. Выстрелы получались на удивление точные, хлёсткие. Из окаменевших бурых брёвен ошмётками отлетали охапки щепок, но не более того. В основном же ядра просто отскакивали с громкими хлопками, даже не оставляя после себя приметных впадин.
Воевода Басманов продолжал внимательно следить за порядком во вверенной ему крепости. Он понимал, что к самозванцу в ближайшее время, при малейшей возможности, попытаются перебежать самые забубённые головы, которых в крепости набралось уже немало. А потому Басманов очень внимательно следил за своими людьми. Когда же приключилась первая подобная попытка, то он лично послал в спину беглецу заряд из мушкета, выхваченного из рук растерявшегося стрельца, и запретил убирать труп убитого. Пускай все в крепости видят и остерегаются немедленной и неотвратимой расплаты. На следующий день он приказал повесить на главной крепостной площади двух других перебежчиков.
В результате всего этого Басманов, находясь почти постоянно на крепостных валах, не очень-то следил за детскими попытками нападавших, понимая беспомощность их слабосильной артиллерии. Он приказал своим пушкарям вовсе не отвечать на выстрелы, чтобы не подвергать себя никакой опасности, а защитникам прятаться в укрытия, и только.
Зато когда нападавшие отважились пойти на приступ, когда они, с приставными лестницами на плечах, в составе нескольких сотен храбрецов с криками бросились вперёд, а остальное войско изготовилось их тотчас поддержать в случае малейшего успеха — тогда Басманов лично навёл самую крупную крепостную пушку и удачным выстрелом проделал такую брешь в скоплении наступавших, что человеческий болезненный рёв заглушил, кажется, выстрелы всех прочих крепостных пушек.
Нападавшие откатились, но не угомонились.
Однако остальные подобные попытки нападавших оказались точно такими же.
Басманову в конце дня оставалось только предполагать, что же ещё придумает противостоящий ему молодой человек, который, он видел, шёл на приступы в числе первых храбрецов, который ничего не опасался, потому что, пожалуй, верил в справедливость своего дела.
5
Хоронили убитых. Их набиралось уже достаточно много. Трупы оттаскивали в поросшую кудрявым кустарником лощину. Там их складывали в жуткие кучи. Трупы на морозе коченели. Мёртвые глаза иногда раскрывались и становились непомерно огромными. Когда трупы извлекали из куч — слышался лёгкий звон, будто от металла.
С погребением сначала не торопились. Хоронить предполагали в крепости, после того как на башне взметнётся красное знамя царевича.
Но не получилось.
Теперь все пребывали в растерянности.
Не в своей тарелке чувствовали себя бравые полковники Жулицкий, Дворжицкий, Гоголинский. Огородным чучелом казался недавно приведший запорожцев кошевой атаман Ворона. Насопившись, он всё время держал руку на длинной сабле. Молчал Яремака. И донские атаманы посуровели. Кажется, один Корела выделялся среди них не так своей короткой фигурой, как своей улыбкою, которая ни с того ни с сего расцветала на тёмном изуродованном лице.
Неудача особенно поразила бывшего житомирского кастеляна Глухарёва.
Гетман Мнишек, восхищаясь меткими выстрелами по крепости, возносил Глухарёва до небес. Перед первым приступом, помнится, кто-то заметил, что в чёрной деревянной башне засели с мушкетами стрельцы. Они уже сделали оттуда прицельный залп. Мнишек крикнул Глухарёву:
— Нельзя ли их оттуда выкурить?
От первого ядра, посланного Глухарёвым, башня ощерилась чёрной пробоиной. Больше оттуда не стреляли. Не отзывалась ни одна башня.
Но это всё ничего не значило...
Гетман Мнишек хотел пересчитать покойников в общей могиле, да сбился со счёта. Кошевой Ворона, глядя в яму, не сдержал слёз. Казаки, как всегда, стремились первыми ворваться в крепость. Чтобы поживиться. И лишь несколько польских рыцарей лежало в чёрной яме, с трудом отрытой в мёрзлой земле.
Но более всех поразил пана Мнишека своим видом мёртвый Климура. Он лежал как живой. Он всё успел сделать при жизни. Он был спокоен.
Климуру срезала шальная пуля. Из любопытства он шагал в темноте позади людей, которые несли под крепость охапки сухого хвороста и соломы, чтобы поджечь бревенчатые стены. Впереди на полозьях двигались деревянные башенки, в которых наступавшие скрывались от пуль московитских стрельцов. Башенки разваливались только от прямого попадания ядер. Казалось, борисовцы в темноте не сумеют причинить наступающим особого зла. Однако выпал обильный снег. К тому же порою проглядывала луна. А крепостные пушкари оказались под стать Глухарёву. Не получилась ни первая, ни вторая, ни третья попытка. Никому не удалось приблизиться к крепостным стенам.
Глухарёв, уставясь белыми глазами на крепость, повторял:
— Мне хоть бы одну из тех пушек, что стояли в Житомире!
Яремака смотрел на него с пониманием.
Но как было доставить тяжеленные стволы из Самбора? Как переправить их через Днепр? Подобные пушки можно было снять с черниговских валов. Но сейчас везде бездорожье. Да и кто надеялся на упорную оборону Новгорода-Северского? Этого не предполагал даже умный Климура.
Отец Мисаил, получивший диаконский чин во Львове, прочитал над павшими молитву глухим, простуженным голосом. Затем отошёл в сторону, отворачиваясь от ветра, уступая место католическим священникам, которые стояли наготове. Отец Андрей, такой же бородатый, как и отец Мисаил, только по-молодому черноволосый в отличие от выцветшей рыжеватости отца Мисаила, в очень похожем тёмном одеянии, проговорил молитву на непонятной большинству латыни, очень краткую, но довольно звонкую. А через несколько минут всё было кончено. Над погибшими лежали глыбы мёрзлой земли и торчал крепкий дубовый крест. Общий для всех. Они веровали в одного Иисуса Христа.
Все поспешили поскорее разойтись. У всех были прежние унылые лица. И только царевич, будто эта картина была ему не в тягость, подошёл к Мнишеку с просветлевшим лицом и сказал:
— Пан гетман! Сейчас мне всего дороже слова вашего покойного секретаря. Да! Умный был человек, коли так. Столько времени водил нас за нос. А к какому выводу пришёл? Умница. Поверил сразу. Меня хранит Богородица. Моя жизнь нужна Родине.
Сказав это, царевич ловко, как он умеет, прыгнул в седло. Сидя на белом жеребце, на котором выехал ещё из Самбора, он был по-прежнему уверен: его не заденет ни ядро, ни пуля, ни сабля, ни пика.
— Государь! — послал ему вдогонку пан Мнишек. — Вы верно говорите!
Пан Мнишек ещё раз оглянулся на могилу. Он не верил, что расстаётся с Климурой. Предсмертные слова писаря, прозвучавшие для него, сандомирского воеводы, настоящим откровением, возымели, оказывается сильное действие на царевича.
— Климура, Климура...
А Климура, когда его принесли в шатёр, не раскрывая глаз, но безошибочно чувствуя присутствие патрона, сказал клокочущим голосом:
— Пан Ержи! Мне недолго жить... И прежде, чем я предстану перед судом Всевышнего, скажу вам правду. Я не тот человек, за кого вы меня принимаете. Зовут меня по-настоящему Парамошкой... Парамон я... Я подослан к вам московскими боярами. Кем именно — не имеет значения. Я должен был в случае появления лжецаревича уличить его во лжи. Но как только я увидел царевича Димитрия — я сразу поверил: он настоящий! Мне захотелось сделать всё, чтобы его обезопасить. Чтобы сел он на московский престол. И когда я увидел Якова Пыхачёва — я понял и другое: Пыхачёва надо убрать немедленно. И я рад. Я хоть немного, а послужил истинному государю... А ещё: мои донесения когда-то доставлял в Москву Харько. Только я давно уже ничего туда не посылал. Так что простите Харька...
Это были последние Климурины слова. Рыжие усы его вслед за этим вздрогнули и опустились.
Конечно, пан Мнишек тут же поведал царевичу о признаниях Климуры. Вызванный Харько ничего не отрицал. Он был прощён.
Пан Мнишек не переставал удивляться царевичу. В растревоженном лесном крае, переполненном теперь ещё и военными людьми, пан Мнишек терял голову. Но царевич...
Ещё в Чернигове, после прихода донских казаков, когда присоединились сечевики во главе с кошевым Вороною, когда каждый день объявлялись всё новые и новые ватаги вооружённых топорами да кольями севрюков, пан гетман прикинул в уме количество своих воинов — и не знал уже, то ли радоваться, то ли печалиться. Внешне, конечно, он ликовал. Число воинов приближалось к сорока тысячам. Это шло к лицу любому королю. Да что это были за воины? Надёжную часть их, он был уверен, составляли польские рыцари. Обученные ратному делу, эти люди знают, как важна воинская дисциплина. У большинства из них солидный военный опыт. Конечно, некий опыт имеют и многие казаки. Но как подчинить казаков? С другой стороны, польские рыцари сразу потребовали платы вперёд, тогда как казаки готовы верить одним обещаниям. Рыцари надеялись получить деньги в Чернигове. Но захваченная в Чернигове казна оказалась пустой. И тут произошло самое страшное. Потребовав платы, рыцари заявили, что отправятся назад, в пределы Речи Посполитой, если не получат денег. Денег, конечно, не получили. А потому утром следующего дня из лагеря было вынесено рыцарское походное знамя. Рыцари спешно строились. Раздались звуки музыки — и войско двинулось на запад! Уходили самые надёжные воины...
— Стойте! — закричал пан Мнишек, бросившись за ними.
Царевича не хотели будить. Он спал крепким сном. Накануне он уснул поздно: весь вечер провёл в безрезультатных разговорах о том, где взять денег. Но уснул с надеждою, что всё образуется. Что рыцари потерпят и до Новгорода-Северского. Чем ближе к Москве, уверял царевича уже покойный ныне Климура, тем больше денег в казне каждого большого города.
Но Андрей Валигура, неотлучный при царевиче, как только узнал об отходе рыцарей, тотчас разбудил государя.
Едва одетый, царевич крикнул вне себя:
— Коня!
За ним успевал только Андрей Валигура. Гетманов конь семенил далеко позади.
Рыцарское войско шло не спеша. Словно красуясь силою и смелостью. Словно ещё в раздумье. Наверное, у многих на душе лежало сомнение: а так ли поступаем? Не предаётся ли тем самым воинская честь?
Но когда царевич, обогнав войско, загородил своим конём дорогу музыкантам, а рядом с ним точно так же поступил Андрей, то музыканты стали объезжать их стороною, как объезжают встреченный на дороге камень, пень. Музыканты, не прерывая игры, заглушали слова царевича. Пан Мнишек расслышал их, лишь когда приблизился вплотную к своему государю.
— Поляки! — кричал царевич, и слёзы, по-детски крупные, стекали у него по бледным щекам. — Герои! Где ваши обещания? Я заплачу всё, как обещано! Но не оставляйте так удачно начатого справедливого дела! Бойтесь Бога! Не бросайте тень на своих предков! Не заставляйте их ворочаться в гробах от позора, которым хотите покрыть свои головы!
Царевич не утирал слёз. Он пытался ухватить за уздцы чью-нибудь лошадь. Пытался поставить хоть кого-нибудь рядом с собою. Ему помогал отчаянный Харько, невесть откуда взявшийся.
Но всё было понапрасну.
Не спасало и то, что на середину дороги с трудом удалось пробиться пану Мнишеку, что он вместе со своим секретарём Климурой пытался тоже помешать движению убегающих рыцарей.
— Посылайте за капелланами! — повелел царевич неизвестно кому, не прекращая попыток поставить ещё кого-нибудь рядом с собою, сделать его своим соратником.
Ему, да и пану Мнишеку, да и Андрею, да и подоспевшим полковникам Дворжицкому и Жулицкому уже казалось, что некоторые рыцари начинают колебаться, что стоит хотя бы одному из них остановиться, замешкаться — и такому последуют многие. Что рыцарство переменит намерения.
Однако рыцарство не напрасно славится единством в бою и во всём, что касается военных действий.
Увещевания не помогали.
Явившиеся на зов капелланы поскакали вперёд, чтобы встретить войско на первом привале. А царевича с трудом увели в ближайший от дороги деревянный дом, окружённый тополями.
Но успокоился он только к вечеру. Капелланам удалось переубедить рыцарей. В таком же порядке, но только без музыки, рыцари возвращались назад к Чернигову... Они согласились обождать ещё какое-то время!
Царевич снова был оживлён и полон надежд. Словно с ним ничего не приключилось. Словно он просто сыграл свою роль, снял маску — и обо всём забыл.
И вот теперь под Новгородом-Северским, после неудач под стенами этой крепости, после того, как царевич принародно поставил под сомнение боевую мощь рыцарей, их прежнюю славу, а они начали огрызаться, стали обещать, что пробей он брешь в стенах крепости, и тогда они себя покажут, — после всего этого пан Мнишек начал опасаться, что случившееся под Черниговом может повториться. Рыцарям стоит только добиться победы. Их репутация будет восстановлена. Они заговорят по-иному. Надолго ли хватит у них терпения?
А царевич между тем мог утешаться одним: в число его сторонников переходят все жители огромной Северы, исключая разве что Новгород-Северский.
Под Новгородом-Северским по-прежнему ничего толкового не получалось. Войско в лагере из палаток да землянок на крутом берегу Десны страдало от морозов и недоедания, негодовало уже которую неделю. И никто не ведал, когда всё это закончится, когда продолжится поход, сколько ещё продержится крепость. В самые дальние места Северы в поисках продовольствия отправлялись отряды фуражиров, и с каждым днём количество подобных отрядов множилось и множилось.
6
Теперь настал черёд Яремаки утешать своего недавнего сторожа, бывшего житомирского кастеляна.
— Ты показал своё мастерство, — говорил он удручённому Глухарёву. — Государь нисколько в тебе не сомневается.
Глухарёв не находил для себя утешения.
— Да что с того, друг? — хлопал он белыми одичалыми глазами. — Мне так хотелось ему помочь... Да получается, хвастался... И снять с меня это пятно может только сражение в открытом поле. Эти пушечки пригодятся только там. Но не при осаде крепости. К тому же она на скалистых берегах. Да ещё царевич не разрешает палить по стрельцам. Жалеет и бережёт народ московский.
— Жалеет, — соглашался Яремака.
Яремака, видать, давно уже согревал в душе дерзкую мысль. Но не говорил. В житомирском подземелье привык молчать подолгу.
Глухарёв заметил его напряжение. Глухарёв удивился и ещё сильнее захлопал белыми ресницами.
— Друг! — ухватил он Яремаку за рукав. — Выручи. Ты можешь. Не напрасно держали взаперти. Не напрасно боятся!
Яремака всё же не стал говорить открыто. Чтобы не сглазить. Чтобы плохие люди до поры до времени не прознали.
Начал иносказательно:
— Хотелось бы прогуляться, брат, с моими удальцами. Им тоже не терпится доказать, что недаром пришли на службу. Хочется всем на свою родину... Так вот. Здесь уже всё съедено, вокруг Новгорода.
Так не податься ли туда, где Борисовы люди брюхо себе тешат? Может, и ты со мною? Отпросимся у государя. Андрей Валигура нам пособит. Государь ему ни в чём не откажет.
Глухарёв ничего не понимал.
— За продовольствием, значит? — спросил он, отворачиваясь, словно бык, узревший мужика в красном зипуне. — Да мне это как-то... Мне пушки подавай... Люблю железки...
— Вот хотя бы в сторону Путивля, — стоял на своём Яремака. — Говорят, крепость там не хуже этой... Но не встала на пути нашего государя. И воевода в ней, быть может, не такой завзятый, как здешний.
Глухарёв понял намёки.
— Поедем, брат, — согласился Глухарёв.
Яремака так и заявил царевичу:
— Надо бы попробовать взять из-под носа у Борисовых людей лакомые кусочки. Изо рта вырвать, государь? — И застыл с вопросительным выражением на лице.
О Путивле упоминаний не было. Особенно о крепости. У царевича и от здешней крепости голова кругом. Пусть это будет царевичу подарком. В случае удачи.
О каком подарке может быть речь — Яремака ещё не знал. В нём проснулся прежний строптивый дух. Он хотел наверстать упущенное за время сидения в подземелье.
Царевич был готов поддержать всё, что направлено против ненавистного Бориса.
— Езжайте, — разрешил он даже без совещания с паном Мнишеком, как делал обыкновенно в последние недели. А лишь обменялся взглядом с Андреем Валигурой. Тот одобрительно кивнул курчавою головою:
— Пускай!
Уехали на следующий день. Подобрали себе три десятка добрых соотечественников. Кто помоложе да попроворней. У кого и кони крепкие, и есть охота прогуляться. Да смотрели за тем, чтобы такие охотники имели ещё и по два коня. На одном не отправиться. Объяснили молодцам, что едут за продовольствием. Чтобы по дешёвке достать. А где именно — ни слова.
Путь лежал сперва на юг. Народу на дороге попадалось до того много, что иногда приходилось объезжать неподатливые толпы стороною, по глубокому снегу.
Встречные люди торопились к Новгороду-Северскому. Все расспрашивали, не сдалась ли крепость. Долго ли намерен не подчиняться царевичу проклятый воевода Басманов? Бога он не боится! Таких на кол сажать!
— Царевич с ним так и сделает! — кричали.
— Обязательно сделает! — поддерживали.
— Надо! — был общий приговор.
Но чем дальше от Новгорода-Северского, от Десны — людей на дорогах всё меньше, меньше. И селения в лесах попадались всё реже, и народ недоверчивей.
Вскоре повернули к востоку, в сторону Глухова. Но в Глухов не поехали. А когда выбрались на еле приметную лесную дорогу, которая, уверяли тамошние жители, ведёт напрямик к Путивлю, — коням пришлось пробиваться через глубокий снег. Зато на следующий день, к вечеру, усталые животные могли передохнуть в небольшом селе на покрытом лесом берегу реки, где Яремака решил остановиться на ночлег.
Местные жители, с недоверием глядя на непрошеных гостей, всё же поведали, что до Путивля отсюда подать рукою.
— Туда и дорога пробита каким-то обозом, — прошамкал старик в рваной заячьей шапке и в старом длинном кожухе. Хата его стояла на краю села. Он знал о дороге всё. — Вот она и доведёт вас до самой крепости! — указывал старик рукою в красной рукавице. Он надеялся, что гости сейчас же ускачут в указанном направлении.
Но у старика ничего не получилось. Не соблазнил он Яремаку.
Ночевали в заброшенном огромном овине. Там было тепло и тихо. Если не считать мышиного писка в соломе да привычного и близкого присутствия коней.
Яремака шепнул своему джуре[30] Антону, чтобы тот хорошенько покормил коней.
— Надо приготовиться снова в дорогу! — сказал тихонечко.
Антон подпрыгнул от радости:
— Хорошо!
А сам Яремака первый улёгся спать на кучке пыльной овсяной соломы и сразу захрапел.
Но как только всё вокруг затихло, в том числе и ничего ещё не подозревающий Глухарёв прикорнул, Яремака тут же поднялся. В пятнах лунного света, что пробивался сквозь дырявую соломенную крышу, Яремака без труда отыскал на соломе Глухарёва, потащил его за собою наружу.
— Ты вот что, друг, — сказал он ещё не пришедшему в себя Глухарёву. — Ты остаёшься здесь за старшего. Ждите, пока не приеду. А я разузнаю, что творится в Путивле.
— Ночью? — удивился враз проснувшийся Глухарёв. — С одним джурою? Да вас схватят, брат. Да тебя повесят! Вон какие строгости везде от Бориса Годунова!
Яремака только улыбнулся:
— Ждите!
Луна торопилась за всадниками аж до самого пригорка. А дальше пробитая в снегу дорога прильнула так близко к тёмному лесу, что луна уже проглядывала сквозь деревья только на короткие мгновения. А там луна и вовсе пропала. Ехать пришлось почти в полной темноте, доверившись лошадям. Лошади бежали ровно. Порою их приходилось сдерживать, когда в лесной чащобе, очень уж близко, раздавался хищный волчий вой. Тогда и всадники невольно хватались за мушкеты. Они едва сдерживали себя, чтобы не вспороть темноту снопами огня.
Дороге наконец надоело соседство с непроглядным лесом. Она откололась от него. Но прежнего света в поле уже не было. В одном только месте над лесом ещё нависал изогнутый кровавый след — от луны. Да и он просвечивал недолго.
— Гляньте, пан! — крикнул вдруг джура Аптон. — Корчма! Ей-богу!
На пригорке, под высокой чёрной крышей, светились небольшие окошки. Где-то гомонили люди. Где-то урчали собаки. Невидимые лошади с хрустом жевали сено, стучали копытами, фыркали.
Антону было лет шестнадцать. В этот поход он отправился вместе со своим отцом. Отец его тоже никогда не видел Москвы. Он родился и вырос во Львове, где осел ещё Антонов дед, бежавший от мести царя Ивана Грозного. Дед так и умер, до последних дней надеясь, что его призовут в Москву, что там восторжествует справедливость. Но своими рассказами он раззадорил воображение сына и внуков. Отец Антона воспользовался, естественно, первой же возможностью, отправился со старшим сыном в московский поход. Он горячо и во всём поддерживал царевича. Горячность погубила его при первом же приступе под новгород-северские стены. Похоронив отца в общей могиле, Антон ещё сильнее привязался к своему атаману, к пану Яремаке.
Яремака понимал, как хочется бедному парнишке в корчемное тепло.
Но Яремака сказал, оглядевшись по сторонам:
— Жди меня, Антон, вон за теми стогами. Там должно быть тепло. И насыпь коням овса в торбы.
Яремаке казалось, будто бы за корчмою, сразу за присыпанными снегом тополями, вздымаются ввысь крепостные валы. Будто там виднеются крепостные ворота. Однако Яремака не был в том уверен. Он направился в корчму. Там можно выведать всё.
Корчма внутри оказалась почти пустою. Не виднелось на обычном месте даже корчмаря (или корчмарихи).
За широким дубовым столом посреди просторного помещения, при колеблющемся свете сальных свечей, горбилось трое крупных мужиков в длинных тёмных кожухах, без шапок. Стол перед ними был заставлен пузатыми бутылками, вместительными деревянными кружками да ещё остатками еды в красных глиняных мисках. Однако мужики не прикасались ни к еде, ни к питью. Они сидели, обхватив тёмными руками лохматые головы, словно отчаявшись в чём-то, словно не находили для себя никакого выхода из того, что их огорчало. Время от времени они прикладывались губами к трубкам, чтобы окутать себя и друг друга кудрявыми завитушками дыма.
Яремака хотел уже было ткнуться в дверь ванькирчика[31], где надеялся-таки отыскать хозяина, чтобы заказать какой-нибудь еды, как следует поступать проезжему человеку, но его приход оживил задумавшихся мужиков. Они вскочили на ноги и наперебой загалдели:
— Человече добрый, садись!
— Садись давай сюда!
— Да нет! Садись сюда! Там дует из окна!
Конечно, Яремака упрашивать себя не заставил.
Усевшись, он не отказался и от горелки в кварте, правда уже на донышке.
— Ваше здоровье, люди добрые! — поднял он кварту. И тут только заметил ещё одного человека, который лежал на длинной лавке, поставленной, как обыкновенно бывает в корчмах, вдоль стены, под окнами. Человек, завернувшись в кожух с головою, громко храпел. От храпа вздрагивали носки его огромных чёрных сапог. Сапоги не вмещались на лавке, свисали вниз.
— Наш начальник, — махнул небрежно рукою один из угощавших. — До утра не проснётся!
Яремаке показалось ещё, что корчемные гости просто успели надоесть друг другу. Потому они рады свежему человеку. Он же сразу готов был признать в них пушкарей: от них пахло порохом и железом, что ли. Это заключение взбодрило Яремаку. Он почувствовал, что попал туда, куда надо. Что пушкари чересчур часто гостят в этой корчме — потому на них уже не обращает внимания даже корчмарь. Вот и оставил гулять, а сам закрылся в ванькирчике и храпит.
— Кто ты такой, человече? — сказал один из предполагаемых пушкарей, заметив, что Яремака подобрел лицом от пропущенной через горло горелки. — Вроде я тебя впервые вижу?
— Редко здесь бываю, — не растерялся Яремака. — А сам я издалека. Аж из Курска, — соврал он первое, что пришло в голову.
— О! — оживился пушкарь. — Дак ты, наверное, ничего ещё не знаешь, что у нас здесь творится?
— А что у вас может твориться? — прикидывался дальше простачком Яремака. — Горелка добрая. Цены на рынке у вас не кусаются. Теперь не то что прежде, когда во всём царстве был неурожай.
— Да ты про Новгород-Северский что-нибудь слышал? — набросились на невежду прочие пушкари.
— Конечно, слышал, — как можно равнодушней отвечал Яремака, опрокидывая в себя остатки горелки уже из другой кварты и мысленно снова жалея бедного джуру Антона, который торчит сейчас на морозе. — Есть, говорят, такой город. Но сам я там ещё не бывал. Даст Бог, и там побываю.
Пушкари дружно загоготали.
— Город-то есть, — наставительно сказал самый рассудительный. — Да его сейчас осаждают войска царевича Димитрия.
Тут говорящий оглянулся на спящего на лавке, как бы спохватившись, что говорит не совсем так, как надо. Но лежавший на лавке храпел по-прежнему. Потому пушкарь продолжал:
— Осадил он, понимаешь, воеводу Басманова. А тот Басманов упрямый. Поклялся он, видишь ли, Борису Годунову, будто ни за что не отдаст город Чернигов. Но до Чернигова даже доехать не успел, как Чернигов царевичу сдался. Так хочется себя здесь показать.
Яремака слушал с раскрытым ртом, забыв о горелке и закуске. Так и держал в одной руке кварту, а в другой кусок сала.
— А что за царевич? — наконец спросил Яремака. — Неужели Фёдор Борисович? Бориса Годунова сынок?
— Что ты! — замахали на него руками все три пушкаря. — Царевич Димитрий Иванович. Сынок Ивана Грозного! Аль не слыхал?
Яремака вроде чуть не подавился едою.
— Да неужто жив? — закричал он. — Господи! А велено было говорить: умер! Велено было за его душу Богу молиться.
Жив царевич Димитрий Иванович, — остановил Яремаку тот пушкарь, которого он принимал за самого рассудительного. Но сказал пушкарь это шёпотом, снова оглядываясь на спящего. — Жив, — повторил. — Идёт на Москву, но пушек у него подходящих нету. Вот бы таких ему, как у нас... Из наших пушек можно хоть в какой стене пробоину сделать... И есть у нас такие люди... Много их... Так что выпьем за его удачу...
Ударом кулака пушкарь выбил затычку из новой бутылки и наполнил горелкою кварты.
— Так вы бы ему и пособили, — начал осторожно Яремака, но не договорил.
Спавший на лавке, знать, уже давно прислушивался к разговорам. Он вскочил на ноги. Он оказался высоким и широкоплечим, так что сразу загородил своим телом выход из корчмы.
— Хватай его, ребята! — закричал вскочивший, со свистом вытаскивая из ножен саблю, которая, оказывается, скрывалась у него под широким кожухом. — Хватай! Это лазутчик? И вы его слушали! Вы поддакивали!
Яремака успел пожалеть, что оставил свою саблю Антону. Очень уж хотелось прикинуться мирным жителем.
— Постой!
Не раздумывая, Яремака с силой плеснул горелку из своей кружки прямо в глаза преградившему дорогу. Тот закричал, переломился в пояснице, выронил на пол саблю.
— Хватайте!
Яремаке этого оказалось достаточно. Ударом кулака в подбородок он бросил противника на пол. Ещё через мгновение, с чужою саблею в руке, Яремака уже кричал на бегу своему джуре Антону:
— Прыгай в седло!
На обратный путь ушло гораздо меньше времени. Погони не было. Всё обошлось. Яремака на скаку уже рассказал Антону, что в Путивле можно разжиться пушками.
— Пушки как раз такие, — крикнул, — какие надобны под Новгородом!
— Хорошо! Ой хорошо! — отвечал Антон.
Они торопились обрадовать Глухарёва и остальных товарищей.
Но в селе, где были оставлены уснувшие товарищи и где для них уже забрезжил рассвет, их ждало то, чего они никак не предполагали.
Из своего двора им навстречу выскочил старик в длинном знакомом кожухе и в дырявой заячьей шапке, с которым Яремака беседовал накануне вечером.
— Эх, сынки! — сказал старик. — А ваших уже в полон побрали! Сонных...
— Как? Кто? — не поверил услышанному Яремака, ставя коня на дыбы.
— Налетели, — махнул рукою старик в сторону Путивля, откуда только что прискакали Яремака с Антоном. — Оттуда. Не иначе как кто-то выдал...
У Яремаки опустились руки.
— Где же они? — спросил.
— Да туда и повезли. Хоть и много нападающих было, а поехали по битому шляху... Лесом опасались.
Яремака должен был спешиться, чтобы прийти в себя. Джура Антон сидел в седле. Лицо его было белее снега.
7
Андрей примечал, в каком затруднении находится сейчас царевич.
Получая письма от панны Марины, царевич радовался им по-прежнему, если даже не сильнее, однако с каждым днём он всё больше и больше затруднялся с ответами своей невесте. Дошло до того, что царевич начал отвечать уже не на каждое её письмо.
— Ты уж там сочини, — поручал он Андрею.
Да и что мог написать царевич об этом походе? Новгород-северская крепость стояла подобно скале.
На валы ежедневно выскакивали отчаянные её защитники. Они издевались над своими противниками. Прицельным огнём из мушкетов краснокафтанные стрельцы сводили на нет все попытки осаждавших пойти на новые приступы. Они заставляли их бросать приставные лестницы, охапки хвороста и соломы, корзины с землёю и бежать куда глаза глядят, спасаясь от верной гибели. А что касается крепостных пушек — они давали нападавшим такую острастку, что о новых приступах в лагере царевича старались не говорить. Очень редкие перебежчики, которым удавалось как-то вырваться из крепости и которые всей душою ненавидели Бориса Годунова, говорили, что в крепости довольно запасов пороха и продовольствия, что воевода Басманов не спит ни днём, ни ночью, за всем успевает присмотреть, всё видит, всё знает. А когда случались попытки идти на приступ, то Басманов сам частенько наводил пушки, сам прикладывал к ним фитиль, и лучшего пушкаря, нежели он, в крепости не сыскать до сих пор. И будто бы есть уже у Басманова известия, что на выручку Новгороду-Северскому из Брянска идёт царское войско под водительством князя Мстиславского. Что состоит оно из русских, татар, немцев. Очень сильное войско.
Андрей мог только предполагать, что творится на душе у царевича, но придумать ничего утешительного не мог. Хотя количество людей в войске царевича с каждым днём увеличивалось, однако это обстоятельство нисколько не служило усилению армии, скорее наоборот: многолюдие лишь усиливало беспорядки, затрудняло подвоз продовольствия и фуража, а многие пришедшие, называя себя воинами, на самом деле оставались пока безо всякого оружия. За продовольствием приходилось всё дальше и дальше отряжать воинов, причём посылать с этой целью самых надёжных людей. Да и они не всегда справлялись со своими заданиями в срок. Правда, они далеко от Новгорода-Северского разносили вести о царевиче. Они расшатывали власть царя Бориса, но... Получался порочный круг. Выхода из него пока никто не мог указать.
А ещё тревожила судьба Яремаки.
Как уехал тот с Глухарёвым во главе небольшого отряда — так уже вторую неделю ни слуху ни духу. Разумеется, не одно продовольствие на уме у Яремаки.
Конечно, Яремака не такой человек, что не найдёт себе выхода из трудного положения. Но всё же и ему довелось провести столько времени в тюрьме. Всякое бывает на свете.
И вот когда совсем уже было расстроился Андрей Валигура, наблюдая, как в очередной раз были встречены руганью посланцы царевича, подъехавшие к крепостному валу с предложением сдаться, вдруг прискакали в лагерь над Десною гонцы на взмыленных конях.
— Мы из Путивля! — объявили они ещё при въезде в лагерь.
— Из Путивля! — понеслось по лагерю.
И то же самое гонцы повторили перед шатром Андрея:
— Мы из Путивля!
— Вижу! — сказал Андрей, выходя из шатра. Потому что сразу приметил среди них московских людей, ушедших в отряде Яремаки. — Говорите скорее, что там творится!
На крик гонцов собирался народ. Всем хотелось услышать что-то спасительное.
— Можем и тебе сказать, господин хороший, — отвечал очень бойкий гонец. — Но мы торопимся к самому государю. Потому что к нему направлены мы с челобитной от нашего воеводы. А на словах велено нам сказать, что город Путивль переходит на сторону своего законного государя — Димитрия Ивановича!
— Vivat! Vivat! — закричали в ответ. — Ура!
Конечно, ни на мгновение не мог задерживать Андрей таких гонцов. Он сразу повёл их к царевичу. Но ещё по дороге узнал от них, что Яремака и Глухарёв со всем своим отрядом живы-здоровы, что приключилась было с ними беда, что весь отряд вместе с Глухарёвым оказался было в плену, да разве русские люди между собою не договорятся? Договорились. Объяснили пленники путивлянам, что царевич — настоящий царевич! И те поверили».
— Государь! — обратился к вышедшему навстречу царевичу всё тот же гонец. — Велено сказать на словах, что в твоё распоряжение отдаются пушки, которые стоят у нас на валах, что их уже готовят везти сюда, что этим заняты у нас твои слуги — Яремака и Глухарёв!
Посланцы говорили ещё и о том, что в подарок царевичу передаются также деньги, привезённые из Москвы. Последнее, Андрей знал, очень много значило для царевича, поскольку войско жаждало платы. Особенно настаивало на том польское рыцарство. Но для Андрея главное заключалось в том, что Глухарёв скоро получит возможность показать своё искусство в полной мере, что Новгород-Северский непременно будет взят, потому что рыцари поклялись одолеть противника, потому что всем в лагере, как кость в горле, стоят насмешки и похвальбы борисовцев! Достаточно будет пробить отверстие в крепостном валу. А оно будет пробито!
Царевич в тот же день отослал своей невесте два письма. Он лично продиктовал их Андрею. В утреннем письме говорилось о сдаче Путивля, а в вечернем — уже о сдаче Рыльска.
Вслед за известием о добровольной сдаче этих городов начали поступать известия о подчинении городов Кромы, Белгород, Курск, Севск со всеми подвластными им волостями. Отовсюду прибывали всё новые и новые делегации. Однако царевич, получив даже деньги из Путивля (их привёз дьяк Сутупов, явившийся с очень понравившимся царевичу воеводой Василием Рубцом-Мосальским), с нетерпением ждал, когда же оттуда, из Путивля, доставят пушки. По его велению под новгород-северской крепостью не велось пока никаких боевых действий. Воины, несущие службу в шанцах вокруг крепости, спокойно грелись у костров, варили себе неприхотливую пищу, потому что осаждённые тоже не делали никаких вылазок, а лишь с заметною тревогою выслушивали похвальбы своих противников о новых пушках. На валах вроде бы забыли о недавних задиристых выкриках, зато очень внимательно посматривали в сторону лагеря царевича, на берегу Десны, верстах в двух от крепости. А если с валов начинали всё-таки что-то подобное кричать, так это означало, что в том месте появился сам Басманов.
Пушки из Путивля были доставлены ещё через неделю.
Всего их оказалось десять штук: пять крепостных, очень крупных, неимоверно тяжёлых, а пять — средней величины и на колёсах. Такие употребляются и в полевых сражениях. Если среднего размера пушки, сняв их с колёс, везли на санях, в каждые из которых были впряжены по две пары лошадей, и они шагали без особого напряжения, то крепостные пушки с трудом тащили по четыре пары лошадей. Зрелище было настолько внушительное, что поглазеть на пушки высыпал из палаток весь лагерь, даже больные и раненые, не говоря уже о тех людях, которые всегда сопровождают войско: о всяких торговцах, цирульниках, срамных женщинах и прочих. Всем хотелось посмотреть на это чудо. И всем верилось, что теперь — да, теперь с крепостью будет покончено ещё до подхода войска Бориса Годунова.
Яремака ехал впереди торжественного обоза, но глаза его неотрывно следили за пушками. Он указывал, когда надлежит дать лошадям передышку, когда животных надо напоить, накормить. Особенно внимательным был Яремака при крутых, обледенелых подъёмах. За каждыми санями в таких местах следовали десятки спешенных казаков, готовых в любой момент помочь лошадям своими дюжими руками.
Яремака был настолько занят своей новой ролью, что даже при встрече с Андреем лишь кивнул ему головою в знак приветствия — и всё. Даже коня своего не остановил. Извини, мол, брат.
А вот Глухарёв на коня не садился, так и шёл пешком за последними санями, на которых покоились крепостные пушки. Завидев пушкарей, высыпавших навстречу из лагеря, он тут же подозвал их и начал давать наставления относительно шанцев, в которые эти пушки следует немедленно поставить.
Напротив лагеря обоз остановился. Лошадей стали поить и кормить. Их тут же заменили отдохнувшими парами.
Не удержался в стороне от всего этого и сам царевич. Он выехал на коне, в сопровождении путивльского воеводы Рубца-Мосальского, начал расспрашивать Глухарёва, опробовал ли тот пушки в деле, там, в Путивле, на что Глухарёв с готовностью отвечал:
— Государь! Я всё успел опробовать. Но самая главная проба будет для пушек сейчас. Вот только шанцы надо поскорее вырыть. Мои орлы уже знают, где их поставить. Даст Бог, не сегодня завтра откроем огонь. Пушки хороши.
Пушки ещё стояли напротив лагеря, а уже нашлись горячие головы. Они бросились к крепостным валам и начали подъезжать к ним как можно ближе, чтобы озадачить осаждённых борисовцев.
— Попляшете теперь, сукины дети! — надрывались, размахивая оружием.
— Сдавайтесь, пока живы! Не то всех перебьём!
С валов отвечали без робости, однако без прежних издёвок:
— Да что приключилось? Что так забегали?
— Рогатку какую сделали, что ли?
— Рогатку! Га-га-га!
Но теперь хохотали уже внизу, перед валами:
— Рогатку! Будет вам, воробьям, выволочка! Гага-га!
— Сдавайтесь, одним словом, сукины дети!
Шанцы в мёрзлой каменистой земле отрывали весь оставшийся день и всю последующую ночь. Старались все. Никого не приходилось подгонять. Но первую пушку смогли поставить на приготовленное место только к вечеру следующего дня. Всеобщее нетерпение достигло такой высоты, что решили опробовать хотя бы эту пушку, не дожидаясь, когда же будут выставлены прочие. Но и этот первый выстрел смогли произвести лишь на третий день, в присутствии царевича, многочисленных зевак из лагеря и готовых идти на приступ отрядов, в том числе и спешившихся рыцарей.
Глядя на приготовления, царевич несколько раз повторил неугомонному Глухарёву:
— Только по валам! Пробить дыру!
Андрей, стоявший рядом, понимал: государь надеется, что осаждённые сдадутся сразу, как только увидят пробитую дыру. Царевич нетерпеливо посматривал на главную крепостную башню, которая была не бревенчатой, как все остальные, но возведена из огромных серых камней. Царевич хотел увидеть над нею белое полотнище. Он не желал убивать своих заблудших подданных.
Наконец Глухарёв приблизил горящий факел к чёрному жирному стволу — и сразу же после оглушительного выстрела, от которого испуганно заржали лошади, а многие люди присели, вздрогнул крепостной вал. Ядро с треском отскочило от заснеженной поверхности и с шипением упало вниз, в клокочущую сплошную пелену, которая образовалась от выстрела.
А как только белое начало оседать — вал засверкал гладкой ледяной поверхностью.
Все так и ахнули.
— Пся крев! — первый опомнился гетман Мнишек. — Вот зачем он приказывал поливать валы!
Вскоре это поняли все.
Слой образовавшегося на валу льда сделал крепость неуязвимой даже для мощных пушек.
— Бей! — закричал Глухарёв своим пушкарям.
— Бей! — подхватил воевода Рубец-Мосальский.
— Бей! — поддержал царевич.
После нескольких выстрелов, которые закончились почти с таким же результатом, стало понятно: о приступе думать сегодня не стоит!
Полковники Жулицкий и Дворжицкий смирились с этим и отдали соответствующие распоряжения. Они сами стали простыми наблюдателями дальнейших попыток Глухарёва. Конечно, у полковников имелся немалый боевой опыт. Они вспоминали, как поступали в подобных случаях в польском войске. К ним присоединялись прочие опытные воины. Общий вывод гласил: пока стоят морозы — вал пробить не удастся. Потому что ночью годуновцы снова нарастят такой же слой льда. Его не пробить и пятью пушками. Тут не поможет никакое мастерство.
— Вот если перенести огонь внутрь крепости, — осторожно намекнул полковник Дворжицкий. Впрочем, он постарался: его слова услышал царевич.
Царевич ответил резко:
— Я не стану убивать людей, которые мне верны, но которых держит в своих руках Басманов. Вот Басманова прикажу казнить, как только попадётся в наши руки! И это будет первая казнь, которую я назначу!
Раскрасневшийся Глухарёв между тем торопился. Он клал ядра куда хотел. И всё же единственное, что ему удалось, — это до наступления сумерек истолочь ядрами толстый шар льда, так что лёд уже не сверкал и даже не выделялся гладкой поверхностью. Лед походил скорее на побитую тысячами копыт ледяную дорогу. Так казалось издали.
— Эх!
Белые глаза Глухарёва выражали такую боль, что на него нельзя было смотреть.
Не принесли никаких изменений и последующие дни, когда были установлены остальные привезённые из Путивля пушки.
Это была очередная неудача. Её поняли и Андрей, и Яремака. Они оправдывали Глухарёва, сочувствовали пушкарям.
Сразу резко упало число перебежчиков из крепости. В некоторые ночи оттуда удавалось уйти одному человеку, а в некоторые — не приходил никто. Но те, кто приходил, твердили: в крепости берегут порох. Запасов его достаточно, но таков приказ самого Басманова. Басманов не разрешает расходовать порох понапрасну, исключая разве что отражение приступов. А ещё, говорили перебежчики, если бы пушки царевича перенесли свой огонь внутрь крепости, если бы повредили там что-нибудь, наделали бы большой беды — о, тогда Басманову ни за что не удалось бы удержать в повиновении столько народа!
Но царевич оставался по-прежнему твёрд... О перенесении огня в крепость он не желал говорить даже с Андреем. Он снова медлил с ответами на письма своей невесты.
8
Поход этот казался странным и загадочным уже с самого начала. Странным и загадочным хотя бы потому, что в Москве никто не мог ответить на вопрос, против кого же пойдут войска и далеко ли им придётся идти.
Из Москвы выступали под непрерывный колокольный звон.
Огромное парчовое знамя полководца, всё в золоте, благословил Патриарх Иов. Народ падал ниц, крестясь, рыдая и вознося молитвы к чистому летнему небу.
Над московскими дощатыми заборами, над резными, подобно кружевам, калитками и над крепкими, сплошь дубовыми, воротами перевешивались на звонкие деревянные мостовые многочисленные зелёные яблочки, величиною ещё с лесной орех. За рекой Москвою, в голубой дымке, весь день пробовали голоса молодые петухи.
Колокольный звон стоял у капитана Маржерета в ушах на протяжении всего пути. Широкую и пыльную дорогу, на которую вместе с прочими войсками вышла его рота, русские называли Калужской. Она действительно привела к городу Калуге.
Звон в ушах не уступал частому топоту конских копыт. Утомляла дорожная пыль. Она набивалась в рот, под усы, набивалась в уши, в глаза и в волосы под шляпой. Утомляла жара. Раздражали комары да мухи. Но не утомлял постоянный звон — красивый и мелодичный, немного печальный, как сами бесконечные московитские земли.
Капитану Маржерету под конец пути, уже в Калуге, стало понятно, почему колокольный звон был по нраву царю Фёдору Ивановичу, которого он, Маржерет, уже не застал в живых, но о котором ещё доныне много разговоров в народе. Дескать, этот царь часами не выпускал из хилых рук верёвок, которыми на высоких звонницах приводятся в движение колокола. Подобными поступками царь немало способствовал своей репутации блаженного дурачка даже в понимании простого люда. Что, однако, не умаляло достоинств правителя в глазах того же народа: Бог любит юродивых, блаженных, ущербных людей за бесхитростность и за их открытую душу.
В Калуге войско иноземного строя стояло долго. В особом учении рота капитана Маржерета нуждаться не могла, так что сам капитан часами без спешки наблюдал, как стекаются к городу массы московского разнородного воинства, словно вскрывшиеся от зимнего льда московские же реки. Насунув на глаза широкополую шляпу, капитан следил, как раскидывают шатры вдоль берегов Оки и как неподалёку от этих шатров уже с гиком и свистом, в жёлтой пыли, носятся татарские конники, вооружённые деревянными лёгкими луками и кривыми короткими саблями, как на всём скаку своих приземистых коней они срубают воткнутые в землю прутья гибкой лозы и как без промаха поражают стрелами пролетающих беззаботных птиц.
Уже в Калуге капитану показалось, будто он стоит у истоков нового крестового похода против магометан (если бы в этот поход не направлялись татары!). Однако присутствие татарских отрядов разрушало подобные предположения. Нет, иллюзию разрушало скорее присутствие воевод, особенно же главного из них, князя Фёдора Ивановича Мстиславского, который вёл себя очень странно, на взгляд капитана: князь самостоятельно не может сесть на коня! В богато украшенное седло его поднимали и усаживали дюжие слуги! Он ехал верхом, но коня его вели под уздцы молодые воины. Да и по ступенькам князя поднимали они же, поддерживали его под руки, словно смертельно больного, немощного, хотя здоровый румяный цвет его лица и крупная дородная фигура свидетельствовали только об одном: это — русский богатырь, это — настоящий воин!
В Калуге войска простояли до первых заморозков. И лишь потом было приказано двигаться в сторону Брянска. Там ожидается появление врагов.
— Магометан? — переспрашивал Маржерет. — В это время?
— Да, — говорили ему.
И тогда в душу капитана закралось первое сомнение: против татар ли в самом деле предпринят поход, как было говорено ещё в Москве, как повторяется и сейчас? Ведь капитан своими глазами видел не раз татарские увёртливые отряды, не раз участвовал в деле против них, находясь на службе у князя Константина Вишневецкого, хотя бы под Каменцом. Татарский след уже давно пропал бы под Брянском.
Маржерет попытался было потолковать об этом со знакомыми русскими людьми:
— Послушайте, господа...
Однако они, такие обычно словоохотливые, открытые душою, особенно за столом с винами, Христом-богом просили о подобном с ними не заговаривать, да и самому о том поменьше думать. На то, дескать, есть боярские головы. А боярам дан приказ от самого царя-батюшки.
Но когда капитан, заболев в дороге, что случилось с ним впервые на русской службе, поставил подобный вопрос напрямик перед навестившими его на постое русскими, не против ли самозваного царевича, дескать, послано войско князя Мстиславского, он чуть не потерял было своих лучших московских друзей.
— Да откуда у него войско? — спросили русские, оглядываясь, не слышит ли кто ещё этого разговора.
Капитан так и отправился дальше, в недоумении, аж до Брянска, где земля под конскими копытами покрылась уже изрядным слоем снега.
Брянска он совершенно не узнавал, хотя проезжал через этот город несколько лет тому назад. Но проезжал тогда в тёплое время, в конце лета. В городе стояла жара, и земля как бы хвасталась своими богатыми плодами.
Теперь же это был совершенно иной город. Особенно неприглядным предстал Брянск в те дни, когда морозы на время ослабели и улицы превратились в сплошную грязь с озёрами-лужами на каждом шагу. Под низким небом с рваными облаками веселили прохожих разве что сверкающие купола на церквах, ещё — красные, мятущиеся под ветром кафтаны московских стрельцов, бодрил душу колокольный звон.
А так всё выглядело уныло.
А ещё в Брянске, окружённом густыми лесами, отделённом ими от бдительной Москвы, от всевидящего глаза царя Бориса, подданные его чувствовали себя значительно свободнее. Русские говорили если не совсем то, что им хотелось бы говорить, то уж, во всяком случае, не опасались признаться, что они просто не смеют обо всём высказываться открыто, как они того желают.
В Брянске капитан Маржерет наконец ощутил себя совершенно выздоровевшим. А произошло это по причине хорошего к нему расположения русских людей. Не имея в этой земле никакой врачебной помощи, поскольку в Москве врачи пользуют только одного царя и его семейство, Маржерет вынужден был прибегнуть к средству, рекомендованному русскими. Они же наполнили большую кружку очень крепкой водкой, насыпали в водку пороху, употребляемого в аркебузах, перемешали всё это и заставили его выпить. А затем, оглушённого снадобьем, повели в баню. Первоначально ему показалось, что он уже возносится в небеса. Однако утром проснулся совершенно здоровым, а на вопрос, как он оказался в своей постели, не мог получить от слуги вразумительного ответа, поскольку тот и сам вынужден был применить подобное лечение.
Но что хорошо запомнилось капитану, так это то, что в русской бане, в густом пару, пышущем от расплёсканной по раскалённым камням воды, ему поведали резкие голоса, что да, войско князя Мстиславского идёт вовсе не против татар, но против царевича Димитрия Ивановича, сына царя Ивана Грозного! Царевич этот, дескать, избежал смерти и теперь спешит отнимать свой законный отцовский престол!
— Почему же об этом не говорят в открытую? — поинтересовался капитан.
Ответа не было.
Конечно, удивительная история царевича Димитрия не была для капитана внове. Об этом он наслышался ещё на службе у князя Константина Вишневецкого. Но там говорили обо всём по-разному. А когда приехал в Москву — о царевиче Димитрии не услышал абсолютно ничего. В Москве о том не принято было говорить открыто.
В Москве, надо сказать, будучи взятым на военную службу в царские войска, Маржерет очень вскоре поверил, что слышанное им прежде о царевиче Димитрии не представляет собою ничего иного, кроме досужих россказней неграмотных обывателей. Ему казалось, что власть царя Бориса — образец монаршей власти. Он пытался сравнить её с властью польского короля — и смеялся. Это было несравнимо. Для того чтобы в этом убедиться, стоило лишь увидеть, как ведут себя подданные царя Бориса при любом его появлении — причём все подданные, начиная от последнего холопа и кончая самым важным вельможей — и как относятся к своему королю поляки!
И вот...
После приключившегося в брянской бане, после всего того, что пришлось пережить и перевидеть на пути от Москвы к Брянску, всё происходящее начало представляться капитану совершенно в ином свете. Теперь ему показались знаменательными перемены, которые он заметил в поведении царя Бориса в последний год. Из здорового, цветущего мужчины, который на лету подхватывал и воспринимал любую мысль, царь превращался в медлительного тугодума, силящегося вспомнить что-то важное, но так ничего и не могущего вспомнить. Царь начал горбиться, стал гораздо ниже ростом. У него сделался глуше голос. Да что говорить, в последнее время, с тех пор как началась подготовка к походу, царь вообще очень редко появлялся на народе. Он молился в своей домовой церкви, и челобитчики, которых он прежде очень охотно принимал, стоя в красной рубахе на высоком крыльце, теперь томились на кремлёвском подворье, если, конечно, их не прогоняла оттуда стража.
Всё это, естественно, капитан Маржерет мог видеть в Москве своими глазами. А что творилось за стенами царского дворца, того, конечно, он знать не мог. Теперь ему вспоминались услышанные толки, будто царь совершенно охладел даже к государственным делам. Он никого не слушает, никого не принимает, кроме различных гадалок, предсказателей, юродивых. Он верит во всякие ничтожные приметы. Как анекдот, пусть и весьма безобидный, ходит тайком по Москве рассказ о лошадиной подкове, которую царь случайно заметил при подъезде к своему загородному дворцу. Он увидел эту подкову на размытой дождями дороге, покрытую многолетней ржавчиной, еле различимую, и хотя его карета пронеслась уже мимо, он заставил людей всё же возвратиться, отыскать её в грязи, поднять и очистить. Теперь подкова висит на стене его спальни, под иконами, и он всматривается в неё каждый раз, прежде чем принять какое-нибудь важное государственное решение...
Чем дальше размышлял капитан Маржерет, тем сильнее он убеждался, что где-то в Москве, в боярских хоромах, в царских палатах, знают о многом таком, чего ни он, ни один из русских военачальников, а может быть, и сам князь Мстиславский не знают вовсе. И не знают того, конечно, простые воины.
С этого дня капитану Маржерету хотелось как можно больше услышать о царевиче Димитрии.
9
Неопределённость томила царевича, хотя он всячески старался казаться невозмутимым.
Томила она и гетмана Мнишека, и всех прочих военачальников, которые собирались теперь в шатёр царевича каждое утро.
Слухи о возможном и скором подходе с севера огромного войска становились настолько упорными, что начали отвлекать внимание царевича от новгород-северской крепости. К тому же в лагере крепло убеждение: стоит ли здесь томить себе головы всякими приставными лестницами, корзинами для земли, порохом да ядрами, когда всё можно будет решить в битве с армией Бориса Годунова? Да и произойдёт ли ещё эта битва? Не перебегут ли высланные злодеем войска без боя на сторону своего законного государя? Такой исход казался вполне возможным.
Многие в лагере, в казацких куренях, в землянках пришлого люда, да и в шатре у царевича твердили, что князь Мстиславский потому медлит в Брянске, что он не уверен, не двинется ли его войско прямо под руку царевича Димитрия Ивановича.
А коли так, то не лучше ли царевичу опередить князя Мстиславского? Не лучше ли выйти навстречу непокорному войску, чувствуя свою правоту и надеясь на Божию поддержку?
— Оставить за спиною крепость? — сомневался пан Мнишек. — Гм, гм. Это будет рискованно.
Достаточного опыта в военном деле у пана гетмана не имелось. В шкуре полководца, откровенно говоря, ему не приходилось ещё бывать, если не считать победы над татарами под Каменцом. Да и то, он сам прекрасно чувствовал, тамошняя победа была подарком, приготовленным князем Константином Вишневецким. Теперь же... Пан Мнишек сетовал, что в молодости Господь не поводил его в достаточной степени стезями войны...
— А вдруг и князь Мстиславский не выйдет в поле, а тоже засядет в какой-нибудь крепости? — выдвинул предположение полковник Дворжицкий. — Тогда, Панове, обретаться нам между двух крепостей? Это противоречит всем положениям военной стратегии!
Конечно, подобное предположение можно было легко при желании опровергнуть. С огромным войском по крепостям не садят. С любым войском нелегко засесть в крепости. Оборона требует богатых запасов продовольствия, пороха и оружия.
Однако на этот изъян в высказываниях полковника Дворжицкого никто не обратил внимания. Мысли о ещё какой-нибудь крепости были всем ненавистны. Все твердили, что нужен бой в открытом поле. Хотелось поскорее встретиться с неприятелем лицом к лицу, грудь в грудь. Показать свою удаль безо всяких уловок и хитростей. Помериться силою безо всяких убийств из-за укрытий. Сражаться честно, по старинным обычаям — то ли в пешем, то ли в конном строю.
Пан Мнишек всё же не упустил возможности показать себя самым предусмотрительным, самым умным и опытным военачальником, как и положено гетману.
— Государь! — сказал он царевичу. — Я полагаю, нам необходимо срочно разведать, где же находится сейчас войско князя Мстиславского. Следует выслать вперёд сильный отряд под началом опытного воина.
Андрею показалось, будто гетман при этих словах едва заметно скосил глаза в его сторону.
Андрей с готовностью обратился к царевичу:
— Государь! Пошлите меня!
В шатре одобрительно загудели.
Полковник Двор жидкий воскликнул:
— Похвально!
Лучшего придумать не мог никто. Во-первых, Андрей Валигура действительно способен совершить всё, что понадобится. Во-вторых, не надо больше рассуждать, кого посылать на это не совсем понятное задание.
Царевич согласился сразу:
— Хорошо!
Сначала Андрей здорово тревожился. Но отступать было некуда и некогда. Он сам вызвался.
Такого сильного военного отряда, признаться, у него под рукою не было ещё никогда в жизни. Он вёл сейчас две тысячи казаков! Одной половиной войска, тысячью дончиков, руководил атаман Корела. Ему казаки подчинялись беспрекословно. Они его боялись и любили так, что готовы были броситься за ним в огонь и в воду. Второй половиной, тысячью запорожцев, начальствовал Яремака. Яремаку казаки знали мало, но верили его молодости и его удали, о которой были наслышаны. Приданную роту польских гусар вёл ротмистр Станислав Борша, которого высоко ценил гетман Мнишек.
— Очень надёжные воины, — напутствовал на прощание пан гетман. — Береги их, Андрей. Ты не раз видел их в деле. Вспомни хотя бы Каменец.
Андрей чувствовал поддержку своих военачальников. Уже через несколько вёрст после оставшегося позади Новгорода-Северского тревога в его душе растаяла.
— Если случится возможность побить неприятеля, — спросил Яремака, — так разрешишь его побить?
Андрей улыбнулся:
— Не хвались раньше времени!
Шли на рысях вдоль заснеженной Десны. Всё дальше и дальше на север. Всё лесом и лесом. Но дороги были пробиты, местами даже хорошо уезжены. И севрюков встречалось довольно много. В селениях курились жирные дымы.
На реке под названием Судость, впадающей в Десну, уже в синих сумерках атаману Кореле, который шёл впереди, попалась навстречу небольшая лесная ватага. Люди направлялись в сторону новгород-северской крепости. Главарь ватаги, коренастый бородач с хищными звериными глазами, поведал сначала Кореле, а потом и Андрею с Яремакой, что за рекою Судостью уже попадаются татарские конники.
— Татары из войска Бориса Годунова! Жителей они не трогают, поскольку состоят на службе у московского царя. Так и говорят всем, кого встречают. А идут они вместе с русскими на врагов царя Бориса. И просят только об одном: указывать им дорогу!
— Далеко ли те места? — спросил Андрей лесного атамана.
Тот сразу сообразил, какой перед ним человек: из тех, кого ведёт царевич Димитрий, кто осаждает Новгород-Северский.
Атаман тряхнул бородою:
— Видишь, боярин, на это трудно отвечать. По левую руку за рекою — одни болота. Они и в морозы не замерзают. По правую — густые леса. По ним без топора не пройти. Так что татары, не зная дорог, просачиваются кому где удастся. А многие погибают в болотах. Главные силы их могут быть ещё очень далеко, но отдельные ухари — здесь! Там, за Судостью, дорог по выпавшему снегу без необходимости никто не прокладывал. Местные жители всегда прятались от чужого человека, а от татар — и разговора нет!
— Хорошо знаешь здешние места? — вмешался в разговор Яремака.
— Обижаешь, боярин, — встрепенулся атаман, оборачиваясь бородою к Яремаке. — Кого хошь спроси за рекою, ведом ли ему Касьян Гремячий. Десяток лет брожу здесь с ребятами. И лишь теперь почуяла душа моя волю. Иду к законному царю!
Андрей чувствовал, что в голове у Яремаки уже зреет опасный замысел. Яремаке хочется показать свою удаль.
— Есть ли поблизости какое-нибудь пристанище? — спросил Яремака.
— Да вот за излучиной дороги, — отвечал Касьян. — Сторожка добрая. Летом — паромщик сидит. А сейчас пусто. Пойдём, коли надо.
Через два дня с высоты огромного дуба над крутым обрывом Андрей следил за движением татарской рати. Расстояние было значительным. Отдельные всадники в общей массе различались с трудом. И всё же это не мешало сделать правильное заключение о том, насколько многочисленно войско противника. Андрею стало даже не по себе. Он живо представил, сколько татарских воинов может сейчас погибнуть из-за недальновидности своих предводителей.
Войско противника заполняло собою огромное белое пространство. Из леса, который вздымался перед ним такой же чёрной сплошной стеною, какая высилась и позади него, вылезал клубками седой туман. Туман озадачил тех, кто вёл это войско.
«Не испортит ли туман дела? Не напрасны ли старания Яремаки?» — с тревогой подумал Андрей.
И в тот же миг раздались отдалённые звуки труб. Из леса на правое крыло татарской конницы стали накатываться хоругви быстрых польских гусар. А рядом с ними потоком хлынули казаки Корелы.
— Давай! — закричал Андрей трубачу, который дожидался внизу под дубом, рядом с джурой Антоном.
Звуков этих ждали. Сечевые казаки с гиком, по-татарски же, ударили на врага с другой стороны.
— Пан боярин! — крикнул джура Антон. — Хорошо как! Господи!
Андрей скатился с дуба, прыгнул прямо в седло. Успел ещё слиться с казацкой массой, успел на своём коне опередить многих казаков и даже вступить в герцы[32] с несколькими татарскими наездниками. В битве он потерял из виду Антона.
Но всё в основном было кончено ещё до его прибытия на место самой главной сечи. Татарская конница, с шумом, стонами и проклятиями, со ржанием лошадей, уходила в редколесье, в темноту, чтобы навсегда исчезнуть в непроходимых болотах.
Это длилось вроде бы и недолго.
— Победа! — раздались крики.
— Победа!
Кричали казаки и гусары. Они спешивались. Они приходили в себя после горячей схватки.
В пылу сражения, кажется, все забыли, а то и вообще не знали, кто является задумщиком этой победы.
Но ни Яремаки, ни лесного атамана по имени Касьян нигде не было видно.
— Ищите! — приказал Андрей атаману Кореле и ротмистру Борше.
Яремака был ещё жив. Он лежал лицом к небу под заснеженным кустом орешника, среди окровавленных татарских трупов и лошадиных шевелящихся туш. Очевидно, его сразили прозревшие в последние мгновения перед кровавой развязкой татарские начальники. Вместе с атаманом Касьяном, оба безоружные, прикидываясь севрюками, местными жителями, вели они врагов в условленное с Андреем место, чтобы направить их в лесные топи, чтобы они были загнаны туда при помощи ударов конницы.
— Прощай, брат! — успел сказать товарищу Андрей, прежде чем тот закрыл глаза.
Андрей был уверен: Яремака слышал его слова. А вот лесного атамана не нашли ни среди мёртвых, ни среди живых. Очевидно, татары увели его за собою, когда отступали в болота.
Андрей долго стоял над трупом Яремаки.
С неба снова начал сыпаться снег. Но снежинки уже не таяли на лице у Яремаки. Оно начало темнеть.
Рядом плакал безутешный джура Антон.
Безмолвно высился, ротмистр Борша.
И даже атаман Корела спешился и прикладывал к лицу длинные ладони: то ли пот утирал, то ли слёзы. И только однажды промелькнуло на его лице какое-то подобие ужасной улыбки.
А над полем победно звучали трубы. Кто-то уже смеялся. Кто-то затевал ссоры.
Пленных татар собирали в толпы, чтобы гнать под Новгород-Северский, чтобы там получить от них полные сведения о войске князя Мстиславского.
На следующий день лагерь царевича преобразился. Он гудел и кипел. Всё в нём находили для себя работу. Кто готовил оружие, кто точил саблю, осматривал конскую сбрую. Кто улаживал споры, договаривался о выплате старых долгов. Кто занимал деньги под залог, а то и без него, под честное слово, но зато под невообразимо высокие проценты.
Все были оживлены. Никто не думал об осаждённой крепости. А если кому и вспоминалось о ней, так лишь затем, чтобы посочувствовать несчастным, кому выпадает стеречь в ней дурака Басманова, чтобы он не вздумал совершить вылазку, не попытался ударить в спину, когда царевичу придётся сражаться с войском князя Мстиславского, если тот не сдастся при первых же ударах, а то ещё и до ударов, не сдастся, одним словом, вовремя.
Никого, пожалуй, кроме старого гетмана Мнишека, не смущало то, что пленные татары под пытками, как уж водится, в один голос твердили, будто у князя огромное войско, будто вперёд он выслал только три тысячи подчинённых ему татарских воинов, а с остальными силами идёт следом. Будто он поджидает ещё подкреплений. И не сегодня завтра князь будет здесь. В основном татары очень плохо были осведомлены о военных московских делах. Они плохо ориентировались и в русских числах. Однако называли цифры огромные: кто — сто тысяч, а кто и целых двести. Такое, мол, количество воинов у московского полководца.
От подобных цифр у пана Мнишека по спине пробегал холод.
Относительно того, не думает ли князь Мстиславский добровольно перейти на сторону своего законного царевича, татары испуганно таращили глаза. Им нечего было отвечать.
Но единственное, что мог сделать пан Мнишек, что от него зависело, что было ему доступно, — это посоветовать царевичу собрать всех своих главных военачальников и выехать с ними для осмотра ближайших окрестностей Новгорода-Северского, чтобы прикинуть, где и как можно будет встретить многочисленное войско противника.
Выехали через час.
Рядом с царевичем, который сидел на белом гордом коне, держался на постоянном месте, слева от него, гетман Мнишек, а чуть справа и сзади ехал молчаливый сегодня Андрей Валигура. Остальные тянулись в каком-то беспорядке, всё время перемещаясь, лишь бы попасться царевичу на глаза, лишь бы заявить о себе подходящим замечанием.
Но так обстояло только вначале, пока слежавшийся снег был испещрён лошадиными и человеческими следами, усеян остатками лошадиного навоза, пока в нём виднелись остатки тряпок, втоптанного хвороста и соломы, виднелись поваленные деревья, свежие пни.
Однако вскоре это всё кончилось. Осаждённая крепость осталась далеко позади. Снежный покров в некоторых местах уже проваливался под острыми лошадиными копытами. Хотя снег был неглубоким — слой его достигал двух-трёх вершков, — однако всадники вскоре вытянулись цепочкой. Её возглавлял царевич. За ним неотрывно держался гетман Мнишек, а за гетманом — Андрей Валигура.
На одном из пригорков царевич придержал коня. Пригорки, поросшие кустарником и редко стоящими молодыми дубками, тянулись до самого окоёма. Чуть в стороне, на более высоких пригорках, виднелись строения. Там лаяли собаки. Крепости вовсе не было видно. Её закрывало заснеженным лесом. Впрочем, лес окружал огромное пространство со всех сторон. На более близком расстоянии, слева и справа, он чернел. На чёрном отчётливо различались отдельные серые стволы деревьев. В одном месте курился лёгкий дымок. Впереди, на расстоянии, пожалуй, двух вёрст, лес синел. Он казался загадочным. Именно оттуда могли появиться не сегодня завтра войска князя Мстиславского.
— Что будем делать? — многозначительно спросил пан Мнишек, когда всадники наконец окружили царевича плотным кольцом.
Установилась тягучая тишина. Военачальники внимательно рассматривали окрестность. Никто не хотел начинать разговора первым. Все понимали ответственность момента.
Правда, Глухарёв хотел что-то сказать, указал рукою на холмы, где, наверное, хорошо было бы поставить пушки, но не успел.
— Что говорить? — остановил его царевич с весёлой улыбкою на лице. — Главное, что они идут. А там завтра, даст Бог, всё увидим и всё поймём! Но в бой не вступать без моего приказа! — И он первый отпустил поводья своего жеребца.
10
Когда наконец был разослан приказ выступать из Брянска в поход, то войска оказалось уже настолько много, что, пожалуй, никто и не знал, сколько же его на самом деле, и капитану Маржерету даже подумалось, что попадись кто-нибудь из этого войска в руки неприятеля — пленник будет непременно предан смерти, потому что никак не сможет ответить на вопрос о численности русского войска.
Больше всего насчитывалось конных воинов. Лошади их чаще всего имели неприглядный вид, были приземисты и коротконоги, но казались выносливыми и неприхотливыми. Сами конники держались в сёдлах молодцевато и беззаботно. Лихо заламывая меховые шапки, часто собольи, они беспрерывно горланили песни по приказу своих начальников. Пели нестройно. Обрывали пение ни с того ни с сего, чтобы начать новую песню. В каждой говорилось о расставании с родными местами.
На возах и на санях, вперемешку, везли пушки и много прочего войскового снаряжения. Виднелось достаточно пушек и на собственных громадных колёсах из крепкого дерева. Для таких громадин требовались очень сильные лошади. Из-за недостатка подобных лошадей нередко использовались круторогие волы одинаковой серой масти. Они часто и жалобно ревели, останавливались и тяжело дышали. Удары по бокам животных сыпались как град. Но всё это помогало мало. Люди больше надеялись на силу крика. Громового шума из сотен человеческих глоток животные пугались сильнее всего.
Без конца края двигались подводы с продовольствием и с фуражом. По обочинам дороги гнали гривастых коней и торопили кнутами унылые стада назначенного на убой скота.
Само воинство отличалось разнообразием одежды, не говоря о его вооружении. Большинство было оторвано от своего привычного труда. И все воины хотели выглядеть на людях как можно нарядней. Они прихватили дома всё самое лучшее из одеяний. А что касается вооружения — большинство воинов носило при себе только саблю. У некоторых вдобавок имелись луки и стрелы. Предводители же их, люди обыкновенно знатные, сидели верхом на хороших скакунах. На боку у них болтались сабли в отличных, богато украшенных ножнах, а на переполненных возах везли их прочее вооружение, состоящее из кольчуги, длинного и крепкого копья, а также из лука и стрел.
Все эти воины держались свободно. Они имели очень слабое понятие о воинском строе, а большинство, полагал капитан Маржерет, и вовсе не имели о нём никакого понятия.
И только аркебузиры, царские стрельцы в красного сукна кафтанах, вооружённые длинными тяжёлыми ружьями, которые заряжаются со ствола, — только эти аркебузиры составляли надёжный костяк всего войска. Они великолепно понимали войсковые команды. Они были обучены этому пониманию. Аркебузиры шагали в такт собственным весёлым песням, шли с какими-то вдохновенными лицами. Им, казалось, совершенно безразлично, куда их ведут, кто их противник. Они видели над собою огромное знамя из золотой парчи, которое держали в руках четверо дюжих воинов, сидящих на одинаковых белых конях. Аркебузиры ощущали на себе взгляд пронзительных глаз святого Георгия Победоносца, и души их наполнялись уверенностью. Они одолеют любого врага.
Однако всеобщей весёлости и уверенности хватило ненадолго. Почти сразу за городом Брянском пошли густые леса. Как только войско втянулось в эти леса, ему сразу стало тесно. Оно не вмещалось в узкое пространство. Некоторые военачальники рангом пониже, сотники и десятники, пытались отыскать для себя боковые дороги, сворачивали от главной дороги влево, вправо. Но эти попытки заканчивались плачевно. Вокруг было много гиблых мест, укрытых снегами. Тяжёлые возы застревали там, иногда проваливались, часть их вообще приходилось бросать, с трудом перекладывать грузы на подвернувшиеся спасительные возы. Было потеряно даже какое-то количество пушек.
Так продолжалось день, два, три. Капитану Маржерету с трудом удавалось удерживаться со своей ротой на твёрдой дороге, чтобы не быть спихнутым куда-нибудь в болото. И вскоре до его ушей дошли тревожные слухи, будто татарские отряды, которые были посланы в авангарде войска, куда-то пропали. От них уже нет гонцов. Не иначе как они переметнулись на сторону противника, на сторону татар.
— Татар? — снова спрашивал Маржерет. — А есть ли там сейчас татары?
Спустя какое-то время, когда войско продвинулось ещё на некоторое расстояние и лес вокруг стал особенно страшным, это и без того жуткое известие сменилось иным: нет, татары не перешли на сторону противника. Они просто попали в засаду. Они уничтожены или взяты в плен. Они теперь дают показания, сколько здесь войска...
И тут только в головах у воинов мог возникнуть вопрос: да о каком таком противнике идёт речь?
И тут только в войске родилась догадка: неприятели, против которых движется огромное войско, вовсе не татары. Противник — это скорее всего беглый монах Гришка Отрепьев, которому провозглашают в церквах анафему! Да не царевич ли он в самом деле? Не Димитрий ли Иванович?
За рекою под названием Судость, притоком Десны, густые леса начали расступаться. Дорога сделалась шире.
Казаки и наёмные войска чужеземного строя получили приказ от князя Мстиславского: вырваться вперёд, продвинуться берегом Десны до большой её излучины, пока не покажется по левой руке осаждённый неприятелем Новгород-Северский. Затем занять подходящие выгодные места и ждать прихода передового полка под началом боярина князя Василия Васильевича Голицына и боярина Михаила Глебовича Салтыкова.
Противника ещё не называли по имени, однако имя его было уже всем известно.
— Сказывают, там царевич Димитрий!
— У него есть войско?
А стоило казакам и наёмному войску выполнить приказ князя Мстиславского, остановиться на пригорках посреди большого пространства, свободного от сплошного леса, как уже появились перед ним посланцы из-под Новгорода-Северского. Они привезли с собою письма с предложением сдаться на милость царевича Димитрия Ивановича. Он не хочет убивать своих подданных.
На свои письма посланцы не получили никакого ответа. Однако это их не остановило: они повторили попытки даже после того, как со стороны Брянска к Новгороду-Северскому прибыл наконец не передовой полк князя Голицына, но большой полк с огромным парчовым знаменем самого князя Мстиславского, а за ним и прочие полки: полк правой руки под началом князя Димитрия Ивановича Шуйского и князя Михаила Фёдоровича Кашина, полк левой руки под началом окольничего Василия Петровича Морозова и прочие. Передовой полк князя Голицына прибыл почему-то последним. А пушки все застряли в дороге. Их не было. И хотя последующие попытки посланцев от самозваного царевича остались тоже без видимых последствий, хотя их самих прогнали с руганью и с угрозами, однако в умах Борисовых воинов они сумели посеять какие-то сомнения. За то ли сражаются? И почему им до сих пор не говорили, да и не говорят, правду?
Капитан Маржерет старался не упустить момент, когда появятся войска самозваного царевича. Среди борисовцев распространялись слухи, будто им противостоят одни поляки. Но поляков Маржерету пока не приходилось видеть, а только казаков. Казаки сразу стали вызывать своих противников на герц. Правда, казаки, находящиеся на службе у царя Бориса, неохотно откликались на такие вызовы. Зато с готовностью шли на них татары. Они со свистом вырывали из ножен сабли и вскидывали их над головами. Было очевидно, что татарам и казакам воевать между собою — дело привычное, житейское. Поединки заканчивались обыкновенно смертельными исходами. Так продолжалось почти весь день. Кроме того, время от времени вспыхивала стрельба со стороны Новгорода-Северского. Там, говорили лазутчики, пытался делать вылазки осаждённый воевода Басманов. Но, добавляли, ничего дельного у него пока не получалось: сил мало. Вышедших в поле казаки легко заставляли поворачивать назад, искать спасения в укреплениях.
И вот наконец к вечеру, уже совсем на закате солнца, с пригорка, где стояла его рота, капитан Маржерет увидел идущую на рысях роту польских гусар-рыцарей. Под звуки труб они рывком одолели пригорок. Впереди гусар неслись двое всадников. Один из них был на белом великолепном коне.
Капитану сразу почему-то подумалось, что он видит перед собою самозваного царевича.
Вслед за этой ротой всадников на соседнем пригорке так же быстро, со свистом, показалась ещё одна рота, за нею ещё одна, ещё. Но то была уже русская конница. А что касается казаков, то их количество нельзя было определить. Ещё вдали мелькнули под прикрытием леса пушки, везомые быстрыми лошадьми.
Конечно, капитан Маржерет, опытный вояка, сразу сообразил, что всё увиденное им предпринимается противником просто ради того, чтобы показать готовность к сражению. Вот хоть и сейчас. Но в действительности никакое сражение пока не могло никак завязаться. От лесов, со всех сторон окружавших огромное пустое пространство, уже наползала ночь. Сражение могло начаться лишь с приходом нового дня.
Так и произошло.
Войско противника, оставив сторожевые заслоны из верховых казаков, спешно удалилось в свой лагерь, в привычную для него, наверное, обстановку боевой походной жизни, в шатры и землянки, к своим очагам, в какой-никакой уют. Чтобы согреться. Чтобы отдохнуть, собраться с силами.
А войско царя Бориса осталось на месте, на свободных от леса пригорках, где крепчал мороз, где ветер вздымал лёгкую позёмку. С наступлением сумерек воины бросились собирать хворост, сучья, начали разводить костры, готовить пищу, устраивать себе ночлег на собранных ветвях, на поваленных деревьях, на возах с военной и прочей поклажей. Это, конечно, насколько будет позволено морозом.
На рассвете, когда люд возле костров зашевелился, пробуждаясь ото сна, в нескольких местах перед царскими войсками снова появились гонцы с письмами от царевича Димитрия. Воеводы приказывали писем не брать. Гонцов прогоняли саблями и пиками. Однако гонцы стремились хотя бы на словах передать всё то, что было выведено на бумаге.
— Царевич Димитрий, — кричали они, — в последний раз предлагает вам перейти на его сторону! Он — ваш законный правитель. А Борис Годунов — подлый злодей. Если же ослушаетесь, то на ваши головы обрушится Божий гнев! Вы навеки погубите свои души. Опомнитесь! И знайте, что царевич не хочет допустить пролития крови!
Таких гонцов прогоняли уже выстрелами из мушкетов. Одного убили, и труп его остался на снегу — как напоминание о крамольных словах, которые он успел прокричать.
А когда рассеялись остатки тьмы — войско противника уже стояло неподалёку. Оно выглядело удивительно бодрым, свежим, насколько мог различать капитан Маржерет, очень подвижным и послушным своим предводителям. Там выделялись многочисленными знамёнами польские роты. В их рядах блестели трубы. Одетые по-московски люди держались скромнее. А казаки на своих конях не могли устоять на определённом месте. Казаки гарцевали везде.
Однако войско неприятеля показалось Маржерету весьма малочисленным. Впрочем, так показалось не только ему. В рядах притихших борисовцев сразу же раздались вздохи облегчения.
— Да у нас в засаду отправлено больше людей, нежели этих димитровцев пришло сюда!
— Да мы их шапками закидаем!
Так говорили, правда, десятники, сотники. Так говорили стрелецкие головы и ещё более высокопоставленные предводители в войске Бориса Годунова.
И так, вероятно, думал сам князь Мстиславский. Потому что возле его шатра, который был окружён толпами аркебузиров в красных кафтанах, как-то неуверенно начинали стучать барабаны, да тут же смолкали. Треск барабанов раздавался где-то в ином месте, в отдалении, но и там обрывался. Словно воеводы как в главном полку, так и во всех прочих ничуть не знали, стоит ли готовиться к битве или же удастся обойтись без неё.
Главный, так называемый большой, полк под началом князя Мстиславского как-то очень уж вяло и неохотно собирался в ряды, повинуясь окрикам конных десятников и сотников.
— Живо! Живо! Бараны!
— Живо!
Над сверкающими шлемами всадников вздымались к небу длинные пики. Ржали лошади. Выли собаки.
Так же вяло и неохотно затрещали в дыму костров немногочисленные барабаны, зовущие войско на неприятеля.
Главный полк всё же двинулся вперёд, оставляя за собою недогоревшие обугленные пни и брёвна.
Со своего холма капитан Маржерет отчётливо видел творящееся вокруг. Его рота, как и все прочие войска иноземного строя, не получала никакого приказания сверху. То ли о них забыли, то ли на них возлагались особые задачи — капитан не знал. Скорее, предполагал он, просто не подумали при таком многолюдстве, на холоде, в этой тревоге, когда приходится воевать с необычным, непонятным противником.
В стане же неприятеля, которого прикрывали многочисленные холмы, раздавались крики на польском языке. Слов капитан Маржерет не мог разобрать, но отчётливо слышал, что бодрящий и подзадоривающий тон этих криков находит живой отклик среди тамошнего воинства. Там отвечали взрывами смеха и воинственных возгласов. Там настраивались на скорое сражение.
И вот в стане приблизившегося неприятеля, где-то уже совсем рядом за холмами, раздалось резкое пение труб:
— Ту-ту-ту!
Там запели песню.
Небо над войсками было совершенно чистое. Из-за леса вставало солнце.
Правое крыло большого полка, по-прежнему вяло, начало подниматься на холм, чтобы оседлать его вершину, где высился мощный дуб. Войско как бы топталось на месте, скользя и оступаясь тысячами ног, ругаясь в тысячи глоток. И вдруг по заснеженному склону холма со свистом, в рёве труб, на борисовцев ударил отряд польских гусар.
— А-а-а! — лопнул воздух от единого крика.
Это получилось так неожиданно, так невероятно, что капитан Маржерет не поверил своим глазам.
А в ответ раздалось болезненное и протяжное:
— У-у-у-у-у!
Это напоминало попытки осы поразить своим жалом огромного быка.
Конечно, масса войска после короткого замешательства отразила неожиданную для неё атаку. Но движение борисовцев уже было остановлено, хотя воины в задних рядах, ещё не совсем сообразившие, что происходит, продолжали повиноваться отчаянным крикам своих десятников и напирали на передних товарищей.
— Живо! Живо! Бараны!
Не успели отринуть в сторону налетевшие польские конники, уронив на снег нескольких своих товарищей, как уже по другому склону холма, но с той же неожиданностью и с тем же напором, ударила новая волна гусар. Войско борисовцев подалось бы, конечно, назад, да не могло из-за упорства задних рядов. Началась страшная давка, послышались крики, стоны:
— А-а-а!
Эта атака тоже была отражена.
Третью атаку совершило уже большее количество всадников, а когда и их предприятие обернулось относительной неудачей, то на вершине холма, где красовался осыпанный снегом дуб, появился вдруг всадник на белом коне, с оголённою саблею в руке. На голове у него сверкал золотом шлем, из-под красного плаща виднелись такие же сверкающие латы.
Появление всадника было встречено громом приветствий, которые уже окончательно озадачили и насторожили войско князя Мстиславского.
— Это он! — услышал капитан Маржерет крик из среды воинства большого полка. — Это царевич!
— Царевич! — раздалось ещё несколько криков, но они были подавлены, словно кричавшим зажали горло.
И тут одновременно по склону холма на московское воинство ударило ещё несколько отрядов — и слева, и справа. Но самым мощным показался капитану Маржерету отряд под водительством того, кого многие признавали уже за царевича Димитрия. Молодец этот скакал во главе всадников, одетых в синие кафтаны. То были его соотечественники.
— Ура! — покатилось по склону холма.
— Ура!
— Ура!
Мощный крик наполнил окрестности. Капитан Маржерет оглянулся на свою роту. Бывалые вояки внимательно за всем следили, но скрывали собственную тревогу, перебрасываясь громкими, ненужными сейчас фразами.
Правое крыло большого полка князя Мстиславского дрогнуло. Передовая линия его заколебалась, задёргалась, словно раненая птица. Масса людей устремилась назад, сминая всё на своём пути. Возле золотого огромного знамени, где находился сейчас князь Мстиславский, учинилось столпотворение. Там мельтешили красные кафтаны аркебузиров. Именно туда рвались воины, ведомые загадочным всадником на белом коне.
11
— Победа!
— Победа!
А пану Мнишеку всё ещё не верилось, что это правда. В ушах гремели мушкетные выстрелы, слышался топот копыт и стояли человеческие крики и стоны.
— Победа! Победа!
В наступающих сумерках его поздравляли не только полковники Дворжицкий и Жулицкий, не только разгорячённый боем сын Станислав, чья рота, кстати, отличилась великолепной выучкой, напором, скоростью, не хуже самых лучших рот Дворжицкого, Фредра, Наборовского, Борши и прочих. Не хуже роты, что ринулась в атаку под началом самого царевича.
Поздравляли не только Андрей Валигура, Петро Коринец, капитаны и ротмистры, бравые казацкие атаманы, отчаянные головы, как польские, так и московитские, как запорожцы, так и донские чубатые молодцы.
Гетман не скупился на благодарности от имени государя. Все воевали достойно. Потому и победа. Если только в это можно поверить. Поскольку противостояла уж очень грозная сила. Была опасность, что эта сила прижмёт царевичево войско к стенам осаждённой крепости. Так поступают полководцы. Но ничего подобного не случилось. Не случилось?
В шатре, поставленном посреди лагеря, куда были созваны самые видные участники сражения, к гетману обратился царевич.
Высоко вздымая голубой кубок с красным венгржином, царевич сказал:
— За нашу победу, пан гетман! Виват!
— Виват! — ответил гетман ещё как бы во сне.
Царевич не снимал с себя золотого панциря, в котором вёл своих воинов. В рыжеватых волосах, ниспадающих на плечи, отражались огоньки свечей.
— Виват! Виват! — ударило в потолок шатра и пошло гулять по всему лагерю.
Пан гетман не выдержал.
— Государь! — сказал он, глядя в голубые глаза царевича, в которых также промелькнули рыжие огоньки, но которые были наполнены ликованием. — Государь! Этой победой мы обязаны прежде всего вашему появлению на поле битвы! Не говоря о том, что вы лично сражались как Александр Великий при Гранике. Я за вас боялся. Ведь фортуна, пусть она и царская, caeca est[33], известно. Так что поздравления эти должны относиться прежде всего к вам.
Царевич звонко засмеялся и обнял старого гетмана.
— О победе сегодня же напишу невесте, — сказал он тихо.
Затем царевич выпил вино и указал пальцем на изящную иконку, висевшую у него на груди поверх панциря. Иконку эту, гетман знал, подарили ему иезуиты, отец Андрей и отец Николай. Сейчас они оба стояли в дальнем углу — бородатые и с длинными волосами, как и православные священники. Вели себя очень спокойно, оставаясь почти незаметными.
— Справедливому делу помогает сама Богородица! — сказал царевич. — Об этом впервые поведал мне мой спутник, когда мы ещё пробирались в Литву. Я был тогда наг и сир.
— Виват! Виват! — раздавалось под высоким пологом.
В шатёр раз за разом, в клубах седого пара, входили всё новые и новые воины. Стражи пропускали их без проволочек. Они наполняли помещение запахами пороха, костров, новыми бодрыми криками. Они торжествовали, чем усиливали уверенность старого гетмана.
— Победа! Победа!
По-прежнему наблюдавший за всем этим Андрей Валигура успевал выслушивать донесения. Одни гонцы сменялись другими.
— Государь! — говорил Андрей в промежутках между тостами. — Неприятель, добравшись до леса, верстах в десяти отсюда окружает себя засеками, завалами и строит шанцы.
Содержание донесений тут же становилось предметом разговора в шатре.
— Го-го-го! — раздавались крики. — Вон куда сиганули борисовцы!
— Неприятель нас боится! — громче всех витийствовал полковник Дворжицкий. И тут же обратился к царевичу: — Государь! Нам следует немедленно довершить начатое утром. Пока князь Мстиславский не в состоянии отдавать приказы!
— Да! Да! — поддержали полковника. — Мы бы взяли его в плен, если бы нам помогли другие роты!
— Да! Если бы ударила пехота!
— Если бы государь двинул вперёд всё своё московитское войско!
— Что говорить! Здорово дрались аркебузиры князя Мстиславского! Они его отбили!
— Хотя получил он не менее трёх ударов по шлему!
Царевич остановил кричавших взмахом руки.
— Нет, — сказал он решительно полковнику Дворжицкому, но не только ему. — Никогда не допущу гибели безвинных людей. Потому и не отдал такого приказа. А князь Мстиславский не помог и не поможет своим присутствием. Мы заставим их сдаться без сражения. А когда я войду в Москву — Мстиславского не за что будет и наказывать. Впрочем, я никого не собираюсь наказывать, кроме злодея Бориса. Даже Басманова помилую. Сердце моё разрывается от одного понимания, что завтра придётся хоронить моих подданных.
— Государь! — начал гетман Мнишек. — Потери с нашей стороны незначительны по сравнению с потерями неприятеля. Правда, тяжело ранен полковник Гоголинский...
— Погибли русские люди! — с горечью возвысил голос царевич. — Погибли по вине злодея! — И он опустил голову.
Убитых как с той, так и с другой стороны хоронили в общих могилах.
Царевич хотел ещё раз подчеркнуть, что все московиты, его подданные, дороги ему одинаково. Он плакал при погребении так открыто, что пан Мнишек опасался, как бы присутствующие не усмотрели в его слезах нарочитости.
Царевич повторял слова вслед за православными священниками.
Иезуиты, оба в одинаковых чёрных сутанах, совершив над убитыми поляками службу на латинском языке, держались в стороне. Католиков среди убитых оказалось мало.
Молитвы православных священников продолжались зато очень долго. И пану Мнишеку вскоре стало казаться, будто в Неискренности царевича мог заподозрить только он сам, пан Мнишек. Да ещё иезуиты. Только им троим и ведомо о тайном принятии царевичем католической веры. Ведомо им троим и содержание его послания к Папе Римскому.
Стоять под порывами холодного ветра, на морозе, пусть и небольшом, было невыносимо тяжело. Пан Мнишек чувствовал, как у него начинают коченеть ноги. Он понимал, что в значительной степени этим чувством обязан своим годам и своим недугам. Однако нечто подобное заметил он и в поведении прочих польских военачальников. Они тоже не могли оставить эти похороны, не могли уйти, как поступили простые воины и даже ротмистры. Они закрывались от ветра рукавами. Они притопывали сапогами. Они страдали, но терпели. И тут пан Мнишек заметил, что холода вовсе не ощущают православные, творящие свои молитвы. Его не чувствует и царевич, одетый к тому же довольно легко.
Ещё неясное, но уже явственное беспокойство начало терзать пана Мнишека. Ему вдруг припомнилось, что в этом походе царевич получил послание от Папы Римского. То был запоздалый ответ на послание в Рим, которого царевич не дождался, находясь в пределах Речи Посполитой, о котором говорили и в Кракове, и в Самборе. Но теперь, получив наконец ответ, царевич не обмолвился о нём ни словом. Конечно, пан Мнишек не сомневался в чувствах царевича к панне Марине. Царевич по-прежнему готов говорить о ней в любое мгновение, но... Так ли откровенен он, как может показаться окружающим? Так ли искренно принял он католическую веру?
Конечно, не преданность царевича Папе Римскому волновала пана Мнишека. Впрочем, он не очень понимал и не очень старался узнать, что разделяет католиков и православных. Его удовлетворяло само понимание, что все эти люди веруют в одного и того же Бога. Этого было достаточно. Однако он вдруг начал опасаться, а не заявит ли царевич совсем иное, усевшись на московский престол? Не предстанут ли перед ним в ином свете обещания, на которые он не скупился в Кракове? Да что там в Кракове — на которые был щедр в Самборе по отношению к нему, сандомирскому воеводе?
Но, рассуждая так, пан Мнишек неожиданно подумал, то ли себе в огорчение, то ли в утешение, что сражение, которое вчера все называли победой, исход которого вызывал всеобщее восхищение, вовсе не является победой. Первое столкновение, первое соприкосновение войск, совершенно различных по силе, ещё ни о чём не говорит, кроме как о плохих военачальниках у царя Бориса (или, как его называют в войске царевича, у злодея Бориса). Но войско его отошло и засело в укреплениях. И попробуй к нему подойти! А что, если там появится военачальник, подобный воеводе Басманову?..
Мысли пана Мнишека были прерваны появлением гонца, который привёз письмо от самого короля. Дело было настолько важным, что пан Мнишек счёл наконец возможным удалиться с похорон. Он только встретился взглядом с царевичем, прижал руку к сердцу в знак извинения и велел подавать коня.
Весь остаток дня после похорон пан гетман думал, как подступить к царевичу с объяснением того, что вынужден был сделать.
Он собирал аргументы. Он был рад их собирать, потому что рад был несказанно посланию короля. Потому что с удовольствием готов был подчиниться. Он только обдумывал, а не усмотрит ли царевич в его заявлении зацепку для того, чтобы отказаться от своих прежних обещаний?
— Что же, — сказал наконец пан гетман, обращаясь к сыну Станиславу, которому доверительно прочитал послание короля, — пора. А там — что уж Бог даст.
Но обратиться удалось не сразу. Когда они вдвоём с сыном явились к шатру царевича утром следующего дня, там уже стоял невероятный шум.
Шумели польские рыцари. Они окружили шатёр плотным кольцом.
— Или деньги, или уходим! — раздавались отчётливые крики.
— Мы доказали, как умеем воевать!
— Нас везде примут!
— Везде нужно наше умение! А здесь — превратимся в нищих!
— Теперь уйдём окончательно!
Пан Мнишек сразу всё понял. Повторялось то, чего с таким трудом удалось избежать под Черниговом. Рыцари, оказывается, сдерживали себя весь вчерашний день, когда хоронили убитых. Сегодня их терпению наступил предел.
— Мы уйдём!
— Уходим!
Очевидно, они осаждали шатёр уже с рассвета. Озабоченный царевич, наверное, уже в десятый раз повторял обещания уплатить деньги при первой возможности. Он рисовал рыцарям яркую картину того, как плохо сейчас неприятелю в лесном неприспособленном лагере.
— Нам вовсе не придётся сражаться. Я не допущу сражения, — говорил он с таким убеждением, будто дело шло о чём-нибудь житейском. — Я не могу допустить пролития крови моих подданных. Да сражения и не может быть. Разве вас не удивило, что огромное войско так легко уступило нам поле битвы? Разве не знаете упорства русского человека? Русское войско устояло против Стефана Батория! Вспомните осаду Пскова!
Царевичу возразили:
— Всё знаем. Но это мы как раз сражались так, что не дали московитам никаких шансов! Потому они и побежали!
Царевич соглашался наполовину:
— Это так, вы сражались намного лучше, чем когда бы то ни было. Вы показали свою силу. Однако русские не хотели сражаться против меня. Разве этого вы не поняли? Они оборонялись только по необходимости. Позавчера у них ещё не хватило смелости восстать. Но представьте себе ночь в лесу, под голым небом, при таком морозе. Одно это заставит задуматься. А теперь представьте, что мы сегодня же явимся к ним с артиллерией, с той же конницей, которая позавчера так дерзко шла на них в атаку, то есть с вами! Представьте, что придвинем верное казачество, всех перешедших на мою сторону подданных... Мы расскажем, сколько городов открыли передо мною ворота! Все русские воины перейдут на мою сторону. И путь на Москву будет открыт. У Бориса нет другого войска.
— Деньги! Деньги давай! — не хотели дальше слушать те, кто боялся, что царевич уговорит их товарищей, как удалось ему это сделать совсем недавно под Черниговом.
— Я пока не могу вам всем заплатить, — опустил царевич руки. Он оглядывался на своих соратников, на Андрея Валигуру, на Петра Коринца. Он призывал их в свидетели. — У меня сейчас нет таких денег.
Соратники кивали головами:
— Обождите!
— Надо обождать!
Тут же, на помосте, стояли капелланы в чёрных сутанах. Они были готовы поддержать царевича. Но польские рыцари не желали слушать даже их.
Конечно, в такой ситуации пан Мнишек не стал ничего говорить о письме короля Сигизмунда.
Пан Мнишек при первой же возможности тоже начал убеждать рыцарей помнить о чести, о данном слове, о долге.
Рыцари в ответ зло смеялись:
— О долге мы как раз и помним!
И снова кричали:
— Деньги!
— Деньги!
Вокруг царевича, на деревянном помосте перед его шатром, собрались уже полковники Дворжицкий и Жулицкий, ротмистры Борша, Фредр, Неборовский и прочие. Но их присутствие также ничего не могло переменить.
О выходе из лагеря, о новой атаке на неприятеля сегодня не могло быть и речи.
Так завершился этот короткий зимний день.
Объехав, как обычно, вместе с царевичем все сторожевые посты, которые теперь были выставлены и против осаждённой крепости, и против недалёкого и всё-таки грозного противника, гетман Мнишек принял приглашение царевича — зашёл к нему в шатёр.
Конечно, пан Мнишек нисколько не надеялся, что сегодня удастся высказаться о королевском письме.
Ему хотелось хотя бы узнать, когда же о том можно будет потолковать. А сейчас ему хотелось вместе с царевичем подумать, что можно сделать, как уговорить рыцарей отказаться от своей гнусной затеи. Как заставить их потерпеть с получением денег.
Рыцари же, уйдя от царевичева шатра, ничуть не угомонились. Они всё так же шумно продолжали негодовать, разбившись на группы, рассеявшись по палаткам.
Поговорив с царевичем в присутствии одного Андрея Валигуры и не услышав ничего для себя утешительного, пан гетман вознамерился было отправиться домой, как вдруг Андрей, выйдя из шатра на какой-то новый шум, воротился с известием, что явились делегаты от рыцарей из роты Фредра. Они хотят говорить с царевичем наедине.
Андрей так выразительно посмотрел при этом на старого гетмана, что царевич удивился:
— Как? Даже без пана гетмана?
Андрей развёл руками:
— Так хотят.
Пан Мнишек удалился тотчас, заверив царевича, что нисколько не в претензии. И это было действительно так, хотя и подмывало узнать, что же придумали удальцы из роты Фредра. Он остановился на том, что ими найдена какая-то хитрость, способная увлечь и прочих рыцарей. Они пойдут добивать князя Мстиславского. А тогда можно будет поговорить о требованиях короля, изложенных в письме.
В своём шатре, в удобной постели, пану Мнишеку не пришлось мучиться неизвестностью. Он крепко уснул, а под утро, чуть свет, его разбудили выстрелы, правда беспорядочные. Он сразу понял, что так не отражают неприятеля. Так выражают негодование.
— Опять наши гусары, — успокоил его писарь Стахур, после смерти Климуры снова занявший его место.
— Из роты Фредра? — спросил пан Мнишек, уже глядя на себя в зеркало.
— Нет, — продолжал Стахур, прислушиваясь к выстрелам. — Те как раз молчат. Говорят, они убедили царевича выдать плату им одним. Но о договоре узнал весь лагерь. От шинкарей.
Пан Мнишек сразу всё понял. И поспешил к царевичу.
То, что увидел пан гетман, превзошло все его опасения. Увиденное просто ошеломило. Государь, раскрасневшийся, без шапки, в сопровождении Андрея Валигуры, ротмистров Борши и Фредра, бегал от палатки к палатке рыцарей и умолял их не оставлять его!
— Двойная плата в Москве! Вам даже не придётся воевать! Один ваш вид, одно ваше присутствие!
Но рыцари уже собирались в дорогу.
— Мы уходим! — кричали они, не глядя ему в глаза. — Пусть воюет вместе с вами рота Фредра!
Фредр, высокий и грузный человек, тоже не смел глядеть царевичу в глаза.
Пан Мнишек понял, что удержать на этот раз рыцарскую вольницу не удастся. У него опустились руки.
А некоторые рыцари уже садились на коней.
— Уходим!
— Уходим!
Конечно, уехать так просто они не могли. В такой путь в одиночку не отправляются, или даже группами. Рыцарям следовало избрать себе старшего. Однако они хотели тотчас показать свою независимость и свою решительность.
Одного из рыцарей, изготовившегося прыгнуть в седло, царевич ухватил за рукав.
— Послушай! — сказал он ему в сердцах. — Я полагал, что все поляки — народ необыкновенный. Я не ошибся, конечно. Но ты вот поступаешь по-свински. Потерпи! Может, я и раньше вам уплачу! Подожди!
— До Москвы? — спросил нетерпеливый презрительно. — Ждали уж. Да ещё и в Москве что с тобою станется — не совсем ясно. Ходят слухи, будто и не царевич ты вовсе. Так что тебя там запросто могут на кол посадить!
Никто из окружавших не успел опомниться от таких дерзостных слов, как поляк уже был сбит ударом кулака. Он хотел подняться, он готов был что-то сказать, может не менее дерзостное, да его подхватили под руки подоспевшие товарищи и оттащили подальше от греха. Они надеялись, что гнев царевича против отдельного человека на том и оборвётся.
— Опомнитесь! Вернитесь! — Пан Мнишек продолжал помогать царевичу в его бесполезных уговоpax. Но сам уже с тревогою думал, чем может закончиться следующая встреча с войском Бориса Годунова, когда выздоровеет князь Мстиславский или когда он будет заменён кем-нибудь более энергичным.
Конечно, среди рыцарей нашлись всё же люди, которым был по нраву молодой царевич. Они решили остаться. Нашлись и такие, кому некуда было податься да и не на что ехать, нечем кормиться, — проели уже все в этом походе, истратились окончательно. Так что к роте Фредра, которая вынуждена была оставаться теперь почти в полном составе, присоединились из прочих рот по десятку, по два, а то и более человек. Осталось много пехотинцев, особенно немцев. К вечеру писарь Стахур набросал полный реестр оставшихся — их насчитывалось более тысячи.
А прочие решили уйти. Слуги готовили для них возы, сани, кто уж чем располагал. Уходили многие торговцы, оружейники. Уезжали даже маркитантки и бесшабашные срамные девки.
— Все уедем! — не утихали крики.
В сопровождении Стахура, несущего реестр под мышкой, пан Мнишек явился в шатёр к царевичу. В голове у пана гетмана вызрело твёрдое намерение.
— Государь! — сказал пан Мнишек, представ перед царевичем, который обречённо смотрел в тёмный угол. — Вот реестр оставшихся. Я же должен принести вам свои извинения. Я не могу ослушаться воли моего короля. А король призывает явиться на заседание сейма. Вот и королевское письмо. Я ношу его с собою уже который день. Я должен многое объяснить в сейме.
Гетман опасался, что царевич будет поражён услышанным, что он вспыхнет новой злостью. Но просчитался. Очевидно, после ухода стольких людей, на которых он так надеялся, для царевича уже ничего не значил отъезд старого гетмана.
Королевское письмо, естественно, царевич читать не стал. Он спросил:
— Пан воевода хочет уехать вместе с ними? — и указал туда, откуда доносился гул, проникающий в шатёр.
— Да, государь, — отвечал пан Мнишек. — Так надёжнее. Я должен доехать, несмотря на мои болезни. Моё выступление в сейме сослужит вам, надеюсь, добрую службу.
Царевич пропустил всё это мимо ушей. Спросил об ином:
— Кого посоветуете избрать вместо себя?
Пан гетман отвечал без раздумий:
— Полковника Дворжицкого, государь. Очень опытный воин.
12
Впереди скользило несколько саней с громкими заливистыми бубенцами и с различной поклажей. Перед ними скакали юркие всадники на горячих конях, вооружённые, надёжные стражи, — как водится в походах. А весь огромный обоз — позади. Сколько видит глаз — ползут и ползут упряжки, играют конники. Это если взглянуть на изгибах дороги, на подъёме. Виден был и красный с изящными окошечками, словно терем, возок, в котором ехала душенька Прасковьюшка, красавица, с пухлым горячим телом, со сладкими губами-блинами, — такую и в Москве-то не оставишь никак.
После Калужской заставы, с хмурым стрелецким сотником при дымных низких кострах, Василий Иванович Шуйский, завалясь на меха в тёмном возке, поставленном на особо скользкие полозья, почувствовал себя наконец князем, человеком значением повыше самого царя Бориса, происходящего из худородных бояр.
Князь, вытянувшись во весь рост, хрустнул косточками, потому что длина возка вполне позволяла.
И начал вспоминать недавнее. Увидел себя со стороны.
Услышав повеление царя Бориса, он сначала испил ледяного квасу из рук Прасковьюшки. Пил отвернувшись, чтобы слуги не заметили противной дрожи в пальцах. Превозмогал ломоту в зубах. Кувшин держал обеими руками. Всем своим видом показывал, что кувшин чересчур холоден.
Потом долго молился. Бил земные поклоны. Молил Бога о просветлении ума. Мысленно прощался с Прасковьюшкой.
И наскрёб сяких-таких мыслишек. Начал приходить в себя...
Начал ругать себя, дурака. Ну, отчего в портки напустил? Кого испугался? Срам.
И наконец успокоился, отметая страшные предположения.
А предположения были относительно писем к Яну Замойскому. Что же, не пойман — не вор! В письмах жаловался на судьбу. Кто на Руси более достоин царского звания, нежели князья Шуйские? Да мало ли чья рука могла написать сейчас подобное письмо польскому канцлеру. Это понятно даже Прасковьюшке. Но от кого письмо — догадайся. Конечно, Замойский разберётся. Если письмо дошло. Если он читал. А посторонние — нет. К тому же писано в расчёте на ум Замойского. С какой именно целью писано — тоже в Москве не догадаться. Был бы ещё при царе боярин Димитрий Иванович Годунов — старый лис, пройдоха, царская защита от ножа, яду, — тот мог бы догадаться. Но не его преемник Сёмка Годунов, конопатый увалень с раскосыми татарскими глазами. Что он понимает? Димитрий Иванович, говорят верные люди, уже не бросится больше на первый свист Бориски. Оно и пора. До поры кувшин воду носит.
Однако пришлось попрощаться с Прасковьюшкой и поспешить в кремлёвские хоромы.
Что говорить, даже приятно было увидеть явное замешательство царя. И не только замешательство. Не Борис Фёдорович уже сидел в своём дворце — но действительно Бориска, сын татарина. Глаза потухли и бегали, как у собаки, которую хозяин пинает сапогами и хочет согнать прочь со двора. И хотя каждому известно, что такого человека стоит всячески опасаться, да он тщился превозмочь себя. Он готов пригреть сейчас каждого. В минуту опасности. Готов снять с себя последнюю рубаху. (Последнюю! Да если бы все рубахи его разделить между мужиками на Руси — так каждому припало бы по две, не менее!)
Говорить начал не царь. Царь слушал, нахохлившись.
Высоким и скорбным голосом изрекал Патриарх Иов, в последнее время очень часто находившийся при царе:
— Король Жигимонт не боится Бога! Еретик проклятый! Пишет и рассылает универсалы, чтобы никто из его подданных не смел приставать к самозванцу, окаянному вору. Будто и не он сам принимал его у себя во дворце. А на деле никому этого не запрещает. Смирной-Отрепьев послан для того, чтобы при всех панах посмотреть на своего племянника, чтобы признал его при всех да за волосы выдрал — так не допустили! Не допустили до вора! Уж как надеялся я на помощь литовского канцлера Сапеги, да и он не пособил. Ну да ничего. Новый царский посол, дьяк Постник-Огарёв, даст Бог, скажет панам про всё и про всех прямо на их нечестивом сейме! Скажет, кто такой этот «царевич»! И пусть все паны знают, каков их король! Жаль, что Замойский туда уже вряд ли доберётся, совсем, говорят, плох. Он бы доказал, что король заодно с вором Гришкою!
При слове «Замойский» князь Василий Иванович насторожился, но ничего опасного для себя не услышал. Просто Патриарх напомнил о Замойском, как о человеке мудром.
Патриарх негодовал. Золотой крест в его жилистых руках сверкал, как меч Господень.
— Анафема! Анафема!
Но стоило Патриарху приумолкнуть, как тут же царь заставил обратить внимание на себя.
— Князь Василий Иванович! — сказал царь со страдальческим вздохом. — Мои воины отразят какого угодно вора. Я так и сказал дружественным мне государям. Помощь мне не нужна. Но я знаю, что может сделать для войска одно звучное слово «Шуйские». Потому что за ними тянется слава защитников Пскова! От одного этого слова король Баторий в гробу перевернётся!
«Кто бы говорил, — подумалось в то мгновение князю Василию Ивановичу, — только бы не ты, Бориска! Что значит для тебя защита Пскова моим отцом! Не ты ли запретил мне жениться? Не ты ли боишься, чтобы дети мои не отняли у твоих детей престола царского, на который ты воровски уселся? Только, даст Бог, и тебе на нём не усидеть, и твоим деткам его не видеть!»
Но радостью забило дух: припекло! Действует! Действует уже то, что давненько задумано. Исполняется. На Бога надейся, а сам не плошай. Ай да голова у тебя, Василий Иванович!
Бог даст, и жениться когда-нибудь удастся...
Радостью захотелось с кем-нибудь поделиться. А с кем? Кроме братьев Димитрия да Ивана, никому о том не заикнёшься. Но братья в походе. При князе Мстиславском. Слава Богу, не ранены, не пленены. Не осрамились. Воины.
А Бориска вдруг словно угадал настроение гостя. (Своего холопа? Господи!)
Бориска сказал:
— Придётся тебе поехать, Василий Иванович, к войску моему. Будешь там прибыльным боярином при князе Мстиславском. Будешь добивать вора. Верю тебе. Да и братьев увидишь. Озолочу тебя с братьями, если живого вора приведёте. На Красной площади чтобы при всём народе голову отрубить! Чтобы кровь по камням...
Царь задрожал. Долго крестился на образа. Успокоился наконец. И сказал, оборотясь к гостю просветлевшим лицом:
— Но если Господу будет угодно, чтобы он прежде того погиб, чтобы захлебнулся там в собственной крови, — так это ещё лучше будет для дела, для царской короны. Так что постарайся.
Патриарх понимал царя с полуслова.
— Да будет так! — трубно сказал Патриарх. — Анафема Гришке Отрепьеву! А-на-фе-ма! — И снова потряс золотым крестом.
Чем дальше от златоглавой Москвы уносили полозья князя Шуйского, тем неспокойней становилось у него на душе.
Севе́ра восстала против московской власти полностью. Началось это вроде бы против Бориса. Против неправедной его власти. Началось в поддержку царевича Димитрия. А если будет уничтожен этот Димитрий, как и против кого обратится этот гнев?
При виде княжеского обоза, при виде конных стрельцов и прочих ратных людей, северские люди уходили в лесные чащи, оставляя в своих жилищах всё как есть. И на это было просто страшно смотреть. Страшно задумываться. И всё равно билось в голове: да так ли было задумано? Господи!
Князь слушал доклады своих холопов и постепенно забывал о лежании на мягких тёплых мехах. Сначала ехал сидя, но сидеть было неудобно, особенно за Брянском, когда после нежданной оттепели опять ударили морозы и езда в санях превратилась вдруг в мучение. Полозья сотрясались и визжали, а лошадиные копыта скользили, и лошади падали в изнеможении, так что пришлось двигаться шагом. А когда выпал новый снег, то пришлось прекратить и такую езду. Потому что снег скрывал под собою опасности. Пришлось вообще остановить обоз в небольшой деревушке на берегу реки, под защитой громадного леса, — пока снег не осел.
В оставленном жителями селении ревел скот, выли псы, словно волки.
Зато после этого селения, после отдыха, князь пересел в седло. В кольчуге, прикрытой громадной медвежьей шубой, с заиндевелою бородою, на крепком вороном коне, князь, наверное, выглядел славным воином, богатырём. Потому-то сразу и почувствовал на себе чей-то взгляд. А глядела Прасковьюшка из красного возка, сквозь небольшие окошки с синими стёклышками.
Он махнул ей в ответ рукою только один раз. Ещё подумал, что на ближайшей остановке обязательно прикажет привести её к себе. Чтобы прижаться к её тугому тёплому телу. И пусть этот грех ляжет на душу Бориски.
Новгород-Северский встречал колокольным звоном.
В Москве говорилось и верилось, что город этот всё ещё в осаде. Что князю Мстиславскому не удалось его освободить. Однако в городе были настежь открыты ворота! А при воротах, в корчемном дворище, где под обугленными деревьями стоял какой-то курень, толпился народ, звучала музыка и ухал бубен. Там плясали! Там пели!
— Эх! Ух!
— Дьявол! Давай!
Конечно, ещё приближаясь к Новгороду-Северскому, князь Василий Иванович уже знал от своих людей, что в городе что-то подобное и должно твориться. Знать-то знал, да не верил, пока не увидел.
— Вот и слушай их там, в Москве! — озадаченно произнёс князь и пришпорил коня.
Войско Мстиславского обрамляло городские стены шумными обозами, изодранными шатрами, ржанием коней, рёвом скота, лаем собак и весёлым человеческим гомоном. Люди ничего не опасались, несмотря на то что вокруг них из-под снега вздымались остовы печных труб, угадывались пепелища, проступали очертания прочих развалин.
И всё же на валах торчали озабоченные дозорные. Там виднелись стволы огромных пушек. Город помнил недавнюю осаду — было заметно. Опасность таилась ещё где-то поблизости.
Навстречу выехали на серых конях воевода Басманов и князь Трубецкой (который ничем себя не проявил при обороне города). От князя Мстиславского был выслан уважения ради князь Василий Васильевич Голицын. Все встречающие натянуто улыбались, но все старались понять: что же привёз от царя князь Шуйский?
А он при первой возможности приказал своим слугам:
— Ведите меня к моему брату Димитрию Ивановичу! Чай, болеет?
— Болеет, боярин, — отвечали ему.
Князь Димитрий Иванович, похудевший, почерневший лицом и с сильно поседевшей бородою, встретил брата в хорошем деревянном доме в сердце города. Он уже выздоравливал. Он бодро сбежал с высокого крыльца. Братья обнялись. Обменялись троекратным поцелуем.
— Как хорошо, что ты здесь!
— Бережёт нас Бог!
А вот разговор отложили на более позднее время. Сразу с дороги Василий Иванович отправился в баню. И лишь после жаркой бани, исхлёстанный берёзовыми вениками, помолодевший на половину прожитых лет, сидя за столом в высокой белой горнице, Василий Иванович изготовился слушать братовы речи.
Димитрий Иванович предварительно прогнал слуг, всех до единого. Было понятно: он тоже соскучился по разговорам.
— Скажу тебе, Василий Иванович, — начал он всё ещё сдавленным голосом, — что дуракам везёт, неспроста говорится. Видишь, Мстиславский не смог с таким войском раздавить неприятеля, как таракана, прижав его к крепости. Хотя я сам ему так советовал. При наших аркебузирах да при наших пушках — только мокрое место от супостатов осталось бы!
— Ты советовал такое? — грозно сошлись у старшего брата брови.
— Пустое, — понял его и взял за руку Димитрий Иванович. — Тот ускользнул бы. Не беспокойся. И снова оброс бы всяческой сволочью. Да пылу у него поубавилось бы. А то чересчур уж шустрый. Мы такого и подозревать не могли. Как только он без единого выстрела взял моравскую крепость, как только ему сдался Чернигов — он уж и до Москвы надеялся дойти без выстрелов. А нельзя его было пускать. Ты понимаешь. Вот и пришлось покумекать, чтобы ляхи при нём взбунтовались. Он теперь и присмирел. Ляхи — это сила. А прочие... Сволочь разная.
— Видел я Северу, — сказал Василий Иванович, припоминая дорогу. — Будь у них сила — накинулись бы на обоз. Раздразнили их.
— Вот, вот, — поддержал брат. — А что касается совета Мстиславскому — так совет мне же в пользу. А Мстиславскому никакой совет не в пользу. Он чуть жив, и по своей же глупости. И чуть войско не загубил. Не от неприятеля, но от неразберихи... Только Бориска и при таком конфузе оказывает ему почести. Прислал Вельяминова-Зернова спросить о здоровье! Слыхано ль? Такая честь! Прислал затем своих лекарей и аптекарей. И всем дворянам в войске подобная же честь. А за что? Только за то, что не покинули его, Бориску! Что не перебежали к самозванцу, которого, веришь ли, многие в войске считают настоящим царём. И эта вера, как чёрная зараза, пожирает людей.
Василий Иванович слушал, опустив голову.
— Это потому, — сказал он глухо, — что Бориску ненавидят. Готовы и чёрту поклониться!
— Что говоришь, Василий? Чёрту... Православный царь... Бориска хочет, чтобы и впредь его держались. А люди уже по-иному думают. Всё больше их на сторону вора переходит.
— Да где он сам сейчас? — не терпелось узнать Василию Ивановичу. — Куда вы его прогнали?
Димитрий Иванович засмеялся:
— Говорю же — дуракам везёт! Мы его и не прогоняли. Мы как отошли тогда, после неудачной для нас раны Мстиславского, в лес, так и стояли там. Потому что Мстиславский долго в себя не приходил. А как пришёл — мы узнали, что ляхи покинули вора и ушли домой!
— Неужели? — снова не поверил Василий Иванович. — Вот те на! Снова денег требовали? Где ему взять... Борис о том не ведает.
— Да мы и сами поздно дознались.
— И как ушли? Поголовно?
— Не поголовно, некоторые остались. А раз такое дело — он ночью снял осаду и увёл своих разбойников куда-то в леса. В Комарницкую волость вроде бы, где у него полно подобных негодяев.
— Под Севск? Точно ведомо?
— А бес его ведает, — отмахнулся Димитрий Иванович. — Ушёл, и слава Богу. Мы на радостях — сюда. К Басманову да Трубецкому. В тёплые дома. Правда, мало их. Все посады Басманов выжег, хотя Трубецкой не позволял. Да Басманов оказался прав. А Трубецкой при нём — так себе...
Василий Иванович уже вроде бы и не слушал. Пил вино. Сопел. Брал голову в руки, мял её. Наконец спросил:
— А князь Мстиславский теперь в добром здравии?
Димитрий Иванович руками развёл:
— Его не поймёшь. Как водили слуги под руки — так и водят. И на коня по-прежнему сажают. Как бормотал, словно воду цедит, — так и сейчас. Уж говорить-то вместо себя никого не может заставить.
— И что же он намерен делать дальше?
— Да что? — снова развёл руками Димитрий Иванович. — Тебя дожидается. Так и говорит. Потому что грамоту от Бориски насчёт твоего приезда получил. На тебя надеется.
Василий Иванович ухмыльнулся:
— Силён... Ну а ты чего ему советовал?
Димитрий Иванович удивился:
— Нечто о том разговор промеж нас был? Но и спроси он, я ничего такого не присоветовал бы, что могло бы вору сверх меры повредить. Я осторожен.
— Сверх меры, мыслишь? — Василий Иванович выждал какое-то время и крякнул. — А где мера? Не сверх ли меры ему воля дадена? Боязно мне от увиденного стало. Пора кончать. Видел я Бориску-царя. Не жилец.
Димитрий Иванович вздрогнул:
— Брат! Неужели ты...
— Нет, нет, — отмахнулся от него, крестясь, Василий Иванович. — То будет Божий суд. Я не возьму греха на душу... Чувствую только. Говорено мне свыше. Так что и с вором надо кончать. А вы его ещё ближе к Москве... И радуетесь у тёплых печек.
— Брат, — был неприятно поражён таким поворотом разговора Димитрий Иванович, — брат... Что же, я верю твоему уму... Но что делать?
— Надо вести на него войско! — отвечал Василий Иванович. — Коль он ослаблен к тому же.
— Да кто его знает? Запорожцы прибыли. У кошевого Вороны их теперь тысяч двенадцать. И пушек привезли добрых, говорено.
— Запорожцы... — не сразу задумался Василий Иванович. — С запорожцами можно договориться. Кое-что я прихватил с собою... Не впервой. Так что завтра идём к Мстиславскому. Когда Бориски не станет, важно, чтобы власть на Руси взял не его сын, но князь Шуйский... О том я и Замойскому написал...
Василий Иванович поднялся, посмотрел в окно. Увидел там при дальнем крыльце красный возок — улыбнулся, вроде выше ростом стал. Высоким даже.
— Ага, — прошептал Димитрий Иванович, восхищённо глядя на брата. — Быть тебе царём в случае чего! Тебе, и более некому!
— Посмотрим! Посмотрим! — не отрицал Василий Иванович, ещё выше вздымая плечи и голову.
13
Кошевой Ворона откликнулся с готовностью.
— Так что, ваше царское величество, — сказал он медовым голосом, стараясь во что бы то ни стало понравиться, — речь моя будет короткой, как... Как вот эта моя люлька! — Он указал на свою крепко задымлённую трубку из козьего рога. По причине уважения к высокому собеседнику люлька была воткнута за шитый золотом пояс на синем жупане.
Кто-то засмеялся. Было трудно понять, кто именно. Но Ворона и смех этот воспринял как поддержку.
— Надо дать Москве сражение! — закончил тут же Ворона и сел с довольным выражением лица. При этом не забыл выставить перед собою очеретину — знак высшей казацкой власти. — Я высказался, государь!
Сел, взял трубку в руки. А потом спохватился, что не всё сказано. Быть может, царевич не знает главного. Потому Ворона снова встал и, снова засунув трубку за пояс, добавил:
— Поскольку коням корма не хватает... Да и сами казаки обносились и исхарчились... А денег нету... То есть платы... Ну, теперь всё...
От таких слов кошевого всем стало весело. Все засмеялись.
Смеялся одними губами полковник Дворжицкий, недавно избранный поляками своим гетманом вместо уехавшего Мнишека. Дворжицкий только что, как мог, уговаривал царевича и всех членов совещания: торопиться со сражением нет никакого смысла. Даже небезопасно. Потому что, даст Бог, из того войска и так все перейдут на сторону законного царевича. А fata belli incerta[34].
Последнее было сказано явно для ушей царевича. Царевич при этих словах расцвёл. Он почти восторженно посмотрел на Андрея Валигуру, затем на всех присутствующих, давая понять, что разумеет по-латыни. Что радуется собственному разумению и благодарен за то своему учителю в этом деле, Андрею!
Но оказалось, ничего большего всё это не означало. При всех своих заверениях, что он не допустит пролития крови подданных, царевич всё ещё был уверен, что сражения не будет. Он лишь хотел ещё раз испытать судьбу.
А потому царевич с благодарностью воспринял слова простоватого запорожского кошевого.
— Хорошо, — кивнул ему царевич. — Речь воина. Похвально.
Андрей Валигура и Петро Коринец не разделяли мнений своего давнего знакомца. Торопиться со сражением не надо, были уверены они оба. В Добрыничах, где обретается сейчас главное Борисово войско, очень тесно и голодно. Князю Мстиславскому приходится всё время высылать людей в поисках продовольствия. Высылать так далеко, что их трудно дождаться назад.
Однако Андрей и Петро уже высказались и должны были уступить место другим.
За сражение стояли казацкие атаманы.
Атаман Корела высказался ещё более кратко, нежели кошевой Ворона. Ради говорения он встал. Но кто его не знал, кто видел его только в бою, тот не смог бы понять, стоит он или сидит.
— Надо сражаться! — взмахнул Корела длинными руками и опустился на место, рядом с атаманом Иваном Заруцким. Заруцкий одобрил его слова кивком кудрявой головы.
Совещание проходило в большом деревянном доме, при распахнутых настежь дверях. Это потому, что на дворе снова потеплело (правда, снег держался, не таял). А ещё — от дыхания скопившихся в горнице воздух внутри был горяч и мутен, как деревенская брага. За раскрытой дверью, было видно, за наполовину поваленным частоколом, толпились пешие и конные казаки, сотни и сотни. Одни шапки, шапки и кулаки. Люди жадно внимали голосам из горницы. Они хотели как-то повлиять на царевича.
— Побьём! — начинали кричать за воротами пока ещё отдельные голоса, но такое живо подхватывали.
И уже гремело:
— Побьём московитов!
— Побьём! Мы их всегда били!
— Всегда!
Андрей видел: услышанное радует царевича. Андрей понимал, что упущен на сегодня уже тот момент, когда он мог подействовать на царевича. Делать это надо было наедине, в неспешной беседе. При кубке венгржина. А сейчас...
— Мы их вчера побили! — кричали за воротами.
— Да! Да! — надрывались, только кулаки мелькали в воздухе. — Побили!
Андрей полагал, что вчерашние, позавчерашние победы над борисовцами ничего, в сущности, не значат. Победы эти одержаны над людьми, которые выехали в поисках продовольствия и фуража. Люди не подозревали, что противник уже так близко. Они были почти безоружны. Их действительно полегло в полях немало. Многих пригнали в качестве пленников. И когда Андрей разговаривал с пленниками, то диву давался: до чего же беспечны Борисовы воеводы! Они не сделали никаких выводов из своих неудачных действий под Новгородом-Северским. Их ничему не научили раны князя Мстиславского. Правда, среди пленных и, наверное, среди убитых, совершенно не попадались люди из главного Борисова полка. На вопросы, почему так, пленные отвечали: «Так теперь с князем Мстиславским сам Василий Иванович Шуйский!» И всё, мол, уже сказано.
Это имя вселяло в Андрея тревогу. Он даже пытался заговаривать о Шуйском с царевичем, однако царевич мечтал лишь о том, как бы поскорее двинуться на Москву. Двинуться по открытой дороге. Двинуться вместе с народом. Что для него какой-то Шуйский, слуга Бориса?
— Тот самый, — сказал он брезгливо, — который доложил Борису, будто похоронил меня?
Андрей и опомниться не успел, как царевич заявил, что доволен советами военачальников. Они будут в своё время награждены. Но ещё большей награды удостоятся те, кто будет достойно вести себя на поле сражения.
— Это так только говорится — поле сражения!.. Будем готовы к сражению. Ударим, если понадобится. Но не будем бить тех, кто опомнился и перейдёт на нашу сторону! — сказал он.
И всё. И всех отпустил. Потому что спешил к обедне в походной церкви. Там служили священники из Севска, а вместе с ними и диакон Мисаил.
Конечно, при царевиче оставался гетман Дворжицкий. Гетману хотелось объяснить задуманную им диспозицию на предстоящее сражение. Он твердил уже что-то о деревне Добрыничи, которая виднелась издали своими чёрными избами на склоне высокой белой горы и своею церковью со стройною колокольнею — словно воткнутый в серое небо палец. Там, было известно Андрею, размещаются главные силы Борисова войска.
Краем уха Андрей услышал это название — Добрынину хотя разговаривал как раз с Петром Коринцом.
Царевич слушал гетмана без интереса.
Петро Коринец выглядел чересчур обеспокоенным. Он был недоволен кошевым Вороною. И вовсе не потому, что с приходом Вороны в лагерь царевича Петро снова превратился в обыкновенного куренного атамана.
— Если бы не Ворона, — сказал Коринец, сердитым взглядом провожая кошевого, который как раз садился на коня, подведённого двумя джурами, — если бы не его слова — царевич не решился бы на сражение. А так у Вороны двенадцать тысяч казаков и десятка два пушек! Тогда как у царевича только тысячи три своих воинов, вместе с ляхами. Ну ещё дончики. Корела ему предан. Правда, царевич не верит, что сражение будет. Но казаки любят драться. Они найдут зацепку... Ворона же хитрит. Чувствую. Не любят казаки Ворону. Сотники мне говорили, будто к Вороне зачастили какие-то люди. Не от борисовцев ли?
Андрей насторожился при этих словах, да его позвал царевич.
— А Добрыничи за нас! — сказал весело царевич, слегка отворачиваясь от гетмана Дворжицкого. — Даром что там стоит князь Мстиславский. Тамошние жители готовы нам пособить. Вот, потолкуй с паном гетманом. Может, что и понадобится из того, о чём он говорит.
Однако всё получилось совершенно иначе, нежели было задумано гетманом Дворжицким.
С рассветом следующего дня польские конные хоругви, числом семь, вместе с московскими людьми — числом в две тысячи — уже готовы были нанести удар по деревне Добрыничи. Казаки как запорожские, под руководством Вороны, так и донские, под руководством Корелы и Заруцкого, ожидали знака, чтобы окружить место схватки, зажать неприятеля в кольцо, дать работу саблям, если придётся. Все ждали, когда в деревне вспыхнут пожары. Так обещали тамошние жители. Тогда в ней начнётся смятение.
— Сейчас, сейчас, — успокаивали люди друг друга.
Но вот взошло за горою ещё невидимое солнце — и Борисово войско начало без спешки, под стук барабанов выступать из Добрыничей. К нему присоединялись воины из других, ближайших деревенек. И всё это принялось строиться в поле. На белом снегу отчётливо рисовались ряды немецкой пехоты, подававшей сигналы звуками медных труб. Затем красной массой выступили стрельцы-аркебузиры. В промежутках между отрядами двигались повозки, очень много. Везли наверняка пушки. Борисовцы не останавливались. Они совершали какие-то сложные перемещения. Определить перемещения мешали высокие холмы.
— Вот те на! — не сдержал своего удивления и негодования царевич, как только увидел всё это. — А что вчера говорилось?
Царевич сидел на коне. Андрей держался рядом с ним.
Андрею сразу стало понятно: в деревне что-то произошло. Пожара там не будет. Диспозицию надо срочно менять. Он так и сказал царевичу.
— Гм, — отвечал царевич, совсем по-простонародному шмыгая носом.
Поляки всё ещё гарцевали на своих конях. Они как бы не подозревали, что в стане неприятеля совершаются непонятные перемены. Над поляками разносилось пение собственных труб и гром собственных литавр.
— Гетман! — нетерпеливо приказал царевич, так что горбинка носа его налилась кровью. — Что же вы стоите? Действуйте!
— Слушаюсь, государь! — отвечал бодрым голосом гетман Дворжицкий.
Он тут же принял новое решение. Он взмахом руки указал новое направление для удара. Вперемешку с московитами в том месте стояли татарские войска. Гетман предполагал, что там как раз расположено правое крыло неприятельских войск.
Польские рыцари отпустили поводья застоявшихся коней. Конница ринулась вниз, в глубокую долину. Там накапливались отряды борисовцев. Иного пути к правому крылу главного войска князя Мстиславского не существовало.
— Молодцы! — звонко и призывно крикнул царевич, вздымая к небу лицо. — За мною!
— Вперёд! — подхватил этот крик путивльский воевода Рубец-Мосальский.
В несколько прыжков своего белого коня царевич оказался в первых рядах несущихся рыцарей. Очевидно, он снова хотел повторить всё то, что помогло ему под Новгородом-Северским. Он выхватил из ножен саблю, и его порыв вызвал бешеный крик из тысяч глоток.
— Ура!
— Ура-а-а!
Скакавший рядом с царевичем воевода Рубец Мосальский опередил Андрея. Он каждым своим действием старался доказать свою преданность государю.
Натиск получился таким устрашающим, что борисовцы в долине тут же расстроили свои ряды и побежали. Казалось, должно повториться то, что совершилось под Новгородом-Северским.
— Ура!
— Ура!
Человеческие крики уже заглушали пение труб.
Крики, которые вырывались из глотки Андрея, вплетались в общий человеческий крик. Андрей не чувствовал неприязни к Рубцу-Мосальскому, который опередил его в такой ответственный момент. Он верил ему. Казалось, вот там, на вершине холма, может всё и закончиться. Там будет окончательная победа, после которой проляжет дорога к Москве.
— Ура!
— Ура!
Но тут начало совершаться что-то непонятное. Такое то ли было задумано кем-то в лагере борисовцев, то ли получалось само по себе. Обезумевшие люди, роняя на снег оружие, понеслись не куда глаза глядят, как бывает в минуты смертельной опасности, не бросились взбираться по склону холма, где стали бы лёгкой добычей конницы, сабли которой вмиг окрасили снег горячей красной кровью, — но масса убегавших ринулась в стороны — налево, направо. На снегу остались распластанные тела тех, кому не суждено было убежать. Получилось так, что конники во главе с царевичем уже не могли свернуть с выбранного направления. Они уже подминали конскими копытами склон холма, приближались к его вершине. Какой-то ловкий всадник со знаменем вырвался вперёд. И вдруг наступавшие увидели над собою ряды аркебузиров, а в промежутках между ними — стволы грозно наклонённых книзу многочисленных пушек.
— Ура-а!
— Ура!
Крики ещё стояли в воздухе, ещё где-то подхватывались, но уже не усиливались, а увядали.
— Ура...
Кто-то из ротмистров, но, скорее, из московских сотников, истошно закричал:
— Назад! Назад!
Однако крики эти оказались уже запоздалыми и бесполезными.
— Назад! Назад! — повторилось ещё.
Вершины возвышенностей окутались густым дымом. Там раздались раскаты грома.
— А-а-а! — ответили наступавшие взрывом боли и гнева.
Андрей увидел, как скакавший впереди царевич перелетел через голову белого коня. Конь, свалившись, бился в предсмертных судорогах.
— А-а-а! — подпирали новые крики.
Первым побуждением Андрея было броситься на выручку, предоставить царевичу своего коня. Но тут новый раскат грома с горы опрокинул самого Андрея.
— А-а-а-а! — неслось и неслось над ним, уже не зовущее вперёд, но спокойное, баюкающее.
На Андрея свалилась ночь.
Андрей лежал на длинной деревянной скамейке, под кудрявыми зелёными вишнями. В листьях гудели майские жуки. Было тепло, тихо. Он никак не мог поверить, что освободился от бесконечных повседневных забот, которые томили особенно в последнее время. Он находился в отцовском заброшенном имении, и старый слуга Хома уже тащил ему из светлицы охапку ветхих книг с запахом сырости и ещё чего-то давно призабытого.
«Вот, пан, — сказал старик, обнажив беззубые красные десны. — Всё как есть. Всё сохранилось. Что ваш отец приказал хранить. Как память о Москве...
Даст Бог, когда-нибудь там побываете... Может, и меня прихватите? Как без меня...»
Андрей взял в руки верхнюю книгу. Она была тяжела и огромна. Раскрывать её не стал. Он наслаждался ничегонеделаньем. Ему казалось, что скамейка под ним куда-то плывёт, медленно и спокойно. Так бывает с дощечкой, щепкой, попавшей на воду сонной обмелевшей реки...
— Андрей! Андрей! — сказали вдруг голосом Петра Коринца.
Андрей открыл глаза. Вокруг была ночь. Над ним висели звёзды. Где-то колыхалось зарево пожара. Где-то выли псы и слышались приглушённые человеческие крики.
Он лежал, оказывается, под ночным зимним небом. Над ним действительно склонялся Петро Коринец.
— Ты жив, Андрей?
Петров голос в ночи звучал необычно глухо, словно Петро находился где-то на расстоянии. Это показалось невероятным. Андрей вначале подумал, что он спит, но вдруг уловил радость в голосе Петра. Так не снятся. Да радость побратима тут же исчезла.
— Можешь идти? — озабоченно спросил всё так же тихо Петро.
Андрей не мог поверить, что вопрос относится к нему. Может ли он ходить? Может ли птица летать?
Вместо ответа Андрей рывком поднялся на ноги. Он упал бы, не поддержи его Петро.
Андрею припомнилось всё, что было накануне. Он вдруг понял, что могло произойти потом.
Он не чувствовал на теле никакой раны, но в голове гудело, тело ныло от боли. Стало быть, его могло свалить на землю пушечное ядро. Голова болела сильнее всего. Боль усиливалась и отступала при каждом напряжении тела, почти при каждом шаге. К тому же они с Петром всё время натыкались в темноте на какие-то препятствия и падали. Через некоторое время, когда глаза привыкли к темноте, Андрей понял, что под ногами у них лежат на снегу человеческие трупы.
«Наши полегли, — с горечью думал Андрей. — Что произошло? Где царевич?»
У него не было сил для расспросов, да не было и смелости. Было бы страшно услышать, что царевич в плену, что он погиб. И совершенно по-иному воспринимались вчерашние слова государя, сказанные им после обедни: «Всё зависит от Бога, Андрей! У него уже всё решено!» Царевич перекрестился при этих словах и печально улыбнулся. Впрочем, печали хватило ему ненадолго.
У Петра, наверное, не было сил и не было желания рассказывать. Петро часто останавливался, оглядывался. Очевидно, увиденное и услышанное заставляло его быть всё время настороже.
Андрей ничего не слышал, кроме постоянного гула в голове, сквозь который с трудом пробивались отдалённые резкие звуки, и ничего не видел, потому что не в состоянии был оглянуться. Он только старался не выпускать из пальцев край Петрова жупана. Боялся остаться без поддержки. Он был сейчас таким беспомощным!
Они спустились куда-то в долину. Там было темно, как в конском ухе. Зато ноги не встречали уже никаких препятствий. Вскоре Петро усадил побратима на пень, едва проступавший серым цветом на фоне сплошного сивого снега.
— Рассказывай! — попросил наконец Андрей.
Петро стоял над ним, тяжело дыша.
— Что говорить, — сказал глухо после длительного промедления. — Побили нас! Люди погибли... И Глухарёв наш... И отец Мисаил...
Андрею хотелось спросить о многом. Да вопрос вырвался пока о самом главном:
— Где царевич? Жив?
Петро снова долго молчал.
— Думаю, жив, — сказал наконец. — Здесь вот убили под ним коня. Так воевода Рубец дал ему своего... Но и этого коня убили... Ну, коня снова нашли... Спасли... А где он сейчас — того не знаю!
— Да как ты мог его оставить? — в сердцах упрекнул Андрей. — Что стряслось?
— Крепко, говорю, нас побили. Устроили ловушку. Правда, не в ловушке дело. Здесь они нас так просто не одолели бы. Немногие наши погибли здесь от их удара... Однако этого удара испугались запорожцы. Они нас предали!
— Как? — даже привстал Андрей. — Ворона... Запорожцы стояли в стороне?
— Про Ворону правду говоришь, — согласился Коринец. — Ворона... Тут всё заволокло дымом. А Ворона скомандовал: «Спасайся, хлопцы, пока живы!» Они и рванули... Ворону Шуйский подкупил, знаю. Шуйский устроил нам эту беду...
— О, ты что-то такое говорил, — вспомнил Андрей. — Шуйский...
— Не напрасно говорил. Да опоздал я тогда расправиться с Вороной.
— Что ты учинил? — насторожился Андрей.
— Я его только что убил, — очень просто сказал Петро. — Когда за нами гнались московиты, и рубили нас, и кололи пиками, и топтали копытами, царевич приказал мне вернуть запорожцев. Я догнал Ворону верстах в десяти отсюда. Он не хотел и слушать меня... Ну, я поступил с ним как с предателем. Меня никто не остановил... Пусть теперь запорожцы просят прощения у царевича... Но когда я возвратился — здесь уже всё было кончено... Я только запомнил, что ты упал где-то здесь...
Измождённые, они свалились на подвернувшуюся кучу хвороста. Знали, что спать нельзя, а двигаться не могли. Кажется, только прилегли, а уже были разбужены толчками и криками:
— Ещё вояки! Ха-ха-ха!
14
В зимнем военном лагере, под ледяными стенами Новгорода-Северского, пану Мнишеку очень часто приходилось сомневаться, увидит ли он ещё когда-нибудь желанный Краков.
Но получилось именно так.
Он вступил под свинцовую кровлю своего старого дома, из окон которого виден заснеженный каменный Вавель с королевским замком, а за ним — изгиб уснувшей подо льдами Вислы.
— Пан Ержи! — всхлипнул седой маршалок Мацей. — Пан Ержи! Как хорошо... А я думал... Езус-Мария...
Что думалось верному Мацею — так и осталось загадкою. Руку господина оросили его частые слёзы.
А над Вавелем сияло солнце. Над кудрявыми вековыми деревьями, окружавшими замок, вздымались вороны. Их пугали звуки соборного колокола, получившего название «сигизмунд» — в честь уже давно почившего короля Сигизмунда-Августа.
Под Новгородом-Северским пану Мнишеку порою казалось, что его непременно поглотят бесконечные русские просторы. Он уже втайне проклинал тот миг, когда решился отправиться в поход. Когда согласился принять в руки сверкающую камнями гетманскую булаву. Когда взял на себя такую страшную ответственность и такие тягостные обязанности. Он уже спрашивал себя, зачем соблазнился званием тестя московского царя. Чтобы вознестись на недоступную для прочих высоту? Утереть нос Замойскому и Сапеге? Превзойти разных там князей Острожских и прочих, прочих? Удивлялся, как мог поверить досужим заверениям и россказням, будто бы московиты только и ждут прихода к себе царевича Димитрия. Слов нет, многие ждут. В Севере — так весь простой народ. Но многие благородные люди на Руси связаны присягою царю Борису Годунову. А для русских присяга, освящённая целованием креста, значит неимоверно много, если не всё в жизни. И это стало понятным окончательно, но слишком поздно. Уже за Днепром.
Уйдя из-под Новгорода-Северского, едва переправившись по льду через Днепр, пан Мнишек тут же отделился от польских рыцарей, покинувших царевича. Негодуя, они уже начали сомневаться: да правильно ли поступили? Со своей немногочисленной свитой пан Мнишек направился в Брагин — так советовал Стахур. Князя Адама там не застали. Он торопился уже в Краков на сейм.
— На сейме и вам придётся держать речь! — напомнил Стахур.
— Да, — впервые подумал об этом пан Мнишек. — Придётся — И приказал Стахуру готовить выступление.
А в Самборе — дочери ни на шаг не отходили от отца. Особенно Ефросиния.
— Татусю! Татусю! — щебетала девчонка, всплёскивая руками. — Вы теперь как Помпей! Как Цезарь! Я уже читаю по-латыни.
За полгода разлуки Ефросиния вытянулась. Превратилась почти в невесту. На неё уже засматриваются молодые рыцари. Она сделалась похожей на сестру Марину. Но её отличает откровенность и живость характера. А задумчивость Марины за это время только усилилась. Конечно, невесту можно понять. Невесту, чей жених находится в опасности.
В Самборе пан Мнишек отдохнул отлично. Наговорился, окреп, посвежел. Вскоре он снова стал самим собою. К нему возвратилась былая самоуверенность. Первоначально у него возникало порою намерение охладить пылкие надежды Марины в скором времени стать царицею на Москве. Он многозначительно отмалчивался, когда девушка расспрашивала о женихе, отсылал её к его письмам. Дескать, там сказано обо всём. Но через несколько дней пребывания в Самборе творившееся под Новгородом-Северским показалось ему не таким неопределённым, мрачным, опасным, ненадёжным, как думалось. А собственное неожиданное гетманство начало представляться даже весьма удачным! Да что удачным — показалось талантливым командованием. Потому что именно под руководством гетмана царственному юноше удалось отбросить от осаждённой крепости огромное московское войско, надвинувшееся грозовою тучей. Войско, с которым не совладал сам Стефан Баторий, имевший в своём распоряжении польскую конницу и венгерскую пехоту! Жаль, что этого не сможет никогда уже описать Климура. Рассказывая о боевых действиях в холодной лесной Севере, пан Мнишек выражал горькие сожаления: он вынужден был подчиниться зову короля! Потому что превыше всего ставит рыцарскую честь.
— Да это ничего, — завершал многозначительно. — Огражу короля от недоброжелателей на сейме — и снова туда. Там продержатся. Должны. Полковник Дворжицкий обещал. Опытный тоже воин. А я обязан помочь царевичу добиться отцовского престола!
При этом обменивался взглядами со Стахуром — тот кивал лысою головою. Всё будет сделано.
— Ой, татусю! — всё так же увивалась вокруг отца Ефросиния. — Вы теперь всё сможете!
Пан Мнишек научился уже так красочно описывать поход, что его слушали как заворожённые не только родные, но и гости.
А Стахуру оставалось делать записи.
На глазах отца оживала Марина. Она продолжала получать письма от московского жениха. Она носила их при себе постоянно. Но как он узнал, она перестала на них отвечать. Почему? От отцовских же рассказов у девушки разгорались глаза. У неё выработалась величественная походка. Как у королевы.
С уважением слушал пана Мнишека, уже в Кракове, его двоюродный брат Бернард Мацеевский. Внимательно слушал и краковский воевода Николай Зебжидовский. Зебжидовский при этом пользовался любой возможностью показать своё неуважение к королю.
Да, пан Мнишек явно превращался в героя. И он уже в самом деле готов был возвратиться в Северу. Он забывал о своих болезнях, на которые ссылался, прощаясь с царевичем, на которые жаловался в первые дни своего пребывания в Самборе. Забывал о своих опасениях и страхах перед московитским пленом. Его ведь не сочли бы даже военнопленным. У короля Сигизмунда с царём Борисом — мир. Его могли бы казнить, как последнего конокрада.
Впрочем, что говорить. Он уехал бы в Северу, если бы не предстоящий сейм.
— Вы ещё повоюете, пан Ержи! — говорил Стахур.
— Да! Обязательно! — соглашался пан Мнишек.
Признаки предстоящего открытия сейма бросались в глаза уже на огромном расстоянии от Кракова. Шляхи и дороги были запружены каретами, колясками, возками, санями, халабудами. Погода стояла переменчивая. Уже пахло весною. Тепло ещё только ожидалось — заканчивался январь. Правда, днём уже припекало солнце. Везде блестела вода. Однако ночью землю сковывал мороз. Экипажи некоторых панов были поставлены на полозья, и кучерам их приходилось следить, чтобы попасть на участок шляха, где солнце не успело слизать снежные покровы. А кто уже двигался на колёсах — у тех кучера старались продвигаться вперёд в утренние часы, пока дорога не раскисла. Но все, кажется, двигались только в одну сторону — в сторону Кракова. И трудно было вообразить, каким образом такое количество народа найдёт для себя пристанище в одном городе, пусть и таком огромном.
Конечно, Краков был переполнен людом. Только это ни у кого не вызывало нареканий. А воспринималось как приятная сутолока. Словно на каком-нибудь церковном празднике. Впрочем, заседания сейма и были постоянно повторяющимся государственным праздником. Там, помимо сенаторов, выступают многочисленные депутаты из самых отдалённых уголков государства. На местных сеймах, сеймиках, избирают их подряд совершенно случайно. Выборы проходят при страшной пьянке, после схваток на саблях. Для многих участников выборов всё это завершается печальным исходом — смертью или увечьем. Так уж повелось. Зато каждый уцелевший депутат уверен: он умнее и достойнее прочих людей. И на сейме каждый старается доказать это своими смелыми речами, в которых больше всего достаётся королю.
Пан Мнишек, имея богатый опыт участия в сеймовых заседаниях, никогда ещё так не волновался. Многие будут нападать на короля, пусть и негласно, но поддержавшего московского царевича! Даже те из депутатов и сенаторов, которые стояли за поход, будут хранить загадочное молчание. И поэтому пан Мнишек очень сожалел, что царевичу не удалось ещё добраться до Москвы, не удалось убедить Бориса Годунова добровольно оставить престол. Царевич неоднократно посылал письма в Москву. Сочинял их Андрей Валигура. Царевич обещал Борису Годунову прощение. И он сдержал бы слово. Однако ответа от Годунова не приходило. Очевидно, писем он не читает. Возможно, и не видел.
Пан Мнишек с трудом дождался аудиенции у короля.
Если Краков был переполнен пришлым людом, то что говорить о Вавеле? Там было как на ярмарке.
Под звон «сигизмунда», который пронизывал, казалось, самые толстые стены, пана Мнишека долго вели по переходам, пока наконец не очутился он в кабинете и не увидел перед собою долговязую королевскую фигуру — в камзоле из золотой парчи, в белых чулках на тонких ногах и в голубых коротких штанах. На шее у него колыхалось белое жабо — так называют эту штуку, воротник, по-французски.
Мысли короля, без сомнения, были направлены на одно: он думал о предстоящем сейме.
— Очень хорошо, пан Ержи! — быстро произнёс король, едва позволив пану Мнишеку поцеловать руку. — Вы отлично понимаете государственные интересы! Я догадываюсь, как нелегко было оставить войско, которое вы привели к победе!
— Ваше величество! — вроде бы даже с лёгким укором отвечал пан Мнишек. — Старый конь борозды не испортит! Как обещано... Я всегда оставался и буду до конца жизни оставаться преданным слугою... потому по первому зову... — И осторожно опустил королевскую руку. Она показалась ему чересчур холодной и не по-польски вялой.
— Похвально! Похвально! — повторил король, встряхивая пышным воротником. И деланно засмеялся.
Деланно, потому что было ему не до смеха. Королевское лицо выглядело усталым. Под глазами висели мешки — они старили короля. Старила и преждевременная седина в длинных усах.
«Мартовский кот, — без осуждения, но скорее даже с завистью подумал пан Мнишек. — Спешит взять своё. Он мечтает о новой жене. Хотя всей Польше известны слова старого Замойского: у польского короля, дескать, должна быть одна невеста: Речь Посполита!»
В этом королевском кабинете пан Мнишек бывал очень редко. Однако ему помнилась здесь каждая деталь, каждая вещь. И ему сейчас было достаточно обвести кабинет быстрым взглядом, чтобы удостовериться: всё здесь выглядит по-прежнему.
Пан Мнишек облегчённо вздохнул. Королевской власти ничто не угрожает. Хотя тут же усомнился: королевский кабинет ещё не всё государство, раскинувшееся от моря до моря!
Папский нунций Рангони, улыбаясь и держа на животе белые тонкие руки, стоял в стороне. На фиолетовой сутане играл солнечный лучик. Он пробивался сквозь усыпанные морозной пылью стёкла. Лучик напоминал о том, что время клонится к весне. Что где-то там, за рубежами, за широким Днепром, сейчас совершаются события, от которых может зависеть многое.
Мнишек поцеловал руку нунция и вопросительно уставился взглядом на короля.
Тот указал на кресло.
Очевидно, королю хотелось поскорее узнать сейчас только одно: что скажет сенатор Мнишек на заседании сейма.
Король попросил:
— Пан Ержи! Мне докладывают, что делается там. Потому сообщите лишь то, что скажете на сейме!
Пан Мнишек с приличием улыбнулся. Конечно, он уже готов к выступлению на сейме. Стахур приготовил отличную речь. А теперь есть возможность проверить воздействие речи. Проверить после того, как он потерял Климуру, без сомнения, мастера по этой части, более надёжного, нежели Стахур.
Пан Мнишек попросил разрешения высказаться стоя. Он живо представил себе высокий зал в королевском дворце, в другом крыле, и заговорил.
Он почувствовал себя Цицероном!
Король слушал, не прекращая ходьбы. Правда, когда пан Мнишек добирался до самых удачных мест, над которыми бился Стахур, король сдерживал шаги, а дыхание его учащалось. Это было видно по движению жабо. Так получалось во время рассказов о сражении под Новгородом-Северским. Конечно, сражение было описано как полагается. Стахур, видевший его издали, всё же законно считается его участником. Описание участника много значит. Стахуру мог позавидовать Тит Ливий.
Стахур написал sine ira et studio[35].
И тут, произнося свою речь, пан Мнишек вдруг подумал, будто ему и нечего бояться сейма. После того, что творилось в Севере, — заседание сейма не может его страшить!
Он несколько раз оглядывался на Рангони — лицо папского нунция выражало одобрение и даже восхищение. На нём загоралась надежда, которой пан Мнишек не видел там, когда вошёл в королевский кабинет. Оно и понятно. Задержка царевича под Новгородом-Северским не могла порадовать ни Рангони, ни его патронов в Риме. Там не дождались от царевича ответа на папское послание, отправленное уже в русские пределы.
После окончания речи король молчал.
Этим воспользовался нунций.
— Знаете, пан Мнишек? Я получил от царевича Димитрия письмо. Он жалуется на польских рыцарей, которые оставили его. Впрочем, не их винит, но Замойского, Острожского. Это они возбудили в душах воинов плохие мысли.
Король наконец подошёл к пану Мнишеку. В глазах у него сверкали слёзы.
— Это будет хорошая речь, — сказал король.
Заседание открылось, как всегда, торжественно, хотя, быть может, более торжественно, нежели всегда. Но так казалось при каждом открытии очередного сейма.
В большом зале, на одном конце высокого помоста, устланного алыми коврами, высился сверкающий королевский трон. Над ним вздымался красный балдахин. На другом конце помоста стояли кресла для обоих гетманов, коронного и литовского. Под звуки труб, при всеобщих возбуждённых криках «Виват!» — сначала вошли гетманы, Замойский и Сапега, затем — король.
По обеим сторонам от помоста, через весь зал, в глубину его, тянулись ряды кресел для сенаторов, за ними — скамейки, обитые алым кармазином. На кармазине сидели депутаты — по своим воеводствам.
Среди сенаторов выделялся своей осанкой и сединою князь Острожский. Он сидел совсем недалеко от пана Мнишека, однако смотрел только на короля.
На галерее, которая окружает зал, толпилась публика. Там было много любителей послушать словесные баталии.
На галерее горланили, стучали сапогами и саблями, каблуками, звенели шпорами. Там собралось много пьяных. Вернее сказать, там было мало непьяных. А потому маршалок королевского двора время от времени отдавал распоряжения гусарским ротмистрам — они восстанавливали порядок. На галерее не желали слушать даже вступительную речь короля.
И тут пан Мнишек, сидя в сенаторском кресле и беспокойно поглядывая на депутатов из своего воеводства, которые галдели у него за спиною, начал примечать, что никак не может поймать ни одного приветливого взгляда. На него, можно сказать, вообще никто не глядел. Ему никто не сочувствовал, как и королю. А это уже могло означать, что те слухи, которые доходили до него о возможном рокоше против короля, о причастности к таким замыслам самого Зебжидовского, имеют под собою реальные основания. К тому же он услышал, будто бы в пределы Речи Посполитой прибыл гонец от царя Бориса, что он намерен получить аудиенцию у короля, выступить на сейме.
Говор на галерее и в зале наконец стих, когда слово предоставили канцлеру Яну Замойскому.
Канцлер встал с кресла, высокий и стройный. Он по-молодецки тряхнул седыми волосами. Кто-то в зале крикнул «Браво!». Однако на такое резкое движение канцлер потратил много сил, а потому пошатнулся. По огромному залу прокатился вздох, а на галерее болезненно вскрикнули. Вице-канцлер Пётр Тыльский тут же оказался рядом с Замойским, как бы с готовностью его поддержать.
Замойский жестом отстранил Тыльского и тотчас начал свою речь, о приготовлении которой уже давно говорили по всей Речи Посполитой.
— Ваше королевское величество! — зазвучал высокий крепкий голос.
В этом зале ни для кого не было секретом, что думает Замойский о короле Сигизмунде. Однако то, как начал канцлер речь, озадачило очень многих. Даже на галерее установилась хрупкая тишина, готовая взорваться в любое мгновение, не говоря уже о креслах с сенаторами и о скамейках с депутатами.
Высказав своё мнение о положении Речи Посполитой, очертив основные задачи королевского правительства относительно того, как надо оберегать страну от исламских завоевателей, старый канцлер начал свои инвективы:
— Много чего накопилось у нас такого, ваше королевское величество, за что мы должны укорить вас, как узурпатора дворянских прав и привилегий! Вы забываете, ваше королевское величество, что мы избрали вас для того, чтобы вы вели государство по пути укрепления и расцвета. Вы же перестаёте считаться с дворянством! Против нашей воли вздумали вы покровительствовать человеку, легкомысленно назвавшемуся Димитрием, сыном московского царя Ивана Васильевича Грозного, Вы даже не потребовали серьёзных доказательств. Вся эта история напоминает нам Теренциевы и Плавтовы комедии. А между тем если бы и потребовался наследник московского престола, то есть для того вполне законные наследники — хотя бы владимирские князья, продолжателями рода которых являются нынешние князья Шуйские. А самым видным среди них считается князь Василий Иванович. Но если тот человек, о котором мы говорим, и есть настоящий московский царевич, то и тогда вы не имели права, ваше королевское величество, помогать ему без согласия на то сейма. Вы же, дав на то своё разрешение, тем самым фактически нарушили мир, при заключении которого мы присягали московскому царю Борису. Присягали ему лично вы, но вы олицетворяете наш народ, который поручал вам это сделать. И такого не бывало ещё никогда в нашей истории, чтобы король поступил против воли народа. Но именно так поступили вы, оказывая помощь сомнительному человеку. Тем самым нарушены наши права. В старину за такие поступки наши предки прогоняли тех, кого они избирали королём, и приглашали новых правителей. Помните о том, ваше королевское величество. Я говорю так потому, что знаю русских. Это очень сильное и беспредельное государство, и своими необдуманными действиями вы побуждаете царя Бориса нанести нам ответный удар. Ведь я нисколько не сомневаюсь, что войско царя Бориса раздавит шайки так называемого московского княжича, которого уже оставили почти все наши рыцари, поняв его сомнительное происхождение, и тогда наступит наша очередь рассчитываться за ваши грехи. Конечно, наши шляхтичи — люди свободные. Им позволительно воевать где захотят. Но что скажете вы о том, что их возглавлял сенатор Мнишек, сандомирский воевода, состоящий у вас на службе? Разве сможете на это ответить, когда приедет гонец от царя Бориса — а он уже в наших пределах, — будто вам об этом ничего не известно?
Притихший зал уже проникся доверием к канцлеру Замойскому. Сначала это проявилось на галерее. Там начали покрикивать: «Браво!», «Верно!», «Так его!». Затем эта уверенность распространилась и в самом зале. Даже старик князь Острожский, сидя рядом со своим сыном Янушем, хлопал в жёлтые ладоши и хрипло сказал раза три «Браво!».
Пан Мнишек понял: будут потеряны все возможности что-то доказать в этом зале, если после Замойского выступят ещё два-три его сторонника.
Пан Мнишек старался привлечь к себе внимание вице-канцлера Петра Тыльского, который как бы председательствовал в сейме, пока канцлер Замойский произносил речь, пока король внимал ему с закаменевшим лицом и с крепко вжатыми в подлокотники кресла обеими руками. Пан Мнишек старался внушить Тыльскому на расстоянии, что тот должен предоставить слово ему, Мнишеку, сразу, как только, под гром аплодисментов, усядется в своё кресло Ян Замойский. Расстояние между креслами пана Мнишека и вице-канцлера было довольно приличное, однако Тульский, как ни странно, почувствовал чужую тревогу.
— Вот что хотелось мне сказать, ваше королевское величество!
Замойский, закончив речь под крики и рукоплескания, удалился на место, уселся в сверкающее золотом кресло. Он шёл пошатываясь, и теперь ему пришлось-таки воспользоваться помощью молодого пана Тыльского.
Гром оваций долго не смолкал, особенно на галерее, так что многие в зале с удивлением заметили в центре помоста нового оратора. Они не слышали объявления Тыльского. Они были поражены. Они ждали там скорее старика князя Острожского, канцлера Сапегу, виленского епископа Войну, краковского воеводу Зебжидовского, краковского епископа Мацеевского, ещё кого-нибудь, но только не пана Мнишека, воеводу сандомирского, но главное — самоиспечённого гетмана в войсках царевича Димитрия.
Пан Мнишек быстро встал и поспешно произнёс свою речь.
— Ваше королевское величество, — сказал он твёрдым голосом, а дальше голос его не слушался.
Удивительно, но даже те места, на которые он так надеялся в кабинете у короля, сейчас не показались ему такими замечательными. Они, во всяком случае, не вызывали никакого восторга в публике, а если что и вызывали, так только внимание, да и то нестойкое. Потому что публика уже на всё имела своё мнение.
Едва пан Мнишек закончил речь, как на галерее закричали, застучали сапогами, саблями и бутылками, — шум получился очень тягостный для оратора. Добравшись до своего места, пан Мнишек должен был сделать запоздалое заключение: он ошибся, решив выступить непосредственно после Замойского. Конечно, мастерство Стахура не может идти в сравнение с мастерством канцлера Замойского, падуанского студента.
Заседания сейма проходили уже третью неделю.
Пану Мнишеку пришлось выслушать много выступлений. Все они так или иначе вертелись вокруг царевича Димитрия и короля, да ещё вокруг него, пана Мнишека. И всё шло так, как он и предполагал. В поддержку царевича и его, пана Мнишека, не выступил никто, даже брат Бернард Мацеевский, даже Зебжидовский.
В поддержку Замойского выступили старый князь Константин Острожский и его сын Януш, ещё — Виленский епископ Война, канцлер Лев Сапега, депутаты из различных воеводств.
Правда, многие сенаторы и депутаты старались отыскать в этом что-нибудь такое, что можно было бы истолковать в пользу короля. Так, например, они радовались тому, что царевич увлёк за собою людей, ненужных государству, различного рода банитов[36], которые вызывали в родной земле только смуты, рокоши, а то и просто разбойничали.
Другие сенаторы и депутаты шли ещё дальше. Они высказывали опасения, как бы ушедшие не ускользнули от справедливого и сурового наказания со стороны царя Бориса и не возвратились назад. Своими действиями они разбудят своевольных людей.
Некоторые сожалели, что царевича не отправили в Рим, не назначили ему там содержание, — пусть бы спокойно жил и не тревожил ни Московию, ни Польшу.
Как ни старался пан Мнишек, выступая ещё раз на сейме, отвести вину от себя, от короля, как ни старался убедить слушателей в том, что царевич Димитрий — настоящий сын Ивана Грозного, что долг каждого человека состоит в том, чтобы ему помочь, однако ничего подобного добиться ему не удалось. В свой адрес пан Мнишек выслушал столько обвинений, столько оскорблений, как явных, открытых, так и хитро замаскированных, что он уже перестал прикидывать, кто отныне станет его врагом. А речь старого князя Острожского, которую он вначале счёл верхом обвинений, теперь казалась ему самой изысканной и самой безобидной, как и речь Яна Замойского.
Никто не находил никаких оправданий для сандомирского воеводы.
Правда, надо сказать, что многие сенаторы и депутаты не выступали ни за, ни против царевича. Однако все стремились доказать, что они лично — за мир с Москвою.
Наконец на сейм был приглашён посланник московского царя, по имени Постник-Огарёв. Перед всеми собравшимися он высказал претензии своего повелителя и заявил требования царя Бориса выдать ему самозванца Гришку Отрепьева, беглого монаха, назвавшегося царевичем.
После долгих — уже внесеймовых — совещаний самых, влиятельных в государстве людей, на которых пан Мнишек не присутствовал, посланнику было объявлено следующее: что уж теперь толковать о том загадочном юнце? Он сейчас в пределах Московского государства. Царь Борис легко его там пленит и накажет, как сочтёт нужным. А король польский сомнительного человека не поддерживал и даже запретил своим подданным его поддерживать. Вот — универсалы. На них можно посмотреть и даже их почитать.
Московского посланника в Кракове не задерживали.
Пан Мнишек как-то поспешно оставил свой краковский дом. Он пребывал в нерешительности. Он не знал, что скажет в Самборе. Как посмотрит в глаза дочерям, особенно Марине.
Однако он знал, что в Московию, в Северу, торопиться пока не стоит. Он рассуждал, не лучше ли прикинуться серьёзно больным. Он уже чувствовал в себе какие-то для этого причины, какие-то боли в руках и в ногах, в пояснице, какой-то гул в голове. Останавливая в пути карету, он выходил, делал несколько шагов по освободившейся от снега земле, чтобы убедиться: боли действительно не проходят.
Он решил дождаться в Самборе определённых вестей от будущего зятя, чтобы принять правильное решение. Решил сдерживать себя. Он надеялся, что там, в Севере, уже что-нибудь да прояснилось.
Стахур, сидевший рядом в карете, всё понимал, а говорил о том, что вот, дескать, пора сеять уже, что весна в этом году будет хорошей и тёплой.
15
Остаток ночи Андрей Валигура и Петро Коринец провели в каком-то сарае из огромных брёвен, переполненном простыми мужиками.
По разговорам своих новых соседей они вскоре узнали, что мужики эти совсем недавно примкнули было к войску царевича. Мужики так и не поняли, как и почему они вдруг превратились в пленных. Они стояли с дубинами да с кольями в руках, некоторые с вилами да с топорами, даже с рогатинами, и ждали приказов. Им хотелось поскорее дорваться до неприятельского обоза, чтобы немного там подкрепиться и разжиться кое-каким добром. Их прикрывал высокий холм, так что им нельзя было видеть и знать, что творится вокруг. Они надеялись на своего атамана, который после пьяной ночи едва удерживался в седле на пегом приземистом коне. Они терпеливо топтались на указанном им месте даже после вспыхнувшей страшной стрельбы, когда их окутало чёрным дымом, так что не видно стало не только атамана на коне, не различить было соседа с дубиной. И неожиданно их окружили конники. Атамана без труда свалили с коня ударом пики. Их же били чем попало и топтали конскими копытами. А кто уцелел после всего, тех согнали в этот сарай.
— Грехи наши! Грехи наши! — только и слышалось. — Разве на царя можно?
— Да нешто это царь? — возражали другие.
— Царевич... — начинали третьи.
Находились и такие, кто желал бы примирить Бориса Годунова с царевичем Димитрием.
В сарае было тепло и даже жарко от дыхания множества людей. Их уже набралось столько, что они могли сидеть лишь поджав ноги. Многие так и делали, опустившись в бессилии куда-то вниз и положив голову на плечо соседа или уткнувшись лбом в чужую спину. Сон, конечно, был у всех рваный, простое забытье. Время от времени многие дёргались, а то и пытались вскочить на ноги, молотили соседей кулаками. Так продолжался проигранный бой.
— Грехи наши! Грехи наши! — раздавалось снова и снова.
Стены сарая, видать, были плотно проконопачены, что твои хоромы. Если согнанные пленники не погибали от удушья, то спасала их огромная дыра в соломенной стрехе, проделанная там то ли уже самими пленниками, то ли предусмотрительною стражей. Ещё время от времени в сарае широко распахивалась дверь, чтобы принять очередных несчастных воинов, которых стража не без усилий, со страшными ругательствами, впихивала внутрь. Но воздуха хватало лишь для глоток людей у самого входа.
Ни Андрей, ни Петро уже не думали о сне.
Правда, Андрей не чувствовал в теле почти никакой боли. Её вроде бы прогнали скупые известия, услышанные в сарае. Пленники в один голос твердили, что борисовцам удалось одолеть войско царевича Димитрия, что димитровцев погибло без счёта — телами устлан снег на протяжении нескольких вёрст.
— А где царевич? — в который раз выспрашивал Петро.
Вразумительного ответа получить было невозможно.
Особенно усердствовал хриплый голос, над головою, в темноте.
— Да взяли, голубчика! — кричал этот голос. — Видел я, как его окружили немцы Борисовы! Всё... Теперь ему нет жизни... Немцы в кольчугах все и в шлемах... Не подступи!
Хриплому возразили сразу несколько голосов таких же невидимых в темноте людей:
— Врёшь, гнусавый!
— Заткни пасть, сволочь!
— Царевич ускакал на белом коне!
— Жив он! Не допустит Бог православный, чтобы русского царевича скрутили поганые немцы!
Голос наверху взвизгнул:
— Я вру? Ты мне это сказал, гнида борисовская?
— Тебе, подлец!
В темноте вспыхнула драка. Но вялая. Злости хватало, да негде было развернуться. И силы были потрачены уже непонятно на что.
— Потом поговорим! — шипели. — Потом! Кровью умоешься! Кишки вырву!
— Поговорим! — хрипело в ответ. — Кто поговорит, а кому и не дадено больше рта раскрыть!
И так продолжалось весь остаток ночи.
Слабое утешение Андрей и Петро находили себе в том, что у них всё-таки оставалась надежда: царевич жив! Они не могли поверить, чтобы он — попал в плен! Не могли представить его в бедственном положении, в каковом оказались сами. Царевич, конечно же, ускакал, как говорит большинство мужиков. И помочь мог, без сомнения, отчаянный, как и он, путивльский воевода Рубец-Мосальский. С царевичем ушли остатки его войска.
Вскоре в сарае, где-то на другом конце его, отыскались свидетели, видевшие своими глазами, как царевичу удалось проделать предполагаемое Андреем и Петром.
— Сейчас он в Рыльске! — горланили из темноты. — При нём много донских казаков!
— Атаман Корела охраняет! — поддержали.
— Ещё Заруцкий! Отчаянная голова!
Слово «Корела» произносили с благоговением.
Корелу считали характерником — колдуном. Такого никому не одолеть.
— Донцы — это тебе не запорожцы! — ещё слышалось. — Те его предали, собаки!
— Не все запорожцы такие! Многие остались!
Андрею с Петром было горько слышать подобные слова о запорожцах, зато надежды их укреплялись с каждым услышанным словом. Дай, Господи, дождаться утра. А там что-нибудь откроется. Какие-никакие возможности.
Но под утро, когда дыра в соломенной стрехе уже начала выделяться из темноты в виде огромного серого пятна, испускающего к тому же холод, когда народ в сарае на время притих, за дверью раздался топот множества копыт. Затем дверь распахнулась и несколько голосов с руганью потребовали:
— Выходите!
— Выпархивайте!
— Вылетайте, сволочи!
Андрей с Петром выбрались сразу, как только получили для того возможность. Однако стоило вырваться из темноты — и тут же над ними раздался новый крик:
— Вот они! Хватайте!
К ним метнулось несколько горящих факелов.
— Эти! Эти!
— Они!
Их схватили. Повалив в снег, начали сдирать с них боевые доспехи. Побратимы думали: ночью, в темноте, враги не приметили доспехов. Но ошиблись.
— Тише! Тише! — вроде бы успокаивал Андрея один из грабителей, чернобородый великан. — Тебе же лучше. Никто не узнает, что ты польский пан... Глядишь, и в Москву не погонят на позор! Мы ведь могли тебя сразу отвести куда следует! Князь Шуйский таких собирает!
— Да я русский! — задыхался от цепких рук Андрей. — Как вы смеете грабить военнопленных?
В ответ хохотали:
— Не придуривай! Вы государственные преступники! Воры!.. Вам кол грозит!
Сорвав доспехи, раздев пленников почти догола, налётчики смилостивились и бросили им добротные мужицкие одежды: порты, зипуны, лапти.
— Вот! — сказал на прощание всё тот же чернобородый утешитель. — Теперь вам нечего опасаться! Плетей дадут, и всё! Жить будете!
И они с хохотом ускакали.
Что же, нет худа без добра.
Значение мудрой сентенции Андрей понял в Добрыничах, на площади перед низенькой деревянной церковью с высокой звонницей, которую он накануне рассматривал издали вместе с царевичем Димитрием. На площадь сгоняли пленных. Рядом с церковью в виде страшного частокола стояли чёрные виселицы. Ветер раскачивал множество трупов под неустанный звон колокола и под страшный крик воронья, которое не в силах было сдержать в себе своих вожделений.
Перед церковью высился свежесколоченный деревянный помост. На него забрались военачальники царя Бориса — в сверкающих шлемах и в тяжёлых кованых кольчугах, которые временами проглядывали из-под расстёгнутых медвежьих шуб, словно сражение продолжалось ещё.
Плотными рядами окружали площадь войска иноземного строя. На высоких красивых конях сидели строгие начальники. Время от времени слышались приказы на немецком языке, и воины, закованные в железо, исполняли всё с привычной для них лёгкостью и точностью. Их вдохновляла барабанная дробь и радовали резкие звуки труб. На творящееся вокруг они глядели спокойно и равнодушно, будто страдали здесь и мучились вовсе не люди, но животные, звери, низменные существа.
А на площади продолжались казни.
Из деревень, которые виднелись вдали на пригорках, в которых дотлевали в дымах последние хаты, в Добрыничи сгоняли всех обнаруженных жителей — кого на казнь за поддержку царевича Димитрия, а кого для устрашения муками преступников. Над площадью носились бабьи визги, вопли, детские крики и плач. И всё это только усиливалось, потому что народ прибывал и прибывал. Более всех старались верные царю Борису казаки, а также узкоглазые скуластые татары с едва приметными носами. Эти горланили громче всех.
Толпа мужиков, в которой находились Андрей и Петро, уже не в первый раз была пригнана на площадь и поставлена сегодня неподалёку от помоста, — собственно, между ним и чужеземными вояками. Андрей торчал с краю. Он слышал разговоры мужиков, что вот, дескать, сейчас снова начнут хватать каждого пятого для порки на длинных дубовых скамьях, а каждого двадцатого выведут для того, чтобы повесить рядом. Потому что пленных ляхов и московитов, захваченных с оружием в руках, уже всех перевешали, кроме тех, которых повезли в Москву, чтобы там выставить на позор. Разговоры, впрочем, день ото дня становились всё равнодушнее. Пленники покорялись Божией воле. Чему быть — тому не миновать.
Андрей впервые оказался так близко от чужеземных воинов. Всего в нескольких шагах от него торчал верховой начальник, и стоило Андрею случайно взглянуть на лицо этого начальника, как сразу же это лицо показалось ему удивительно знакомым! Он чуть не закричал вслух. Впрочем, он и прежде уже не раз слышал этот голос, здесь же, на площади, и голос казался знакомым, но не более того.
Однако сейчас...
Чужеземец равнодушно, хотя и с участливым выражением лица посмотрел на Андрея и отвёл свой взгляд в сторону деревянного помоста. Туда как раз приблизился десяток всадников на великолепных конях.
— Шуйский!
— Шуйский!
Эти слова прошелестели в толпе как предзнаменование чего-то ужасного. Уже всем было ведомо, что в присутствии князя Василия Ивановича Шуйского казни совершаются куда в больших размерах. Очень часто он сам определяет, сколько людей из какой толпы следует вывести для порки, а сколько — для казни.
Андрею почему-то вдруг подумалось, что сегодня ему не миновать страшной участи. Ему стало жарко.
Нет, он не боялся смерти. От судьбы не уйти. Однако ему хотелось помочь царевичу, который находился сейчас в Путивле, не в Рыльске, как предполагалось раньше, — о том уже знал наверняка. И Андрей вдруг громко произнёс по-латыни:
— Flet victus![37]
Человек на коне встрепенулся и посмотрел на него вопросительно. По-видимому, он подумал, что это просто послышалось. Не мог же говорить по-латыни пленник, одетый в крестьянскую одежду, обутый в лыковые лапти?
Андрей продолжил по-немецки:
— Nicht wahr, Herr Hauptmann?[38]
Всадник дёрнул поводья и нахмурил брови. Он долго и внимательно рассматривал пленника. И вдруг улыбнулся. Он узнал Андрея и произнёс всего одно лишь слово, да и то не вполне определённо — то ли вопросительно, то ли утвердительно:
— Podolien...[39] — и отвернулся. Вроде бы для того, чтобы подать необходимую команду.
— О чём ты с ним говорил? — спросил Андрея Петро, с удивлением наблюдавший за всем этим. — Кто такой?
— Капитан Яков Маржерет, — отвечал побратиму Андрей. — Я о нём рассказывал.
Приезд князя Василия Ивановича Шуйского возымел своё действие тут же. Площадь мгновенно взъярилась. Ударил большой войсковой барабан. Заметались всадники. Ещё громче закричали бабы. Зашумело воронье. Откуда-то повалил клубами чёрный дым.
— Господи, помилуй нас! — повисли над площадью молитвы.
А через непродолжительное время Андрей поверил: вот оно, то, чего он так опасался. Перед толпою мужиков, в которой он стоял, ходили рослые немецкие вояки и крепкими волосатыми руками выдёргивали из неё людей, руководствуясь собственными соображениями: то ли каждого десятого, то ли каждого двадцатого. Выхваченные в большинстве своём не сопротивлялись, не упирались, не пытались спрятаться, увильнуть от судьбы, от виселицы. Они присоединялись к таким же обречённым, среди которых многие молились, а некоторые, не в силах справиться с непроизвольным подёргиванием плеч, спины, опускали головы. Некоторые тщетно старались о чём-то рас сказать своим новым товарищам по последнему несчастью. Их уже никто не слушал.
— Господи! Помилуй нас! Господи! Помилуй нас!
Рыжий немец неожиданно быстро приблизился к Андрею, и Андрей тут же понял, что немец ещё издали бросал взгляды именно на него, что в голове у немца уже созрело решение, кого следует выдернуть из толпы. Андрей, помимо своей воли, втягивал голову в плечи, стараясь сделаться меньше ростом. В конце концов он так и не понял, как это произошло, да только немец уже тащил его за рукав.
— Коmm, komm![40] — повторял немец осипшим от мороза и напряжения голосом, вдруг почувствовав каменную неподвижность жертвы.
— Брат! — прошептал бессильно Петро Коринец. — Брат! Как же это... Что делать? Прощай...
Андрею стало стыдно от своей явной трусости. Боясь обнаружить её перед Петром, он сдавил побратиму руку и сделал решительный шаг вперёд.
— Прощай, брат!
Но в то же мгновение откуда-то с высоты на них свалился резкий гортанный голос:
— Nicht diesen! Weiter![41]
Сказано было по-немецки. Голос принадлежал капитану Якову Маржерету.
Андрею стало совсем невозможно дышать. Стыд одолел его окончательно. Вместо него пошёл на виселицу кто-то иной... Какой-то несчастный... Однако Андрей твёрдо понял, что спасён. Что спасение на этот раз даровано и Петру.
Уже в каком-то тумане следил Андрей за тем, что творится на площади. Происходящее его мало касалось. Кого-то секли, кого-то вешали.
— Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Он оживился лишь тогда, когда толпа, в которой он находился по-прежнему, была прижата к деревянному помосту и он увидел прямо перед глазами сверкающие сапоги.
— Живее вешайте, бездельники! Живее!
Андрей поднял глаза — сапоги принадлежали князю Василию Ивановичу Шуйскому.
— Живее, бездельники!
Андрей наконец понял, что тревога, охватившая его при первых известиях о прибытии этого человека в войско Мстиславского, не случайна. С высоты помоста князь сверкал чёрными немигающими глазами. У Андрея прошёл по коже мороз от одного только предположения, что этот князь может узнать, догадаться, кто же перед ним в самом деле, узнать о связях его, Андрея, с царевичем Димитрием. А потому Андрей старался не встречаться взглядом со взглядом Шуйского.
Казни продолжались уже который день.
Однако количество пленных в сарае, как и во всех соседствующих уцелевших строениях, нисколько не уменьшалось.
Правда, в большинстве своём, то были не те люди, с которыми судьба свела Андрея и Петра в первый день пребывания в неволе. Эти люди не задумывались уже о своей участи. Они надеялись, что их минует лихо. Но сегодняшний день поверг их в уныние. Сегодня повезло, а что будет завтра? Послезавтра? Сколько времени будет всё это продолжаться? Когда натешатся победители? Неужели так могуч князь Шуйский? Много ли таких полководцев у Бориса Годунова, как Шуйский, как Басманов?
Неизвестность пугала.
Томило бездействие.
А силы уходили. Кормить своих пленников победители не собирались. Пленные жили тем, что приносили им родственники. А так как родственники и знакомые имелись почти у половины несчастных, то при них кормились и прочие их товарищи, у кого не было поблизости никаких родственников, о чьей судьбе никто и не ведал. На подаяние жили сейчас и Андрей с Петром.
После сегодняшней беды Андрей сказал Петру:
— Ночи сейчас тёмные. Хуже не будет...
— Как? — одними губами спросил загоревшийся Петро. Спасительные замыслы ещё только бродили в голове Андрея.
— На рассвете попросимся до ветру... А подаваться будем к Рыльску...
— Так они и выпустят...
— Сегодня сторожат старички... Им на рассвете спится...
Мало было надежды на успех. Но надеяться всё же лучше, нежели ничего не делать.
Однако получилось иначе.
Едва на землю упали сумерки, как возле костра, при котором грелись стражи, появились неизвестные всадники. В синих сумерках хорошо различались белые кони; дверь в сарай была приоткрыта, поэтому Андрей, наблюдая сегодня за всем очень внимательно, как никогда залюбовался чужими конями. Всадники не спешивались, а тихо заговорили о чём-то со стражей. И через минуту стражник-старик неуверенно приблизился к полураскрытой двери и спросил так же неуверенно:
— Есть тут между вами Андрей Валигура с товарищем?
Андрей переглянулся с Петром — Петро развёл руками. Что это значит? Удача? Смерть?
Андрей крикнул:
— Это я...
— Тебе надобно выйти вместе с товарищем!
И старик уже выставил пику, чтобы отгородить Андрея с Петром от прочих пленников, которые охотно последовали бы за ними.
На белых конях сидели донские казаки. Один из них спешился. Концом витой тонкой верёвки, которой был опоясан его жупан, донец умело связал Андрею руки, а свободный конец верёвки прикрепил к своему седлу. Верёвка оказалась достаточно длинной — так привязывают пленников, которым предстоит бежать вслед за всадником.
Кровь ударила Андрею в голову.
— Кто ты такой? — спросил он казака. — Куда поведёшь?
Казак ничего не отвечал. А между тем его товарищ проделал то же самое с Петром.
Не говоря больше ни слова, оба всадника ударили своих коней и заторопились вслед за третьим казаком, который тем временем дожидался на дороге, неспокойно гарцуя на месте. Поравнялись с ним, и все трое пришпорили коней, как бы чего-то опасаясь. Кони рванули очень резко. Андрей через мгновение уже понял: далеко так не убежать. Он сейчас упадёт. Конь потащит его, и он, со связанными руками, не сможет ничем себе помочь. Где-то рядом хрипел и стонал, задыхаясь, Петро. Через мгновение Петро упал на землю.
Андрей закричал — всадники остановились. Передовой всадник, у которого не было пленника, спешился и саблей разрезал верёвку на руках у Андрея, а затем то же самое проделал и с руками Петра.
И тут же все три казака ускакали.
Всё это произошло так неожиданно и быстро, что Андрей успел понять лишь одно: они на свободе!
Петро ещё тяжело дышал, лёжа на земле. Однако у него хватило сил прокричать:
— Воля, брат! Давай спрячемся пока вон в тех кустах! Воля!..
16
К Рыльску пройти не удалось. Рыльск оказался в плотной осаде.
Огромная армия под руководством князей Мстиславского и Шуйского, окрылённая победою под Добрыничами и последовавшими за нею щедрыми наградами от царя Бориса, со страшным скрипом снялась с лагеря и расположилась вокруг этого города на реке Сейм. Рыльские воеводы, князь Григорий Долгорукий и Яков Змиев, объявили себя сторонниками государя Димитрия Ивановича и на все упрёки князей Мстиславского и Шуйского и на все предложения о сдаче отвечали твёрдым отказом.
Что ж, князь Шуйский приказал пороха не жалеть. Пушек у царя Бориса достаточно. Они такие огромные, что смотреть страшно, даже когда не стреляют. И земля задрожала от непрерывных залпов. Казалось, от города, окружённого земляными валами и деревянными стенами, не останется и следа. Однако он стоял по-прежнему. Его не собирались сдавать.
Смешиваясь с толпами бредущих по дорогам людей — в основном из Комарницкой волости, из-под разорённого Севска, — которые не знали, где искать теперь для себя пристанища, как дожить до тёплых дней, Андрей и Петро утешали себя хотя бы одним: царевич не в осаде. Его нет в Рыльске.
Люди на дорогах твердили:
— Царевич сейчас далеко. В Путивле!
— В Путивле каменные стены. Если Шуйский и Мстиславский не могут взять Рыльск, то Путивль им вообще не по зубам!
— Воевода Рубец знал, куда везти царевича! Там много пушек, слава Господу! Там ему не страшен Борис. Там собирает он новое войско.
— А как только на деревьях появятся новые листочки, так он будет в Москве! Все ворожеи говорят.
Повсеместные подобные уверения радовали Андрея с Петром. Они надеялись обойти Рыльск стороною и выйти на дорогу, по которой можно пробраться к Путивлю, к царевичу Димитрию. Радовало и то, что на сторону царевича переходят уже многие ратные люди из войска князя Мстиславского. Молодые люди не раз встречали бывших воинов из этого войска, и те поведали им, что войско Борисово ненадёжно, что Борис и сам это отлично понимает, чувствует, злодей, а потому старается всячески задобрить, подкупить военачальников и даже простых вояк. Если после первого сражения с царевичем под Новгородом-Северским, неудачного для князя Мстиславского, Борис всё же лично одарил побеждённого и его военачальников, то после победы под Добрыничами подарков удостоены уже все воины, вплоть до последних ратников. Князь Мезецкий привёз из Москвы много царских рублей. Однако дела этим не поправились. Многие десятники и сотники в войске с охотою признали бы царевича. Их удерживает присяга и страх перед наказанием. Особенно же этот страх усилился с приездом Шуйского. А в то, что царевич — расстрига, как говорится в грамотах Патриарха Иова, в то уже никто не верит. И если в церквах провозглашают анафему какому-то неведомому Гришке Отрепьеву, так на подобное люди смотрят как на пустое — к царевичу это не относится.
Как-то так получилось, что вокруг Андрея с Петром вскоре собралось уже несколько десятков молодых людей, бывших воинов. Кто из них сбежал из московского войска, кто едва увернулся от петли, от плена. Все они видели в Андрее и в Петре военачальников, которые могут помочь им снова взять в руки оружие и отомстить за обиды и неудачи, выпавшие на их долю. Андрей и Петро своим поведением и загадочными словами о знакомстве с царевичем способствовали тому, что количество возможных воинов возле них увеличивалось с каждым днём.
Они продвигались на юг, дошли уже до берегов реки Свапы. Они уже надеялись вскоре увидеть царевича, как вдруг почувствовали, что народ на дорогах устремился на север. Вдоль берегов Свапы покатились убогие повозки. Взрослые тащили за руки детей. Голосили бабы.
Объяснялось же всё это вроде бы просто: войско уходит из-под Рыльска потому, что к Рыльску приближается армия польского короля во главе с гетманом Жолкевским! И ведёт этот гетман войско в сорок тысяч, со множеством пушек. Против такой силы князьям Мстиславскому и Шуйскому не устоять. Они намерены отойти вглубь русских земель, чтобы соединиться с новыми силами, которые спешат к ним на подмогу во главе с боярином Шереметевым.
Конечно, Андрей догадывался, знал: ни о каком польском войске сейчас не может быть и речи. Краем уха он уже слышал, будто после добрынинского разгрома (иначе не назовёшь) царевича оставили почти все уцелевшие польские рыцари, поскольку они разуверились в его возможностях одолеть злодея Бориса. Однако Андрей не стал никого разуверять. Да, королевская армия недалеко. Он подозревал, что подобные слухи распространяются нарочно, что в них скрывается какая-то хитрость, возможно задуманная даже самим царевичем, загнанным в далёкий Путивль.
Андрей и Петро с новыми друзьями не стали переправляться через реку Свапу, как предполагали первоначально. Они попытались поскорее сойти со шляха, что тянется вдоль реки, уклониться на запад. Им хотелось отсидеться где-нибудь в глухой лесной деревушке, пока Борисово войско не уйдёт на север, чтобы затем добраться до Рыльска. Однако сделать этого они не успели. Они прошли по болотам вёрст с десяток, так что шума с большого шляха уже не слышали. И на лесной дорожке им неожиданно повстречался разъезд донских казаков. Прятаться было поздно. Донцы, заметив их, приветливо закричали:
— Стойте! Стойте! Мы служим царевичу Димитрию!
Казаков было всего трое. Андрей заговорил с ними без опаски.
— А где же царевич, коли так? — спросил он.
— Да где? Вестимо, в Путивле!
— А вы куда? — продолжал Андрей.
— Про то ведает наш атаман Корела, — простодушно сверкнул белыми зубами самый бойкий казак. — А вы, земляки, скажите нам, куда попадём по этой дороге?
— Корела? — не поверил Андрей своим ушам. — Где же он?
— Он скачет позади! — несколько озадаченно отвечали казаки. — Скоро будет здесь.
Атаман Корела, узнав Андрея, спешился ради встречи, чего делать не любил, потому что сразу превращался в недоростка. Атаман не доходил Андрею даже до подбородка. Однако Корела был весел. На смуглом лице его смеялся каждый шматочек криво сросшейся кожи.
— Жив, жив и здоров царевич! — успокоил он Андрея. — А самое главное, что царевич не думает об отступлении, об уходе. Думает о том, как оказаться поближе к Москве. Он верит своему народу. Кромы следует удержать во что бы то ни стало. Это будет для него самым ценным подарком.
— Послушай, Корела, — вдруг сказал Андрей, — а что, если мы поедем с тобою? В Путивле, говорят, опасности для царевича нету?
Корела не задумывался с ответом:
— Правильно сделаете! Кромы надо удержать! Правильно!
По дороге в Кромы Корела рассказал о положении дел. Царевич опасается, как бы борисовцы не взяли Рыльск. Тогда они придут осаждать Путивль. Поэтому царевич с готовностью ухватился за предложенный ему план: послать к Рыльску человека, который вроде бы намерен передать осаждённым важные приказания. Человек должен непременно попасть в плен и под пытками, как водится, показать, будто бы к Рыльску приближается войско польского гетмана Жолкевского. Это, предполагалось, сразу понудит осторожного Мстиславского снять осаду Рыльска и отойти назад, по направлению к Москве, на соединение с боярином Шереметевым. Шереметев стоит под Кромами и уже пытался было взять эту крепость. Да только безуспешно.
— Как видишь, Андрей, первая часть задуманного сделана. Войско Мстиславского оставляет Рыльск. Оно движется к Кромам. Я поклялся царевичу, что до последнего человека буду оборонять Рыльск.
— Ты правильно поступил, Корела! — похвалил его Андрей.
— Надо успеть войти в крепость! — морщил лоб Корела. — Надо опередить Мстиславского с Шуйским. У меня в отряде четыре тысячи человек. Шесть сотен моих казаков. Остальные — люди московские. Их ведёт Григорий Акинфиев. Но общее руководство поручено мне. Только бы добраться, а там покажем!
Через считанные мгновения Андрей и Петро уже сидели в сёдлах. Медлить было нельзя.
Кореле удалось свершить задуманное.
Его отряд приблизился к Кромам скрытно, на рассвете, в густом тумане. Войско Шереметева застали врасплох. Когда же там опомнились и открыли беспорядочную стрельбу — Корела бросил в дело казаков. Казаки отвлекали внимание шереметевцев. А между тем прибывший обоз, со всеми московскими людьми и запасами пороха, без малейших потерь вошёл в крепостные ворота. Казаки вскочили туда последними. Кони их были предназначены уже на мясо. Осада предполагалась долгая и тягостная.
В тот же день Корела и Акинфиев осматривали крепость. Андрей и Петро их сопровождали.
Крепость оказалась обширной. Почти со всех сторон её окружали болота, не замерзающие даже зимою. (Потому и войско Шереметева толпилось на отдельных участках земли, опасаясь гиблых мест.) На высоких земляных валах уцелело ещё достаточно деревянных стен и башен — всё было опалено огнём. Всё свидетельствовало о недавних приступах. Жителей в городе насчитывалось немного. Однако они, как и весь маленький воинский отряд, сумевший противостоять Шереметеву, были настроены весьма воинственно. Приход Корелы их воодушевил. О Кореле они уже наслышались.
— Выстоим! — говорили кромчане. — Что с того, что башни сожжены? Уйдём под землю! Выстоим.
В это верили все.
Дома в крепости в большинстве своём уже были разрушены. Но подземные жилища создавались без особых затруднений. Их соединяли между собою ходами. Эти ходы приводили прямо к валам. Укрывшихся в землю не страшили, кажется, никакие возможные обстрелы.
Войско Мстиславского и Шереметева подошло к Кромам через день.
Стоя на крепостном валу, с его высоты Андрей видел, как растекается между болотами огромная армия, как устанавливают там шатры, возводят курени. Зорким глазом увидел он места, куда свозят пушки. Пушек было много.
В Кромах готовились к длительной осаде.
17
Воевода Басманов был озадачен свалившимися царскими милостями.
Ещё на пути к Москве ему попадалось много гонцов. Они скакали как в ту, так и в другую сторону. А ему казалось, будто кто-нибудь из гонцов может запросто рявкнуть повеление от Бориса Годунова: «Воеводе Басманову следовать в отдалённую вотчину!»
Либо в глухую маленькую крепость.
Потому что сделанное им не идёт в сравнение с тем, что совершили князья Мстиславский и Шуйский. Они разбили войско загадочного человека, к которому без боязни и без удержу спешит и спешит весь северский народ. К которому липнут казаки и стремятся буйные головы со всей Руси.
Но гонцы разносили иные новости.
А по мере приближения к столице Басманов m замечал какого-либо умаления к себе царского внимания. Наоборот, количество лошадей, дожидавшихся его на постоялых дворах, только увеличивалось. И встречные напоминали:
— Царь-государь тебя жалует!
А при въезде в Москву его посадили в такие сани, что он никак не мог поверить, будто бы и здесь не произошла ошибка. Однако за его санями ехали самые знатные думные бояре и дьяки.
— Пётр Фёдорович!
— Пётр Фёдорович!
Все говорили заискивающе.
А биручи время от времени напоминали, что Москва сегодня встречает славного победителя. Народ московский давился, не остерегаясь стрельцов, чтобы взглянуть на победителя, чтобы схватить себе толику денег, брошенных в качестве подарка от царя.
Что касается царских подарков, предназначенных лично Басманову, сразу объявленному в Кремле думным боярином, так говорить о них вслух было бы боязно.
Всего этого не могли умалить слышанные в Москве нашёптывания о том, как щедро одаривает царь Борис людей, доставивших ему победу под Добрыничами. В Москве давались диву от щедрот указанным людям, после того как поверженных пленников с позором провели по московским улицам под трубное пение тех же инструментов, которыми они недавно сами себя воодушевляли. После того как народу московскому показали личное оружие самозваного царевича Димитрия, отобранное у него в сражении. То было вызолоченное копьё. Помимо золотых червонцев, помимо жалованья, выданного не в зачёт и за год вперёд, победители получали поместья, вотчины.
После всего этого царь Борис ежедневно призывал новоиспечённого думного боярина в свою палату и твердил ему одно и то же:
— Я никогда не забуду твоей верной службы!
Басманову порою становилось даже неуютно. Хотелось напомнить царю о своём товарище по Новгороду-Северскому, о князе Никите Трубецком. Улучив момент, он заикнулся о том Семёну Годунову, ближнему боярину, правой руке царя. Да Семён замахал в ответ рыжими ладонями и зашипел:
— Что ты, что ты... Окстись... И Никитке будет награда. Дай срок. Да ведь всем известно, ты удержал Новгород, не он... Так что не расстраивай царя-батюшку...
Видно было, что Семён Годунов несказанно рад оживлению царя. О царе по Москве говорилось, что он уже и не ест, и не пьёт, а день и ночь думает горькую думу. Сёмка Годунов, видать, уже не надеялся на подобное чудо.
Басманов с тревогою начал подумывать о том, что станется с ним, когда Мстиславскому и Шуйскому удастся добиться ещё более внушительных побед, когда они поймают самозванца и приведут его в Москву. При этом Басманов снова, с возрастающим удивлением, чувствовал: ему становится немного жаль таинственного юношу, которого он не раз узнавал в толпе идущих на приступ под новгород-северские валы. Но подобная тревога вскоре оставила его. От Мстиславского стали приходить вместо ожидаемых совершенно непонятные донесения. Князь сообщал об угрозе с польской стороны, о подходе якобы королевской армии, да ещё под водительством самого Жолкевского, грозы шведов!
В такие донесения царь Борис не мог поверить. Сначала он подозревал, что это заблуждение Мстиславского, в которое его ввергли, что вслед за такими донесениями придут разъяснения. Да только Мстиславский и в последующих донесениях лишь усиливал свои подозрения насчёт польской угрозы.
Царь даже негодовал:
— Конечно, Жигимонт — человек коварный. Как все ляхи. Однако на такое ему не решиться. Тем более что в Кракове только что завершился сейм. А сейм решил не нарушать со мною мира. Огарёв-Постник привёз ответ. Ляхи нас сейчас опасаются. Война им ни к чему. Я знаю. Здесь что-то не так.
Он на минуту задумался и почти простонал:
— Нет! Нет! В войске моём зреет измена! О Господи! Что творится! Это бояре! Это они придумали! Мало их давил царь Иван Грозный!
Неожиданная царская радость после победы под Добрыничами очень быстро, как и появилась, зачахла и пропала.
Никто не мог царю чего-либо посоветовать.
Оставалось ждать.
А Мстиславский царя не щадил.
Мстиславский вместе с Шуйским уже писал, что решили они оба снять осаду Рыльска ввиду сказанной опасности и поторопиться на соединение с боярином Шереметевым, который с войском стоит у крепости Кромы.
Царь не верил своим глазам и ушам.
— Кромы? Заманивают, что ли? Они его там не могут достать? Зачем он мне так близко?
Царь велел призвать сына Фёдора, чтобы тот показал чертёж Русской земли.
Царевич с готовностью расстелил на столе шелестящую бумагу и начал указывать нужные города. Тонкий палец не без дрожи тыкался в разноцветные, разрисованные кистью пятна.
— Да ведь приманят к самой Москве! — хватался царь за голову. Затем начал рвать на груди красную ткань рубахи. — Измена! Измена! — И тянул руки к Басманову. — Ведь там вор! Ведь он — самозванец! О Господи!
Семён Годунов, сменивший почившего в Боге своего дядю Димитрия Ивановича, издавна стоявшего во главе царского сыска, — видать, пожалел царя.
— Государь! — сказал Семён. — Ты говорил давеча, как тебе хочется, чтобы инокиня Марфа подтвердила: сын её умер! Она готова...
— Она здесь? — спросил с надрывом царь, остановись посреди палаты.
— Государь! Ты запамятовал, — слегка укорил Семён Годунов. — Она в Вознесенской обители. Она там уже давно.
— Голубчик! — запричитал царь. — Распорядись. Приведите её в эту палату. Ты знаешь.
Отправив Семёна Годунова за инокиней Марфой, отослав сына с его чертежом, царь остался наедине с Басмановым. И тут его словно прорвало:
— Басманов! Пётр Фёдорович! Одна у меня надежда — ты! Поверь! Это — самозванец! Сейчас приведут мать покойного царевича Димитрия. Стань вот у этого отверстия, я тебе укажу, и понаблюдай за нею. Я сам расспрошу. Я умею... Не то что моя государыня, Марья Григорьевна... А потом обсудим.
Что говорить, Басманову не раз уже приходилось слышать о какой-то особой палате в царском дворце, откуда Борис следит за приводимыми людьми. Но всё это казалось Басманову досужими выдумками. Как и то, будто бы царь частенько приказывает надевать своё убранство на своих двойников, похожих на него так разительно, как ворона похожа на ворону, а сам переодевается на то время каким-нибудь стрельцом в насунутой на глаза шапке, служкою с полотенцем в руках, стражем — и неотрывно наблюдает за людьми. И что будто бы при этом переодевании он более всего доверяет боярскому сыну Яшке Пыхачёву. И ещё большее, ещё более невероятное: Яшка Пыхачёв куда-то исчез. Но после его исчезновения удивительно преобразился царь... Дальше было страшно задумываться и предполагать.
И вот Басманову (невероятно!) предоставлена возможность самому узреть эту тайну.
Он глядел на царя и с ужасом делал заключение, что этот человек уже не понимает, какую тайну открывает он для своего народа, если даже не для ныне живущего народа, не для сиюминутных разговоров, то для потомков, для пересудов и проклятий в будущем.
Басманов не мог усидеть на месте.
Временами Басманову казалось, будто уже и не царь перед ним, но искусно прикинувшийся царём Яшка Пыхачёв. Прикинулся, а теперь убоялся собственной дерзости и готов раскаяться.
Через некоторое время Басманов в самом деле увидел таинственную палату. Сквозь отверстие в стене он не мог определить истинных размеров всей палаты, видел только часть её. То было полутёмное помещение, в котором перед иконами оплывали восковые свечи. Царь Борис уже сидел на каком-то возвышении, в тёмной накидке. Опустив голову (не царь, нет!), он не отводил от иконы взгляда.
Через мгновение после того, как Басманов приставил своё чело к отверстию, в палату была введена двумя огромными детинами (они держали её под руки) рыхлая женщина с дряблым, землистого цвета, лицом. Она вскрикнула, завидев сидящего царя, и забилась в руках поводырей.
— Не бойся, — сказал чужим голосом царь. — Я сегодня здесь один. Если не считать вот боярина.
Женщина тут же была оставлена своими сопровождающими.
— Перед ликом Божией Матери ответствуй, Марфа, твой ли сын похоронен в Угличе?
Басманов не мог поверить, что перед ним бывшая молоденькая царица Мария Нагая, которую он не раз видел во всём блеске молодой красы. Эта женщина годилась Марии Нагой в матери, в бабушки.
Женщина упала перед иконами на пол и долго молилась. Так долго, что, казалось, у царя не хватит терпения ждать.
Однако ждал.
Женщина наконец поднялась с колен и сказала, глядя в упор на царя и на Семёна Годунова:
— Зачем меня мучите? Это вы и сами хорошо знаете... Вели, государь, отпустить меня назад в обитель. Дай спокойно помолиться в мои оставшиеся земные дни.
Семён Годунов вскочил с места, завопил:
— Старуха! Стерва! Ты забыла свои обещания! Ты...
Но царь остановил его:
— Довольно! Мне уже понятно.
Когда Басманов снова увидел царя — ему было трудно определить, что именно понято царём из сказанного инокиней Марфой.
Слёзы заволакивали обычно выразительные и красивые царские глаза.
Получилось так, что Басманов снова остался с царём наедине.
Царь схватил боярина за руку и повторил сказанное ему перед свиданием с инокинею Марфою:
— Пётр Фёдорович! Христом-богом заклинаю: приведи мне его! Станешь в благодарность моим зятем! Ты видел мою Ксению. Ты знаешь: краше не сыскать на Руси. Вот будут готовы новые полки — так и поведёшь их к моему главному войску. А полки уже стягиваются к Калуге. Ты добавишь им уверенности и силы. Ты искоренишь измену, которая зреет.
Кровь ударила в голову Басманову. Он понял, что царь берёт обратно обещания, данные, как говорилось повсеместно, князю Мстиславскому. Не быть Мстиславскому царским зятем. А значит, и победа его под Добрыничами, совместно с князем Шуйским, — уже ничто. Она не привела к окончательному торжеству. Победою надо уметь пользоваться. А Мстиславский всё прозевал.
Что оставалось отвечать Басманову? Он склонил перед царём голову. Он был потрясён обещанием получить в жёны царевну Ксению. Однако его озадачило то, как быстро царь меняет обещания. Это лишний раз доказывает, как боится он юноши, который находится где-то в крепости, то ли в Путивле, то ли в Рыльске, а кто говорит — в Кромах.
И снова закрадывалось в душу сомнение: да мог ли так сгоряча и бездумно решать судьбу любимой дочери родной отец? Не подмял ли настоящего царя его дерзкий двойник?
Сомнения усилились ещё через несколько дней, когда Басманову случилось оказаться в одной карете с Семёном Годуновым. А ехали они в загородный царский дворец, между которым и столицей метался царь Борис. По дороге под каретой у Семёна Годунова сломалась ось, он и перебрался к Басманову. Согреваясь вином, разговор повели задушевный. Басманов и поведал под большим секретом об обещании царя. Ксения уже стояла перед глазами: высокая, с умными выразительными глазами, с продолговатым белым лицом, обрамленным чёрными, как вороново крыло, волосами, которые ложатся ей на плечи подобно двум тяжёлым трубкам.
Семён выслушал и сказал, отворачивая лицо:
— Неспроста такие почести... Сдаётся мне, будто и в самом деле там царевич Димитрий.
— Что? — вскочил с места и больно ударился головою о крышу кареты Басманов. — Что ты сказал? И я... И я...
Басманов с ужасом понял, что он сам становится сейчас похожим на царя Бориса.
Семён Годунов посмотрел на него с некоторым опасением. К месту ли сказано? Не придётся ли раскаиваться, как раскаиваются сейчас многие, кто вольно или невольно распространял слухи о царевиче Димитрии? Но тут же Семён Годунов успокоился. От молчаливого Басманова ещё никто и никогда не слышал лишней болтовни.
А Басманов и дальше ломал себе голову над царскими милостями.
18
Ротмистр Запорский, недавно прибывший из Речи Посполитой с небольшим отрядом конников, а теперь своими глазами видевший, как уходит от Рыльска громадная московитская армия, с упоением рассказывал:
— Пан гетман! Рыльчане выступили из ворот в последний момент и здорово поколотили московитов, кто оказался в хвосте! Я сам видел!
Гетман Дворжицкий вскидывал кверху руки. Обращался к царевичу:
— Правда, государь!
Нарочито распущенные слухи о подходе королевской армии во главе с гетманом Жолкевским возымели своё действие на князя Мстиславского и заставили его снять осаду Рыльска. Это обстоятельство так обрадовало полковника Дворжицкого, что он снова почувствовал себя гетманом при царевиче, хотя ему и гетманствовать уже вроде было не над кем.
Царевич выглядел спокойно.
— Я знал, что так будет, — сказал он. — Богородица за меня. Запомните.
— Ваша правда, государь, — соглашался Дворжицкий. — Теперь видно. — И опускал голову. Ему становилось стыдно недавнего своего слабодушия. Пусть и скрываемого.
Когда скакали по дороге к Путивлю, то гетман Дворжицкий предполагал, что вдоль заснеженного Сейма они доскачут до Десны, а берегом Десны — доберутся до Днепра. За Днепром попадут в пределы Речи Посполитой, во владения князя Адама Вишневецкого, в город Брагин, где всё это и затевалось. Что именно так прикажет царевич. Потому что в его окружении не было даже верного Андрея Валигуры То ли убит, то ли в плен попал.
Гетман ждал приказа.
Втайне гетману тогда этого хотелось. Понимал: ом уже никакой не гетман. Войско погибло. Многие вчерашние товарищи, подобно Андрею Валигуре, попали в плен, остались лежать на заснеженном поле.
Рядом скакали люди, которые уже не надеялись войти в Москву. И нечем было их ободрить. Особенно после того, как ночью миновали притихший Рыльск и напрямик помчались к Путивлю. В Рыльск даже не заглянули.
Гетман вспоминал о том с напряжением памяти.
Сразу за Рыльском догнали тогда запорожцев, бежавших с поля битвы под Добрыничами. Запорожцы стали лагерем, не зная, куда подаваться. Правда, прислали к царевичу делегатов. Делегаты чувствовали общую большую вину, хотя валили всё на уже мёртвого кошевого Ворону.
— Он нас предал, государь! — повторяли запорожцы, сдёргивая с голов бараньи шапки и низко свешивая длинные чубы. — Иуда получил за предательство плату от князя Шуйского. Теперь всё открылось. Бочонки с золотом на его возах.
— Получил да и подавился, — добавляли ещё. — Мы и пальцем не тронули Петра Коринца, который зарубил предателя.
— В честном бою зарубил! — не оставляли сомнений в справедливом возмездии.
Однако царевич отвернулся от просителей.
— Не могу на вас положиться, — отвечал он. — Испугались одного дыма.
После этого Дворжицкий ещё сильнее уверовал: он с царевичем окажется за Днепром. Видать, правду говорил старый коронный гетман Замойский — напрасны эти затеи. Надо слушать стариков.
Дворжицкий внимательно следил в пути, не отвлекает ли царевича от его намерений путивльский воевода Рубец-Мосальский. Но ничего такого не замечал. Разговора между ними не было вообще. Воевода Рубец скакал впереди разрозненных остатков войска, в их авангарде, а царевич — в арьергарде.
Дворжицкий нисколько не удивился, когда его спросили, уйдёт ли он с рыцарями в Польшу, на родину, то есть поведёт ли он их? Или же они должны избирать себе нового предводителя на время похода? Он не отвечал. Он не знал ещё решения царевича. А сам был связан рыцарским словом.
В Путивле беглецов дожидались. Воевода Рубец, ускакав вперёд, уже встречал царевича у крепостных ворот. Он выехал в кольчуге, в новом шлеме.
— Добро пожаловать, государь! — низко поклонился воевода. — Все наши люди тебя приглашают!
Затем уверял, что в Путивле царевич будет как у Христа за пазухой.
— Немного на Руси каменных крепостей, государь! — настаивал Рубец. — А вот у нас — каменная.
Царевич не унывал. Он не стал уговаривать польских рыцарей, которые даже не заглянули в Путивль, но группами, по нескольку человек, без обоза, без слуг, уходили к себе в «ойчизну». Им было достаточно короткого отдыха в корчме напротив крепостных ворот.
— Прощайте, Панове! — только и слышали от него рыцари.
Впрочем, они и не ждали благодарностей. Они их не заслужили в последнем сражении.
В Путивле было чем отбиваться. Некоторое количество пушек сняли с его стен и отвезли в своё время к Новгороду-Северскому, впоследствии их вовсе потеряли под Добрыничами, однако в Путивле пушек насчитывалось ещё вполне достаточно.
Рубец без промедления выставил на крепостных стенах надёжную охрану. Возле пушек постоянно торчали усатые пушкари — хоть сейчас приложат фитили к толстенным орудиям и отразят любой приступ. В посадах неустанно за всем следили конные разъезды. Такие же разъезды рассыпались далеко в сторону Рыльска. Вмиг принесли бы свежую весть.
Из приходящего люда формировались новые вооружённые отряды. Они размещались в лагере за посадами — для этого использовались и готовые строения, и воздвигались курени, рылись землянки. Дымы вились над ними, как над старым селением.
Люди прибывали со всех концов Руси.
Царевич, впрочем, уповал по-прежнему не так на военную силу, на выучку и поддержку своих подданных, как на Божию помощь. Он повелел доставить из Курска икону Богородицы, о которой ходили слухи по окрестным землям как о целительнице, помогающей людям в добрых и справедливых делах. Духовенство, при скоплении народа, с молитвами и пением пронесло чудотворную икону вдоль крепостных стен, умоляя Богородицу защитить город от супостата. Затем икону поместили в городскую церковь, где царевич ежедневно молился перед нею на коленях, отбивая земные поклоны. Ни тени сомнения в хорошем исходе борьбы не замечали после этого на его челе.
Да, всё так и получалось. Военные приготовления на крепостных стенах оказались как бы ненужными. Неприятель не пытался подступить к Путивлю.
А теперь...
Ротмистр Запорский выразил вроде бы не совсем понятное для окружающих мнение, но царевичу оно понравилось сразу.
Ротмистр сказал:
— Князья Мстиславский и Шуйский сами хотели обмануться... Это надо иметь в виду на будущее.
— Браво! — тут же подхватил царевич.
Запорскому хлопали просто потому, что слова его одобрил царевич. Не более того.
Но царевич добавил:
— Настанет день — и Мстиславский покается.
Из отдалённых Кром долго не было никаких известий. Впрочем, так всегда кажется, когда упорно дожидаешься.
Разъезды отправлялись далеко за Рыльск, совместно с рыльчанами. А всё без пользы. Борисовцы обложили Кромы, что волки овчарню. И так же далеко рассылали вокруг свои разъезды. Да какие там разъезды! При таком многолюдстве рассылались целые отряды ради продовольствия и фуража. А что касается татар — татары добирались чуть ли не до самого Путивля.
Кое-кому в Путивле приходило на мысль, будто Корела не успел, не сумел пробиться в осаждённую крепость. Что он разбит. Что его воины в плену. Либо уже все на том свете.
Ан нет.
Радость обычно приходит не одна, как и беда.
И радость не знает предела.
Первым дорогим гостем в Путивле стал запорожский казак Петро Коринец, покаравший, все уже знали, кошевого Ворону, своего давнего знакомца и даже приятеля. Петро прискакал на коне, в сопровождении галдящих казацких разъездов, высланных по приказу царевича. Петро зарос бородою и был так чёрен лицом и всем телом, так грязен, будто провёл это время в глубокой пещере, пролежал в болоте, подобно дикому кабану или медведю.
Однако глаза его сияли.
— Мы держимся! Мы выстоим!
Царевич обрадовался самому появлению Петра Коринца, которого считал погибшим.
— Мы выстоим, государь!
Петро сразу поведал, что Андрей Валигура тоже жив-здоров. Они теперь оба в Кромах.
— Молодцы! Молодцы! — повторял царевич, выслушав подробный рассказ.
Затем воевода Рубец созвал к себе в горницу путивльских военачальников.
— Расскажи им, Петро, — повелел царевич. — Пускай все знают, что творится там. Весь северский край пускай знает, как мне верят и как меня дожидаются.
— Стоим надёжно, государь, — повторил Коринец, выпрямляясь перед царевичем. — Там у нас не осталось уже ни одного строения. Всё сровняли с землёю пушки борисовцев. Потому что нам грозит всё Борисово войско. Однако ничего они с нами поделать не могут. Мы зарылись в землю. Посмотрите на меня — и поймёте. Из-под земли они нас не выкурят. И если первоначально пытались что-то сделать, ходили на приступы, то теперь мы спесь с них сбили. У нас достаточно запасов и продовольствия, и пороху. А народ у нас терпеливый. Мы — казаки. Настоящие казаки. Нам не страшны ни мороз, ни дождь.
— Морозы уже миновали, — вставил осторожный Дворжицкий.
— Миновали, — согласился Петро, — так наводнение даёт о себе знать. Так болезни косят Борисово войско!
Царевич закрыл лицо руками.
— Это же мои подданные, — сказал он. — Вся вина на Шуйском и Мстиславском. Когда они наконец поймут...
Рассказ Коринца обрадовал и встревожил, даже обескуражил путивльских военачальников. В Кромах осаждённые держатся надёжно — это хорошо. Но плохо то, что им нельзя помочь. У Мстиславского с Шуйским не менее семидесяти тысяч воинов.
Оставалось надеяться на счастливый исход. На помощь Бога.
И, казалось, Божия помощь пришла.
Радостную весть принёс в Путивль боярский сын Бахметев:
— Борис умер!
Бахметев кричал и вопил, и его облепляли уже толпы народа. Все понимали пока только одно: нет в живых злодея, неправдою, хитростями и преступлением занявшего царский трон, напялившего на себя царскую корону. И никому не приходило в голову спросить, поинтересоваться, откуда же Бахметев всё это знает?
Бахметев насилу пробился к крыльцу царевича, уже спешенный. На коне не продвинуться ни шагу. Грязного и мокрого после сумасшедшей скачки по весеннему бездорожью, его передавали на руках к самому царевичу. Царевич стоял уже на ступеньках крыльца, как всегда готовый к дороге, к делу, к молитве — ко всему.
Бахметева опустили на землю на узеньком освобождённом пространстве перед царевичем, которое нельзя занимать. У него уже не было сил говорить.
— Борис умер! — повторил Бахметев перед царевичем и больше ничего не мог сказать, а только счастливо улыбался: он первый доставил радостную новость!
Царевич велел отнести посланца в горницу, уложить на скамью, чтобы выспался. А к народу царевич обратился с увещеваниями:
— Разойдитесь и займитесь делом, пока Бахметев не отоспится. Я знаю: Бог наказал Бориса!
Народ в ответ закричал:
— Многая лета царю Димитрию!
— Многая лета!
— Да спасёт тебя Бог!
— Кормилец наш!
Только расходиться никто не хотел. С такой новостью человеку наедине не совладать. С ума можно сойти.
Безо всякого зова к воеводскому дому, к крыльцу царевича, тут же сбежались путивльские военачальники. Всех радовало услышанное, однако не всё ещё верили.
Осторожнее прочих держал себя гетман Дворжицкий.
— Нет ли здесь хитрости, государь? — спросил гетман многозначительно.
Тогда и другие военачальники в горнице начали прикидывать, что бы всё это могло значить. Борис Годунов ещё вовсе не старый человек, телом крепок, да и немцы-лекари при нём денно и нощно, умереть так просто не дадут. Потому что ни о какой царской болезни, которая бы держала Бориса в постели, в последнее время никто не слыхал.
— Это хорошо! — кричали одни.
— Всё в Божиих руках! — отвечали другие.
— Немые заговорят, слепые прозреют — если Бог захочет!
Толковали-рядили, а между тем Бахметев пришёл в себя.
О смерти Бориса ничего нового он не добавил, но сообщил, что к войску под Кромами едет боярин Басманов, чтобы привести воинов к присяге молодому царю — Фёдору Борисовичу Годунову. С Басмановым едет также митрополит новгородский Исидор. И вообще всё войско под Кромами отныне должно перейти под руку Басманову. Так повелел новый царь и состоящая при нём, как при несовершеннолетнем, его мать, вдова Бориса Марья Григорьевна.
— Дочь Малюты! — припомнил воевода Рубец. — Не быть этому никогда!
— Не быть! — сказали многие в горнице. — Нет.
— Не допустим!
— Принести присягу Борисову сыну многие в войске не согласятся! — уверенно продолжал Бахметев. — Теперь многие там понимают, что законный наш царь — Димитрий Иванович!
В горнице с этим утверждением согласились все.
— Многая лета Димитрию Ивановичу! — первый закричал Рубец.
— Многая лета!
— Многая лета!
А царевич сказал:
— Сейчас объявим это народу. И все отправимся в церковь. Будем молиться перед Курской иконой Божией Матери! Я ведь говорил: Божия Матерь — моя заступница!
После службы в церкви царевич приказал гетману Дворжицкому готовиться к выступлению в поход — под Кромы.
— Возьмите с собою пять сотен казаков, пятьсот польских воинов и тысячу московских людей, — повелел он. — Вместе с вами едут ротмистры Запорский, Борша и атаман Коринец. Всё.
19
Никогда ещё в своей жизни не торопился так в дороге боярин Басманов, как в эти весенние дни, наполненные блеском талой воды. Русская земля лежала в разливах бесчисленных рек, иногда неприметных под снегом, но вдруг, по зову природы, разлившихся по всей округе.
Басманов хотел бежать от самого себя. В Москве ему становилось страшно.
В Москве перед глазами мельтешило лицо царя Бориса, положенного в гроб под именем Боголепа, — перед смертью царь успел принять монашескую схиму и новое имя. Кожа на лице покойного отливала сплошной чернотою. Из-под неплотно прикрытых синих век, казалось, за всем происходящим следят внимательные глаза. Царь вроде бы сожалел, что не успел чего-то совершить. Смерть застала его на пути к какому-то важному решению. (И тогда впервые в голове у Басманова возник вопрос: а что, если покойного действительно отравили? Кто затеял в таком случае губительную игру, в которую вовлечено пол-России? Об отравлении говорили немцы лекари. Их тут же взяли под стражу по велению нового царя).
Князя Катырева-Ростовского, приличия ради ещё указом покойного государя названного первым воеводою в главном войске, Басманов оставил в Калуге.
Вместе с митрополитом новгородским Исидором князю надлежит принимать присягу новому царю. Там стоят свежесобранные войска, о которых царём Борисом говорено как о новой своей надежде. Правда, в таких поступках князя Катырева-Ростовского и митрополита Исидора замечалось уже первое ослушание царской воли: велено ведь им во весь дух устремиться к Кромам. Но князь Катырев-Ростовский слишком высоко себя ставит, чтобы задумываться над указами мальчишки, чью голову второпях украсили царскою короною. Она ему, дескать, не принадлежит.
Невдалеке от Кром, на почти сухом уже и ровном возвышенном месте, откуда открывался вид на несколько лагерей, в которых стояло сейчас в бездействии царское войско, Басманов выхватил из рук ямщика ярко-красные вожжи. Кони, почуяв крепкую чужую руку, взвились как змеи. Гривы заметались по ветру.
— Но! Но! — всё же подбадривал лошадей воевода, привстав на затёкших было ногах.
Ему хотелось поскорей насладиться видением удивлённых лиц князей Мстиславского и Шуйского, когда им будут показаны грамоты молодого царя. Собственно, подписал их ещё его отец Борис, а теперь пришлось перебелить слово в слово.
Первыми на пути попались пёстрые красивые палатки чужеземного воинства. Чужеземцы предупреждены о прибытии нового главного воеводы.
Басманова чужеземцы встречали барабанным боем и трубной музыкой. Все они были чисто да исправно одеты, стояли ровными послушными рядами.
Среди чужеземцев Басманов без труда признал француза Якова Маржерета, назвал его по имени.
Маржерет поклонился с большим старанием. Упругие перья на бархатной шапочке взметнулись, закачались и приняли прежнее положение.
— Не взяли ещё? — с лёгкой издёвкой поинтересовался Басманов, не адресуя, впрочем, издёвку Маржерету. Он указал при этом на заметную возвышенность вдали, окружённую сейчас весенними водами.
Над возвышенностью курилось множество весёлых дымков. Под такими дымками обычно готовится пища. Там отчётливо виднелись валы. А больше никаких построек при валах и за валами различить было нельзя.
Капитан Маржерет добродушно улыбнулся. Смекнул, что новый воевода его ни в чём дурном не заподозрил.
— Нет, — сказал Маржерет. — И не могли взять.
Они поняли друг друга с полуслова. Как воин воина.
— А где находятся сейчас князья Мстиславский и Шуйский? — спросил Басманов, хотя отчётливо видел несущихся навстречу конников, оплошавших при выборе момента встречи.
И тут Басманов услышал такое, по поводу чего ему стоило не то удивляться, не то выражать возмущение.
— Уехали ночью, — сказал Маржерет.
— Ага, — просто так ещё отвечал Басманов, чтобы ввести француза в недоумение: то ли он, Басманов, знал о том, да запамятовал, то ли так и положено было поступать князьям.
Но понял Басманов одно: юного царя Фёдора Борисовича князья ставят невысоко. Они уехали, не дождавшись царской грамоты, но руководствуясь собственными соображениями. Они хотят устроить свои дела в Москве, пока до неё не добрался неприятель. Они не хотят воевать против другого юноши, полагая, что тот... настоящий царевич!
Басманову стало дурно.
И припомнилось то, что нечаянно, неожиданно вырвалось из уст простоватого Семёна Годунова: «Кажется мне, что мнимый царевич и есть настоящий!»
Получалось, будто князья Мстиславский и Шуйский снова обвели его, Басманова, вокруг пальца, снова опередили! В случае чего скажут: мы с целью не вели сражений! Именно потому не стали преследовать разгромленных под Добрыничами. Потому не спешили за ними к Путивлю, а вроде бы принялись осаждать Рыльск. Да и оттуда сразу ушли, хотя царь Борис торопил действовать. Ушли вглубь России. Остановились под Кромами. Не боясь насмешек, нарочно не взяли эту ничтожную крепостишку... Они все знали наперёд. Они ждали смерти Бориса Годунова!
И чем дальше раздумывал Басманов, тем страшнее становилось ему. Царь Борис умер не своей смертью!
Басманов слушал донесения, беседовал с воеводами, принимал советы, в уме вертелось одно: что сейчас делает загадочный юноша, находящийся в Путивле?..
Уже третью неделю бушевало царское войско на берегу разлившейся реки Кромы. И началось это буйство почти с того самого дня, как там появился воевода Басманов. Но ещё сильнее забурлило оно с той самой поры, как вослед за воеводою поспешили сюда всё-таки князь Катырев-Ростовский и митрополит новгородский Исидор с сонмом священников. И как начали они приводить народ к присяге.
В походной церкви при воеводских шатрах день и ночь читали вперемешку с молитвами и пением патриаршью грамоту. Многие негодовали уже в церкви, не соглашаясь с услышанным. И тут же кричали:
— Не люб нам Фёдор Годунов!
— Не желаем его на царство! Незаконный это царь, как и его отец!
Но кричали ещё из толпы, непонятно кто.
А вскоре дошло до того, что нашлись отдельные смельчаки, которые открыто отказывались присягать новому царю. И чем дольше это длилось, тем больше набиралось подобных людей. Они шумели громче тех, кто соглашался присягнуть. Громче тех, кому всё равно, что здесь делается. Начались драки, схватки на саблях.
Вскоре получилось так, что уже не для кого стало читать грамоты и некого было приводить к присяге.
Митрополит Исидор почувствовал: ему лучше уехать, вместе со священниками. Он так и сделал.
Князь Катырев-Ростовский тоже вмиг понял: дело это нешуточное. Отвечать перед молодым царём придётся ему как названному главным воеводою. Он забыл о собственном высокомерии, о лени. Он явился Басманову в шатёр. Красные глаза его, после бессонных ночей, бегали, словно осиротевшие мышата.
— Что, боярин, делать? Виселицы плачут!
Князь хотел выразиться стальным голосом а получилось визгливо. Басманов улыбнулся, вроде бы по-дружески. А в самом деле с пренебрежением. Но сказал твёрдо:
— Виселиц не будет.
— Почему? — удивлённо поднялись у князя над красными глазами чёрные брови.
— А не хочется мне самому качаться на виселице! — отрезал со значением Басманов.
— Мудрено говоришь, боярин, — пробурчал князь глуховатым голосом.
На том и расстались. Что думал Катырев-Ростовский, как решил поступать дальше — Басманову не известно. Да только ведомо, что князь из шатра не выходит. А возле шатра стоят осёдланные кони.
Басманову, конечно, как он был уверен, ничего не стоило навести порядок в войске, заткнуть глотки говорливым смельчакам вроде рязанских боярских сынов Ляпуновых, которые громче прочих подбивают народ на непослушание. Да внутренний голос удерживал от подобных действий. Осмотревшись под Кромами, порасспрашивав участников столь длительного топтания у крепости, Басманов сделал заключение, что крепость можно было взять, и сейчас ещё не поздно, но делать этого нельзя. А что следует делать — он так и не знал. Впрочем, понимал, что при таком его бездействии и бездействии прочих военачальников огромное войско легко может стать добычею для небольшого войска молодого загадочного человека, буде тот заявится сюда.
А явиться молодому человеку сюда предстояло непременно.
Басманов ещё не ложился спать, как ему доложили, что разъезды поймали важного лазутчика.
«Вот оно!» — подумал Басманов даже с облегчением. А вслух приказал:
— Прямо сюда.
Лазутчик оказался высоким, молодым и горбоносым человеком, юношей. У него была по-московски длинная чёрная борода при тёмном цвете лица и смелых горящих глазах. Однако Басманов сразу уловил в его выговоре что-то не совсем московское. Наверное, это был казак, причём не донской, но запорожский.
— Кто ты таков? — спросил Басманов, делая знак приведшим, чтобы пленника развязали.
Казацкий есаул с рябым скуластым лицом выдернул из-за пояса кривой короткий нож — обрывки верёвки тут же упали на пол.
— Я служу царю Димитрию Ивановичу, — сказал пленник, шевеля перед собою затёкшими пальцами.
— У нас царь — Фёдор Борисович! — на всякий случай напомнил Басманов.
— Знаю одного царя — Димитрия Ивановича! — невозмутимо повторил пленник.
— И как тебя зовут? — пропустил мимо ушей его утверждение Басманов.
— А зовут меня Петро Коринец, — отвечал пленник. — И был я запорожским казаком. Но по деду и отцу я московит, хотя в Москве ни разу ещё не бывал! Да вот с царём Димитрием Ивановичем скоро буду!
— Гм, гм, — не знал, что отвечать и о чём дальше спрашивать Басманов. — А что ты делал возле крепости?
— Возвращаюсь из Путивля. Несу оттуда грамоту царя Димитрия Ивановича.
— Где же она? — оживился Басманов.
— Твои люди отобрали, боярин, — указал пленник на стражей.
— Где она? — повторил Басманов, слегка поворачивая голову.
— А вот, — поспешно достал из-за пазухи бумажный свёрток есаул. — Что есть, то есть. Не врёт. И оружие у него было. На то казак. Да оружие мы потеряли. Больно шибко скакали. Прости, боярин.
Грамота выглядела в самом деле по-царски. С красной печаткой, с красивыми литерами. Красного цвета.
Мгновение подумав, Басманов разорвал верёвку, скреплявшую свёрток. Его поразил красивый цвет чернил. Грамота начиналась словами: «Мы, царь всея Руси и великий князь Московский Димитрий Иванович...»
Басманов не мог оторвать взгляда от написанного. То была царская грамота. Он это чувствовал.
— Кому несёшь? — спросил Басманов тихим голосом, невольно проникаясь доверием к пленнику.
— А в Кромы. Тамошним людям. Чтобы знали: Димитрий Иванович сам сюда вскоре будет. Я послан впереди войска, которое сюда идёт. Да в грамоте сказано, боярин.
— И сколько же войска? — спросил Басманов, косясь в грамоту.
— Десять тысяч казаков и двадцать тысяч поляков. Не считая нескольких десятков тысяч московитов и прочего военного люда.
Басманов, сказано, уже верил всему этому. Басманову хотелось верить. Но для пленников существуют свои правила. Пренебречь ими Басманов не мог.
Через минуту пленного увели.
Басманову хотелось сделать распоряжения, чтобы пленника обязательно оставили в живых. Хотелось облегчить его участь. Однако и это было противу правил, которых Басманов нарушить не мог. А потому он ничего не сказал. Отправился спать, чтобы принять надлежащее решение утром, после того, как пленник побывает под пытками, под огнём, на дыбе. Когда от него узнают всё, что полагается.
Спал Басманов плохо. Он думал о пленнике. В одно мгновение ему даже захотелось отправить людей в землянку, где правят дело окровавленные палачи. Но и этого не сделал. Его сморил сон. А когда проснулся, за стенками шатра раздавалось уже лошадиное ржание, слышался топот копыт — там было утро.
Первым его вопросом был вопрос насчёт пленника, поскольку он сразу увидел оставленную с вечера на столе грамоту. Слуги отвечали, что пленник оказался строптивым. Потому палач перестарался. Но пленник живуч, дышит. Вот только стоять и сидеть не может. Он подтвердил всё то, что говорил вчера. А если Бог смилостивится — он будет жить.
Басманов был недоволен действиями палача. Он ещё раз внимательно перечитал грамоту и велел тотчас посылать за воеводами вспомогательных полков.
Не успели, впрочем, собраться созванные воеводы, как в лагере, в котором с утра начались раздоры, вдруг учинился невероятный галдёж.
Выйдя из шатра, Басманов различил призывы:
— Идём! Идём!
— Все идём!
— Пусть воеводы ведут!
— Мы им покажем!
Очень вскоре Басманов узнал, что воевода Иван Годунов — царский родственник, который накануне отправился было во главе татарской конницы на разведку в сторону Рыльска и уже добрался было до речки Свапы — вынужден был возвратиться назад. Ему встретились польские конные разъезды. За ними, дескать, движется огромное войско.
Собравшиеся к Басманову воеводы зло смеялись, припоминая, какой это вояка, Иван Годунов, — трус и хвастун. Но когда Басманов прочитал им вслух грамоту, отнятую у вчерашнего пленника, когда поведал, о чём узнал от него, а ещё, что пленник и под пытками повторил свои показания слово в слово, — воеводы притихли.
— Будем драться, — мрачно прохрипел князь Андрей Андреевич Телятьевский, воевода передового полка, всегда остававшийся верным Годуновым.
— Да как драться? — возразил ему князь Василий Васильевич Голицын, воевода полка правой руки. — При таком беспорядке внутри войска? Когда, того и гляди, кровопролитие между своими начнётся Вон рязанские братья Ляпуновы разбушевались.
— Убережёмся, — заверил, скорее сам себя, Телятьевский и заторопился из шатра. — А Ляпуновых усмирить должен князь Михайло. На то ему и власть великая от царя дадена! — крикнул уже на выходе.
Князя Михайлу Катырева-Ростовского ждали напрасно. Он прислал сказать, что болен.
Басманов осторожно завёл разговор насчёт того, что положение скверное, однако первым делом следует решить, кому присягать, раз такая разноголосица.
— Какому царевичу? А?
Он так и сказал — «какому царевичу». Он знал, что возразить на подобные слова мог бы ушедший князь Телятьевский. Прочие воеводы смотрели друг на друга и молчали. И только Михайло Глебович Салтыков с готовностью ухватился за сказанное Басмановым.
— Чего думать, бояре? — закричал Салтыков, поднимаясь во весь рост. — Признать надо Димитрия Ивановича, потому что незаконно сел на престол Борис Годунов, Бог ему судья теперь. Ну а мы ему клялись? Клялись. Потому что думали: нет больше законных наследников после смерти Фёдора Ивановича. А при чём здесь Федька Годунов? Что он значит против законного сына царя Ивана? Только подумайте: город за городом переходит на сторону спасённого царевича! Вся Севера в его руках. А теперь вот и король польский войско шлёт. Король понимает: если ему перед Богом было страшно нарушать клятву, данную Борису при заключении мирного договора, то теперь он свободен от клятвы!
— Да! — подхватили с жаром Василий Васильевич Голицын и его брат Иван Васильевич. — Дождёмся, что одни и останемся не под царскою рукою!
— Это так, — поддержал братьев Басманов. — Бог за царевича Димитрия. Уж как мы сражались против него под Новгородом-Северским, а что получилось? Кому нужна наша победа?
Салтыков начал открыто:
— Надо писать Димитрию Ивановичу.
По словам Салтыкова ещё не было понятно, что имеется в виду: то ли он уже поверил, что в Путивле настоящий сын Ивана Грозного, то ли он предполагает, что всем сидящим здесь иначе не выкрутиться, когда войско начнёт сдаваться засевшим в крепости казакам, которые чувствуют себя победителями. И на что тогда надеяться воеводам? На мальчишку, который в Кремле надел на себя шапку Мономаха? Так уж не лучше ли сразу глотнуть позора, зато быть спокойным и за себя, и за своих детей?
Возможно, у Салтыкова тоже было продумано, как достигнуть желаемого, да только Басманов его остановил. Потому что был уверен: лучшего хода, нежели он, Басманов, здесь и сейчас не придумает никто.
— Надо сделать вот как, — сказал Басманов. — Пускай кромчане на нас нападут как сторонники царевича Димитрия Ивановича. А нас уже силой пускай к ним отведут!
Салтыков и братья Голицыны встретили предложение с восторгом.
Салтыков закричал:
— Есть у меня верные люди! Они всё уладят! А сказывали они, будто бы в крепости сидит верный друг самого царевича, по имени Андрей Валигура! Что он решит — того царевич никогда не меняет!..
На том и остановились.
Все разбежались по своим шатрам, не совсем понимая, что завтра свершится.
Басманов вышел из шатра и долго ещё глядел на разлившуюся реку Крому. Теперь она казалась настоящим морем. У ног воеводы плескались пенистые волны.
Затем Басманов укрылся в шатре и принялся писать царевичу Димитрию. Он раскаивался в том, что сражался против него в Новгороде-Северском.
Занимаясь письмом уже при свечах, почти всю ночь напролёт, Басманов уснул лишь под утро, не раздеваясь и даже не снимая сапог. Он так и рухнул на походную низкую кровать, под вздохи и причитания своего старого слуги Кирилла, который пестовал его с раннего детства и почти никогда с ним не расставался.
Получилось всё не так уж и плохо.
Потому что проснулся Басманов от криков над головою.
— Пропустите, бесы!
— Куда! Отваливай!
— Отступи!
Дюжие аркебузиры в красных кафтанах, поставленные для охраны воеводы, едва сдерживали толпу, осаждавшую шатёр.
Басманов, поднимаясь, попенял себя, почему не дал надлежащих указаний страже относительно сегодняшнего дня. Успел подумать, что из-за этого может случиться кровопролитие, — но на большее у него времени не хватило.
— Боярин! Боярин! — метался у его ног Кирилл, суя ему в руки то саблю, то пику. Кирилл был уверен, что его господин справится с каким угодно количеством супостатов.
Пока аркебузиры отбивались от наседавших у входа, нападавшие сумели проникнуть в шатёр ( другой стороны, прорубив стенки шатра ударами сабель.
— Хватай! — завопили.
— Держи!
— Вяжи!
Всё было окончено в одно мгновение. Аркебузиров смяли, словно малолеток. Руки Басманова тут же были скручены за спиною верёвками, как у настоящего пленника.
— Вот так! — гоготали, довольные. — Вот так!
— Отгулял своё, сволочь!
— Не убежит! Верёвка-то татарская!
Салтыков не соврал, подумалось Басманову. Салтыков это устроил. Неужели самого Салтыкова вот так же спеленали верёвками и пинают сапогами в зад?
Связанного воеводу вытащили из шатра, словно мешок с шерстью, и повели, с ругательствами и угрозами, куда-то по направлению к воде, которая уже нестерпимо сверкала под солнцем. Он не отрывал взгляда от этого блеска. Ему хотелось увидеть связанных Катырева-Ростовского, Телятьевского, Салтыкова. Он даже по-озорному предположил: князь Катырев-Ростовский обязательно наложит в портки. Ведь он не знает о сговоре.
Но увидеть этих людей связанными ему не удалось.
Басманову, правда, пришлось несколько раз прокричать, что он и так готов присягнуть царевичу Димитрию Ивановичу: уж больно пинали сапогами. Уж чересчур хорохорилась чернь.
Но ему не верили.
— А зачем принуждал целовать крест Федьке Годунову? Этому выблядку?
— Да ещё Машке-засранке! Малютиной поганой дочке! Зачем?
Басманов больше не отвечал. Бесполезно. Его никто не слышал и не хотел слушать. Он был доволен, что получилось как раз так, как он задумал. Ну почти так. А подготовили все люди Салтыкова.
За Басманова пытался отвечать слуга Кирилл. В шатре он был сбит на пол ударами кулаков, но быстро очнулся и теперь со стонами увивался вокруг взбунтовавшихся вояк.
— Отпустите боярина, изверги! Не грешите против царя и Бога!
— Да не к царю его ведём! — гоготали в ответ и пинали старика сапогами.
Через разлившуюся Крому за ночь был выстроен на скорую руку деревянный мост, даже с перилами. Однако народа на него направлялось столько, что сооружение трещало, прогибалось, извивалось. И было понятно — оно недолговечно. Впрочем, не многие это понимали.
Солнце поднималось над миром весёлое. От воды исходил лёгкий пар. Потому люди устремлялись вброд — кто верхом, кто на возу. Однако никто не знал, что́ под водою, какое дно. Многие держались за грядки возов, за лошадиные гривы и хвосты, а всё равно то здесь, то там раздавались крики о помощи: кто-то нырнул в колдобину, кто-то тонул.
Люди торопились к крепости. Торопились те, кто желал поскорее явить свою преданность царевичу Димитрию.
На середине моста стояло уже несколько священников в рясах. Они давали целовать золотые кресты. Они приводили к присяге Димитрию Ивановичу.
Басманов не успел ещё приблизиться к священникам, как вдруг почувствовал, что с него уже сдернуты верёвки. В руки ему сунули одну из тех грамот царевича Димитрия, которых уже полно накопилось в московском войске.
— Читай! — требовали.
Он читал с удовольствием, почти не глядя в написанное. Его увлекал за собою человеческий поток. Вскоре мост кончился, и воевода оказался перед земляным валом, на который до сих пор он глядел только издали. Из каких-то подземных ходов, из каких то едва приметных дыр в земле вылезали смеющиеся, гогочущие человеческие существа с чёрными немыты ми лицами, со спутанными бородами, но с грозными саблями и с мушкетами в руках.
Оборванцы приветливо кричали:
— Давайте к нам, земляки! Мы вам царя привели!
— Мы друзья вам! Ничего не бойтесь!
Опытным глазом Басманов выделил среди оборванцев низкорослого человека, с изуродованным рубцами лицом, с длинными руками, и сразу понял: перед ним и есть атаман Корела, о котором он наслышался ещё при осаде Новгорода-Северского.
Несмотря на то, что Басманов менее всего вы вал сейчас уважение у своих воинов, что они толпились возле него, толкали его, что постороннему глазу было трудно усмотреть в Басманове важного человека, главного воеводу, боярина, поскольку одёж была забрызгана грязью, изорвана, мокрая, — несмотря на это, Корела тоже сразу определил в Басманове главное лицо среди прибежавших сдаваться воинов.
— Боярин! — подошёл к нему Корела, размахивая длинными руками. — Перед тобою человек, который заменяет нам здесь царевича Димитрия. Всё, что ты хотел бы сказать царевичу, говори ему.
Из толпы защитников крепости выступил высокий курчавый молодой человек, которого Басманов замечал не раз с валов новгород-северской крепости в соседстве с царевичем Димитрием.
Человек этот приветливо улыбался.
20
С приходом горячей весны и с наступлением разительной перемены в государстве путивляне почувствовали себя прямо-таки на седьмом небе.
Ещё недавно они до рези в глазах всматривались вдаль. Не прут ли из-за Сейма, по низким тамошним берегам, строптивые безбожные татары? Не вздумала ли какая-нибудь орда воспользоваться нестроением в Русском государстве? И по-прежнему оставалась опасность нападения с севера, со стороны Москвы. Не гонит ли оттуда своё несметное войско князь Мстиславский?
Но вот свершилось чудо.
В путивльской каменной церкви, возле иконы Пресвятой Девы Богородицы, в золотом окладе, подаренном царевичем, день и ночь били люди земные поклоны.
— Заступница наша!
— Она нас спасла!
Так говорили на паперти.
Так говорили по всему городу.
Так говорили на шумной ярмарке, куда стекались люди из дальних мест.
А ещё смеялись путивляне при одном появлении беглого монаха Гришки Отрепьева. Гришка беспрестанно шлёпал босыми ногами по городу, вздымая жёлтую пыль, и рассказывал всем любопытным, что в действительности это он служил Богу в Чудовом монастыре, в Москве, при самом Патриархе Иове! И не раз составлял там для владыки пространные писания, поскольку имел тогда быстрый ум и хороший почерк. А ещё, шутки ради, заговаривал он там о царском престоле, на который-де не прочь усесться, — пускай Бог простит такие речи. Причиной же подобных разговоров в Москве послужило то, что у него, вот видите, на носу точно такое же родимое пятнышко, как и у почившего, говорили, в Угличе малолетнего царевича Димитрия. Борис Годунов предавал людей смерти за упоминание об угличском царевиче. Потому и Гришке грозило в Москве страшное наказание. Ему пришлось бежать за Днепр, в Литву. А когда в Литве объявился настоящий царевич Димитрий, которого Бог и добрые люди, оказывается, спасли от кровожадного злодея Бориса, то в Москве вдруг вспомнили про Гришку Отрепьева и про его похвальбы и объявили народу, будто в Литве обретается вовсе не царевич, что это, дескать, Гришка самозванно выставляет себя московским царевичем!
Всегда находились в Путивле люди, которые впервые слышали речи беглого монаха.
— Вот ты каков, настоящий Гришка Отрепьев! — кричали они. — А Москва совсем завралась!
Услышав новость, они спешили разнести её по всему православному народу.
Путивляне же потешались над россказнями Гришки.
Гришка изображал в лицах московских монахов Даже Патриарха Иова. Даже самого злодея Бориса Годунова.
Бородавка (не пятнышко) на носу у Гришки при давала безобразный вид старому лицу со сморщенной кожей землистого цвета. А красное пятнышко на том же месте на носу у настоящего царевича Димитрия (все могли убедиться) наливалось кровью только и минуты напряжения. Да и тогда ему не испортим царского облика.
— Ох! — тянул Гришка Отрепьев к небу свои сухие тонкие руки с дрожащими старческими пальцами. — Укоротят мне жизнь эти проклятия и анафемы, которые Патриарх сыплет на мою голову. Чую, православные, и знаю. И одно меня только утешает: эти проклятия нисколько не подействуют на царевича Димитрия, нашего государя!
И старый Гришка тут же пускался в пляс, стоило немного отойти ему от церковной паперти. А ещё — заглянуть в корчму, где его с готовностью угощали первые встречные. Его знали все. И все успели полюбить. Так что не одну ночь проводил он теперь с новыми друзьями под путивльскими заборами в предместьях: было уже достаточно тепло.
Случалось, и царевич прислушивался к рассказам Гришки. И говорил ему царевич, непременно подавая при встречах золотую монету:
— За меня страдаешь, бедный старик. Да недолго осталось страдать. В Москве я тебя отблагодарю. Но ещё достойней отблагодарит тебя Господь Всевышний.
— Многая лета тебе, государь, — кланялся земно Гришка. — И сподоби меня Господь увидеть тебя в Москве на отцовском престоле. А больше мне, грешному, ничего и не надо в этом мире.
Народ, глядя на всё это, часто бывал в затруднении. Смеяться ли над забавными выходками и россказнями Гришки? Рыдать ли над его судьбою?
А государя путивляне видели не только каждый день, но почти на протяжении всего дня. На их глазах отправил он пышное посольство во главе с бывшим черниговским воеводою Татевым, чтобы поведало оно в Кракове польскому королю, что уже вся огромная Севера перешла на сторону своего законного государя! И произошло это вопреки прямому предательству польских рыцарей. Они нарушили свою клятву, одержимые духом стяжательства, и покинули войско в трудную минуту, возвратились домой. Хотя и без них всё будет улажено и устроено надлежащим образом, а всё же король должен знать об их недостойном поведении и поставить о том в известность своих подданных. Как бы в подтверждение сказанного этим посольством, было отправлено вскоре в Польшу ещё одно посольство, но уже от имени горожан Путивля и всех прочих городов Северской земли. Это посольство возглавил избранный народом Сулеша-Булгаков. А ещё каждый день видели путивляне царевича в гонкой своей церкви, перед иконой Божией Матери.
А ещё любил он беседовать при народе с разными умными и знающими людьми.
Он уже мысленно видел то время, когда распоряжения будет отдавать из московского Кремля.
— Для своих подданных я стану отцом и защитником. Пускай всякий в государстве занимается таким делом, к которому лежит его душа. Во мне не увидите гонителя чужих вер. Но, конечно, превыше всего у нас будет православная вера наших предков!
Царевич любил повторять:
— Особенно высоко поставлю образование. В Москве у нас будет университет, подобный Краковскому. Я там не раз бывал. Всё разузнал. Всё рассмотрел. Я знаю и верю: русские нисколько не уступят по уму прочим умным людям. Во главе университета поставлю ректора Андрея Валигуру. Вернее сказать — Великогорского, так его предков у нас называли. Этот-то человек в короткое время усвоил в Остроге умные премудрости, в том числе латинский и древнеэллинский языки, на что другим людям требуются десятки лет. А если он ещё не успел усвоить всего, что необходимо знать ректору университета, так это он быстро наверстает при своих молодых ещё летах. Теперь у него будет достаточно средств, возможностей и времени. Я ничего не пожалею для русской науки.
Когда — после получения известий о смерти Бориса Годунова — в Путивле наконец вздохнули свободнее, царевич лично принялся за учёбу и попытался приобщить к ней своих самых ближних людей. Однажды, когда на небе сияло солнце, а зелёная трава исходила теплом и манила к себе своей свежестью, царевич, увидя в руках у патера Андрея Лавицкого объёмистую книгу, пожелал, чтобы патер немедленно её раскрыл и прочитал во всеуслышание, что там написано. Конечно, кроме обоих патеров и самого царевича, никто среди присутствующих при том не мог сказать, что и ему понятны красиво звучащие латинские слова. Впрочем, и царевич не стал скрывать, что его познания в латыни, которые он перенял от Анд рея Валигуры, недостаточны для полного понимания услышанного. Он захотел, чтобы патер Андрей растолковал прочитанное.
Патер Андрей знал, о чём толкует.
Получилось интересно.
От услышанного захватывало дух. Будто беседуешь с людьми, которые жили за много столетий до тебя.
Потому царевич приказал:
— Будем заниматься ежедневно.
Он назначил часы. Занятия проводились на протяжении двух недель — под раскидистым дубом у дома воеводы Рубца-Мосальского. В присутствии многих людей, которые стремились проникнуть в неведомый для них доселе мир. Проводились бы они, пожалуй, и дальше, если бы не важные дела, которые заставили царевича на время отказаться от задуманного.
— Что же, — сказал царевич с сожалением, — отложим до Москвы... А там, глядишь, и Андрей Валигура сюда подоспеет...
Андрей Валигура приехал в одной карете с князем Иваном Васильевичем Голицыным. Карету тащили белые лошади и сопровождали верховые стрельцы.
Князя Голицына царевич встречал на крыльце воеводского дома, украшенном красными коврами и уставленном многочисленной стражей. Впрочем, конные казаки гарцевали по обеим сторонам прохода на всём протяжении от ворот до этого крыльца. Они с усилием сдерживали народ.
Князь продвигался по этому проходу со своею свитою, а путивляне отпускали на его счёт разные словечки безо всякого зазрения совести и весело смеялись, просто гоготали. Когда же князь спешился и зашагал в направлении крыльца в сопровождении Андрея и дюжих стрелецких полковников, то споткнулся на ровном месте, не дойдя на шаг до ковровой дорожки.
— Держись, князь! — закричали из толпы. — Не робей уж так!
— При майском-то солнце!
И началось веселье:
— Наверное, ты за Гришкой Отрепьевым прискакал!
— Га-га-га!
— Ты его в Кромах искал, а он у нас вот!
Гришка Отрепьев торчал на виду, неподалёку от крыльца. Он раздувал щёки и смеялся громче всех. Вернее, он озоровал, издавая звуки, похожие на козье блеяние: бе-е-е, ме-е-е!
Князь не понимал, что это всё значит, о каком Гришке речь, чему смеётся народ. Князь багровел толстым лицом. Но под усами, под бородою — тоже наверняка растягивал кожу в улыбке. Андрей Валигура тихонько ему что-то рассказывал, успокаивал, что ли. Но и сам Валигура казался озадаченным.
На положенном расстоянии от крыльца князь ударил челом вместе со всею свитою и заговорил так звонко и громко, что путивляне враз притихли, удивляясь такой силе голоса и боясь пропустить отдельные слова.
— Государь, царь и великий князь Димитрий Иванович! — отчётливо неслось над площадью. — Бьёт тебе челом всё московское войско, которое обманщик и злодей Борис посылал против неведомого беглого монаха Гришки Отрепьева, якобы вздумавшего выдать себя за царевича Димитрия. Мы уже тогда подозревали обман, но были связаны присягою и целованием Божия креста. Однако под Кромами воевали мы только для виду. Теперь же, когда Борис преставился, его наследники требуют от нас новой присяги. А в ней говорится уже не о Гришке, но о князе Димитрии Угличском, чтобы к нему не приставали! И мы поняли: был то обман! Борис посылал нас воевать против тебя, великого нашего государя. Провинились перед тобою мы невольно. И решили просить у тебя прощения, государь наш, чтобы взял ты нас под свою руку и вёл нас на Москву, а уж мы своею верною службою поможем тебе усесться на престол твоего отца. А доказательством нашей верности тебе пусть будет пока то, что всех несогласных с нами мы связали, разве что которые успели убежать, как вот князь Катырев-Ростовский, а ещё князь Телятьевский, — и представляем связанными на твой справедливый суд. Боярин Иван Годунов, родственник Бориса, связан и привезён к тебе. Смилуйся только над нами, государь наш! Даруй нам своё прощение правь нами многая лета!
— Многая лета! — подхватил с готовностью на род, которому очень понравилась речь князя Голицына.
— Многая лета!
— Молодец, князь! В Бога веруешь!
— Молодец!
Царевич, расцветая улыбкою на выбритом начисто лице, с явным удовольствием выслушал княжескую речь. Он спустился на нижнюю ступеньку крыльца, подал князю для целования руку. А затем обнял его за плечи, громко крикнул:
— Спасибо, князь! Спасибо всем моим подданным, которые вернулись под мою власть! Передай им, что никого преследовать не стану, никого не буду наказывать. А что касается Гришки Отрепьева — так вот он, перед тобою! — И царевич указал на Гришку Отрепьева.
Тот засмеялся, заблеял козлом.
Князь ударил себя по лбу и тоже засмеялся.
Засмеялся и Андрей Валигура.
Затем царевич обнял Андрея, которого ещё в Путивле никто не видел, но о котором все были наслышаны уже сверх меры.
За трапезой царевич не отпускал Андрея от себя ни на миг. Он слушал его и слушал.
— Говори! Говори!
Они сидели в воеводском доме, в самой большой горнице, и собравшийся народ мог видеть царевича и всех трапезничавших. Воевода Рубец-Мосальский бросал на Андрея Валигуру ревнивые взгляды, но тут же улыбался и говорил любезности. Время от времени царевич появлялся в распахнутом окне, чтобы помахать своим подданным рукою и услышать в ответ гром пожеланий здоровья и многих лет жизни для блага этих же подданных.
Гришка Отрепьев расхаживал перед народом и потешал его своими шутками.
— Неужели Запорский не мог найти другого подходящего человека? — спросил царевич, выслушав рассказ Андрея о смерти его побратима Петра Коринца.
Андрей не отрицал такой возможности.
— Охотников было много, — сказал он. — Я разговаривал об этом с Запорским. Найти, конечно, человека он мог, да не мог отказать Коринцу. Что поделаешь? Коринцу хотелось искупить вину своих друзей-запорожцев. Запорского я понимаю.
— Жаль, жаль, — повторил царевич. — Я не давал Запорскому подобного поручения, — сказал он в сердцах. — Это бросает тень и на меня. Я никогда не лгал своим подданным.
При этих словах царевич вдруг осёкся. Какая-то непонятная тень пробежала по его лицу. Спросил:
— А где его похоронили?
— В соседнем с Кромами монастыре. Туда свозят всех погибших под Кромами и в Кромах. Как с той, так и с другой стороны. Даже чужеземцев...
— Да, — продолжал в задумчивости царевич. — А кто такой, кстати, чужеземец, что приехал с тобою? — И он посмотрел на ближайший стол.
— Француз Маржерет, — отвечал Андрей. — Я встречал его на Украине. Под Добрыничами он спас нам с Петром жизнь. А потом, без раздумий, перешёл на твою сторону, государь. Благодаря ему почти все чужеземцы оказались на твоей стороне. В Москву их удрало всего несколько десятков.
Маржерет заметил, что разговор идёт о нём. Он уже был готов подняться из-за стола, не расставаясь с кубком. Успокоился лишь тогда, когда царевич приветливо помахал ему рукою и отослал для него от себя кубок самого изысканного вина.
— Государь, — продолжал Андрей. — Конечно, это большая для тебя потеря — смерть такого человека, как Петро. Но у тебя есть причины и для того, чтобы порадоваться: на твою сторону перешёл воевода Басманов!
— Я уже получил от Басманова письмо, — отвечал царевич. — Но поверить пока не могу. Уж очень запомнилась мне осада Новгорода-Северского. Нет ли здесь какой-нибудь уловки? Пока не увижу его самого.
— Он едет вслед за нами, — сказал Андрей.
С этого момента, кажется, царевич думал только о предстоящей встрече с Басмановым.
— Государь! — уверял его Андрей. — Басманов тебе предан. Такие люди слов на ветер не бросают. И решение у него появилось не мгновенно. Это я понял Конечно, он огорчён, что попался на выдумку Запорского. Запорский при первой же встрече, уже на пиру, признался в своей придумке.
— Запорский будет наказан! — твёрдо пообещал царевич, и снова какая-то тень сомнения прошла по его лицу. — За излишнее рвение.
Андрей сразу понравился путивлянам. На следующий день его знал уже весь город. На него указывали пальцами: «Друг царевича... Учёный... Которого царевич поставит в Москве во главе высшей школы...»
А потому, когда в Путивль наконец приехал воевода Басманов, то присутствие Андрея рядом с царевичем уже никого не удивляло.
Андрей ходил за царевичем как тень, чем, пожалуй, несколько смущал воеводу Рубца-Мосальского, хозяина города. Воевода полагал, что он сам оказал царевичу исключительно важные услуги.
Надо сказать, приезд Андрея с князем Голицыным и выборными людьми от войска придал значительности как Путивлю, так и окружению царевича. Это понял и воевода Басманов. Басманов несколько смутился, увидев такое море народа перед церковью, услышав густой колокольный звон и стрельбу из множества пушек. Он шёл к руке царевича очень медленно, торжественно, даже надменно, что ли. Он выделялся ростом и красотою, светлыми волосами на обнажённой голове.
— Государь! — сказал он, и голос его не сразу окреп.
Как только царевич увидел перед собою Басманова — Андрей тут же понял: они понравились друг другу с первого взгляда.
— Вот каков ты, боярин, — сказал царевич, тут же повелев Басманову встать с колен. — Я тебя таким и представлял. Когда ты не давал нам прохода к Москве.
— Прости, государь! — склонил всё ещё обнажённую светловолосую голову Басманов, вставая с колен. — Я тебе о том писал.
— Ты прощён, Басманов! — улыбнулся царевич. — Если я сейчас о чём вспоминаю, так это не в укор тебе, но в похвалу. Ты с честью сражался и многому нас научил. Служи и мне так же верно, как служил ты прежде, повинуясь присяге и чести.
Басманов при всём народе троекратно перекрестился на церковь.
— Верь, государь! Если ты меня сейчас только увидел, то я тебя ещё тогда видел, когда ты водил своих людей на приступы. И ни разу не позволил мне Господь направить выстрел пушки в то место, где ты обретаешься. И уже потому я понял тогда: тебя охраняет Господь. И хотя Патриарх присылал нам свои грамоты, и сам Борис уверял в Москве, будто ты не настоящий царевич, не сын Ивана Грозного, — я не верил этому никогда.
Басманов говорил уже громко. Его слышал весь народ. А по лицу царевича при этих словах текли слёзы.
— Это потому, — сказал царевич, — что за меня заступается Богородица.
Тут народ уже не выдержал.
— Буди здрав, Димитрий Иванович! — громом грянули человеческие голоса.
— Буди! Буди!
— Многая лета!
— Многая лета!
И то же самое подхватил церковный хор:
— Многа-а-а-я лета-а-а!
Путивляне могли полагать, что по значению их город сегодня равен Москве, если не превосходит её.
21
Этого известия Василий Иванович Шуйский ждал днём и ночью. Он был готов к нему постоянно.
И всё же весть о смерти Бориса Годунова ошеломила его.
А ещё поразило то, что известие привёз из Москвы боярин Басманов.
Известие лишило Василия Ивановича способности думать и действовать. Вернее сказать — оно захлестнуло его под Кромами, как неопытного пловца захлёстывает и накрывает с головою речная волна. И накатилось неодолимое желание поскорее оказаться в Москве. Не дожидаясь, когда Басманов протянет царские грамоты (царские?) и сдержанно, но с презрением, как он умеет, процедит: «Ну так вот... Стало быть, мне теперь за всё здесь отвечать...» Дескать, убирайтесь подобру-поздорову, лопухи подзаборные...
Подбить князя Мстиславского на мальчишеский поступок оказалось делом несложным.
«Видишь ли, князь, — сказал ему в его шатре Василий Иванович, — теперь Басманов станет царским зятем. Это уж точно. Он будет поэтому всячески доказывать, будто бы победа над самозванцем принадлежит исключительно ему!»
Мстиславский побледнел от злости. Уразумел окончательно: покойный царь Борис лукавил, обещая в жёны красавицу Ксению.
«Ненавижу выскочек! — высокомерно прорычал князь Мстиславский. — Едем в Москву! Пускай он без нас тут хоть что-нибудь провернёт! Пускай!»
А через несколько часов княжеские обозы, друг за дружкой, уже катились по направлению к Орлу. При ярком лунном свете за телегами бежали синеватые тени, словно души погибших понапрасну под Кромами умоляли не оставлять этих мест. В окрестных рощах заливались соловьи. А вообще было тихо. Не стучали даже тележные колёса.
Терпения у Василия Ивановича на медленную езду хватило только до Орла.
В Орле он оставил свой обоз. И верхом, в сопровождении десятка конных стрельцов и самых необходимых людей, князь устремился вперёд, через Тулу — к Москве.
Опомнился перед Серпуховскими воротами. На рассвете. Столица ещё только просыпалась. Передохнул у себя в хоромах и почувствовал: тяжесть от сердца не отвалила. Обвила его пальцами, словно длиннющая змея.
Москва и после пробуждения оставалась непонятной.
Вроде незаметно было для глаза, что нет в ней царя... Кто понимает — тот не сочтёт за царя недорослого мальчишку. Даже при Борисе подобного чувства осиротелости государства не наблюдалось. А теперь?.. Кто избрал на престол Федьку-сопляка? То-то же... А по наследству... Какое у него на то право при живых Рюриковичах? О Господи! Что скажут в соседних государствах? Вот когда следовало поднять свой голос королю Жигимонту. Замойский, говорят, сказал-таки весомое слово на краковском сейме: «Если и надо кого поддерживать из законных претендентов на московский престол, так это Шуйского!» Молодец. Он всё понял... Он прочитал письмо. Наверное, и от прочих ляхов не утаил. Содержание письма известно не одному ему.
Перед свежим и огромным каменным надгробием в Архангельском соборе Василий Иванович пролежал в неподвижности неизвестно сколько времени. Не понимая толком, чего же он просит у Бога, на что надеется. Но знал, что молитвы его не помогут заблудшей душе Бориса. Однако встал он с каменного помоста с преображённою головою. Уже догадывался, что надо делать.
Не надо суетиться.
Главное, не считал себя виновным во внезапной кончине Бориса.
Несмотря ни на какие возможные подозрения.
Мстиславский, не желая терзать себе душу размышлениями об утраченной явно невесте, по приезде в столицу сказался тяжело больным, лишь бы не показываться в Кремле. Царица Марья Григорьевна надоумила сына-царя, что князю надобно предложить помощь от лекарей-немцев. Да Мстиславский не отвечал и на это.
Мстиславский давно и открыто твердит, что не помышляет ни о какой царской короне. Что же, не в коня корм. Это верно сказано. Помышлял бы, если бы имел достаточно ума. А если бы мог царствовать, так не упустил бы подходящих возможностей, какие у него появились. Не свалился бы от побоев в первом же незначительном сражении.
Но Шуйские... Шуйские всегда чувствовали свою ответственность за всё русское государство. И Шуйские никогда не упускали возможности посетить Кремль.
Василию Ивановичу пришлось даже поторопиться.
В Кремле ведь, конечно же, лучше знали, что творится под Кромами. Потому что собственные доносчики князя Шуйского дремали вдали от его зоркого глаза, зазря получая пропитание и деньги. А в Москве между тем говорилось разное. И порою совершён но невероятное. И вслед за прибытием князя Мстиславского вскоре явились люди из-под Кром. Они-то и поведали, будто бы государево войско полностью перешло на сторону самозванца! А где Басманов? Убит? Предан? Но такого голыми руками не возьмёшь! Чернь московская была уже готова поверить страшному известию. Да и она не могла поступить столь легкомысленно. Очень много развелось обманщиков. Впрочем, говорилось, бежавшие из-под Кром сами не верят, что подобное могло произойти. А бежали они-де потому, что было страшно. Восстал уже брат на брата.
Молодого царя Василий Иванович застал не на троне, как мог бы ожидать, но в горнице и над пёстрым чертежом всей Русской земли.
— Василий Иванович! — прослезился царь, кого-то живо напоминая страдальческим выражением незрелого лица. — Василий Иванович! На тебя уповаю!
Царь был в красной рубахе, точь-в-точь папаша, хотя удалью и статью он превосходит своего покойного отца. Да и учёностью тоже. Потому что Борис, сам сирота в детстве, выбившийся в люди благодаря покровительству и заботам родного дяди, Димитрия Ивановича, сына своего сызмальства готовил к управлению государством. Федьку учили заморские учителя. И держал его Борис при себе на всевозможных приёмах. Чтобы отрок всё видел и всё запоминал. Ко всему привыкал. Он, значит, готовил его сидеть на престоле. У Бориса всё было продумано.
— Боюсь, государь, что недостоин я твоих надежд! — отвечал Василий Иванович.
Да одного не усвоил Фёдор Борисович от своего отца, с ехидцей подумалось Василию Ивановичу. Это — казаться беззаботным и весёлым, когда всё идёт из рук вон плохо.
— Худы дела, Василий Иванович! — по-детски пожаловался юный царь, расстёгивая по-отцовски на груди красную рубаху. — Чует моё сердце, что всё то правда, о чём говорится на Москве. Нет никаких вестей из-под Кром. Ничего не шлют оттуда ни князь Катырев-Ростовский, ни боярин Басманов.
«Не умер ты, Бориска, — подумал про себя Василий Иванович. — Но остался в сыне своём. Точь-в-точь!»
И тут же обожгло сердце. И тут же пожалел себя. Прасковьюшка вон который раз брюхатеет и который раз сыновей рожает, а всё — безотцовщина... Господи! Отольются тебе, Бориска, на том свете слёзы чужие!
— Молись Богу, государь, — только и нашёл в себе ответа Василий Иванович, потому что враз стало понятно: нет, Федьке царствовать недолго. Значит, всё идёт как надо. Скоро Москва поймёт, кого следует посадить на престол.
— Я молюсь, Василий Иванович, — сказал не по-царски просто Фёдор Борисович. — Да чернь уже стучится в Кремль. Чернь не верит, что там — самозванец. Как найти для неё доказательства? А если под Кромами и взаправду произошло то, о чём шумят беглецы? Кромы — они вот где. — И длинный белый палец уткнулся в яркое пятно.
Запело в душе у Шуйского: не дошли бы до тебя подобные слухи, Феденька, останься при твоём войске князь Шуйский. Нет. Да слушал ты, Феденька, свою матушку Марью Григорьевну. А бабье ли дело держать Россию в узде? Теперь же вас, Годуновых, одно могло бы спасти: призвать старицу Марфу из монастыря и умолить её, чтобы при всём народе поклялась: мёртв её сын! И всё! Расстрига, дескать, тянет руки к царской короне. Только не додуматься вам.
А вслух Шуйский молвил:
— Доказательства у меня на устах.
Торопясь к царю, он видел, правда, народные толпы возле Кремля и при кремлёвских соборах. Но люди кланялись ему как полагается. Ничего зловещего он не заподозрил. Молятся.
— Василий Иванович, — доверительно, как и его покойный отец, обратился царь к боярину, — я ведь ничего не пожалею для России. Только боязно мне... Выйди ты и расскажи, что знаешь о покойном царевиче Димитрии!
— Хорошо, государь!
Князь Шуйский знал, что надо говорить народу. Говорить пришлось в тот же день, с высокого дворцового крыльца.
Такое количество народа, внимающего ему, Василий Иванович видел только во сне. Теперь же он сразу понял: его уважают. Потому что все вокруг затихли. Замерли, осклабились, как только он поднял руку и вытолкнул изо рта первые слова:
— Православные! Бога бойтесь! Молитесь!
Он выхватывал взором из толпы чьи-нибудь измученные ожиданием глаза и направлял на них весь свой пыл и гнев.
— Неужели тебе ещё мало, люд московский, этой повседневной кары, которую наставлений ради обрушивает на тебя милосердный и всепрощающий Бог! Неужели вам, православные, до сих пор ничего не понятно? Опомнитесь! Не грешите! Потому что и без того погрязли в грехах. Молитесь! Молитесь денно и нощно. А вы замышляете новые грехи. А головы ваши готовы поддаться соблазну, каковому поддался беглый монах, расстрига, обманутый сатаною. Уже много народа вертится вокруг него, чтобы погрузиться потом в вечную геенну огненную. Содрогнитесь! Помните: Бог идёт наказывать вас не кнутом, но насылает бедствия! Из-за одного нечестивца страдают тысячи! И вы пострадаете, и дети ваши, и внуки, вплоть до седьмого колена... Образумьтесь, православные! А что касается царевича Димитрия Ивановича — так я вам крест целую: своими руками положил я царевича в гроб! — И князь Василий Иванович высоко вскинул над собою сверкающий золотом крест, который носил при себе, и поцеловал его так выразительно, что народ ахнул, запричитал, закричал. Где-то визгливо зарыдали бабы, зашлись в плаче младенцы.
Ударили колокола.
Взлетели вспугнутые птицы.
Народ уходил уже с потупленными взорами.
Народ пытался усмирить своё буйство.
Народ подчинился. Не его это дело — проникать в замыслы своих пастырей.
Из верхнего окна во дворце, сквозь узорчатые стёкла, следил за всем молодой царь. Глядел и рыдал, обнадеженный, неопытный.
Князю Василию Ивановичу сделалось легче на душе.
Потому как чувствовал: всё, что совершается ныне в Москве, что творится на огромных русских просторах, — доступно его пониманию.
Он мог повлиять на эти события. Мог повернуть всё, что совершается, таким образом, как ему покажется нужным. Он знал, как это сделать. Как повернуть.
Конечно, знал не в полном объёме. Полностью всего никто не ведал. Однако он, князь Шуйский, знал обо всём больше, нежели прочие, которые о чём-то также догадывались.
Увидевшись с царём после того, как народ разошёлся, унося в себе свои догадки и нехитрые сомнения, князь Шуйский вдруг усумнился в себе и слегка устыдился собственной гордыни. Ему захотелось ещё чем-то помочь несчастному царствующему юноше, которого ему по-человечески было жалко.
— Государь! — сказал, склоняя голову, Василий Иванович. — Прикажи расставить на кремлёвских стенах пушки.
У Фёдора Борисовича благодарно сверкнули глаза.
— Да! Да! Конечно! А то... На Красной площади столько зевак праздных! Да!
Он поднялся во весь свой громадный рост, чтобы тут же отдать нужные приказы.
22
Уверенности в себе у князя Шуйского тоже хватило всего лишь на несколько дней.
Первым делом он услышал о прибытии в Москву князей Катырева-Ростовского и Телятьевского.
Он их не видел. Да и не торопился и не желал видеть. И не потому только, что приболел о ту пору, что ночами метался в бреду, пылая жаром, и что Прасковьюшка не успевала менять на нём рубахи Даже когда стало легче, когда пропастница[42] отпустила — не хотелось видеть. Он даже не почувствовал никакого удовлетворения из-за того, что, по-видимому, так бесславно закончился на этот раз поход князя Катырева-Ростовского, сменившего его в государевом войске. Да разве могло такое дело кончиться по-иному? Крутой нравом Басманов вынудил Катырева-Ростовского удалиться из войска и заставил его под каким-то предлогом возвратиться в Москву. А за ним увязался и прилипчивый Телятьевский, вечно всем и всеми недовольный, вечно сгорающий от зависти.
Сначала, выздоравливая, князь Шуйский беззаботно слонялся по своему дворцу, пробуя силу собственных ног, и краем уха слушал доклады молодого Варсонофия о том, что народ-де после возвращения этих князей уже дожидается подхода войск самозванца-вора. Что кто-то распускает слухи, будто бы уже совсем рядом с Москвою находятся атаманы Корела да Заруцкий со своими дикими казаками, с которыми Корела выстоял в осаждённых Кромах; что выставленные на кремлёвских стенах пушки привели московскую чернь в ещё большее оживление.
Василий Иванович понимал, кем распускаются слухи, раздумывал, не стоит ли предпринять меры, чтобы всё это приглушить, или же ничего не надо пока менять, а сам тем временем беззаботно повторял, главным образом для Варсонофия и для Прасковьюшки:
— Враки всё это! Корела против Москвы... Смех... Говорили, что если его сдёрнуть с коня да поставить на землю, то его и малые детки сковырнут и зашибут!
Подобное же говорил и по поводу слухов о появлении на Руси польской королевской армии.
— Да кто разрешит королю посылать к нам войско? Да ещё с Жолкевским во главе! — уже негодовал он. — Польшу, ляхов на наш аршин мерят! При живом-то Яне Замойском! Ляхам нужен мир! Жолкевским шведа держат!
Однако вскоре князю Шуйскому доложили, что вор-самозванец уже находится в Туле, что при нём и Басманов, и многие бояре, и воеводы, что при нём уже всё государево войско, которое он распускает за ненадобностью, и что он прислал из Тулы свои грамоты, а гонцами его с теми грамотами стали дворяне Гаврила Пушкин и Наум Плещеев. Что в Кремле, в царском дворце, не знают, что и делать, как поступить, потому что указанные посланцы от Димитрия, опасаясь явиться прямо в Москву, начали читать привезённую мерзость в Красном Селе, не доезжая до Москвы, да народ принудил их силою явиться-таки на Красную площадь, чтобы непотребное прозвучало с Лобного места!
Это заставило Василия Ивановича встать на ноги до поры.
— Как? — прошептал он настолько слабо и беспомощно, что Прасковьюшка, поражённая этим голосом, подставила ему свои белые руки, обхватила его. — Как? — повторил он. — Басманов...
— Князюшка, — запричитала Прасковьюшка, сжимая его дрожащее тело, предчувствуя неладное. — Да куда ты, болезный... Да ты приляг... Да без тебя разберутся... Чай, при царе живём... На тебе лица нет. Приляг...
Князь действительно не стоял на ногах.
— Царь, — сказал он ещё тише и со злостью, но получился настоящий стон. — Царь... Таких ли царей нам надо...
Пока его одевали, пока он пробовал ногами пол, устоит ли на нём, ему доложили, что́ именно написано в тех грамотах, которые уже читаются.
Варсонофий, сам хоть из молодых, да ранний, вмиг сообщал услышанное на Красной площади и переданное ему:
— Народу видимо-невидимо! Да вся Москва уже там! Весь Кремль облеплен людьми, от ворот до ворот! Весь Пожар! Только собор Покрова «что на рву»[43] возносится, словно корабль над волнами! И грамоты те обращены к первенствующим в государстве боярам: к твоей милости, Василий Иванович, к твоим братьям обоим, к князьям Мстиславскому, Телятьевскому и прочим, а также ко всем боярам, что при царском троне, ко всем окольничим, стольникам, стряпчим, ко всем жильцам, приказным дьякам, дворянам, боярским детям! Не забыты торговые люди, помянут весь чёрный народ. Вор напоминает всем о прежних клятвах своим государям Ивану Васильевичу и Фёдору Ивановичу и никому не ставит в вину того, что его, царевича-де Димитрия, хотели извести со света по наущению коварного Бориса. Вина лежит на одном только Борисе. А кто его, Димитрия Ивановича, признает сейчас государем, тому никогда не попеняет он прежним грехом, непослушанием, но всегда будет любить он своих подданных и жаловать их. А идёт он сюда с огромным войском, и все уже бьют ему челом и признают над собою его высочайшую власть!
Под это говорение Варсонофия, которое отзывалось в голове сплошным гулом, но не отдельными, понятными и вразумительными словами, за князем Шуйским явились его братья Димитрий да Иван, оба насопленные, как вороны осенью, и в один голос сказали:
— Народ московский без промедления требует тебя, Василий Иванович, на Лобное место!
— Народ хочет ещё раз услышать от тебя правду об убиенном царевиче, — добавил брат Димитрий Иванович, опуская голову, глухим голосом.
И это следовало понимать скорее по-иному: народ, дескать, вовсе не хочет услышать горькую правду о царевиче Димитрии.
— Но я уже на днях клялся на кресте, — отвечал Василий Иванович, отводя от себя руки Прасковьюшки, которая сегодня даже прятаться не стала от суровых посторонних глаз.
— Надо ехать, — повторил Димитрий Иванович. — Так будет куда как лучше.
— Едем! — решился старший брат, оттолкнув от себя Прасковьюшку.
Как его везли в возке, как довезли, как потом подняли на руках, передавали друг другу над морем шапок и обнажённых голов — о том Василию Ивановичу не забыть до смертного часа. Он парил над бездною, над пучиною, и эта пучина готова была его поглотить в любое мгновение. И краем глаза ловил в сияющем майском небе валившиеся на него кресты над полыхающими сиянием куполами Покрова «что на рву», хотел перекреститься, но руки были неподвластны, они проваливались и застревали в месиве человеческих голов, бород, рук. Он только шевелил губами и выталкивал изо рта просьбы, обращался к Богу. И это, наверное, помогло. Он вдруг оказался на ногах. Он стоял на твёрдом каменном помосте, рядом с боярами Андреем Андреевичем Телятьевским и Иваном Михайловичем Воротынским, — последний был недавно возвращён молодым царём из ссылки. Чуть подальше толпились прочие бояре, думные дьяки, стольники. Они толкали друг друга и на Лобном месте, и у его подножия. Но вид у всех у них был скорее жалок. Они стояли вперемешку с народом, а стрельцы были также разбросаны в толпе, а потому было понятно, что царские воинские силы сейчас совершенно беспомощны перед грозною силою народных толп.
— Говори, Василий Иванович! — сказал князь Андрей Андреевич Телятьевский. — Народ московский хочет знать правду о злодеяниях Бориса Годунова!
И снова князю Шуйскому почудилось, будто бы и князь Телятьевский хочет подсказать: народ московский ни за что сейчас не поверит правдивым словам. Народ уже поверил, что в Туле сидит оживший царевич Димитрий. И твоя правда, Василий Иванович, нисколько уже не поможет обречённым Годуновым, но может сильно повредить тебе же. А раз повредит тебе, значит, повредит и царскому престолу, повредит царской короне, повредит всей России, повредит всем!
О, как хотелось князю Шуйскому крикнуть сейчас всё то, о чём он знал. Как хотелось показать, что он один и достоин называть себя царём, коль ему удалось обвести вокруг пальца всех этих недотёп. Да страх, животный страх закрался в душу: а не обманул ли он самого себя?
Василий Иванович заглотнул в себя сколько мог воздуха и по привычке поднял правую руку — людские крики от этого его движения нисколько не утихли, лишь вокруг Лобного места сделалось тише. Пожалуй, там, вдали, и не очень понимали, кто сейчас на Лобном месте, чего ждут от князя Шуйского эти люди, которые его окружили, видят его и знают лично. Но и этого ослабления шума, которое возникло вокруг Лобного места, было достаточно, чтобы его голос услыхали люди пусть и в нескольких шагах от него.
— Люди! Православные!
Он и сам не слышал своего голоса, толком даже не понял, что сказал. Зато отчётливо расслышал, о чём перекликаются люди вокруг Лобного места и далее, далее, за церковью, и вдоль рыжих кремлёвских стен, и вообще на далёком расстоянии, на каковом только способен что-то увидеть глаз.
— Что он сказал? — кричали одни.
— Он сказал, что царевич в Угличе не погиб!
— Как? Да ведь он сам в том на кресте клялся!
— Опасался мести Бориса! А затем — его сына!
— Да! Борису не удалось его коварство!
— О Господи! Многая лета царевичу Димитрию Ивановичу!
— Он жив! Это он!
— Шлём гонцов!
— Многая лета!
И не успели эти волны докатиться до самых дальних границ человеческой толпы, как оттуда, издали, начались накатывать новые волны:
— В Кремль!
— Даёшь Кремль!
— В Кремль! Выбросим оттуда Борисова ублюдка!
— В Кремль! Выдворим Марью-засранку!
— В Кремль!
Набатно ударили колокола.
Бояре вокруг Василия Ивановича, а с ними и неизвестно как пробившиеся братья его, стояли с белыми, страшными лицами.
— В Кремль!
Человеческие толпы уже врывались в кремлёвские ворота. Кто не вмещался на мостах, брели вброд, в толчее, в давке преодолевали реку, отделявшую Кремль от Красной площади.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
разу после возвращения из-под Кром Андрей Валигура почувствовал какую-то перемену в поведении царевича.
Вначале этому не хотелось верить. Однако царевича с ним уже что-то разделяло.
Нет, царевич обрадовался встрече, несомненно. Царевич снова поручал Андрею составление самых важных документов, а также писем в далёкий Самбор. Царевич советовался с ним почти обо всём, но уже не обо всём. Он по-прежнему толковал с Андреем об устройстве в Москве университета, о будущих московских бакалаврах. Но взгляд царевича теперь всё чаще устремлялся в сторону Москвы. Что-то неведомое окружающим терзало душу государя. Об этом не говорили. Расспрашивать было некогда. Да никто и не побуждал Андрея расспрашивать о чём-то подобном.
Андрей поначалу пытался приписать всё это влиянию князя Рубца-Мосальского, с каждым днём становившегося всё более важным, значительным. Затем — влиянию Басманова. Басманов не отходил от царевича, пока не был отряжён к войску, в передовой полк. Андрей ещё надеялся, что со временем всё войдёт в привычную колею. Как вошла в свои берега весенняя вода. Что всё непонятное, едва угадываемое, — рассеется.
Однако так лишь казалось.
Непонятное и неприятное только усиливалось.
Вскоре Андрей стал свидетелем, как настойчиво царевич расспрашивает князей Ивана Михайловича Воротынского и Андрея Андреевича Телятьевского, присланных в качестве выборных от Москвы. Они вручили ему в Орле грамоты, писанные от имени Патриарха Иова, от имени Освящённого Собора, бояр, дворян и всего русского народа. Грамоты были преисполнены просьбами простить невольные проступки и прегрешения. Москва призывала царевича поскорее занять отцовский престол!
Царевич с недоверием, а далее с неудовольствием переспросил, выслушав всё, что писано в грамотах:
— Патриарх Иов... Да... А как отстаивал Годуновых... Сколько анафем мне объявил...
— Государь! — молвили в один голос князья. — Годуновых нет уже на царском престоле. Народ их прогнал. Годуновы с трепетом ждут твоего решения. Они заперты в старом дворце, в котором жили прежде, пока ещё Борис Годунов не занимал царского престола.
— Именно потому! — сказал со значением царевич. — Я не могу въехать в столицу до тех пор, пока в ней будут Годуновы. Пока там будет Патриарх Иов. — И царевич так выразительно посмотрел на собеседников, что у тех согнулись шеи.
— Молчите? — укорил царевич. — А ведь и вы присягали сыну Бориса Годунова?!
— Государь! — попытался что-то возразить князь Телятьевский, поднимая голову, но был остановлен резким взмахом руки.
Остановил же его, получалось, царевич ради того, чтобы дать возможность высказаться Рубцу-Мосальскому.
— Государь! — с улыбкою попросил Рубец-Мосальский. — Пошли в Москву меня. Встретишь там такой же приём, какой ты видел у меня в Путивле. Я подготовлю столицу к твоему приезду.
Он держал себя так, как если бы речь велась о необходимости согреть давно оставленный хозяевами дом.
Рубец-Мосальский отправился в тот же день. Он прихватил с собою дьяка Сутупова — тоже надёжного человека.
Об их отъезде царевич не только не посоветовался с Андреем, как сделал бы прежде, ещё в Путивле, но даже не сказал ему, о чём беседовал на прощание с Рубцом. Беседовал с глазу на глаз.
А царевич действительно в Москву пока не торопился.
Правда, вскоре он оставил Тулу и приказал войску медленно двигаться в сторону Серпухова.
До Серпухова царевич ехал верхом, в окружении воинства, которое сверкало оружием, конскою сбруею, боевыми доспехами.
Однако военное окружение мешало общению с простым народом, а народ облеплял процессию на каждой стоянке. Не говоря уже о том, что люди везде стояли вдоль дороги плотными рядами. В руках они держали иконы, хлеб-соль, цветы — у кого что было.
Царевич спрыгивал с коня, ловко пробирался сквозь свою стражу и начинал беседовать с людьми из толпы. Он не разрешал падать перед собой ниц, но расспрашивал о житье-бытье, как если бы приходился встречным людям ближайшим родственником, который возвратился после длительного отсутствия. Люди в ответ обходились с ним подобным же образом. Они расспрашивали, как ему жилось в чужих краях, много ли перенёс там невзгод. Они вели себя так же, как если бы он приходился им давним соседом, был деревенским жителем, с которым они прежде делили нехитрые радости и огорчения жизни. Разговоры велись живо и весело, под стать великолепной погоде, которая, казалось, надёжно установилась надо всею Русью.
— Ой, как часто вспоминал я эти чистые небеса! Как часто вспоминались такие вот берёзки! — Царевич обводил рукою всё видимое вокруг. — Вспоминались такие вот цветы!
Он поспешно брал в руки и нежно гладил простенькие ландыши, которые подносили ему крестьянские пугливые девушки, закрывая при том рукою вспыхнувшие румянцем щёки. И слёзы катились у него по лицу. Он их не утирал. Он улыбался сквозь слёзы.
Деревенские люди рыдали.
— О Господи! — повторяли они. — И за что мучился человек? И какой человек!
— Да! Сам царь! Подумать только!
— Помню, — продолжал царевич, — довелось мне вот так же брести на чужбине по огромному лугу. А был он такой, как вот этот, что перед нами. И вдруг до того захотелось увидеть родную землю — что я упал в траву и заплакал, словно несмышлёный ребёнок. Никто не видел тех слёз. Разве что пичужки на ветках приумолкли. Сколько лежал — не знаю. Да только вдруг послышался мне ласковый голос: «Потерпи! Ты ещё увидишь дом твоего отца!» Я вскочил на ноги — кроме птичек, не было никого.
— Господь подавал голос! — плакали люди.
Плакали и смеялись.
Своим поведением царевич, конечно же, удивлял свою огромную свиту. Она разрасталась с каждым днём. Вокруг царевича обретались уже поспешившие из Москвы князья Шуйские — три брата: Василий Иванович, Димитрий Иванович да Иван Иванович. Все они выглядели одинаково притихшими. Чужим себя чувствовал и князь Мстиславский — огромный ростом и всегда пьяный, с глупым выражением красного лица. Был тут и Шереметев — он постоянно о чём-то спрашивал важного Басманова, а тот отвечал со снисходительной улыбкой всё понимающего человека. Были братья Голицыны. И прочие, прочие. Они суетились, как бы соревнуясь друг с другом в проявлении уважения к новому государю.
А ещё съехалось много духовенства.
Собравшихся приводил к присяге митрополит Рязанский Игнатий. Вокруг царевича уже шептали, будто бы Игнатию вскоре быть Патриархом всея Руси. Потому что Иову им уже не быть. Вот, дескать, князь Рубец-Мосальский всё в Москве устроит.
Андрей не знал о замыслах царевича. Но Андрей был уверен: эти разговоры похожи на правду.
Из Москвы навстречу двигались обозы за обозами.
Из столицы везли роскошные кареты. За ними гнали табуны породистых коней. В обозах ехали искусные повара, различные слуги, умельцы, даже лекари.
А ещё везли из Москвы горы съестных припасов.
А ещё — невиданную здесь посуду.
Новый царь собирался задать пир своим подданным.
На лугу, над чистой Окою, вскоре раскинули доставленный из Москвы шатёр. Издали он казался настоящим дворцом. Над шатром возносились искусственные башни, но вроде настоящих. Входы в шатёр напоминали собою замковые ворота. Столы внутри химерического сооружения сверкали позолотою. Столы уже ломились от яств и напитков.
Царевич, в роскошном убранстве, которое горело драгоценными камнями, встречал гостей под звуки громкой музыки, привезённой поляками. От этих звуков у многих вздрагивали руки и ноги.
Когда гости расселись за столами, — а вместилось свыше двух сотен человек! — когда князь Василий Иванович Шуйский произнёс свою похвальную речь хозяину шатра и едва только были выпиты первые чары, как царевича увели: гонцы из Москвы привезли очень важные вести от князя Рубца-Мосальского. Гости пировали вовсю. Уже князья Шуйские раскраснелись и помолодели, не говоря о князе Мстиславском, лицо того пылало костром. Тогда царевич снова вырос на своём месте за столом и громко, не скрывая радости, объявил:
— Завтра выступаем! В Москве уже нет Годуновых!
Князь Василий Иванович Шуйский при этих словах встрепенулся. Он вскочил на ноги и долго стоял выпрямившись, с поднятым кубком. Лицо его просияло. Он оглядел своих братьев, будто сомневаясь, всё ли они поняли как следует. Князь хотел о чём-то спросить царевича, да не тут-то было. Никто из пирующих уже не мог ничего расслышать.
— Правильно!
— Бог наказал!
— Многая лета царю Димитрию Ивановичу! — только и удавалось расслышать.
Царевич выбежал из шатра.
Где-то сразу затрещали мушкетные выстрелы. Выстрелы эти, беспорядочные и частые, раздавались до глубокой ночи.
Ликовали не только в огромном шатре и во всём лагере. Ликовали по всем окрестным деревням.
Царевич призывал народ радоваться вместе с ним.
После прибытия этих гонцов государь явно заторопился.
В войске уже знали, что старая царица Марья и молодой её сын царь Фёдор Годунов отравили себя ядом. Уцелела, дескать, только Ксения. Девица не отважилась принять заранее приготовленное снадобье, когда увидела распростёртые на полу тела матери и брата. Теперь она в монастыре. Она не представляет опасности. Ей никто не присягал.
Нету, говорили, в Москве и Патриарха Иова. Он лишён сана и отправлен в дальний монастырь.
— Я так соскучился по родным местам! — говорил царевич Андрею в короткие мгновения, в которые им выпадало общаться. — Только подумать: увижу Кремль! Увижу отцовскую могилу. Могилы предков.
Андрею снова казалось, что слова эти отделяют его от царевича, что тот меняется у него на глазах.
И вот настал вожделенный день.
Ясным июньским утром, в подмосковном селе Коломенском, царевич легко, прямо-таки по-мальчишески, вскочил на коня. Андрею померещилось, что государь готов лететь вперёд птицею.
А Москва за рекою сияла золотыми куполами своих многочисленных церквей.
Конь под царевичем был великолепен, одно загляденье, — лучшего не сыскать в царских конюшнях. Сбруя на нём горела золотом и стреляла искрами от драгоценных камней. Попона радовала переливами алого цвета. Говорили, что коня подобрал в царских конюшнях сам боярин Богдан Бельский, который когда-то был приставлен к малолетнему царевичу главным пестуном. Однако вскоре он был отправлен в ссылку Борисом Годуновым. Теперь же боярин Бельский ждёт не дождётся своего воспитанника в Москве.
Сам царевич ехал в золотном[44] своём убранстве. Лицо его сияло.
Глаза горели воистину царским блеском. Глядя на него, Андрей уже сам сомневался: да тот ли перед ним сейчас человек, с которым столько времени довелось скитаться по белу свету?
Царевича окружали первейшие в государстве люди. Одежда на каждом из них затмевала, казалось, одежду соседей. Андрей среди них почувствовал свою как бы ущербность. Он подозревал, что всем известно, какое у него ничтожно маленькое лесное имение (да и то в Речи Посполитой), что все над ним посмеиваются, зная, откуда его одежда — по милости царевича. Что же, в скопление первейших на Руси людей он попал, получается, случайно. Ему захотелось отказаться от незаслуженной чести, да было уже поздно.
Первыми по дороге на Москву двинулись польские роты. Немногочисленные рыцари, капля в море московского люда, полною мерою ощущали всю торжественность момента. Их оружие и доспехи были вычищены до исключительного блеска. За спинами у них развевались подвешенные металлические крылья. Рыцари сами себе казались непобедимыми сказочными грифонами, посаженными на коней. Либо же кентаврами. Они старались держать в одной линии обращённые кверху остриями длинные копья. Они двигались в трубном пении и в громе барабанов.
Поляков московские люди встречали сдержанно, однако благодарили за помощь.
— Спасибо вам, люди добрые!
— Бог наш вас не забудет!
За польскими рыцарями шли московские стрельцы в малиновых кафтанах — пешие, ловкие, привычные и красивые — все свои.
Стрельцам кричали отовсюду:
— Молодцы! Молодцы!
— Молодцы! Поддержали нашего родимого!
— Не стали проливать братней крови!
— Не подчинились злодею Борису!
За стрельцами катились роскошные кареты, доставленные ещё в Серпухов. Каждую из них тащили шестёрки коней. А за каретами верхом скакали дворяне и боярские дети — один другого краше. Их сопровождала уже русская военная музыка — накры и бубны. Звуки часто получались нестройные, резали ухо. Зато была это своя, родная музыка.
Дальше трепыхались на лёгком майском ветру церковные хоругви. В золотых ризах плыли дородные попы. Каждый нёс в руках Евангелие в золотой оправе либо святой образ. Над толпами колыхались изображения ликов Спасителя, Богородицы и московских чудотворцев.
Шествие духовенства замыкал митрополит Рязанский Игнатий, которого царевич прочил в Патриархи всея Руси — об этом было известно.
Народ, приветствуя процессию всё возрастающими криками, нетерпеливо ждал появления главного человека, ради которого сюда он и собрался, ради которого были заполнены лицами окна придорожных домов. Люди влезали на высокие заборы, на крыши всевозможных строений, на придорожные деревья.
И когда наконец на дороге появился царевич в окружении бояр, крик вознёсся до небес:
— Вот он!
— Вот наш защитник!
— Вот наш царь!
— Господи Всемогущий!
— Господи! Помоги ему, нам на радость!
Царевич ехал на белом коне — сказочный герой, посланец неба, избавитель от всех земных невзгод.
Так вступили на мост через Москву-реку! Так миновали ворота, возведённые при выходе на берег. Там восседал на коне воевода Басманов. Он низко склонил голову, показывая своим видом, что всё в порядке.
И вот — Кремль!
Кремлёвские башни терялись вершинами в голубых небесах. Андрей от удивления даже придержал своего коня. Именно таким он видел московский Кремль во сне. Именно таким представлялся он ему по рассказам отца, по описаниям в ветхих книгах, оставленных в далёком лесном имении, где теперь хозяйничает всеми забытый старик Хома Ванат.
Царевич на берегу натянул поводья и снял с головы шапку. Он перекрестился и громко произнёс, обводя народ сияющими глазами:
— Господи Всемогущий! Ты провёл меня невредимым сквозь все опасности! Ты сохранил мне жизнь, несмотря на козни и коварство моего врага. Ты привёл меня в полном здравии в город моего отца, к моему любимому народу! Господи! Чем отблагодарить тебя? Чем докажу я тебе свою преданность? Я, твой покорный слуга?
Андрей, стоявший рядом, видел, как обильно стекают слёзы по щекам государя. Андрей сам почувствовал, как неведомая сила сжимает ему горло, как приобщается он к своему народу. Он усматривал в своей судьбе что-то такое, что роднило его с царевичем.
— Господи! — закричала в толпе молодая женщина с яркими горящими глазами, не отрывая взгляда от молящегося царевича. — Господи! Чудо творится перед нами. Люди! Православные! Молитесь Господу нашему!
Народ московский плакал, ликовал и умилялся.
Под нарастающий колокольный звон, не садясь в седло, а ведя коня под уздцы, с обнажённою головою, царевич поднимался в гору, мимо горящего разноцветными искрами собора Покрова «что на рву», и оказался возле высокого каменного помоста, в котором Андрей без труда признал Лобное место.
Перед ними во всей красе лежала Красная площадь.
Сплошною стеною теснилось на огромном пространстве духовенство, собранное, наверное, со всей Москвы, ото всех её соборов и церквей. Такого обилия золотых риз, сверкающих окладами образов, плещущих на лёгком ветерке хоругвей Андрей не мог себе даже во сне представить.
Царевич, отдав коня Андрею, тотчас начал прикладываться устами к иконам, крестам и образам, подходить под благословение священников. Это продолжалось так долго, что Андрей счёл нужным взять его за руку. Он увидел в государевых глазах отсветы какого-то иного мира.
— Государь, — тихо напомнил Андрей, — пора в Кремль. Садись на коня.
В Кремль царевич въехал верхом.
В Успенском соборе его благословляло собравшееся там духовенство.
После молебствия в Успенском соборе, в окружении бояр, царевич отправился в Архангельский собор и припал там к гробу Ивана Васильевича Грозного Обхватив руками камни, он дрожал всем телом. И бояре, стоявшие вокруг него плотным кольцом, утирали слёзы, как и простой народ.
— Отец! — слышалось сквозь рыдания. — Твои молитвы спасли меня. Ничего не поделали со мною твои враги... Отец... Я возвратился. Я стою возле твоей могилы... Я никому не буду мстить... Пусть боятся они меня, пусть знают, как я силён! Особенно те, кто меня ненавидел... А силён я потому, что мне помогает Всевышний Бог! За меня заступается Богородица!
После молебствия в Благовещенской придворной церкви царевич наконец вступил в высокий дворец. Там его встретил боярин Богдан Бельский — весь седой, как лунь.
— Государь! — заплакал старик. — Государь! Свершилось то, чего требовал от меня твой родитель, Иван Васильевич. И я сейчас, если выдержит моё сердце, если не упаду по дороге мёртвым от счастья, — выйду на Красную площадь, поднимусь на Лобное место и объявлю всему православному народу русскому, что ты теперь с нами, государь!
Рыдания не давали говорить старому боярину. Он упал к ногам царевича. Он хотел обнять его колени. Но царевич решительно поднял его, усадил в кресло. Со слезами на глазах он начал припоминать уже забытые нехитрые детские забавы, свидетелем которых был старый боярин.
— А помнишь, отец, тот ковёр, на котором я спотыкался и падал и кричал, чтобы его скосили, будто там трава? А помнишь тележку, которая не выдерживала меня, когда я просил тебя прокатить меня по ковру?
— Помню, государь! Помню...
Они плакали и смеялись. Смеялись и плакали.
2
— Что вы на это скажете? — спрашивал князь Василий Иванович Шуйский.
Все молчали.
Василий Иванович ждал, что хотя бы кто-нибудь из братьев укорит его, старшего своего брата: дескать, сам виноват во многом из того, что происходит.
— Говорите!
Братья сидели с опущенными головами.
Василий Иванович сам вознамерился подбросить им в головы подобную мысль, ободрить их, а потому смело сказал:
— Разве можно было предположить, что так легко ему удастся проделать всё это? До сих пор невозможно поверить. А тогда, когда многие говорили о царевиче Димитрии, разве можно было подумать, что этой сказке так легко поверят...
Сидели в темноте, в жаре, в спёртом воздухе. Отирали пот. Наливали себя холодным квасом и угрюмо сопели. Собрались здесь самые надёжные люди. Собрались стихийно. Привела тревога, а созвал Бог. А сколько за ними стоит ещё таких, кто готов присоединиться, только скажи? Только дай намёк. Дай надежду.
Никто из братьев не думал бросать укор Василию Ивановичу.
А что говорить о гостях? Не прийти в себя после увиденного сегодня. Мир перевернулся. А как поставить его на место? За что Бог карает своих детей непослушных? А что ещё ждёт впереди?
Колокольный звон проникал и в верхние горницы. Звон напоминал, что творится сейчас по всей Москве. Не в одном Кремле. Не в одном царском дворце, но в любой лачуге за Китай-городом, за Белым городом и за городскими заставами.
— Басманов... Басманов! — повторил князь Василий Иванович, и это ненавистное сегодня имя вызвало наконец взрыв голосов.
— Выскочка! — сказал Василий Васильевич Голицын. — А ещё Рубец-Мосальский... А ещё этот чёрный Андрей Валигура, его дружок... Молчит, словно воды в рот набрал, но видит тебя насквозь. Где такого отыскали... И всё с Басмановым рядышком... Колдуны...
Князь Мстиславский не сдержался:
— Басманов... Это да... Как он нас тогда поносил перед Борисом! Зятем хотел стать... Ксения... Никому не досталась! Да! Тьфу!.. Будто мы погубили дело под Кромами!
Василий Иванович сам себя не щадил:
— Оно и верно. Не торопились брать Кромы. Какая была бы нам от того польза, удайся Борису разбить его сразу? Ради чего заваривали тогда кашу?
— Вот оно что, — удивлённо произнёс князь Мстиславский, заслышав такое. — Ещё тогда, значит?
Мстиславского почитали тугодумом. Недалёк умом. Некогда было с ним рассусоливать.
Его перебил Димитрий Иванович Шуйский, невольно вступаясь за Басманова.
— Басманов истинно верит, — сказал Димитрий Иванович, — что царевич — сын Грозного.
— Да кому после сегодняшнего придёт в голову, будто это и не царевич? — в сердцах прошипел Голицын. — Лицедей! Нет — сатана. И Андрей этот верит, и Рубец-Мосальский... Много сумасшедших. Андрей, говорят, университет учредить хочет, как у ляхов.
Князь Василий Иванович начал возвращаться к жизни. Он уже верил, что потеряно ещё не всё.
— Разносите, други мои, весть по Москве. Не настоящий это царевич, — сказал князь Шуйский. — Расстрига и есть расстрига. Проклят он Патриархом Иовом, так проклятие и висит на нём. Оно не пропало оттого, что Патриарха прогнали. Как бы смотрел расстрига в глаза святому старцу, при котором служил? Совесть не позволит. А старец не смолчал бы. Но проклятие висит надо всею Русью. Она согласилась принять себе в правители проклятого расстригу. И не спасёт Гришку то, что вместо Иова назначил он Патриархом Игнатия Рязанского. Народ наш доверчив. Трудно разубедить его теперь. А надо. Иначе грех ляжет на нас. Грех неискупимый... А в доказательство, что это расстрига и самозванец, приводите всё, что можете. И крестится он, и молится вроде бы по-православному, видел я, да не так, как следует. Замечал я, как вздымались в удивлении брови у истинных православных, когда он прикладывался к образам да к крестам. Не по-православному.
— Могут возразить, — сказал вдруг князь Мстиславский, — будто бы провёл он многие годы в Литве, вот и потерял там русские природные привычки. Дескать, всё это исправится... А вот слыхал я, что были явные знамения от Бога, когда Гришка этот въезжал в Москву-матушку. Что мгла покрывала в те самые мгновения кресты на церковных куполах, особенно на Архангельском соборе, над гробами наших царей...
— Да, — подхватил Голицын. — Верно это. Надо говорить народу. Надо убеждать народ.
В горнице поднялся гул. Оживали люди.
Князь Шуйский продолжал:
— Православные! Твердите народу заблудшему, что чужаки привели к нам Гришку. Что король Жигимонт, поборник латинства, стоит за ним! Что Папа Римский его вдохновляет. Что не просто так он пришёл, но вступив в преступный сговор. И что расплачиваться намерен землёю нашею. И что пришедшие с ним ляхи не дают ему вольно ступить ногою, но следят за ним. И что всё это грозит русской земле новыми бедами!
Тут и до Мстиславского что-то дошло. Он откашлялся и сказал, уставившись на князя Шуйского, выражения глаз которого видеть не мог, но сверкание его взгляда, как полагал, видит отчётливо:
— Василий Иванович! А что отвечать народу, когда народ будет на тебя указывать? Дескать, князь Шуйский сам поверил! Шуйский на площади говорил, что не было в Угличе, в гробу, царского сына, но лежал там попов сын, а царевич избежал погибели?
Все притихли враз.
Василий Иванович был готов к подобному вопросу.
— Про то, княже, — сказал без раздумий, — буду держать ответ перед Господом Богом. А пока скажу одно: открой я тогда правду, то Годуновых не спас бы, а дело погубил бы... Хотел я себя спасти, кривить душою не стану, но спасти ради Отчизны. А смерть мне, рабу Божию, не страшна. Вот что скажу. Используйте и вы, православные, всё, что можете, лишь бы не дать ему укрепиться в умах наших людей. Есть у нас ещё сила. Извели мы Бориску, мудрого и опасного, закоснелого в умении управлять государством, так неужто не справимся с учеником сатаны, который по своей неопытности и сам себя извёл бы, но который способен много бед при нести нашей земле?.. Двух месяцев, только двух месяцев, полагаю, достаточно для этого. Два месяца. И подготовим народ. И учиним бунт. И свалим. И освободим Русь! И стряхнём с себя грехи, которые вольно или невольно свалились на наши плечи. Аминь!
Говорили, молились, заверяли себя, бодрились.
И ничего уже и никого не боялись.
Князь Шуйский предполагал, что через два месяца всё на Руси переменится снова и окончательно. Да что говорить. Он уже видел себя московским царём. Он хотел видеть себя царём по праву. Но через два дня Василий Иванович был брошен в подвалы кремлёвской башни.
Собственно говоря, князь даже толком не понял, как и почему это произошло, кто его выдал. На рассвете огромный дом его над оврагом был окружён стрельцами, а к нему в горницу ввалился сам Басманов, так что Прасковьюшка с визгом убежала за перегородку, укрывая стыдливое тело на ходу схваченными платьями и платками.
— Всё о тебе ведаем, Василий Иванович, — сказал Басманов спокойным голосом, как если бы и не заметил неловкостей Прасковьюшки.
Был он высок, нечего говорить, а в горнице, рядом с Василием Ивановичем, высился вообще великаном.
Князю Шуйскому показалось, что явившийся к нему в дом Басманов радуется иному: Басманову удалось сейчас добиться того, что ускользнуло из его рук под Кромами. Он видит явное унижение князя Шуйского. Он видит то, чего жаждал.
— Ну, — отвечал Василий Иванович, крестясь на тёмный в углу образ Спасителя, перед которым металось пламя свечи, — ну и что обо мне известно? Я перед Русью чист!
— Всё знаем мы про тебя, — невозмутимо повторил Басманов, — потому советую не запираться понапрасну. Каждое слово, которое прозвучало в доме твоём позавчера вечером, нам известно.
Стрельцов тем временем набилось в дом так много, что они заполнили все проходы. Многочисленная челядь, обычно крикливая, голосистая и смелая, под стать горластому хозяину, жалась теперь с опаскою к стенам, словно бы людей этой ночью подменили, перед тем как их разбудили топотом сапог и звоном оружия, не говоря уже о криках и командах.
— Твоя взяла, — сказал Василий Иванович, прощаясь с родными горницами, быть может, надолго, а то и навсегда. Понимал.
Нет, он не холодел от ужаса. Он враз смирился с безнадёжностью своего положения. Но ему было обидно за будущее страны. Самое страшное заключалось в том, что он и не собирался от чего-либо отрекаться. Он так и сказал Басманову:
— Я чист и запираться не стану. Нас рассудит на том свете Бог. Я служу России. А ты поступил на службу к дьяволу.
Басманов, садясь на коня, отвечал высокомерно:
— Запутал ты себя, Василий Иванович, и людей губишь. Не от большого ума, но от гордыни. Мне тебя жалко. Поднапрягись умом: государь у нас теперь законный. Тебя в обиду не дал бы. И честь тебе была бы по заслугам. Уж я знаю.
— Пожалей себя самого! — отрезал Шуйский, полагая, что окончательно отвращает себя от пути к спасению. — Ты ещё проклянёшь тот день, когда переметнулся на службу к самозванцу.
Басманов отвечать не стал. Ударил коня алым арапником с золотою рукоятью, сдавил серебряными стременами лоснящиеся конские бока.
— Давай! — крикнул стрельцам.
Стрельцы принялись запихивать схваченного в крытый возок.
Такие же возки виднелись за воротами княжеской усадьбы. Их окружали плотным кольцом другие стрельцы, сплошь конные.
Василий Иванович рванулся было, догадываясь, что там находятся его братья, крикнул:
— Дайте попрощаться!
Но сразу почувствовал, насколько уступает в силах молодым стрельцам, которые дерзнули схватить его за руки, сдавить так, что слёзы навернулись на глаза.
Оттого содрогнулся всем телом. Неужели он так слаб? Он, князь Шуйский?..
— Будьте вы прокляты... — И молчал на всём пути. Оказалось — до самого Кремля. Потому что, когда вывели из возка, успел приметить кремлёвские замшелые стены.
Прежнее повторялось сызнова.
Однако он снова ошибся.
Прежнее повториться не могло.
И это открылось в тот же день.
Конечно, ему не дали возможности встретиться с братьями, но охотно подтвердили, что да, братья его находятся здесь же, в башне. Разумеется, этому он не удивился, и будет для него куда лучше, если он расскажет, кто приходил к нему на сборище.
Он снова рассвирепел.
— Да если обо мне всё ведаете, — отвечал молодому наглому дьяку, который чинил допрос и которого он видел впервые, — то вы должны знать и обо всех людях, которые были у меня в тот вечер. А я вам не доносчик. Я — князь Шуйский. О себе же таиться не стану. Вору вы служите и сатане. Говорил так и готов подтвердить принародно. И скажу, если Господь сподобит предстать перед народом. Надеюсь, доносчиками не сделаются и мои родные братья.
Такая решительность узника заметно озадачила и охладила пыл мучителей. Шуйских знали. Шуйских всегда опасались. И когда они в опале, и когда они в чести. Вчера Василий Иванович стоял рядом с новым государем, сегодня сидит в темнице. А завтра? То-то же!
Однако дьяк ухмыльнулся в бороду и отвечал с явным вызовом:
— Это точно. Они не говорят. И ты храбришься, князь, оттого, что уверен: ради тебя не станем прибегать к помощи дыбы или кнута. Не те нынче времена. Государь наш в Польше нагляделся, как обращаются с тамошними панами. Даже с преступниками. — И дьяк указал для пущей важности куда-то вверх, на камни нависающего свода, откуда капала вода.
Василий Иванович томился взаперти, но не в одиночестве.
За ним ухаживали привычные ему слуги, которых стража пропускала беспрепятственно. Ему приносили любимые кушанья. Его мыли, одевали. Лишь свободу отняли. Но больше не допрашивали. Его судьба, как он догадывался, решалась вором-самозванцем вкупе с Басмановым, с Андреем Валигурой, с Рубцом-Мосальским — бог знает с кем.
Он уже и с этим смирился, полагаясь на волю Бога, как вдруг на следующий день в подземелье явился Басманов в сопровождении Андрея Валигуры и бородатого дьяка и сказал коротко и ясно:
— Будут тебя судить, Василий Иванович. И держать тебе ответ не перед царём, перед которым провинился, но перед высшим государственным судом. А обвиняешься ты в том, что на государя клеветал!
Сказанное прозвучало так неожиданно и так невероятно, что князь Шуйский опешил и долго не знал, что отвечать.
Андрей Валигура добавил:
— Царь-государь устранился от суда. Заседать он там не будет. Но будет жаловаться на тебя за твою клевету. И царь дал слово, что подчинится всему, что только вынесет суд.
И тут князь Шуйский не нашёлся с ответом.
— Готовься, Василий Иванович, — бросил на прощание Басманов. — Завтра суд.
Такого суда князь Шуйский не думал увидеть.
О подобном ему приходилось только слышать.
Но чтобы в Москве...
Но быть обвинённым в непослушании царю... Чтобы боярин восстал, скажем, против Ивана Грозного, а царь передал дела в боярский суд... Сказка! Бред!
Или даже при Годунове! Нет... Тот такую бы хитрость задумал! Ты бы сам себя съел.
Такое, пожалуй, могло взбрести в голову блаженному Фёдору Ивановичу. Да и ему Борис Годунов не позволил бы что-то предпринять.
Что говорить, Василий Иванович не знал, как готовиться, перед кем именно он будет держать ответ. Ему принесли бумаги — вроде бы обвинение, где подробно и правдиво было рассказано, о чём толковал он в памятный вечер, но не было сказано ни слова, перед кем говорил, были названы лишь его родные братья. Получалось, никого и не было. Собирались вроде бы по-семейному. Вроде было их трое.
Сначала Василий Иванович подумал, что судьи ничего не ведают о прочих людях, что Басманов хорохорился, утверждая, будто царю всё известно. Стало быть, расчёт у судей прост: либо Шуйский отречётся от своих слов, отвергнет всё это как поклёп — и тогда принародно признает ещё раз власть самозванца, либо же признает истинность доноса. И тогда ему и его братьям придётся отвечать позором, ссылкою, бог знает чем.
Но, поразмышляв, он заподозрил, что дело выглядит ещё более хитро: царю-самозванцу угодно показать народу, будто князь Шуйский, закоренелый злодей, один и усумнился в истинности царевича, а не верит он в это просто потому, что считает себя обиженным, что воскресший царевич оказался у него на пути к царской короне, которая принадлежит ему по праву.
3
Тяжёлые раздумья не дали князю заснуть до утра.
Наутро ему вымыли голову, подстригли слежавшуюся бороду, нарядили, как он пожелал, в самое дорогое и яркое платье. После беспокойной ночи гудела и разрывалась на части голова. Иногда приходилось хвататься за малиновые рукава сопровождавших стрельцов. Иногда стрельцы сами успевали его подхватить. И так продолжалось до тех пор, пока князь не оказался в середине какого-то огромного зала, который был ему ведом и прежде, но признать который он почему-то долго не мог. Может быть, просто потому, что там всё было обставлено так, как он ещё никогда не видел в Москве. За широким и длинным столом, накрытым яркой сверкающей скатертью, восседали на креслах с очень высокими спинками люди в непонятных для него одеждах, вроде длинных накидок тёмного цвета, и в низеньких шапках, верхние части которых были сделаны в виде четырёхугольных плоских крышек.
Василия Ивановича усадили на широкую скамью, ограждённую деревянной решёткой. По обеим сторонам от него высились приведшие его стрельцы с бердышами, а прочие стрельцы толпились у входа и под стенами зала. Особенно много их оказалось возле окон. Василий Иванович видел всё это краешком глаза, потому что внимательно следил за столом.
Некоторые сидевшие за столом люди показались ему знакомыми сразу. Некоторых он узнавал с течением времени. И не столько узнавал, сколько догадывался по голосам, кому эти голоса принадлежат. Только это уже было после того, как люди заговорили.
А вначале в зале стояла жуткая тишина. Было понятно: то, что здесь предвидится, — в диковинку почти всем собравшимся, исключая, может быть, царя, нескольких поляков, а ещё Андрея Валигуры.
Царь сидел в стороне. Он был в простом военном убранстве, безо всякой охраны или же эскорта, как простой человек. Андрей же — его Василий Иванович признал сразу, как и Басманова. — Андрей сидел за отдельным столом, тоже одетый в странную накидку и накрытый странным головным убором. Басманов возвышался в центре стола. Он выделялся благодаря своему крупному росту, который был заметен, даже когда он сидел.
Тишина прервалась треском барабанов. Все в палате поднялись со своих мест. Стрельцы, не говоря ни слова, взяли Василия Ивановича под мышки и поставили на ноги. Но ненадолго. Тут же незнакомый голос что-то проговорил. Василий Иванович не различил, что именно. Все опустились на свои места, и ему стрельцы позволили сесть.
— Сиди, сиди, дед...
После этого заговорил Андрей. Говорил красиво, напевно произнося слова. Правда, некоторые слова произносил явно на польский лад, некоторые — по-латыни. Но это тоже не мешало общему приятному впечатлению от его речи.
А речь Андрея сводилась в конце концов к тому, что было написано в обвинении, которое вручили Василию Ивановичу накануне.
— Царь московский и великий князь Димитрий Иванович оскорблён поклёпами, которые распространял о нём князь и боярин Василий Иванович Шуйский. Царь просит суд защитить его от этих поклёпов! — закончил Андрей речь.
Пока всё это говорилось, Василий Иванович успел почувствовать, что к нему возвратилось обычное его состояние. Он снова стал здоровым. Он был готов дать сражение этим людям, которые наполняют зал. Особенно поразило его то, что среди сидящих за столом он различил князей Мстиславского и Голицына. Они сидели с таким видом, как если бы запамятовали, что находились у него в горнице в тот злополучный вечер. Правда, они старались на него не глядеть, не встречаться с ним взглядом, как бы опасаясь, что он может сейчас, здесь, раскрыть их тайну. Это при всём при том, что они отлично знали: Шуйские никогда не были доносчиками.
Басманов громким голосом произнёс:
— А теперь слово обвиняемому!
Стрельцы тут же подняли Василия Ивановича, и он понял, что настала для него, быть может, последняя возможность высказаться до того, как он будет отправлен в ссылку, пострижен в монахи или отдан на расправу палачу. И ему захотелось, чтобы его запомнили смелым, открытым, раскованным. Он обвёл глазами весь зал, но не увидел сочувствующих лиц. Он ещё раз взглянул на стол, но князья Мстиславский и Голицын отводили свои взгляды по-прежнему в стороны.
— Я повторю то, что и говорил, — сказал Василий Иванович, обращаясь прямо к молодому государю. — Ты никакой не царь! — продолжал он — Ты самозванец. Ты вор. И я здесь, перед судом, открою тайну, которую вынужден открыть, хотя намеревался рассказать об этом уже только на том свете, только перед Богом. Тайна заключается в том, что надо было нам во что бы то ни стало низвергнуть Бориса Годунова, который неправедным путём завладел царскою короною и уселся на царский престол. И чтобы этого добиться, я решил с братьями своими и ещё с некоторыми людьми, чьих имён не раскрою, потому что не доносчик, я решил послать человека за рубеж, в Литву, чтобы выдавал он там себя за царевича Димитрия Ивановича, которого я своими руками положил в Угличе в гроб. Денно и нощно молю теперь Бога о прощении греха своего, но иного выхода у меня и моих друзей уже не было — свёл бы нас со света коварный Борис. И велели мы слугам подыскать подходящего молодого человека, чтобы походил на усопшего царевича, насколько может походить на царя простой человек, и чтобы по возрасту соответствовал, и чтобы умом был не слаб. Такого человека нашли и долго и тайно готовили в одном из боярских домов. А затем пустили за рубеж.
Говоря это, Василий Иванович с удивлением и с ужасом отмечал, что рассказ его нисколько не производит на собравшихся того впечатления, на которое он рассчитывал, уже давно втайне готовясь к такому разговору как возможному и даже неотвратимому.
Оставалось сказать ещё самое важное.
— И звали этого человека Гришка Отрепьев! — громко крикнул Василий Иванович, выдержав некоторое время. — И был это ты, человек, который тогда был сир и ничтожен, но сейчас вздумал называть себя нашим царём и государем!
Василий Иванович был уверен, что при этих словах его грянет гром, не меньше. Он указывал на царя пальцем, но подозрение, что речь эту здесь не слушают, захлестнуло его с головою. Его не слушали, а лишь делали вид, что слушают.
Царь сидел со спокойным выражением лица и о чём-то переспросил своего соседа.
Василий Иванович набрал полную грудь воздуха и продолжал:
— Православные! Богу было угодно наказать нас за грехи наши! Богу было угодно, чтобы и вы, здесь сидящие, потеряли на время ум и рассудок! Но когда-нибудь вы опомнитесь! Когда-нибудь пожалеете об этом дне и об этом суде!
Слова наконец возымели действие, однако вовсе не такое, на какое рассчитывал князь Шуйский.
В палате загудели, громко заговорили.
— Позор!
— Позор! На плаху!
— Как государь терпит!
Басманов поднялся над столом и ударил молотком о какой-то лёгкий металлический предмет. Предмет издал певучий низкий звук. В палате сразу установилась тишина.
И тут на середину зала выступил царь.
— Высокий суд! — сказал царь звонким и красивым голосом, который напоминал голос Андрея Валигуры. — Я не стану унижаться в доказательствам что высказанное здесь боярином и князем Василием Ивановичем Шуйским является полной бессмыслицей, если относить это ко мне. Я не стану говорить о том даже, что всякое обвинение должно быть доказано и что доказательств у моего обвинителя нет никаких. Но я твёрдо стою на том, что царская особа должна быть вне подозрений. Я обязан показать вам весь абсурд подобных обвинений. А потому, господин председатель, прошу пригласить сюда моего главного свидетеля.
Басманов без промедления сделал знак рукою. Головы находившихся в палате тотчас, словно по принуждению, обратились в ту сторону, откуда появился человек из простонародья. Был вошедший в рыжем поношенном кафтане и с длинными волосами, которые, видать, не поддаются уже никаким ухищрениям цирульников. Человек ступал тяжело, медленно, как бы желая напомнить о себе тем из взирающих на него, кто видел его прежде. Он улыбался наигранною улыбкою, как будто чувствовал себя неуверенно и был готов исчезнуть по первому требованию.
— Вот он! — закричал из зала молодой зычный голос. — Клянусь Богом! Это он! Гришка Отрепьев!
— Он! Он! — поддержали другие голоса. — Он был с нами в Путивле!
— Он! Он!
Василий Иванович ничего не понимал.
Между тем Андрей Валигура с разрешения Басманова уже начал допрашивать введённого простолюдина в рыжем кафтане.
— Кто ты таков? Расскажи о себе.
Простолюдин низко поклонился на все четыре стороны и начал рассказ:
— А зовут меня, люди добрые, Григорием. А принадлежу я к роду Отрепьевых. И был я на службе во многих монастырях, но более всего запомнилось мне служение Патриарху Иову, которому я не раз услуживал своим гораздым почерком.
Волосы вставали дыбом на голове у Василия Ивановича. Он порывался что-то сказать, да его крепко держали за руки стрельцы. Ему даже закрыли рот ладонью. И он уже думал не о том, как бы что-то сказать, как-то возмутиться, но о том, как бы не загнуться. Он старался сначала уловить то, о чём говорит приблудный этот старик, а потом старался как-нибудь закрыть уши, чтобы не слышать его голоса, не вбирать в себя этой грешной лжи, против которой он был бессилен.
Но вокруг, в палате, уже к потолку возносилось одобрение тому, что говорит мнимый Гришка Отрепьев.
4
Басманов, стоя перед царём, встряхивал белокурыми волосами.
— Государь! — настаивал он. — Шуйские от задуманного никогда не отказывались. Не надейся, прошу. Кого-кого, а Шуйских я знаю. Это заговор. И примкнули к нему многие. И Романовы, и Черкасские, и Голицыны...
Басманов не прекращал уговаривать царя и при появлении Андрея Валигуры.
Андрей остановился в сторонке, держа под мышкой бумаги. На бумагах были начертаны планы переустройства Боярской думы.
Царь отвечал Басманову строго:
— Пётр Фёдорович! Есть два способа управлять государством. Государя своего либо боятся, даже ненавидят, но слепо подчиняются от страха. Либо же его не боятся, но подчиняются также, понимая выгоду от подчинения. Я хочу, чтобы мои подданные понимали выгоду от подчинения и не боялись меня.
Басманов был готов выскользнуть из одежд.
— Государь! — взмолился он. — Нам необходим такой правитель, который народ в узде держит, а не по головке гладит и пряниками кормит. Перед тобою два примера. Ты, конечно, не можешь помнить, как правил твой родитель, Иван Васильевич, да будут мои слова для него лёгкими. Крут был нравом. Это ты не раз слышал. Недаром народ его Грозным прозвал. Но никто из подданных не пенял на его жестокость. Все были уверены, что на то ему дано право от самого Бога. А вот иной пример: твой брат Фёдор Иванович. Кроткий был правитель, мягок, богобоязнен и человеколюбив. Конечно, и при нём совершалось на Руси много жестокостей, да уже не его волею. Виною их был Борис Годунов. И за эту-то мягкость и доброту Фёдора Ивановича в народе почитали блаженненьким, а попросту — дурачком. Ты уж прости великодушно такое слово. И винили его на чём свет стоит, и поносили за то только, что не использовал власти царской, что не был жестоким правителем.
— Нет, — сказал на все эти рассуждения Басманова молодой царь, — не уговорил ты меня, Пётр Фёдорович. Ты уж постарайся завтра поступить как полагается, а я поступлю как должно мне. И ничего не перепутай. Не переусердствуй нисколько. Впрочем, это я только так говорю. Тебя я знаю.
Басманов в бессилии опустил длинные жилистые руки.
Всё это означало, решил Андрей, что казни для князя Шуйского завтра не будет.
Андрей вздохнул свободнее. Ночные разговоры и споры с царём даром не пропали. Яблоко от яблони, говорится, далеко не падает, а вот... Сын не таков, как отец.
— Конечно, государь, воля твоя, — сказал утихшим голосом Басманов, — я исполню всё возможное и всё невозможное. Но ты пожалеешь. Твоего благородства Шуйские не поймут. Стало быть, никогда не ответят тебе тем же. А народ может истолковать твои намерения превратно. К тому же ты ещё не коронован. И ты обещал исполнить всё, что решит высший государственный суд. Стало быть, ты нисколько не запятнал бы себя жестокостью, если бы подчинился воле суда.
— Народ меня любит, — кротко улыбнулся царь. — Не запятнаю себя жестокостью, но не отвращу её, получается, хотя запросто могу отвратить. А это мне бы тоже зачлось. — И тут же перевёл разговор на иное: — Что ты принёс, друг мой Андрей? Как назовём теперь Боярскую думу? Сенатом? Отлично. А заседание проведём немедля. Послезавтра.
Басманов и на это решил отозваться.
— Прости меня, государь, — сказал он. — Но я снова посоветую тебе как можно скорее надеть на голову царскую корону. Корона на Руси слишком много значит. По своему малолетству ты не успел всего этого усвоить, пока был в Москве, но я-то хорошо всё помню. Уж насколько незаконной была власть у Фёдора Борисовича, да и он, с короною на голове, мог бы совершить что угодно, если бы ума хватило.
— С этим я согласен, Пётр Фёдорович. Но и с короной обожду, пока не привезут сюда из ссылки мою мать. Кстати, Скопин-Шуйский уже отправился за нею, Андрей?
— Отправился, государь, — отвечал Андрей.
Царь вскочил на ноги, удивляясь, что засиделся.
— Идём смотреть палату, где отныне будет заседать сенат, — сказал он на ходу.
Красная площадь была забита народом с самого раннего утра.
Вести о предстоящей казни Василия Ивановича Шуйского всколыхнули весь город.
У Шуйского было много сторонников. Конечно, они помалкивали о том с появлением нового царя. Помалкивали даже после того, как Шуйского с братьями схватили и бросили в тюрьму, обвинили в клевете на царя. Но когда верховный суд обрёк Василия Ивановича на смерть, а братьев его на новую ссылку, тогда уже медлить было нельзя. Никто в Москве не мог усидеть в этот день дома. Правду сказать, помочь беде, подстерегавшей Шуйского, у его сторонников тоже не было никакой возможности.
Лето, заявившее о своём приходе такой стремительной теплынью, какой не помнили самые древние старики, вдруг переменило настроение и напор. Утро в этот день выдалось хмурое и туманное. Солнце пошарило лучами по церковным куполам — и скрылось за тучами.
А тучи клубились над московскими холмами и над оврагами, над густыми садами, церквами и перелесками. Вдали, за городскими валами, они сливались с лесами. Там уже начали пошаливать громовые звуки. Где-то сверкнула яркая молния — как удар казацкой нагайки по чёрному конскому крупу.
По Москве, вдоль её кривых и запутанных улочек и на её бесконечных площадях, ходило и перемещалось на конях очень много стрельцов в малиновых кафтанах, вооружённых как для сражения. Были выведены и поставлены привычными рядами войска чужеземного строя. Они сверкали доспехами и оружием. А ещё везде вздымали пыль казаки на низких степных лошадях. Знающие люди даже различали, под чьим началом состоят казаки — Корелы ли, Заруцкого ли. У Корелы казаков побольше.
Так что сторонники Шуйских хоть и не усидели дома, но изливали своё возмущение только в разговорах между собою, а если с незнакомыми — то весьма осторожно. Объявил новый царь свободу, не будет того, что было при Годунове, — да не потерпит непокорности и он. На то и царь.
А Красную площадь стрельцы тем временем окружили несколькими плотными кольцами. Никого в те кольца не загоняли, никому не препятствовали оттуда выбраться, а всё же те, кто туда попадал, уже не могли забыть, где находятся. Они чувствовали себя как в мышеловке. Оттого и криков, и даже разговоров в пользу Шуйского вроде бы не было слышно. Народу припомнились головы, срубленные за неуважение к царской персоне. За упоминание о царевиче Димитрии Ивановиче. Мало ли что обещано сейчас новым государем.
У Лобного места толпилось много бояр, думных дьяков и прочих государственных людей, когда к ним присоединился Андрей, посланный самим государем. Государь, готовясь к завтрашнему заседанию сената, хотел узнать до мельчайших подробностей, что произойдёт на Красной площади.
Басманов восседал на коне. Было видно: у него всё идёт как должно. Он исполнит всё, что обещал царю. К Басманову подъезжали один за другим всадники. Он довольно кивал головою, накрытою стальным шлемом. И хотя погода была по-летнему прохладной, однако под шлемом голове сделалось жарко. Он снял его и держал в руке.
Вся площадь, понимая значение Басманова, не отрывала глаз от его приметной издали фигуры. Все ждали какого-то знака. Все всматривались в проем Фроловских ворот. Не покажется ли из Кремля какой-нибудь возок, тележка, любая конная упряжка? Потому что палач на помосте, в красной рубахе, уже истомился ожиданием на своём привычном месте. Он водил толстым пальцем по сверкающему лезвию топора, и обрюзглое лицо его в густой рыжей бороде начинало осклабляться от предвкушения долгожданной работы, от ожидаемой добычи, — бог его ведает, что приходит в голову при таких занятиях. На его широкую фигуру было боязно подолгу смотреть.
И вдруг кто-то первый заметил в створе Фроловских ворот лошадей в хомутах и с дышлом между мордами.
— Везут!
— Везут! — подхватили. — Везу-у-у-ут!
Тут же возле Лобного места загремели барабаны. Завизжали от плохого предчувствия бабы. Бабья тревога захлестнула детей.
— И-и-и!
— Везу-у-ут!
— Шуйские-е-е!
— Василий Иванович! Князюшко!
Возков было три. В первом стоял прикованный к столбу Василий Иванович — в сверкающей одежде. Во втором и в третьем — два его брата, тоже прикованные. И если старший Шуйский глядел на толпу открыто, с вызовом, то у братьев его головы были опущены. Скованные руки их бессильно свисали вдоль тела.
— Горе!
— И чего им не хватало?
Пока возок с князем Шуйским катился по Красной площади, Басманов прикрыл свои светлые волосы тяжёлым шлемом, приблизился к Лобному месту вплотную, спешился и поднялся наверх, присоединил свою внушительную фигуру к стоявшим там боярам. Угодливый подьячий тут же подал ему длинный свиток с красной печатью. Басманов дождался, пока кузнецы раскуют Василия Ивановича, а стрельцы помогут ему взобраться на помост.
— Господи, помилуй! — понеслись молитвы со всех сторон.
Басманов поднял руку, и бируч зычным густым голосом начал читать приговор высшего государственного суда.
Конечно, и бируча слышали совсем недалеко от Лобного места, но слова его передавались от человека к человеку.
— Господи, помилуй несчастного!
Смертной казни по приговору суда предавался только Василий Иванович, а братьям его назначалась ссылка.
Андрей, стоя на Лобном месте, видел, как невозмутимо держится перед палачом главный заговорщик, словно то, что читает бируч, его совершенно не касается.
— И чего человеку не хватало? — спрашивали в толпе.
Палач еле дождался, когда закончится чтение приговора. Он тут же опрометью бросился к узнику. Он развязал ему руки, намерился уже содрать кафтан, шитый золотом и украшенный драгоценностями, но от Басманова вдруг последовал приказ позволить осуждённому попрощаться с братьями.
— Правильно! — раздалось из толпы. — По-христиански!
Младших братьев Шуйских не расковывали. Стрельцам пришлось поспособствовать несчастному спуститься вниз, приблизиться к братьям по очереди, попрощаться с ними по русскому обычаю.
— Господи! Что деется! — вопили в народе.
— Басманов! Хоть ты его пожалей!
— Что Басманов! — кричали другие. — Суд осудил!
— Суд! А царь?..
Прикованные братья рыдали, припадая головами к груди Василия Ивановича. Тот гладил их по спинам. Знать, просил у них прощения. Андрей о том догадывался, но слов не различал, хотя творилось всё на небольшом от него расстоянии. Лицо Василия Ивановича стало белым, как стена. Очень медленно осенил он себя крестным знамением. Он сам оторвал от груди одного и другого братьев. Слегка оттолкнул их, так что стрельцам не пришлось себя в том утруждать.
— Господи! Упокой его душу! — молились в толпе.
Наконец Василий Иванович снова был поднят на помост и поставлен перед заждавшимся палачом. А тот, уже будучи окончательно уверенным, что все ожидания позади, что шитый золотом кафтан — уже в руках у него, был снова обманут в своих надеждах. Узник пожелал ещё раз причаститься у готового к тому его домашнего священника. Они говорили под угрожающий треск барабанов, и Василий Иванович только кивал в ответ на вопросы обнажённой головою.
Вроде бы зная, чем завершится это действие на площади, Андрей всё же усомнился, действительно ли будет помилован князь Шуйский, правильно ли он, Андрей, понял вчера разговор государя с Басмановым. Потому что чересчур уж дерзко, нагло вёл себя на помосте палач. При его звериной силе, при свирепости — Басманову, казалось, достаточно прозевать одно лишь мгновение. И всё будет кончено. Вот он, топор, прислонённый к плахе, — такой сейчас чистой, с чёткими тёмными зазубринами. А каждая зазубрина — след от чьей-то жизни.
Андрей посматривал на кремлёвские ворота и припоминал: сегодня царь поутру ни словом не обмолвился о помиловании. Не передумал ли? Не переубедил ли его кто, а в первую очередь Басманов?
Палач между тем уже завладел узником. Под стенания и смех толпы, под её улюлюканье и просьбы палач ловким движением сорвал с несчастного боярина сверкающий и без солнца кафтан.
— Во! — показал хвастливо народу.
— Дурило! Зверь! — закричали люди на палача.
Палач тут же свернул добычу в узелок, положил на край помоста и прикрыл сверху точильным камнем, который у него всегда наготове. Затем возвратился к жертве, сдавил её обеими руками, чтобы вытряхнуть из рубахи, дразнящей его своим золотым воротником.
— Господи! Что деется! — снова раздался рядом с Андреем женский крик.
Этот крик, казалось, возымел действие.
Василий Иванович вдруг пришёл в себя. Он изловчился и с такою силою ударил кулаком своего мучителя снизу в подбородок, что тот от неожиданности зашатался, выпустил вожделенную рубаху из рук и сам чуть не свалился.
— Ха! — только и сказали в толпе.
Замешательства палача оказалось достаточно для князя Шуйского, чтобы нанести ему новый удар, в нижнюю часть живота. Второй удар получился настолько удачным, что палач обеими руками схватился за ушибленное место, издавая при этом нечеловеческие звуки.
Народ, опомнясь от неожиданности, просто взревел.
— Так его!
— Поддай ещё!
— Василий Иванович! Родной!
— Бей гада!
В это мгновение народ был весь на стороне более слабого существа, которому предстояло мучительно умереть, но которое до последнего земного дыхания противилось насилию.
— Бей, Василий Иванович!
— Бей!
Андрею показалось, что даже Басманов, который (Андрей знал!) ненавидит Шуйского, рад бы его повесить, убить, — что даже Басманов с невольным сочувствием к Шуйскому наблюдает за этой схваткой его с грозным мучителем.
— Бей! Василий Иванович!
Андрей был уверен: закричал сам Басманов.
И тут наконец свершилось то, о чём на всей Красной площади знали только Андрей и Басманов.
— Гонец! — взвизгнул детский голос.
— Господи! Помилуй его!
Из Фроловских ворот, в новых просверках молнии, на вороном коне вырвался чужеземец в сияющих медных доспехах.
— О Господи, помилуй...
Гонец летел так быстро, что от коня с трудом увёртывались стоявшие у него на дороге люди.
Андрею стало легче дышать. Ему захотелось немедленно увидеть царя и поговорить с ним о завтрашнем заседании сената.
5
Собравшиеся в Грановитой палате сидели сейчас с каменными лицами, на которых стыло крайнее удивление. И первейшие в государстве бояре в высоких горлатных шапках да в пышных мехах, и все думные люди, а равно и многочисленное духовенство со сверкающими на груди золотыми крестами.
Многие из них помнили прежнюю Боярскую думу. Помнили, как сидели и как земно кланялись, когда появлялся государь, и как трепетно ловили слова не из его уст, но переданные голосами подьячих, тогда как он сидел неподвижно на троне.
А тут...
У собравшихся кружились головы...
— Государь, — произнёс торжественно Басманов, ударяя деревянным молотком о нарочитое звучащее приспособление, — можешь говорить сколько тебе понадобится!
— Хорошо, — отвечал Басманову царь, спокойно, как на само собою разумеющееся. — Хорошо.
Царь сидел вовсе не на троне, но в первых рядах, среди бояр, и сидел без барм, даже без шапки.
Впрочем, и Андрей Валигура торчал среди бояр с раскрытым от удивления ртом.
Разве мог он ещё совсем недавно, кажется ещё год тому назад, на Подолии, на Украине, представить себе в мыслях, что дождётся такого удивительного времени, что станет думным боярином на земле своих отца и деда, на земле своих предков? Что будет заседать в московском Кремле, в Грановитой палате? Будет лицезреть Патриарха, блистающего сединою и золотом одежды? Пускай ещё и не совсем Патриарха. Ещё не возведённого в сан. Разве можно было предположить, что вокруг будут сидеть важнейшие в государстве люди?
Что говорить, Андрею и сейчас нелегко было отважиться на подобное дерзкое поползновение. Накануне царю довелось приказать своему верному слуге стать думным боярином. Да ещё и не просто думным, но с чином великого подчашего, как принято при польском королевском дворе. И это при том, что сам боярин Богдан Бельский возведён царём в чин великого оружничего, что старик теперь восседает рядом с ним, с Андреем, впереди прочих важных бояр. А дьяк Сутупов, скажем, путивльский знакомец, сразу признавший в царевиче сына Ивана Грозного и передавший ему когда-то значительные деньги, привезённые из Москвы, — дьяк Сутупов стал великим печатником. Сидит сейчас среди бояр и рыжебородый Таврило Пушкин, смело бросившийся из Орла в Москву, чтобы читать перед народом московским грамоты нового царя. Сидит здесь и бывший черниговский воевода Иван Татев, так много пособивший при взятии первой серьёзной крепости на пути к Москве. Есть тут и бывший путивльский воевода — князь Василий Рубец-Мосальский. Сидит и дремлет с важным видом Наум Плещеев, товарищ Гаврила Пушкина в опасном деле. Сидят и прочие, кто доказал свою преданность законному царю. Причём доказал ещё до того, как народ единогласно призвал Димитрия на царствование. И даже дьяк Афанасий Власьев, до конца стоявший за Годуновых, но прозревший всё-таки, — даже Власьев обласкан новым государем. Обласкан за необычайную образованность и способность к дипломатической службе.
— Государь! — ещё раз напомнил Басманов. — Ты волен говорить!
Басманов уже свыкся с обязанностями главного распорядителя на важных собраниях.
Молодой царь, с горящими глазами, со смелыми движениями рук, начал держать свою удивительную речь перед боярами, перед думным народом и перед духовенством.
— Собрались мы сюда не так, как могли вы собираться прежде, — сказал он, и слова его полились звучно и неудержимо, словно весенний ручей.
Слушатели вскоре перестали понимать, чему следует больше удивляться. Тому ли, что царь говорит лично, либо же тому, что он говорит перед ними уже столько времени. Говорит как по писаному, не запинаясь, не задумываясь, не сомневаясь? Либо тому, что он говорит такие вещи, о которых и не помышляли прежние московские цари?
— Не Боярской думой отныне будет именоваться этот самый высокий в государстве совет, — звучал молодой порывистый голос, — но сенатом! Се-на-том! Потому что не одни бояре будут впредь подавать здесь мудрейшие советы. Но будете отныне собираться здесь вы и прочие умудрённые жизнью люди, как собираются подобные государственные советы по всем европейским странам. Как собирались они ещё в Древнем Риме. Да ведь и слово само пришло к нам оттуда, из римской древности, из бронзовой латыни. И значит оно само по себе — собрание старейшин, то есть обогащённых жизненным опытом людей. Так что не будем и мы отставать от просвещённых стран. Но вскоре, даст Бог, и мы будем подавать им свои советы.
Царь передохнул, однако в ответ на свои слова ничего не услышал.
Даже Басманов оглядывался на сидящих, а сам не ведал, что надо говорить.
Правда, Басманов делал такие движения светло-русой головою, как будто одобрял услышанное. Вернее — точно, одобрял. Не одобрять не мог. Но не знал, что именно надо одобрять.
И только дьяк Афанасий Власьев, кажется, смотрел на царя с полным пониманием смысла высказанного им. Да и он не знал, стоит ли подобное сейчас одобрять или же сейчас ещё рано говорить о подобных нововведениях для России.
А царь продолжал, расхаживая и слегка вздымая руки:
— Ещё когда я только шёл к отцовскому престолу, друзья мои, когда я с помощью верных подданных одолевал врагов, уже тогда обещал я льготы моему послушному и терпеливому народу. И пускай ещё не принял я на голову царскую корону — причиною тому следует назвать ожидание приезда моей родительницы, моей многострадальной матери, ведь не годится человеку принимать ответственное решение без материнского на то благословения, — так вот, пускай ещё не возложили на мою голову царскую корону, но я сразу же направлю все свои силы на то, чтобы как можно больше льгот получили мои подданные. Новым указом отныне запрещаю людям отдавать в кабалу своих детей. Своим другим указом я удваиваю плату приказным людям в присутственных местах и в судах, зато запрещаю им требовать взятки от приходящих с просьбами людей. Отныне объявляется мною право свободного передвижения моих подданных как внутри государства, так и за пределами его. Каждый волен отправляться куда кому вздумается. Каждый может заниматься ремёслами, торговлей, землепашеством — чем пожелает. Что касается меня, то я особенно буду поддерживать тех людей, которые намерены отправиться за рубеж учиться. Государству очень нужны образованные люди. У нас в Москве вскоре появится своя высшая школа, свой университет. Потому что русские люди природным умом и смекалкою нисколько не отличаются от прочих людей Европы. Только университет, конечно, не может возникнуть на пустом месте. И нельзя его создавать при помощи одних учителей-чужеземцев. В московском университете должно пахнуть русским духом. Я буду лично этому способствовать. А чтобы мои подданные имели доступ к своему государю, то отныне объявляется: такой доступ будет в каждую среду и в каждую субботу.
Бояре, которым уже отныне следовало называть себя сенаторами, слушали с недоумением, посматривая друг на друга.
Кажется, один Андрей Валигура верил каждому услышанному слову. Андрей чувствовал, как у него за спиною вырастают крылья. Он уже прикидывал, где именно удастся возвести в Москве здание университета.
Он уже видел себя в окружении молодых лиц, жаждущих знаний.
Басманов первый понял, что продолжительная до невероятности царская речь окончена.
Басманов уставился взглядом в собравшийся сенат. Но из множества людей перед ним никто так и не знал, что надлежит говорить сенаторам после выступления государя.
— Да, — произнёс озадаченно Басманов. — Оно конечно, нам есть над чем подумать... Но... — Он сам был в явном недоумении.
И неизвестно, чем бы завершилось первое заседание сената в Грановитой палате, если бы Патриарх Игнатий не кашлянул и не показал всем своим видом, что ему хочется высказаться.
Басманов обрадовался такой развязке.
— Великое дело творишь, государь наш, — начал Патриарх. — Наставляешь народ свой, как следует ему жить. Теперь уже и ребёнку малому понятно, какой ты хочешь видеть Россию. Великой и независимой. Мудрой и просвещённой. А народ свой — славящим Бога, умным и свободным. И что бы там ни говорили про тебя недруги наши, какие бы поклёпы ни возводили, а народ твой тебя поддерживает. И крепнет в наших сердцах уверенность, что быть при тебе нашей России могучей, великой и независимой. Будут у нас училища, будут свои учёные люди. И торговля наша станет процветать. И все, всё будем иметь. Многая лета тебе, государь наш! — Он осенил государя крестным знамением и удалился на своё почётное место.
И тогда лица сенаторов начали расплываться в довольных улыбках.
Тогда уже и Афанасий Власьев сообразил, о чём ему говорить.
Тогда уже и Богдан Бельский решил, что надо, надо поддержать своего воспитанника. Он пожелал сказать слово.
А вслед за ними готовились сказать своё слово прочие бояре.
Горлатные шапки одобрительно закачались.
6
С тех пор как её привезли по весеннему бездорожью назад в привычную уже для неё монастырскую обитель, приставили к ней настоящую бдительную стражу в лице двух глупых и безобразных, но сильных, как волы, монахинь, она сразу же поняла, что живительный покой для неё утерян, быть может — навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока царская корона будет покрывать преступную голову Бориса Годунова.
Конечно, по тем настырным и однообразным вопросам, которые повторяли при последней встрече в непонятном для неё помещении сам Борис Годунов и его жена Марья, инокиня Марфа без труда заключила, что в мире совершилось что-то очень важное, прямо-таки ужасное для нынешнего царя, особенно для чуткой царицы Марьи, на которой лежит ещё грех её отца, Малюты Скуратова. Надо сказать, царица рычала как зверь, задавая вопросы.
«Скажи, поганая тварь, — шипела она, — твой ли сын лежал в Угличе в гробу?.. Скажи... Говори...»
Из разинутого рта летели ошмётки пены, словно из пасти бешеной собаки.
«Говори! Говори!»
«Говори, Мария!» — настаивал царь Борис Годунов, называя её прежним именем, как бы намекая на прежнее её положение в миру.
Под конец царица Марья схватила свою жертву за волосы и уже готова была впиться когтями в горло, задавить. Возможно, она бы сделала это, если бы не вступился Борис Годунов, не терявший, кажется, самообладания, но старавшийся найти выход и для себя, и для прочих людей.
«Лучше тебе сказать обо всём, Мария!» — повторил он несколько раз.
По этим вопросам и просьбам инокиня Марфа сделала твёрдое заключение, что разговоры о появлении царевича Димитрия имеют под собою самое серьёзное основание.
Однако, как она ни вслушивалась в разговоры в дороге, как ни пыталась проникнуть умом в то, что говорилось уже здесь, в Выксинской обители, ничего определённого почерпнуть для себя так и не смогла. Очевидно, враги её дали стражам самый строгий приказ касательно этого. Они позаботились, чтобы до неё не добирались никакие новости, никакие вести. Она, конечно, смирилась со своим положением, всецело положилась на волю Бога. Она одновременно и опасалась своих снов, и стремилась поскорее добраться до постели и поскорее погрузиться в видения, которые наваливались, как только смыкались веки. В этих страшных видениях, где присутствовали, пожалуй, все известные ей люди, которых она только видела, и даже такие, которых она никогда не видела и видеть не могла, но лишь знала, догадывалась об их существовании, — главное место в этих сновидениях начал занимать молодой человек со светлыми рыжими волосами, с внимательным взглядом голубых выразительных глаз и с каким-то слабо приметным пятнышком на носу. Он улыбался ей непременно очень приветливо, что-то ласково говорил. Ей всегда было приятно слышать его речи. Но когда она после пробуждения пыталась вспомнить, что же он говорил, ей никогда не удавалось этого сделать, хотя слова других приснившихся помнила великолепно. Она постоянно надеялась, что снова увидит его во сне — так и получалось, — что наконец запомнит сказанное им, если он что-то скажет, — опять же получалось именно так: он говорил и говорил, поблескивая голубыми глазами. Но когда она просыпалась от непонятного толчка, просыпалась как бы торопливо, то ничего припомнить не могла.
Так продолжалось не очень долго после её возвращения в обитель. И вдруг она услышала весть, что царь Борис неожиданно преставился и уже похоронен в Архангельском соборе, где лежат все предшествующие русские цари, и похоронен под именем Боголепа — по примеру всех царей нечестивец успел принять перед смертью схиму, умереть монахом.
Весть эта вроде бы её нисколько не удивила и даже вроде бы не задела.
Однако она поинтересовалась у своих глупых стражей:
— И кто же будет царствовать теперь?
Она была готова услышать самое невероятное...
Недотёпы-стражи посмотрели на неё как на недалёкую умом. Обе монахини одновременно повертели пальцами у висков.
— Матушка, — сжалилась наконец одна, — нешто ещё не слышала? Горемычная... Ведь в церкви говорено батюшкой... Царь у нас теперь — Фёдор Борисович. А пока он не войдёт в зрелые года, то при нём его матушка, Марья Григорьевна... И ей народ присягу принёс...
Что говорили дальше грозные стражи — инокиня Марфа не слышала. Имя ненавистной жестокой Марьи обожгло душу новым огнём. Она поняла, что перемены в Москве ничего хорошего ей не сулят. Она хотела расспросить, что слышно о появившемся вроде бы на рубежах царевиче Димитрии, хотела потешить себя каким-нибудь явным прискорбием, которое грозит царице Марье, да не посмела спросить. Убоялась, к тому же знала, что попытка окажется напрасной.
Так миновало ещё какое-то время. В молитвах да в постах оно тянулось медленно, как обычно. А там нагрянуло новое лето с короткими ночами — словно взмах над зеницею глазного века. И вдруг...
Собственно, об этом нельзя и сказать, чтобы так уж вдруг. Ей по-прежнему снились всё те же сны. И вокруг ничего вроде бы не менялось, если не считать, что с нею всё чаще и чаще заводила беседы сама игуменья. Игуменья стала заходить к ней в келью. Стала расспрашивать о здоровье, говорила о погоде, жаловалась на свои собственные недомогания, как-то: ломота в костях и боли в пояснице.
Наконец игуменья поведала:
— Ой, не знаю, чем всё закончится. Да только в Москве, говорят, творится бог весть что... — Сказала и оглянулась.
Инокиня Марфа не поддержала разговора в первую встречу, но когда игуменья заговорила подобным образом вторично, а затем и в третий раз — ответила встречным вопросом:
— Да что же там может быть, матушка игуменья? Бог не допустит ничего страшного...
Сказала, а у самой душа зашлась от тягостных воспоминаний... Бог уже допустил страшное.
Игуменья зашептала, оглядываясь на дверь:
— Кто ведает, чего хочет Бог? И когда начнёт карать за грехи наши?
Вот тут-то и закралось новое подозрение в душу инокини Марфы.
— Дак что будет с детьми Бориса Годунова? — спросила она с тайною лукавою надеждою, пусть уж Бог простит. — Говорят, люди им уже присягнули.
Игуменья покачала головою:
— Присягнули, да присяга не всегда присяга, — и больше ничего не говорила.
В тот же день инокиня Марфа вдруг заметила, что от неё убраны её стражи.
Она могла перемещаться по обители куда и когда хотела. Могла выйти за крепкие стены и сидеть сколько угодно в ожившем монастырском садике, где на деревьях распускались листочки. Могла любоваться зазеленевшим лесом, коровьим пёстрым стадом. Она наблюдала, как животные спускаются к воде и как пастушки, молодые послушницы, ласково обращаются с несмышлёными весёлыми телятами, у которых постоянно хвост трубою. Девичьи руки гладили телячьи головы и почёсывали те места, где у животных когда-нибудь вырастут рога.
Однажды за таким занятием-наблюдением её застала игуменья. Прикрывая глаза от яркого солнца, игуменья остановилась, вроде бы тоже ради восхищения увиденным за рекою. Однако не то её занимало. Инокиня Марфа поняла сразу. Игуменья опустилась рядом на замшелую скамейку и заговорила снова о том, что должно якобы совершаться сейчас в Москве.
— Вот как хорошо на свете, сестра, — сказала она, — а людям этого мало. Люди не могут понять, что могли бы жить хорошо, если бы славили Бога.
Марфа молчала, уже по многолетней привычке.
Игуменья не могла удержать в себе распирающих её слов.
— Дошли из Москвы вести, сестра, что Бог избавил нас от власти Годуновых. Он забрал к себе и Борисова сына, и его жену Марью!
— Марью? Господи! Спаси и помилуй! — Вздох облегчения вырвался из груди у Марфы.
Игуменья это заметила и тоже вроде бы облегчённо вздохнула.
— А правит нами теперь государь Димитрий Иванович, сын Ивана Грозного...
Дальше инокиня Марфа уже ничего не слышала...
Очнулась она у себя в келье. Руку её держала сама игуменья, будто они так и не расставались с того самого мгновения, когда в саду прозвучало имя нового царя.
— Сестра, — сказала игуменья, вроде бы продолжая прежний разговор в саду. — Прости меня. Но я не могла знать до сегодняшнего дня, кто ты такая на самом деле. А вот пришла мне грамота, что на царском престоле у нас теперь твой сын, Димитрий Иванович, что ты и есть царица Мария Нагая. За тобою царь выслал верных своих людей, и скоро те люди будут здесь...
Игуменья залилась слезами, упала на колени и стала целовать руку инокини Марфы:
— Сестра, прости великодушно, если по неведению своему причинили мы тебе невольные огорчения Ибо угнетали нас власти неправедные, а мы ведь сиры и слабы... И зачем-то Богу Всевышнему было угодно, чтобы за грехи наши карались мы карами страшными! Прости, сестра...
Игуменья рыдала, как простая смертная женщина Инокиня Марфа сначала хотела оторвать свои руки от чужих и мокрых уст, однако в глубине души у неё проснулось что-то давнее, уже почти забытое, и она не стала противиться проснувшемуся обманчивому, как полагала, чувству, не стала отнимать своих рук. По природной своей мягкости и доброте она хотела погладить рыдавшую игуменью по вздрагивавшей спине, однако и этого делать не стала.
— Прости, сестра, — умоляла игуменья.
А инокине Марфе сразу почудилось, будто сны, которые столько времени томили её и живили ей дух, — что эти сны были пророческими. Она не могла ещё ответить, в чём усматривается пророчество, но уже принимала его всею душою. Ей очень хотелось верить в чудо не где-то там, в будущем, но здесь, в близком и понятном ей мире, в котором она стала матерью, в котором была счастлива.
— Матушка... — начала она свой вопрос, но тут же засомневалась: да в самом ли деле это с нею творится? А не снится ли ей всё это? Не продолжение ли это пророческих снов?
И остановилась.
А спросить хотелось только об одном: какого цвета глаза у нового царя?
У её сына, у Мити, они были голубые-голубые, как у всех её братьев, как у батюшки, — словно кусочек чистого весеннего неба в светлое ясное утро...
От игуменьи она узнала, что из Москвы сюда посланы люди под началом князя Михаила Скопина-Шуйского.
Сначала её крепко смутило само слово «Шуйский». Она вспомнила каменный взгляд Василия Ивановича, которого умоляла ещё немного помедлить с захоронением царевича (царевича ли? Господи!), а он отвечал ей только одно: «Мария! Болезнь унесла твоего сына! Не люди тому виною, нет. Запомни. Здесь ничего не поделаешь! Запомни!»
Но игуменья рассказала ей, будто бы она сама хорошо знает, что этот Шуйский — очень молодой ещё человек, с Василием Ивановичем никакою дружбою не связан, и коль уж послал его сюда молодой царь, коль он ему доверяет такое ответственное дело, как благополучие своей родной матери, значит, сомневаться в нём нет никакой надобности и для неё, царицы Марии!
— Царицы... Господи!
Впрочем, инокиня Марфа вначале без особого значения воспринимала слова «родной матери». Словно они к ней и не относились. Для неё вначале было важно одно: она — царица! Её увезут в Москву по велению нового государя. Бог смилостивился над нею! Но когда она вспомнила разговор вечером, уже в своей келье, эти слова вдруг обрели для неё своё полное значение: родной матери... Родной матери! Значит, у игуменьи нет ни малейшего сомнения: в Москве на царском престоле сидит царь Димитрий Иванович, уцелевший, избежавший смерти (или воскресший? О Господи!). На престоле сидит её выросший сын Митя?.. Впрочем, ей не хотелось забивать себе голову несущественными мыслями. Самое важное заключалось в том, что Митя — жив! Однако сознание начинало упорно доискиваться доказательств, почему она должна считать молодого царя своим сыном. Когда же именно это случилось, что она начала считать своим сыном чужого отрока?
Она припоминала свои давние разговоры с боярином Богданом Бельским. Для неё сейчас приобретали значение его какие-то явные намёки при расставании, когда он был отставлен от опеки над царственным отроком Митей. Всплывали в памяти какие-то вдруг ставшие многозначительными слова мамки Волоховой, которая Христом-богом клялась ей в Угличе, что в смерти царевича она нисколько не виновата! Что в этом вообще никто не может быть обвинён. И чем больше она сейчас над этим раздумывала, тем отчётливее вырисовывалось у неё в голове: действительно, мамка Волохова говорила правду. Женщина эта не виновата в смерти царевича. Не виновата потому, что смерти царевича, возможно, и не было? Что в гробу лежал вовсе не он! И мамка о том знала. Она не грешила перед Богом, говоря клятвы. Кому о том знать лучше, нежели ей, мамке...
Инокиня Марфа припомнила дни своей тяжёлой болезни. Она тогда несколько недель лежала в горнице, в забытьи, в чёрном дыму. Ей грезились пропасти и горы. И через несколько месяцев окрепла, и к ней подвели сына. Она же не узнавала в зеркале саму себя. На неё из блестящей поверхности глядело незнакомое лицо. А из её близкой прислуги, пожалуй, в живых оставалась только мамка Волохова. Всех остальных, сказали ей, унесла чёрная болезнь. Или унесла, или лишила телесных сил. Господи! Да ведь тогда, после болезни, она сама всем говорила, что не узнает своего сына, так он переменился, так вытянулся, вырос. Даже запахи от его кожи исходили иные, нежели прежде. Она заметила тогда, что ребёнок, едва научившись говорить, как-то по-иному стал произносить слова, нежели было до её болезни, что он не помнит некоторых слов, которые уже научился было говорить, зато умеет произносить другие слова, которых прежде не знал. Более того, ей показалось, будто он как-то иначе воспринимает её материнские ласки, нежели воспринимал их прежде. Что даже блеск его голубых глаз стал несколько иным, более тусклым.
И чем больше рассуждала она подобным образом, тем сильнее убеждала себя: да, в Москве её дожидается Митя, её сын, её кровинка!
Ей хотелось в это верить — и всё!
Она чувствовала уже, как в ней возрождается всё человеческое, что было задавлено столько лет, сразу после страшного свалившегося на неё горя. Впрочем, все эти годы она воспринимала как один нескончаемый страшный сон.
Но сны ведь когда-нибудь да кончаются?
— Господи! Господи! Спаси и помилуй! — повторяла и повторяла она, чередуя молитвы.
Посланцы из Москвы явились через неделю после того, как в обители была получена царская грамота.
Скопин-Шуйский оказался взаправду молодым и удалым розовощёким красавцем, так что ничем не напоминал он собою своего родственника, невзрачного Василия Ивановича.
Он вёл себя как требуется в подобных случаях.
После того как ей были отданы полагавшиеся почести как царице — как отдавались они ей тогда, когда она была ещё молоденькой супругой старого Ивана Васильевича, — юный князь лично прочитал ей письмо от царя, в котором тот чрезвычайно душевно, ласковыми словами рассказывал о своём спасении. Начало спасения, по малолетству своему, он и сам не помнил как следует — так и написано было, — однако он поведал ей, что отчётливо помнит один из вечеров, когда на дворе в Угличе бушевала буря, а он в тёплой горнице играл при свечах с мальчишками в казаки-разбойники. Он тогда нечаянно свалился со своего деревянного коня. Ему сделалось очень больно, однако боль прошла сразу, как только она, мать, приложила к ушибленному месту свою тёплую, нежную руку. А была она тогда одета в яркий алый сарафан и в расшитую золотом белую рубаху с длинными рукавами. Эти рукава закрывали ему глаза, когда она гладила его лоб. А ещё мешало золотое кольцо с голубым камнем у неё на пальце. И тогда он попытался сдёрнуть с её пальца кольцо. Но мешал рубец у неё на коже. И вот уже двадцать лет миновало с тех пор, а он своим крепким умом навсегда запомнил то кольцо и свои детские усилия.
При чтении таких слов инокиня Марфа вспыхнула огнём и пощупала свой палец. Он был теперь безо всяких украшений. Впрочем, ей и незачем было ощупывать свой палец. Она знала, что под кожей на нём таится давний рубец, внешне нисколько не заметный, и что этот рубец остался у неё ещё из батюшкина дома. Палец ей когда-то прищемили тяжёлой дверью в повалуше. Признаться, она о том успела уже полностью позабыть. О том никто никогда и не ведал, но Митя... Митя...
— Господи! — умоляла. — Спаси и помилуй!
Дальше в письме извещалось, что государственные дела не дают царю возможности оставить Москву и примчаться к матери самолично, как ему хотелось бы, и что он с трудом сдержал себя, чтобы не приехать, и что ему очень трудно будет дожидаться её.
А ещё Скопин-Шуйский поведал на словах о про исходящем сейчас в Москве. Царицу ждёт не только сын. Ждут все подданные. А правительству пришлось наказать некоторых людей, которые отнеслись к молодому царю недоброжелательно, а стало быть, недоброжелательно отнеслись и к ней, его матери. Среди наказанных — даже князь Василий Иванович Шуйский.
— Василий Иванович? — покосилась на рассказчика инокиня Марфа. — Как это?..
Скопин-Шуйский отвечал не моргнув глазом:
— Его осудил верховный суд. Он избежал смертной казни только по милости самого государя. Это известие догнало нас уже в дороге.
— И что с ним будет теперь? С Василием Ивановичем?
— Отправлен в ссылку. Как и его братья.
Инокиня Марфа промолчала.
Скопин-Шуйский тут же предложил осмотреть карету, присланную из Москвы самим царём.
— Нам надлежит отправляться как можно скорее, — мягко начал он.
— Мои люди готовы.
Карета оказалась очень нарядной и богатой. Перед нею, подперев руками скорбные подбородки, стояли в удивлении обитательницы Выксинского монастыря. Они глядели на карету, как на заморское диво.
К тому побуждала их сама игуменья, которая раз за разом повторяла:
— Царица-матушка! Ты в Москве не забудь про нас! Не обойди своей милостью!
Эта карета, подарок царя, связывала инокиню Марфу с прежней жизнью. Надо было лишь удостовериться, что всё видимое — правда.
До Москвы ехали спешно. Но возможно, так только казалось инокине Марфе, которая никак не могла решиться хотя бы в мыслях называть себя царицею. А вот Скопин-Шуйский, осведомляясь о её здоровье и желаниях на каждой остановке, озабоченно прикидывал, на какой же день перед ними предстанет Москва. Собственно, и не Москва, поправлялся он, а только Подмосковье.
— Почему не Москва? — осмелилась она наконец спросить.
— А тебя, матушка-царица, ещё задолго до Москвы встретит царь, — отвечал Скопин-Шуйский. — Я загодя вышлю ему гонцов. Таков его приказ.
Инокиня Марфа поняла, что встреча эта уже не за горами. Сердце у неё начинало биться как-то по-новому, всё чаще и чаще.
Она мысленно хотела представить себе, как выглядит сейчас царь Димитрий Иванович, и он казался ей точно таким, как тот молодец, который и дальше, даже в дороге, являлся ей в сновидениях.
Она вслушивалась в разговоры Скопина-Шуйского со своими спутниками — это удавалось редко, конечно, только на остановках. Ей хотелось услышать, как выглядит царь сейчас, потому что на маленькой парсуне, которая была прислана ей в подарок, был изображён молодой человек в медных доспехах, с красиво облегающими голову волосами, с устремлёнными вперёд светлыми глазами. Были ли эти глаза на парсуне голубыми — она не могла уразуметь. Этому препятствовало уже её зрение, которое не давало возможности различать небольшие предметы на коротком расстоянии. Кроме того, парсуна была чересчур маленькой, предназначалась для хранения в шкатулке, для ношения на груди. Она и повесила бесценный дар у себя на груди, и потому ей казалось, что она снова перенеслась в те далёкие времена, когда ей на очень короткое время давали подержать в руках спелёнутого сыночка Митю. Ещё при живом Иване Васильевиче.
— Господи! Неужто...
Тёплым солнечным утром она наконец почувствовала, что встреча состоится сегодня.
Об этом можно было догадаться ещё накануне вечером, после того, как уж слишком заволновались женщины, привезённые Скопиным-Шуйским из Москвы и приставленные к ней в виде прислуги. Они судили-рядили, как её следует одеть. Они примеряли ей всякие наряды, прихваченные тоже из Москвы, один краше другого. Очевидно, получалось неплохо. Но что-то их смущало. Что-то не давало им уверенности.
— Матушка-царица, — только и просили, — вот это ещё разок...
Но это её не занимало. Ей хотелось поскорее дождаться встречи.
Получилось всё несколько не так, как предполагалось приставленными к ней женщинами, и даже не совсем так, как предполагал сам Скопин-Шуйский.
Когда она проснулась утром в Троице-Сергиевом монастыре, который оказался на пути, то ей сразу сказали, что навстречу ей выслана другая карета, ещё более удобная и более богатая, нежели эта, в которой пришлось ехать от Выксинского монастыря. Она хотела выразить своё удивление, сказать, что, дескать, разве бывают на свете более богатые кареты, но снова не промолвила ничего, а когда её, одетую в какое-то новое, тоже очень богатое одеяние, присланное из Москвы в последнее мгновение, вывели к той карете, то она поняла, что да, новая карета точно превосходит привёзшую её сюда. Внутри там всё сверкало золотом, так что человек, туда посаженный, чувствовал себя даже неудобно, словно на золотом блюдце. Она поняла это по тому, как поёживаются две её бойкие прислужницы из знатных семейств, тоже высланные навстречу из Москвы. Однако сама она и на это не обратила никакого внимания. Всё её тело сжалось в комок. Она ждала встречи. Тем более что заметила чрезмерное скопление людей. Они ехали, шли. Они стояли толпами по обочинам дороги, не остерегаясь шальных коней, неудержимых батогов, наконец, густой пыли из-под колёс.
Так продолжалось довольно долго. И это её не утомляло.
Она время от времени поднимала полог кареты и приветливо смотрела на людей, не догадываясь вначале, что они уже знают, кто она такая.
— Матушка-царица!
— Матушка-царица! Свет ты наш!
Люди радовались, что нашёлся наконец её сын, что Господь Бог сохранил его для неё и для своего народа.
— Матушка наша родимая!
Наконец она уже не могла не понять, что им всё ведомо, что они и собрались к дороге именно с целью порадоваться вместе с нею, поздравить её, пожелать ей здоровья и счастья.
И чем дальше продвигалась карета в сопровождении уже очень большого эскорта из множества конных стрельцов и людей благородного звания, из облачённого в сверкающие ризы духовенства, с образами в руках, — тем больше виднелось вокруг неё народа. Во всех церквах, какие только стояли по обочинам дороги, празднично гремели колокола. Оттуда выходили всё новые и новые священники, выносили иконы, осеняли поезд крестными знамениями. Можно сказать, не встречалось ни одного человеческого жилища вдоль дороги, где какое-нибудь человеческое существо оставалось бы безразличным к тому, что совершается сегодня.
И вдруг на возвышенном месте, куда карета поднималась с трудом по вязкому глубокому песку, колёса под нею завертелись медленнее, медленнее и замерли.
Можно было подумать, что всё шествие остановил Скопин-Шуйский. Но это было не так.
Молодая женщина, которая сидела рядом с инокиней Марфой, взглянула в окошко и растерянно прошептала:
— Царь...
Инокиня Марфа никак не могла потом припомнить, как и кто открыл в тот миг дверцу кареты.
Ей запомнилось, что она вдруг оказалась вне кареты, на зелёной тёплой траве, которую шевелил лёгкий ветерок. Весёлое солнышко в голубом небе ссыпало свои лучи ей прямо в глаза. Вокруг кареты собралось уже много народа. Скопин-Шуйский сидел на коне. Лицо молодого боярина казалось белым-белым. С криками радости соскользнул со своего коня какой-то молодой человек. Инокиня Марфа оказалась в его крепких объятиях, услышала обращённые к ней давно забытые слова:
— Мама... Мама...
Молодой человек целовал ей руки. Ветерок ерошил светлые волосы на его голове, а голубые глаза его излучали бесконечную радость.
— Мама... Мама...
Народ вокруг, видя всё это, не проявлял своих чувств в криках, как было бы привычно, понятно, но замер от благоговения.
— Мама... Мама...
Инокиня Марфа как только увидела эти голубые глаза под светлыми взъерошенными волосами, так сразу же прогнала прочь все свои сомнения, вернее — остатки сомнений.
Она обхватила руками эту самую дорогую для неё голову и закричала на всё поле:
— Сын мой! Сынок!
Она прижимала голову к себе. У неё не оставалось больше сил о чём-то размышлять, что-то сказать — кроме этих слов.
— Сын мой! Сын!
Она снова сделалась царицею.
— Люди! Народ московский! Вот он — живой!
Это ощущение уже не покидало её, даже когда она наконец высвободилась из крепких сыновних объятий, когда она уже ехала в карете, очень медленно продвигавшейся вперёд, а сын, её сын, шёл рядом с каретою, быстро шагая, не глядя себе под ноги, а глядя лишь на неё, свою мать, улыбался ей сквозь слёзы, которые ветерок и солнце высушивали на его дорогом для неё лице почти мгновенно. Однако щёки его увлажнялись снова. Рядом с ним шагал так же бодро какой-то высокий молодой человек с густыми кудрявыми волосами, которого он называл по-дружески Андреем, а вороных коней за ними обоими вели их слуги. И никто, в том числе и она, мать, не уговаривали царя сесть на коня. Потому что она, как и все, видела и понимала силу его сыновней любви, которую он таил в себе так много лет, которую не растерял после долгих скитаний, после страшных опасностей, подстерегавших его.
Женщины, сидевшие рядом с нею в карете, уже выплакали все свои слёзы. Уже в который раз повторяли они одно и то же:
— Есть на свете святая правда! Всемогущий Господь Бог не допустит на земле несправедливости! Это так...
А через несколько дней в Москве инокиня Марфа увидела то, о чём мечтала с того самого мгновения, как огромная ростом бабка-повитуха, с оголёнными до локтей красными руками, сказала ей неожиданно ласковым, медовым голосом: «Мальчик, государыня!» Уже тогда от этих слов она почувствовала такое облегчение, которое прогнало все её телесные и душевные страдания.
И вот теперь её Митя, её кровинка, венчался на царство...
Он был в золотном одеянии, усыпанном драгоценными камнями.
Он шествовал от царского дворца к Успенскому собору по широкому бархатному ковру, горящему алым огнём, в котором вспыхивали золотые нити. Он шагал впереди огромной процессии несколько поспешно, как бы угадывая материнское желание поскорее увидеть его в царской короне. Впереди него двигался высокий ростом протопоп, крестообразными взмахами кропя ему путь.
Затем она видела и слышала, как её сын перед алтарём в соборе рассказывал о своих скитаниях и бедствиях. Она снова живо представила всё это и облилась слезами. Впрочем, плакали многие присутствовавшие. Патриарх Игнатий, сам недавно возведённый в высокий сан, возложил на молодого царя блистающие бармы и специально изготовленную новую царскую корону. В руки дал скипетр и золотое яблоко — державу. Патриарх усадил нового царя на возвышенное место посреди собора, к которому вело двенадцать ступеней. Под пение церковного хора царя поздравляли все присутствовавшие. Затем, после литургии, Патриарх причастил его и совершил над ним миропомазание. А затем, после целования царской руки, уже в Архангельском соборе, перед гробом царя Ивана Васильевича, архиепископ Арсентий возложил на нового государя шапку Мономаха.
7
Ян Замойский умер в самом начале лета.
Говорили, что в день смерти он велел привести ко дворцу коня, на котором руководил своим последним сражением. Старику хотелось вроде бы даже посидеть в седле, да силы оставили его от одних нахлынувших воспоминаний. Он умер на вольном воздухе, рухнув, как отжившее дерево, на зелёную траву. Его не успел подхватить даже верный лекарь Паччионелли.
О недугах старого канцлера знали давно и повсеместно.
Все были заранее готовы к поездке в Замостье. К тому же время оказалось подходящее. Лето обещало надёжное тепло и сухие дороги. А похороны — лишняя возможность встретиться с родственниками, старыми знакомцами, с давними друзьями. На похоронах всегда услышишь такое, о чём и не догадывался прежде.
Пан Мнишек отправиться лично в Замостье не мог. О неприязненных отношениях между ним и покойным, которые в последнее время только ухудшились, известно тоже всем. Конечно, о таком пока не стоило заговаривать. Рассылая многочисленные письма, сандомирский воевода старался красочнее описать свои болезни. Они его измучили в самом деле. А после московского похода усилились. После запоздалого этого гетманства, к тому же, можно сказать, неудачного. Ничего не стоило пану Богу дать возможность пробыть гетманом ещё несколько месяцев, хотя бы до кончины Бориса Годунова. А там...
— Последняя возможность, — с болью в голосе повторял пан Мнишек, глядя на себя в зеркало. — Старею.
Перед тем как отправить на похороны сына Станислава, пан Мнишек перечитал письма от московского царевича. А ещё основательно расспрашивал дочь Марину, что писано о военных успехах царевича в тех письмах, которые теперь не ежедневно, но всё же часто приходят к ней откуда-то из-под Москвы.
Дочь старательно выискивала для отца военные сведения.
После смерти Бориса Годунова всё явно клонилось к тому, что Димитрий Иванович усядется на московский престол и наденет на свою голову корону Ивана Васильевича Грозного.
Давая затем наставления сыну, пан Мнишек повторял:
— Всем говори: победа царевича в Москве — дело решённое. В Замостье приедут не только первые наши вельможи, но сам король там будет. Так чтобы и король знал, как близка теперь свадьба московского царя с дочерью сандомирского воеводы. И пусть соображают, кто был прав.
Пан Мнишек не располагал сведениями, узнал ли Ян Замойский перед кончиной о смерти Бориса Годунова. Возможно, падуанский студент ушёл из жизни в уверенности, что он был прав на последнем сейме. Будучи убеждённым, что Годунов в конце концов расправится с царевичем Димитрием. Более того, умер, полагая, что царевич Димитрий вовсе и не царевич.
Но стоило сыну Станиславу отправиться в Замостье, как новые известия из Московии подтвердили его, пана Мнишека, правоту, но не Замойского.
Известия становились всё более приятными день ото дня. Дела царевича улучшались так стремительно, что гонцы не успевали о том сообщать.
— Отец, — сказал, возвратившись из Замостья сын Станислав, — покойный гетман, умирая, твердил своё: не разрушайте мира с Московией! О том говорили на похоронах.
Что же, вскоре после возвращения сына из Замостья пан Мнишек решил махнуть рукою на собственные недуги и отправиться в Краков. Он сам не мог объяснить, зачем надо именно так поступить. Однако видел радость в глазах дочери. Видел, как всё царственней становится её походка после прочтения очередного письма от жениха. А потому хотел выплеснуть свою радость где-то там, в Кракове, а не носиться с нею здесь, в своём Самборе. Конечно, он знал, что в Кракове тоже многое известно о делах царевича в Московии. В Кракове постоянно читают и даже переписывают письма от отцов Андрея и Николая, которые сопровождают царевича в походе. Но в Краков известия приходят всё же запоздало. Свидетельством тому — письмо нового Папы Римского, Павла V, доставленное в Самбор.
Новый Папа Римский, не в пример сейму, одобряет действия пана Мнишека. Новый Папа надеется на близкий брак Марины с московским царём и возлагает на этот брак большие надежды. Потому что в Москве, уверен он, легко подчиняются верховной власти. А верховный тамошний правитель, то есть царь Димитрий Иванович, уже принял католическую веру. Святой отец знает это отлично и возлагает на это большие надежды.
Пана Мнишека подобные вопросы по-прежнему не очень задевали. Его мучило иное.
Он опасался, не повредило ли его планам вынужденное отсутствие в войске царевича Димитрия. Не переменились ли у того мысли относительно женитьбы? Не удалось ли королю Сигизмунду каким-нибудь образом повлиять на царевича, склонить его к браку с сестрою короля, шведской королевной Анной?
Вскоре в Самборе действительно стало известно: в Москве уже почти всё завершилось. И завершилось весьма благополучно для царевича. Он вошёл в Москву безо всякого сражения. Без единого выстрела. Под восторженные крики народа. Под благословения священников. Приветствуемый боярами и дворянами. Он уже возвратил из ссылки, из дальнего монастыря, свою мать. Его уже венчали на царство. Ему на голову возложили корону его отца, Ивана Васильевича Грозного! Новый московский царь признан всеми, исключая разве что нескольких бояр. Правда, во главе недовольных стоял князь Василий Иванович Шуйский. Но Шуйского уличили, и наказал его верховный суд, без участия самого царя.
Известия требовали немедленного общения с друзьями и знакомыми в Кракове. С самыми влиятельными и сильными людьми.
Да и в Кракове тоже быстро сообразили: нужен им пан Мнишек.
Ещё из Замостья сын Станислав привёз пану Мнишеку сожаления брата Мацеевского и прочих важных панов: они-де хотели видеть пана Ержи, а он не смог явиться. Потому из Кракова, одно за другим, прибывали письма. Пана Мнишека умоляли в них поскорее приехать туда.
Особенно поразило письмо Мацеевского. Епископ не стал расписывать заранее причины, побудившие его просто потребовать присутствия пана Мнишека в Кракове. По своему обычаю, он ограничился краткими интригующими словами: «Пан Ержи! От твоего присутствия здесь зависит очень многое, в том числе и в твоей судьбе».
Прощаясь с домашними, пан Мнишек то ли в шутку, то ли уже всерьёз велел Марине готовиться к путешествию в далёкую Московию.
— Дорога туда будет сейчас довольно лёгкой. Я знаю, — уверял он.
Девушка воспринимала отцовские наказы весьма внимательно.
Многозначительно прозвучали они и для непоседы Ефросинии.
— Мне бы тоже хотелось посмотреть на Москву! — сказала она и подпрыгнула совсем по-детски.
И даже постоянно настроенный скептически писарь Стахур не находил на этот раз никаких возражений.
— О том тебе нечего думать, — отрезал дочери пан Мнишек. — Мне не хочется и тебя отдать за московита. Кто останется в Самборе?
Ефросиния покраснела от отцовского предположения. Но ещё раз повторила:
— Мне бы хотелось увидеть Москву!
А в Кракове Бернард Мацеевский не скрывал своей радости.
— Пан Ержи! — закричал он. — Брат! Наконец-то! Ты явился вовремя. Сейчас же едем к нунцию Рангони. Иначе будет поздно.
— Да что случилось? — не очень-то понимал подобное настроение пан Мнишек. — Обязательно сию минуту?
— Нельзя медлить, брат. Ты меня знаешь.
Уже по дороге к Рангони пан Мнишек узнал от Мацеевского, что из Рима неделю тому назад прибыл граф Александр Рангони, племянник нунция. Он направляется в Москву. У него — верительные грамоты от Папы Римского. Святой отец куёт железо, пока горячо.
Пан Мнишек замахал руками, задохнувшись:
— Нет! Нет! Рано... Нельзя! Это может только повредить молодому царю!
Мацеевский был доволен реакцией брата. Однако добавил:
— Святой отец уверен: в Москве готовы признать его покровительство!
— Рано! — был уверен пан Мнишек, к которому возвратилась речь. — Святому отцу не то докладывают!
— Пан Ержи! — чрезвычайно обрадовался такому началу разговора Мацеевский. — Ты теперь у нас вроде покойного Замойского. Предупреждаешь. Я на тебя надеюсь. Ты побывал там. Ты один способен обрисовать нунцию и его племяннику положение дел в Московии. Ты один способен охладить не в меру горячие головы!
И тут же пан Мнишек понял: в Риме зашли уже слишком далеко в самообольщении. Усыпили себя надеждами. Там совершенно не представляют, насколько московиты преданы православной вере. Они и не подозревают, что отцы Андрей и Николай, сопровождавшие царевича в этом походе, не могут полною мерою понять настроение русских.
В Риме, да и в Кракове, верят донесениям молодых людей, искренно заблуждающихся. А между тем иезуиты воспринимаются русскими просто как необходимость. Для русских это чужие люди, в обязанности которых входит исповедовать да причащать польское и прочее католическое воинство, которое на службе у царевича. Не более того. В Риме тешат себя надеждами, будто русские настолько покорны своим властителям, что слепо подчинятся им при нарушении принципов православной веры. В Риме не понять московского духа. Не понять, пожалуй, и в Кракове. Особенно сейчас, когда затих голос Замойского, прозревшего, правда, только к старости. Потому что в юности он всячески поддерживал Стефана Батория. Мечтал о победе над Москвою. Зато царевич Димитрий усвоил всё отлично. Как только его войско пересекло московский рубеж — он, Мнишек, не слышал от царевича никаких намёков об уступках чужой вере. Ни о каком принятии католической веры, о котором говорят между собою иезуиты. Более того, оставшись наедине с будущим тестем, царевич заявил однажды, что ни на йоту не отступит от веры отцов. Пускай, мол, тесть не строит на этот счёт никаких планов. Этого не потерпят на Руси. Конечно, пан Мнишек обеспокоился другим: а не переменит ли царевич взглядов относительно будущей своей женитьбы? Но был успокоен и без собственного вопроса. Что касается женитьбы — царевич остаётся непреклонным. Он женится на Марине, как только войдёт в Москву. Он подарит тестю всё обещанное.
Нунций Клавдио Рангони встретил гостей с нескрываемой радостью.
— Пана Мнишека нам как раз и не хватало, — многозначительно посмотрел он на епископа Мацеевского. — Вы можете рассказать много интересного. Вы видели всё своими глазами.
Очевидно, нунцию уже доводилось выслушивать возражения пана Мацеевского.
Пану Мнишеку сразу всё это не понравилось. Почему нунций не поинтересовался мнением очевидца ещё зимою? Что мешало?
Рангони тут же подтвердил худшие опасения. Да, граф Александр послан его святейшеством в Москву.
— Вместе с ним, — сказал нунций, — едет многоопытный в дипломатии аббат Прассолини. Его святейшество давно ведёт переписку с молодым московским царём. В Риме возлагают на это посольство большие надежды. Графу Александру желательно побеседовать с вами.
В голосе нунция звучала гордость. Папа Римский завёл дипломатические отношения с Москвою при его помощи.
В душе у пана Мнишека заговорила злость: ах, как легко испортить дело, которое готовилось годами!
А нунций говорил уже о согласии самого короля Сигизмунда.
— Его величество, — пел сладкий голос, — собирается послать своё посольство. Корвин-Гонсевский дожидается верительных грамот. Король надеется на благодарность за поддержку царевича в трудные для того моменты.
Тут уж пан Мнишек не сдержался:
— Конечно, королевское посольство будет выглядеть более уместным. Король может поздравить московского государя с венчанием на царство. Это укрепит репутацию молодого царя.
Нунций опешил. Вначале ему показалось, наверное, что он ослышался. Он посмотрел на пана Мнишека — тот, высказавшись, принял каменное выражение лица.
— Вы полагаете, пан Мнишек, — начал нунций, — что этого не произойдёт с посольством его святейшества?
— Уверен, ваше преподобие, — сказал решительно пан Мнишек, удивляясь собственной смелости. И начал выкладывать свои аргументы.
Лицо нунция становилось всё более огорчённым.
Стало заметно: он и сам уже понимает, насколько неуместно сейчас посольство Папы Римского в Москву. Он уже готов согласиться с доводами пана Мнишека. Но что-то ему мешает.
8
Человеку, которого в последнее спасительное мгновение выдернули из-под лезвия острого топора, казалось бы, нечему больше удивляться на этом свете. Ан нет.
— Удивление Господь посылает мне ежедневно, Прасковьюшка, — повторял каждое утро князь Василий Иванович Шуйский, принимая из рук Прасковьюшки чашу холодного кваса. — Удивлению я сподоблен.
Как только Василий Иванович возвратился в Москву из ссылки, где он даже оглядеться не успел, удивлению его уже вообще не было предела.
В Москве от возвращённого потребовали новой присяги царю, да на том вроде и успокоились.
Поверили.
Братья опустили руки, смирились. Чего и от него со слезами ждали. А он — как сказать.
Он размышлял.
Размышлял в первую очередь над тем, ведомо ли нынешнему царю, кто уготовил ему взлётный путь, окромя Шуйских? Либо же безбожник думает, что всё это ниспослано на него Богом, а не человеческими стараниями да ухищрениями?
Нет, конечно, был уверен Василий Иванович, не всё так просто. Большой ум даден расстриге от Бога (от Бога ли?). Большой. Потому, что весь народ сейчас за него горою. Он ли сумел так устроить, само ли по себе так получилось, да только так уж пошло-поехало. И ни одна, кажется, волосинка не упала по его велению с человеческой головы. А сколько между тем народу уже погибло? Скажи что не так на улице московской, в кабаке ли, в харчевне, среди непотребных жёнок, среди всяких отбросов человеческих, которыми полны кабаки да ночлежки всякие, — откуда ни возьмись может появиться атаман Корела. Тенью витает он по Москве — длиннорукий, на коне быстром. И схватили человека казаки. Новый Малюта Скуратов. Казаки сразу проткнут виновника пиками, изрубят саблями. Истопчут конскими копытами. А ещё есть атаман Заруцкий. Красавец, на ангела похож. Внешне. А по сути — дьявол. Либо же стрельцы Басманова явятся — так изобьют до смертушки бердышами. Ещё — сапогами, подкованными железными гвоздями. Но царь... Царь и после этого вроде бы ни при чём. Народ сам за него заступается.
Потому как у царя ум изворотливый.
Да ещё Басманов постоянно при нём. Друзья...
Да ещё Андрей Валигура. О, Андрей...
Злость закипает в груди при одном упоминании этого имени. Пусть уже Басманов. Род знаменитый был. Но кто таков Андрей? Какого роду-племени? Почему возвысился до звания первого царского советника?
Между ними тремя и решено было наверняка держать князей Шуйских не в их вотчинах, отдалённых от Москвы, но при самом царском престоле, на привязи. Как собак.
Но где это видано, чтобы холоп бросил царю в глаза обвинение в самозванстве, нарёк его расстригою, вором, — а царь простил смельчака и даже к себе приблизил?
Кровь стынет от предположения, какое наказание придумал бы за подобное царь Иван Васильевич Грозный...
Но коль назвался грибом... Следует делать вид, будто покорился ты теперь навсегда. Будто тебе всё равно, кто бродит по улицам твоего родного города. Будто готов ты всё стерпеть.
Отныне часто приходится являться в сенат. Так называется теперь прежняя Боярская дума. Не иначе как по наущению Андрея. И являться часто лишь затем, чтобы терпеть всяческие посрамления. Потому что без царя ни одно заседание там не проходит. Мужики там в основном степенные. Пускай кто даже из новых, из царских любимчиков, как вот князь Татев, князь Рубец-Мосальский, дьяк Сутупов, а всё равно каждый понимает: решаются государственные дела. Потому никто не суетится. Никто не хочет выставить себя дураком. Если нечего сказать, присоветовать — лукаво делают вид, будто призадумались. Но тут непременно появляется расстрига. И всегда с весёлым выражением лица. Для него, мол, не существует ничего сложного. Ничего неразрешимого. Приходит чаще всего в сопровождении своего Андрея. Едва, кажется, вникнув в суть того, о чём говорится, он тут же подсказывает решение, разумное правда, и всех поражает настолько, что от удивления «сенаторы» руками разводят да бьют себя кулаками в лоб.
— Царь-батюшка! — кричат истошно. — И что бы мы без тебя здесь делали?
— Кормилец ты наш!
— Ума палата!
— Да хранит тебя Бог на радость нам!
И каждое своё посещение сената царь завершает одними и теми же словами:
— Надо готовиться в поход на басурмана! Загоним его за Чёрное море — и тогда наша земля расцветёт пуще прежнего! И тогда народ наш вздохнёт свободно! Никто не будет опасаться, что завтра или послезавтра его угонят в вечное рабство! Вот что для нас сейчас самое главное!
Сенаторы и на это хором:
— Правильно, государь!
Но долго ему в сенате не удержаться, непоседе. Его уже понесло по городу.
А там казаки, и запорожские, и донские. Там польские вояки, которых, говорят, всего семь сотен насчитывается, а шума от них столько, как если бы их было семь тысяч в Москве. Буйствуют. Словно город завоевали.
Василию Ивановичу часто приходится сопутствовать молодому царю.
Впереди идёт Андрей Валигура. Либо Басманов. Оба долговязые. Оба передвигаются быстро. Но уступающий им в росте царь шагает ещё быстрее. Словно пострел, прости Господи! Что в лавку ему чужую забрести, что в мастерскую чью-либо. Обо всём расспросит, всех ободрит. Всех улыбкою как бы смягчит и голубыми глазами обласкает.
— Ещё лучше станем жить, люди добрые, как только басурмана побьём и прогоним его подальше от наших рубежей!
А народ легко поддаётся бесовским речам. Народ вроде бы видит, сколько чужеземцев на московских улицах. А они болтаются без дела. Не дают прохода честным жёнкам. Они запросто заходят в православные храмы, не сняв шапки, не оставив при входе оружие. Народ не задумывается, что в таком виде ещё никогда прежде не ходили по Москве настоящие русские цари. Даже Бориска Годунов. Идёт, бывало, Бориска, так земля под ним прогибается. Потому что народу вокруг него сотни. Да и не мог царь вот так сорваться с места и бродить по улицам. Господи! Это разве что по обету куда в монастырь. На моление к святым образам. Не иначе. Господи!
Но царя чаще всего заносит на Пушечный двор, на берег Грязного пруда.
Как увидит освещённые огнём грубые лица бородатых мастеровых, как уставится на раскалённый докрасна металл — о Господи, что тогда с ним происходит! А готовые стволы пушек — для него дороже золотой казны.
— Вот чем зададим острастки злому басурману! О! — И всё в таком роде.
А когда возвращаются во дворец — подавайте ему капитана Маржерета.
Француз появляется без промедления. Язык у него не устаёт. Француз французом, а речь московскую усвоил так, что иной русский позавидует. Всякие шуточки-прибауточки сыплются из его уст. И более всего любит рассказывать про своего нынешнего короля по имени Генрих. И ему, мол, довелось добиваться законного отцовского престола, как и Димитрию Ивановичу. Так же одолевать злых людей. А вообще-то, французский король добр, справедлив, получается. Он любого подданного выслушает внимательно, прежде чем принять какое решение.
На француза с одобрением смотрит Андрей Валигура. Они, оказывается, давно знакомы друг с другом. Ещё из Литвы.
— Вот бы с кем объединиться! — кричит восхищенный царь. — Да на турка! Да так поколотить, чтобы ног не унёс!
Царь с большой охотой поддерживает разговоры с Маржеретом. Особенно в присутствии поляков. Дескать, французский король не чета вашему. Поляки, особенно Домарацкий, их главный теперь предводитель вместо ставшего ненужным Дворжицкого, крутит носом при таком разговоре. Не по нраву.
Но до французов от Москвы далеко. Военный союз придётся держать с соседями, которые поближе.
Во время таких хождений по городу Василий Иванович хорошо присмотрелся к Андрею Валигуре.
И вроде бы даже наметилось между ними какое-то сближение. Потому что Андрей этот оказался человеком общительным. И лет ему ещё меньше, нежели молодому царю.
Андрею даже очень понравилось, что князь Шуйский с уважением отозвался о благородстве нового царя.
— Виноват я перед нашим государем! — пустил как-то слезу Василий Иванович. — Бес попутал... Чего там... А он — простил...
— Никто, кроме него, не способен на подобное, княже, — тут же отозвался Андрей, озаряясь по всему лицу приятною улыбкою, как будто князь Шуйский оказал ему лично неоценимую услугу.
И пошёл у них разговор между собою, на удивление Басманову и даже самому случившемуся рядом царю.
— Похвально! — заметил царь, взглянув на них, но не уточняя при том, кого же именно хвалит, Андрея или же Василия Ивановича. Очевидно, ему хотелось, чтобы подумали: обоих.
И поведал Андрей о своём родном деде, о своём уже умершем отце, о своих детских годах, проведённых в далёком лесном краю.
— Что там сейчас творится у меня в имении? — вспомнил Андрей, и враз переменилось выражение его лица. Вроде бы тоска промелькнула.
Оказалось, сам Андрей из знатного московского рода. При царе Иване Васильевиче его дед имел в государстве большой вес. А прозывался род — Великогорские. И вотчины Великогорских лежали невдалеке от самой Москвы. В Москве же у них стояли славные дома. А новое прозвище — Валигура — дед Андрея получил в Литве за свой громадный рост и за свою небывалую удаль.
— Как же! — сразу припомнил Василий Иванович слышанное ещё от своего отца. — Знаю про твой род.
Коли так, подумалось князю Шуйскому, то не может в тебе, молодец, не взыграть благородная кровь, когда тебе станет известна истинная правда о твоём кумире, о государе. Конечно, сказать вот так сразу правду в глаза — ничему не поверишь. И как бы снова не довелось состязаться с палачами на Лобном месте. Но если помаленечку подводить тебя к подобной мысли, так при твоём уме очень скоро станет всё на свои места. Прозреешь, даст Бог.
Пока что Василий Иванович выведывал вопросами разные разности из жизни Андрея Валигуры. Расспросил и с удивлением выслушал, даже с нарочитым благоговением, как удалось Андрею встретиться с царевичем в далёком изгнании, как он его узнал, своего государя, что их сблизило. И был удивлён князь Шуйский: большой ум у Андрея. И цепкая память.
Андрей же обрисовывал прошедшее так, будто оно доныне стоит у него перед глазами.
Князь Шуйский видел и слышал беседы двух молодых людей. И мнимый царевич Димитрий Иванович, уже царь, поворачивался к нему тоже весьма приятной стороною своего ума. Не будь он грешник...
— Был бы новый Марк Аврелий на нашем московском престоле, — сделал заключение Андрей о молодом царе, — если бы у него не отняли в детстве возможности учиться, как он того заслуживал по праву царского происхождения.
Признаться, Василий Иванович смутно представлял себе, кто такой Марк Аврелий, но легко догадался, что должен это быть какой-нибудь славный древний правитель, возможно царь. А потому, без опасения показать себя с дурной стороны, Василий Иванович уверенно кивнул головою и даже выразил мнение, которое Андрею следовало счесть похвальным:
— Скажу тебе, Андрей, он наверняка наверстает всё это. Теперь я всё понимаю. Ослепление с меня сошло.
— Наверстает! — не было сомнения у Андрея. — Особенно когда у нас появится свой университет. Когда наши студенты будут читать в нём книги, собранные по всей Европе.
Разговор продолжался уже на Пушечном дворе, под крики мастеровых людей.
Царь, стряхнув с себя лёгкое и пышное убранство, накинул на плечи опрятную, правда, но всё же грубую на вид одежонку и бросился на помощь работным людям, тащившим на ровную песчаную площадку готовый уже пушечный ствол. Его руки, защищённые толстыми громадными рукавицами, любовно хлопали по шероховатой поверхности этого ствола, словно перед ним стоял добрый скаковой конь, да притом ещё и породистый аргамак.
Василий Иванович не стал говорить об университете, чтобы вконец не запутаться, но расспросил Андрея ещё, где постигал тот разные премудрости, вроде языков древнеэллинского да латинского, а также философию. И когда услышал, что в академии у князя Константина в Остроге, — похвалил уже вполне искренно:
— Князь тот православной веры крепко держится! Люблю таких. Не то что иные тамошние вельможи православные, которые сейчас пятки королю Жигимонту лижут! Ненавижу!
Он чуть не назвал князей Вишневецких. Да вовремя вспомнил: в Москву, по слухам, должен вскоре явиться князь Адам Вишневецкий, который первый и приютил у себя в имении непризнанного ещё московского царя. Который первый и подготовил ему этот взлёт.
Разговор пришлось оборвать. Потому что царь укорил их обоих совсем по-приятельски:
— Что же вы, друзья, пособить не торопитесь? Пушечка-то тяжёленькая!
Конечно, князь Шуйский не снизошёл до того, чтобы сбросить с себя боярскую шубу тяжёлую да горлатную шапку высокую. Чтобы надрываться по-простонародному при пушке. Он лишь прикоснулся к тёплому ещё металлу. Но Андрей в работе был таким же упорным, как и царь. Андрей так поднапрягся, что пушечный ствол пошёл без сопротивления, а работные люди удивлённо переглянулись.
— Ай да боярин!
— Вот где сила пропадает!
А на Пушечном дворе вертится много военного люда. Каждому охота поскорее отправиться в поход. С таким царём, молодым да прытким, смелым до одури, навоюешься всласть. Он уже, говорят, всякие посольства приготовил для отправления за рубеж. С польским королём у него по этой причине намечается большая дружба. Потому что поляки тоже много вреда терпят от турка. Потому что помощь Димитрию Ивановичу большую оказали поляки, когда он скитался по белу свету. Да и невесту там себе он красавицу подыскал, в Польше. Всё там.
Такое мнение больше всех поддерживали польские воины.
А в самом деле, Василий Иванович знал, молодой царь косо смотрит на польские порядки. Оно и понятно. Там короля ни во что ставят. Там своеволие в чести. Там вельможи возносят себя выше короля. А на Руси такому не бывать. Он понимает. Если порассуждать. Только нельзя допустить, чтобы это понял простой народ. Народу, конечно, следует говорить, будто молодой царь желает завести у себя в государстве польские порядки. Что он хочет отдать иезуитам все православные церкви, ввести ограничения для православной веры. Унию ввести на Руси, от которой уже страдают православные в пределах Речи Посполитой. Вот что надо толковать и вдалбливать народу, был уверен князь Василий Иванович.
Подобные мысли окрепли в его голове после одного разговора с Андреем Валигурою, очень осторожно начатого и проведённого весьма тонко.
— Смотрю я на наших людей, Андрей, — сказал Василий Иванович, — и душа моя радуется. Хорошо как, что они царю своему верят. Что он такой простой и доступный. У меня оттого легко на душе. Вот и ты на меня хищным волком зыркал, когда я недоверие царю выказывал по бесовскому, знать, наваждению. Когда на Лобном месте меня палач терзал, как ворон зайца, не давая по-христиански умереть мне... А что бы ты сказал, если бы тебя убедили, будто бы государь твой тебя обманывает, избавь тебя от подобного Господь? Пошёл бы ты за него в огонь и в воду?
— Ни за что! — отвечал коротко и без раздумий Андрей. — Наверное, все мы такие, Великогорские. Несправедливо обошёлся с моим дедом Иван Грозный (Бог им теперь обоим судья!) — так и не стал дед царю служить. А сорвался с места, бросил вотчины в Московском государстве, бросил весь достаток — и ушёл. Нельзя сказать, чтобы лучшие земли его ждали в Литве, богатство какое-то особенное. Нет. Но ушёл. Так и я поступил бы. Человек должен чувствовать себя свободным.
Василий Иванович довольно крякнул. И направил разговор на безопасную дорожку:
— Счастлив ты, Андрей. Нет у тебя в душе сомнений.
Впрочем, на душе у самого князя стало легче.
И когда он вечером возвратился к себе домой, то первым делом заглянул в покои к Прасковьюшке. Обнял её тугой горячий стан и поцеловал в румяные солоноватые губы.
Прасковьюшка от удивления даже заплакала.
— Господь с тобою, Василий Иванович, — сказала она. — Неужто пора?
Он сразу понял причину её слез, засмеялся.
— Нет, нет, голубушка, — заверил. — Ничего подобного.
Прасковьюшка недавно узнала, что молодой царь отменил запрет Бориса Годунова и разрешил Василию Ивановичу жениться, что даже невеста для него подыскана — молоденькая княжна Мария Буйносова-Ростовская.
Прасковьюшку грызла теперь ревнивая и постоянная тревога за своё будущее.
И ещё раз успокоил её довольный собою князь:
— Ты же знаешь, голубушка, жениться мне велено вместе с самим царём, во всяком случае не прежде того. А у царя ещё и сватовства не было. Одни разговоры. И невеста его не под боком живёт, а вона где... Сандомирского воеводы ляшского дочь! Будто у нас своих девок на Москве мало... Но пока мы все под Богом ходим. Пока... — Сказал — и впился в Прасковьюшкино лицо прицельными глазами. А вдруг...
Однако Прасковьюшка своим умом, кажись, одно отследила: не скоро ей грозит разлука с князем. Ещё погуляет в девичестве княжна Машка Буйносова-Ростовская.
— Князюшко! — бросилась Прасковьюшка ему на шею.
А Василий Иванович улыбался своим тайным мыслям.
9
Андрей сразу сообразил, что бесконечное восхищение посла Корвин-Гонсевского переходит уже в недоумение. Посол вот-вот должен высказаться на этот счёт. Да ещё не знает наверняка, перед кем открыть душу.
Андрей был направлен навстречу послу, когда обоз его уже приближался к Москве. А до того почётный гость подъезжал к столице в сопровождении множества русских знатных дворян.
Русские наперебой старались высказать высшему гостю благодарность, каковую их народ питает к польскому королю за его поддержку царевича Димитрия Ивановича в бытность его в Речи Посполитой.
— Это повторяется уже много раз, — решился наконец посол, обращаясь к Андрею. — А слова одни и те же. Как-то странно слышать. Может быть, говорится это по приказанию царя?
— Пан Александр! — отвечал с подобающей улыбкою Андрей. — Всё исходит из глубины души. И это главное. A donato equo...[45]
Посол улыбнулся и замолчал. Он был приятно удивлён латинским языком, исходящим из уст приближённого к царю московита. Для него это много значило. Он, по-видимому, хотел на этот счёт даже потолковать с Андреем, да не тут-то было. Обстоятельства не позволяли.
Народ встречал его всё так же буйно и так же словами благодарности:
— Многая лета королю Жигимонту!
— Да живёт он с нами отныне в дружбе!
Посол воспрянул духом, когда Москва встретила его громом пушечных выстрелов. Воздух наполнился праздничным колокольным звоном. Везде сверкали литавры, пели трубы. А ещё был говор, крики, приветствия нарядно одетых дворян и простого народа.
— Многая лета королю Жигимонту!
— Да живёт он с нашим царём-батюшкой в вечной дружбе!
— Спасибо ему от всей Русской земли!
— Не дал погибнуть нашему царевичу!
Посол махал в ответ рукою, энергично вскакивал с места, прижимал к сердцу руки:
— Спасибо! Спасибо!
Ему хотелось всех убедить: он обязательно передаст своему государю всё здесь услышанное и расскажет с точностью обо всём увиденном.
— Мой король — государь справедливый и добрый. В неведомом юноше он сразу признал великого царевича!
— Многая лета вашему королю!
Приблизясь к Кремлю, поражённый видом его мощных стен, посол, кажется, забыл обо всём неприятном. Потому что в говоре собравшихся толп он не различал полных отдельных фраз, но лишь слова благодарности.
Однако в Кремле — уже в Грановитой палате, перед царским троном, на котором, в блеске своего облачения, восседал Димитрий Иванович, а вокруг него стеною стояли духовные пастыри и светские вельможи, посол снова услышал почти те же слова, которые озадачивали его сегодня уже не раз.
На короткую выразительную грамоту от короля, прочитанную послом, отвечал от имени царя воевода Басманов. Голос Басманова звучал низко и густо.
От внимания находившихся в палате скорее всего не ускользнуло то обстоятельство, что у царя невольно дёрнулась голова, когда он услышал в королевской грамоте обращение к себе не в таком виде, как ему хотелось бы, как он уже успел установить. Польский король в своей грамоте называл его просто великим князем московским.
Царская голова дёрнулась и тут же успокоилась.
Царь взял себя в руки.
Андрей видел, как беспомощно посмотрел на него Корвин-Гонсевский. Но никто из присутствующих не заметил двусмысленности в услышанном из уст посла. А кроме московских вельмож там был ещё и посланец от Папы Римского, Прассолини, которого в Москве недавно встречали не менее пышно, нежели сегодня пана Корвин-Гонсевского. Стояли оба иезуита, отец Андрей и отец Николай. На них настороженно посматривал князь Василий Иванович Шуйский, не скрывая своего неодобрения такой вольности.
Главный разговор у царя с королевским послом состоялся на следующий день, в присутствии князя Василия Ивановича Шуйского, Андрея Валигуры, дьяка Афанасия Власьева и боярина Басманова.
Откашлявшись, Корвин-Гонсевский начал доверительным голосом произносить то, что ему было поручено его государем:
— Не только в прошлом мой государь оказывал тебе, великий князь, всяческую помощь и поддержку, но и сейчас готов её оказывать. А потому он вправе от тебя ждать подобного выражения дружеских чувств.
Царь прервал посла взмахом руки:
— Конечно, я принял грамоты моего соседа и брата. Но впредь я требую величать меня полным титулом: не только великим князем, но и царём всея Руси, императором. Этот титул носили мой отец Иван Васильевич и мой брат Фёдор Иванович. Достался он мне по наследству.
Посол внимательно выслушал замечания царя и в продолжение дальнейшего своего разговора с ним ни разу не употребил от себя лично слов «великий князь», но довольствовался только словом «государь».
— А в доказательство своей дружбы мой король велел передать тебе, государь, что появились у нас по всем литовским и украинским землям странные слухи, которые грозят тебе большими неприятностями, поскольку сейчас развелось на свете много недобрых людей, которые стараются извлечь для себя пользу из любого случая. Они легко обучаются злу!
И пан Гонсевский весьма обстоятельно, очень подробно поведал о том, что у польского короля имеются данные, будто бы Борис Годунов жив. Будто бы Борис, наученный колдунами ещё в то время, когда Димитрий Иванович пребывал в Путивле, задумал и осуществил коварное дело. Понимая, что ему никак не устоять в борьбе с законным наследником престола, Борис приказал отравить и положить вместо себя в гроб одного из своих двойников. Двойника похоронили. Да так искусно всё это проделали, что ни царица Марья, ни царевич Фёдор и никто из семейства Годуновых ни о чём не догадывались. Один боярин Семён Годунов знал. А сам Борис Годунов, собрав достаточно средств, так же тайно отправился на судне в Англию, чтобы оттуда начать борьбу за Московский престол. Польский король, узнав обо всём этом, захотел удостовериться в справедливости слухов. И поскольку ему хорошо известно, что в самом московском государстве есть сейчас немало людей, не доверяющих своему государю, то король повелел своим воеводам, земли которых соседствуют с Московским государством, содержать наготове достаточно войска, чтобы в любое мгновение они могли выступить на защиту московского государя, друга и приятеля короля польского.
С гордым видом посол огляделся вокруг. Он скользнул взглядом по едва приметной улыбке на лице Басманова, по колючим глазам князя Шуйского, по безразличному выражению на лице у дьяка Афанасия Власьева, передохнул и продолжал.
— Это ли не доказательство верной дружбы, государь? — спросил посол. И сам себе отвечал: — Король признал все ваши договорённости и взаимные обещания. Он будет их и впредь выполнять. Ради того будет прислано к тебе новое посольство. А ещё к тебе едет папский посланник Александр Рангони, он только задержался в Кракове. А пока король просит тебя, государь, пособить ему в его борьбе с коварным узурпатором Карлом, захватившим шведский престол и называющим себя шведским королём. Просьба заключается в том, чтобы ты не только не принимал от Карла послов, буде они к тебе явятся, но задержал их и отправил в Краков, поскольку не имеют они права называться послами!
Просьбы и требования польской стороны так и посыпались из уст пана Гонсевского.
Почти все они были известны Андрею. Поэтому Андрей с интересом наблюдал, как откликаются на сказанное Басманов, Шуйский и дьяк Афанасий Власьев. Если лицо Власьева оставалось каменно непроницаемым — он умел владеть собою, если Басманов изредка позволял себе поднимать крутую бровь, то князя Шуйского так и подмывало возразить. Однако и ему приходилось молчать в присутствии царя.
Требования заключались в том, чтобы польским служилым людям в России было выплачено задержанное жалованье. Чтобы людям из королевства была предоставлена свобода торговли. Чтобы было дозволено возвратиться в Россию беглецам, которые обосновались в пределах Речи Посполитой, спасаясь от Бориса Годунова. А ещё — чтобы наконец было разрешено строительство в Московском государстве католических храмов и чтобы Польше были возвращены Смоленская и Северская земли.
— Что касается строительства храмов — о том ещё будет толковать папский посланец Прассолини!
Посол говорил. Царь слушал со спокойным видом. Но князь Василий Иванович метал глазами молнии.
Когда посол остановился, царь отвечал ему как по писаному:
— Передай своему государю, пан посол, что за хлеб-соль ему спасибо шлю не только я, но и весь русский народ, и в том ты сам, наверное, не раз уже убедился. И того я никогда не забуду. Но королю следует знать, что не он посадил меня на престол моего отца, но сделал это верный мне народ мой. Потому что если бы народ не захотел видеть меня царём, то никакие силы не могли бы этого сделать. Вот так и случилось с Борисом Годуновым. Я, конечно, уверен, что Борис мёртв. Да если бы и оставался он в живых, то надеяться ему на московский престол было бы нечего. Его ненавидел весь народ, начиная от первостатейных бояр и кончая последним холопом. В знак нашей дружбы я готов выполнить всё, что подобает делать хорошим соседям и друзьям. Жалованье служилым людям задерживаться впредь не будет. Торговать королевским подданным дозволяется у нас без ограничений. Беглецам сам Бог велит возвратиться на родину. Однако строить католические храмы на русских землях позволить не могу. Потому что нанесу тем самым ущерб православной вере. А вот молиться католикам, протестантам и лютеранам, состоящим у меня на службе, дозволено будет в храмах, которые будут построены в достаточном количестве.
Дальше царь спокойно и рассудительно отвечал, что если от самозваного шведского короля прибудут послы, так и разговор тогда о них будет. А что касается самозваного шведского короля Карла, тому будет написано нелицеприятное письмо. Самозванство — дело богопротивное. Это видно на примере Бориса Годунова.
Когда же речь дошла до требования возвратить польской короне Смоленскую и Северскую земли, голос царя вдруг преобразился.
— Не могу уступить ни пяди русской земли кому бы то ни было! — твёрдо заявил он. — И если короли польские и владели когда-то названными землями, то, в знак особой нашей дружбы с нынешним королём польским, в будущем я возмещу потери деньгами, но только когда у меня появится подобная возможность. Всё это зависит от нашей дальнейшей дружбы. Дружба между нашими государствами и народами должна окрепнуть в совместной войне против басурмана, который топчет наши земли, уводит в полон наших людей. А пока что король, мой друг и брат, умаляет мой титул, и о том я уже сказал. Конечно, я уверен, что мы не дойдём таким образом до чего-нибудь плохого, но всё же беспокоюсь о нашем будущем. А я ведь нисколько не переменил своих твёрдых намерений жениться. Я уже испросил разрешения моей родительницы взять в жёны дочь сандомирского воеводы панну Марину. Вскоре отправлю в Польшу сватов. Главным человеком в посольстве будет мой верный слуга Афанасий Власьев!
Дьяк Афанасий Власьев, заслышав царские слова, со всего размаха ударил земной поклон.
Ни Басманов, ни Шуйский поведению дьяка нисколько не удивились. Но пан Корвин-Гонсевский был поражён несказанно. Некоторое время он переводил взгляд с царя на Власьева в ожидании, что скажет царь.
Царь спокойно улыбался.
— Брат мой, король Сигизмунд, — продолжал царь, — должен в этом поспособствовать. Потому что я хочу успеть с женитьбою до того, как отправлюсь с войском против турецких недругов. О том буду ещё сноситься с королём, с Папой Римским, с германским императором. Папа Римский обещал мне полное содействие.
Царь сделал красноречивый перерыв в своей речи и вдруг вскочил на ноги:
— А пока что хочу показать господину послу свой новый дворец! Он состоит, собственно, из двух частей. В одной буду обитать я, в другой — моя будущая супруга. Пойдёмте.
Новый дворец, сооружённый по приказу царя, выглядел необычно среди московских дворцов и теремов. Он казался удалым молодцом, затесавшимся в толпу чопорных стариков.
По широкой лестнице, убранной яркими коврами и обрамленной деревянными перилами, приглашённые поднялись вслед за царём во дворцовые покои. Покои находились довольно высоко над землёю. Очень вместительными и куда более многочисленными были помещения под ними — для дворцовой прислуги.
Внутри дворец выглядел наподобие игрушки. Окна в нём оказались необычно большими, просто огромными. Сквозь прозрачные стёкла вливалось много света, так что без труда можно было любоваться золотистыми тканями, которыми были обиты стены.
Андрею уже не раз приходилось бывать в этом дворце. Сейчас он мог наблюдать за царскими гостями.
В таком же положении, что и Андрей, находился Басманов. Он только делал вид, будто интересуется царскими покоями.
А вот князь Шуйский и дьяк Афанасий Власьев попали сюда в самом деле впервые. И если Власьев ничем не выдавал своего восхищения, то Шуйский был вне себя. Однако сделать правильное заключение, нравится ли ему дворец, было трудно.
Посол Гонсевский сразу сказал, сверкая вдруг округлившимися глазами:
— Государь! Я такого чуда ещё не видел! У нас похожее можно встретить в усадьбах некоторых молодых панов, которые долго жили за границею... Кто такое придумал?
— Нашлись умельцы! — с весёлой готовностью отвечал царь. — Строили наши люди, наши мастера.
В новом дворце наверху насчитывалось всего четыре палаты. Зато какие палаты! В каждой из них сверкали изразцовые печи. На стенах висели огромные картины, содержание которых, очевидно, не совсем было понятно Басманову и Шуйскому с Власьевым. Однако картины привели в восторг пана Гонсевского.
— Чудо! Чудо!
Василий Иванович строгим взглядом отыскивал в каждом помещении иконы. Это его успокаивало. Было понятно, что ему, привыкшему к мощным стенам своего дворца, к сводчатым потолкам в нижних хоромах, в этом помещении приходится чувствовать себя так, как если бы с него сняли тяжёлую соболью шубу, стащили с головы горлатную шапку, — он чувствовал себя здесь беззащитным, и всё.
— Подобный дворец будет и у моей супруги, — указал царь в окно на строительные леса. Там угадывалось похожее сооружение. — Здания будут соединены крытой галереей, — добавил царь.
Когда спускались вниз, то Василий Иванович задержался у лестничных перил. Андрею, остановившемуся рядом, он неожиданно сказал:
— Ох, посол этот... Не всё он поведал, что ему велено в Кракове. Чует моё сердце... Говорили они наедине и ещё будут говорить... А мы — лопухи...
Андрей посмотрел на князя Шуйского с удивлением. Ждал, не добавит ли тот ещё чего-нибудь.
10
В конце октября прискакали в Самбор быстрые гонцы.
В самборском замке, усыпанном кленовым золотом, готовились к маскараду.
Панна Марина не знала отдыха. Младшие сёстры и братья не отходили от неё ни на шаг. Они ловили каждое её слово и тут же стремглав бросались исполнять приказания. Измотанные домашние живописцы, в испачканных красками халатах, валились с ног, стремясь угодить молодой хозяйке. Они уже не пытались искать защиты у пани Софии Мнишековой, которая с кислой улыбкою смотрела на свою падчерицу Марину, сидя в кресле на верхних хорах, куда не так резко доносился топот молодых неутомимых ног и крики необузданной юности. У неё не было сил им противостоять. Не надеялись живописцы и прочие слуги и на помощь старой пани Гелены Тарловой, родной бабушки панны Марины, — старушка наведывалась в гости к пану Мнишеку, горою стояла за свою любимицу, панну Марину. Юная внучка напоминала бабушке о годах её собственной весёлой молодости.
Гонцы привезли пану Мнишеку такие радостные известия, после которых он не мог усидеть в кабинете на верхнем этаже. Он распахнул вызолоченные двери и просто скатился по ступенькам вниз.
— Марыся! — закричал пан Мнишек таким зычным голосом, что всех удивил. А он размахивал свитками: — Марыся! Дочь моя! Бог тебя любит! Бог о тебе заботится! За тобою едут сваты! Марыся! Молись! Вот! Вот! — Пан Мнишек потрясал бумагою.
Дети, особенно юная Ефросиния и её погодок, сын Николай, заглядывали в бумагу, стараясь рассмотреть там красиво выведенные литеры и вторя отцу изо всех сил:
— Марыся!
— Марыся!
Испуганная пани София не знала, что ей делать: то ли радоваться, то ли печалиться. С того самого дня, как она, урождённая княжна Головинская, переступила порог Мнишекова дома, где уже было четверо детей от его первой жены, рано умершей пани Ядвиги, родом из дома Тарлов, она с тайною опаскою посматривала на двух своих падчериц, Марину и Урсулу, обещавших стать необыкновенными красавицами, а когда это случилось, когда Урсула вышла в молодых годах замуж за князя Константина Вишневецкого, пани София дальше не могла отделаться от мысли, что эти красавицы каким-нибудь образом повредят судьбе её собственных, ещё малолетних, детей.
Марина, заслышав слова отца, остановилась как вкопанная. В её тонкой руке дрожала маска эллинской богини Немезиды, которую она только что намеревалась возвратить весьма одарённому живописцу Мацею с выговором, что малевание чересчур страшно, что подобного нельзя показывать детям. Однако Марина тут же забыла о своих намерениях. Искусно исполненное подобие перекошенного гневом лица в её руке вдруг перестало её раздражать.
— Дочь моя! — продолжал пан Мнишек. — В Кракове скоро появится царское посольство. Посол Афанасий Власьев отправлен из Москвы самим Димитрием Ивановичем. Царский обоз состоит из нескольких сотен подвод. И везёт он, помимо всего того, что отправил царь в подарок королю, ещё и богатые подарки царской невесте и царскому тестю. Ты слышишь, Марыся? После этого у тебя не может быть никаких сомнений!
Конечно же, она всё слышала. Она слышала, но ничего вот так с ходу не могла ответить.
В последнее время панна Марина наслушалась всяких заверений отцов-бернардинцев. Они появлялись в замке ежедневно. Они заученно твердили, будто бы теперь жених её только то и делает в далёкой Москве, что печалится о ней день и ночь.
— Марыся!
— Марыся!
Братья и сёстры тормошили Марину, удивляясь внезапной перемене в её настроении, — они не видели радости на её лице! А радость, по их мнению, должна захлестнуть её.
— Марыся!
— Марыся!
А она уставилась взглядом в тёмное стрельчатое окно. Что-то тревожило её, нашёптывало: остановись! Разве ты можешь оставить эти стены?
— Марыся!
— Марыся!
— Марыся! Дочь моя!
Что говорить, порою ей уже хотелось скрыться от постоянных нашёптываний отцов-бернардинцев, от их бесконечных увещеваний, хотя она знала, что такие мысли сами по себе уже большой грех. Монахи же говорили, как надлежит ей вести себя в Москве.
Она уже давно не писала в Москву, а ей хотелось отвечать на письма царевича, теперь уже коронованного царя. Хотелось написать что-то такое, что заставило бы его вспомнить прежние встречи в Самборе, бесконечные разговоры, взаимные клятвы и обещания, слёзы при расставании. Однако ей не разрешали этого делать. Монахи говорили, что поступать подобным образом неприлично девушке из достойного рода. Девушке, которой предстоит, быть может, стать царицею.
«Почему «быть может»? — не выдерживала она. — Я стану московскою царицею!»
Ей показывали письма Папы Римского, начертанные на аккуратных листах бумаги. Она впитывала необычный запах, исходящий от них. Глаза разбухали от слёз, когда она скользила взглядом по чётким литерам. И хотя она довольно бегло читала латинские тексты, однако письма Папы оставались для неё как бы за семью печатями. Трудно было поверить, что в письмах стоит её имя. Оказывается, святой отец радовался её предстоящему браку. Он благословлял дочь сандомирского воеводы, верную последовательницу Божия слова.
— Марыся! — сказала ей бабушка, пани Гелена Тарлова, которая не могла не услышать в своих палатах беготню и шум в доме. Старушка сразу всё поняла, и поняла правильно. — Марыся! Внученька моя! Жаль, что твоя покойная мать всего этого не видит и не слышит! Марыся!
Старушкины глаза, наполнившись слезами, уже не просыхали.
Прибытие в город гонцов и переполох, вызванный их появлением в замке, заставил немедленно прийти к пану Мнишеку отца Дамаския. Едва монах вошёл в залу, где всё ещё были крайне возбуждены, где живописцы не скрывали своей радости по причине неожиданного избавления, как старое лицо его сморщилось ещё заметнее и слёзы потекли по глубоким тёмным бороздам.
— Дочь моя! — сказал отец Дамаский. — Всё уже знаю. Я ещё не слышал, что привезли гонцы пану Ержи, но уверен, что пан Бог не оставит тебя своей милостью. Он услышал твои молитвы. Он оценил твоё смирение и твою готовность. Святой отец в Риме, извещённый о твоих намерениях, благословляет тебя на подвиг. Святой отец видит в тебе не просто будущую супругу московского царя, но верную посланницу свою, которая поможет престолу апостола Петра обратить в истинную веру целые народы, подвластные сейчас твоему будущему супругу. За такие поступки ждёт тебя вечное спасение на том свете, а на этом — вечная память в умах потомков, oboedientissima et devotissima filia et serva[46].
Марина, целуя руку отцу Дамаскию, снова вспомнила папское послание, и волнение стало наполнять её душу.
Она заплакала, сама ещё не понимая отчего. Отделивши свои уста от рук отца Дамаския, она уже каким-то иным взором окинула мачеху, у которой на измождённом болезнью, всё ещё красивом лице сверкали точно такие же слёзы, как и у отца Дамаския, как у бабушки Гелены. Тем же взором охватила обступивших мачеху её детей, своих сводных братьев и сестёр. В ней зашевелилось уже какое-то новое чувство. Движением руки она постаралась смахнуть с лица слёзы, чего, конечно, произойти не могло никак, но после этого мысли о предстоящем маскараде и о самом пребывании в этом замке, о самих разговорах с привычными ей людьми показались ей вдруг такими наивными, незначительными, даже недостойными.
— Пан Ержи! — первая опомнилась бабушка Гелена Тарлова. — Скорее отправляйся в Краков, коли так! Пан Ержи...
— Именно, милый, — вторила ей пани София.
А пан Мнишек собирался с мыслями. Он не хотел попусту тратить слов.
Как ни торопился пан Мнишек, а царского посла не опередил.
Афанасий Власьев, наместник муромский, к тому же назначенный царём на должность подскарбия, остановился в доме краковского воеводы Николая Зебжидовского. С ним приехало столько московитов, что их пришлось разместить и в доме Бернарда Мацеевского, и в доме ксёндза Фирлея, в домах краковских вельмож, не говоря уже о домах королевских.
Посла поздравляли со счастливым прибытием первые в государстве вельможи. А пан Мнишек тем временем готовился встретить его в своём краковском доме. Ему уже было ведомо — у московского посла два важнейших поручения: государственное, которое он откроет королю, и частное, которое, с королевского благословения, откроет сандомирскому воеводе, будущему царскому тестю.
— Московский царь желает обручиться с твоею дочерью здесь, в Кракове, — огорошил брата епископ Мацеевский. — А представлять царя будет посол Власьев. — Пан Мнишек опомниться не успел, как епископ уже высказал собственное мнение: — Не противься, вот мой тебе совет. На это согласен король. Это по нраву святому отцу в Риме. Я обручу молодых. Уже и место подобрано: каменный дом ксёндза Фирлея.
Епископ говорил правду. Что подтвердил посол, явившийся в дом пана Мнишека. Посол оказался внушительного роста человеком, с узкими, по-татарски, глазами, с умной, рассудительной речью и с такими познаниями в науках, что пан Мнишек был поражён этим обстоятельством и дал себе в уме зарок не входить с послом ни в какие умные беседы, чтобы не осрамиться. Пан Мнишек учился в своё время мало, да и выученное успел позабыть, во всём полагаясь теперь на ум писаря Стахура. Правда, после общения с ныне покойным московитом Климурой пан Мнишек не удивлялся учёности московитов.
Власьев привёз пану Мнишеку дорогие подарки от царя и сказал, что надеется, даже уверен: разрешение на брак король даст непременно.
О просьбе московского царя касательно польской невесты, дочери сандомирского воеводы, посол поведал королю уже во время второй аудиенции, данной ему через несколько дней после первой (а на первой он говорил о предложении царя совместно организовать поход против турецких захватчиков).
Сразу после второй аудиенции из Самбора в Краков явилась с мачехой и панна Марина.
Как ни желанна была предполагаемая свадьба и для невесты, и для её родни, как ни готовились они к ней, что уж там говорить, а всё-таки близость этой свадьбы повергла Мнишеков в замешательство. Так быстро подобное не делается...
Но Афанасий Власьев был неумолим.
— Мой государь, — сказал он, сощуривая и без того узкие глаза, — намерен успеть жениться до летнего военного похода. Он отправится войною на турецкого султана. Мы обручим молодых. Затем вы, пан воевода, сможете уехать с дочерью в Самбор. Я буду вас ждать в Прондике. Но умоляю — не задерживайтесь. Мы должны добраться до Москвы по зимней дороге!
В день обручения пани София лишилась сил и не могла подняться с постели. Она и прежде не отваживалась представить себе, что будет стоять рядом с королём и королевичем Владиславом, рядом с сестрою короля — шведской королевной Анной, которую, поговаривали в Кракове, король готов был выдать замуж за московского царя. Признаться, даже то, что московский царь предпочёл королевне её падчерицу, красавицу Марину, не очень действовало на воображение пани Софии. Иное бы, конечно, дело, если бы на месте Марины оказалась Ефросиния. Но Ефросинии ещё рано думать о замужестве. Так что, по правде сказать, приступ болезни скорее утешил пани Софию, нежели огорчил. Она внимательно оглядела невесту, вместе со старушкою пани Тарловой, и обе нашли всё великолепным. Пани София поблагословила девушку материнским благословением и отпустила от себя.
— Тебе не хватает только короны! — сказала она на прощание.
Впрочем, панна Марина и сама верила в безукоризненность своего наряда, в свою красоту, хотя и не узнавала себя в зеркалах. В волнах яркого света от пылающих свечей перед нею представала загадочная особа с огромными тревожными глазами. По плечам этой юной особы растекались волны чёрных пушистых волос, в которых сверкали тонкие нити жемчуга и вспыхивали искрами драгоценные камни. Замысловато струились по нежной коже белые ослепительные ткани, образуя удивительные складки, которые переходили в длинный шлейф. Его готовились нести юные пахолки с ангельскими личиками.
Конечно, убор невесты панна Марина примеряла ещё в Самборе. Но там всё это казалось ей сродни детским играм. Там она была в окружении братьев и сестёр. Они глядели на неё как на огромную ожившую куклу, почему и сама она поддавалась их настроению, и сама себе казалась просто одетою в нарядное платье куклою, не более того. Но здесь...
Здесь за нею приехали такие важные люди, как не виданные ею никогда прежде воевода ленчицкий пан Липский и кастелян малогосский пан Олесницкий. Её усадили в необычайной красоты и пышности карету, и она сразу почувствовала, что навсегда отъединяется от прежнего мира, в котором оставляла мачеху, младших братьев и сестёр (они не приехали в Краков), даже бабушку Гелену, даже отца.
Карета оказалась не только чересчур пышной, но и очень вместительной. Кроме панны Марины в неё уселись её девушки-служанки и бабушка Гелена. Пан Мнишек вместе с панами Липским и Олесницким ёкали в другой карете, не менее пышной и вместительной, с гербами пана Зебжидовского, воеводы краковского. Панна Марина успела заметить, что карет возле их дома собралась целая вереница. Но рассмотреть, кто в них садится, что это за кареты, ей не удалось. И только внутри своей кареты, уже движущейся, освободившись от тяжести шуб, в которые её завернули лакеи, она сквозь окошки могла разглядеть, что карет позади движется очень много, что все они едут в сопровождении драгун, причём не тех, которых отец взял с собою в Самборе, но иных, королевских, с крыльями за спинами.
Привезли её в какой-то большой дворец. Она расспрашивать ни о чём не стала. И как только её ввели внутрь дворца, по роскошному ковру, от неё уже ни на шаг не отходили паны Липский и Олесницкий. Они, правда, отдали её в руки каких-то итальянских галантных мастеров, которые надели на неё лёгкую корону в сверкающих камнях и ещё долго мудрили над её волосами, над её убранством, так что она поняла окончательно: вопросы ни для кого сейчас ничего не значат и никто на них отвечать не станет. Под короной же она себя совершенно не узнавала. Ей сделалось страшно. Ей вдруг захотелось перенестись в привычный Самбор.
Однако подобное желание только мелькнуло где-то в глубине мыслей — и пропало. Сразу вспомнилось опечаленное разлукой лицо жениха.
Её увлекало будущее. Манило своей таинственностью.
Сначала её вели мимо высоких зеркал. Вели под руки ловкие дамы. На неё с разинутыми ртами смотрели мужчины и женщины, очень пышно разодетые, но все с одинаковыми для неё, ничего не значащими лицами. Так продолжалось довольно долго. И лишь перед какой-то высокой дверью ловкие дамы уступили её панам Липскому и Олесницкому, которые следовали позади неотступно. Она чувствовала, что весь этот дом наполнен людьми, звуками музыки. Что здесь сейчас совершается нечто такое, от чего полностью зависит её будущая жизнь.
Громче зазвучала музыка — двери вдруг распахнулись, и паны Липский и Олесницкий взяли её под руки и двинулись вперёд. За дверью оказался огромный зал, тоже наполненный народом. Как ни была она напряжена, как ни мутилось её сознание, однако она сразу заметила того, кто сейчас должен был исполнять здесь главную роль. Перед нею стоял кардинал Мацеевский в сверкающих одеждах, по обеим сторонам от него высились прелаты. Все готовились к обручению. И лишь тогда она заметила короля — он единственный в зале был в квадратной шапке. Всё шло как полагается, как обещали отец и бабушка. Ещё она увидела рядом с королём его сына — королевича Владислава. То был высокий мальчик, без шапки, с распущенными, как у девушки, длинными сверкающими волосами. Лицо его показалось весьма привлекательным и открытым.
Присутствие короля и королевича вселило в неё уверенность в том, что она отныне как бы приобщается к сонму лиц, стоящих над прочими людьми. Она всё же встретилась взглядом с отцом, с бабушкою Геленой — эти люди напомнили ей о прошлой жизни.
Паны Липский и Олесницкий поставили её на яркий шёлковый ковёр, на котором уже стоял какой-то высокий и весьма красивый, но немолодой человек с аккуратно подстриженной русой бородою и с такими же короткими, слегка вьющимися волосами. Она тут же поняла, что это и есть московит, который будет сейчас представлять её жениха, Димитрия Ивановича. Как ни тяжело, страшно и неловко было взглянуть московиту в глаза, она всё же пересилила себя, подняла голову и чуть не вскрикнула. Лицо московита было действительно красиво, хотя и по-татарски скуласто. Однако в глазах московита она прочитала вовсе не радость, не восторг красотою, но какую-то собачью преданность и тоску. Лицо поэтому показалось тупым. Она помнила объяснения отца, что Димитрий Иванович не может оставить свою Москву даже ради такого желательного для него события, как обручение, как встреча с невестой, но всё же ей стало несколько обидно: ведь над царём Димитрием нет никого, кто бы мог ему запретить сделать то, что ему хочется. Почему же он поручил всё это незнакомому ей человеку? Он, который говорил ей столько приятных и нежных слов? Что для него какие-то там древние обычаи, если он сумел победить прочно сидевшего на московском престоле коварного Бориса Годунова?
За московитом торчало тоже двое важных польских панов, а возле Марины, помимо панов Липского и Олесницкого, встала ещё и королевна Анна. Она пожала Марине незаметно и ласково руку, как бы желая поддержать, вроде бы шепнула: «Не бойся! Здесь с тобою ничего плохого не случится».
Посол воспользовался неожиданно возникшим затишьем и по какому-то, наверное, знаку, который Марина не заметила, заговорил уже над ухом той речью, которую она слышала от московского царевича в Самборе, во время их доверительных бесед в тамошнем парке. Эта речь не требовала перевода. Она всё понимала. Все понимали, наверное, и прочие присутствующие в зале, так она полагала. Однако каждое слово московского посла очень громко и быстро повторял такой же видный из себя толмач, наряженный в более скромную одежду:
— Божией милостью великий государь царь и великий князь Димитрий Иванович, всея Руси самодержец, испросив у великого государя, приятеля и соседа своего короля польского Сигизмунда соизволения на брак с дочерью воеводы сандомирского Юрия Мнишека, поручил мне, холопу своему, просить руки девицы Марины у отца её, пана Юрия Мнишека. Великий государь мой помнит неоценимые услуги и безмерное усердие, которые оказал ему и выразил пан воевода в то время, когда государь мой находился в пределах государства польского. И потому государь мой просит у тебя, пан воевода, отцовского благословения на брак...
Что-то говорил после того канцлер Лев Сапега, вызывая крики одобрения, что-то отвечал ему не менее красноречивый пан Липский, расхваливал московского царя и достоинства польских красавиц. Что-то наставительно утверждал кардинал Мацеевский. Однако она понимала только то, что они все расхваливают будущую крепкую дружбу между московским и польским государствами.
Далее звучало пение. Все опускались на колени, кроме московского православного посла и протестантской королевны Анны.
— Слушай, дочь, и гляди, и приклони ухо, и забудь дом отца твоего! — сказал слова Священного Писания кардинал Мацеевский.
Она поняла, что он напоминает ей о самом важном: она уходит в чужую землю. Кардинал сравнивает московитского посла со слугою библейского старца Авраама, который посылал слугу в чужие земли в поисках невесты для своего сына Исаака.
Наконец, исполняя обряд, кардинал спросил представителя московского жениха:
— А не обещал ли царь прежде того жениться на ком-нибудь ином?
Посол что-то отвечал трубным голосом у неё над головою. Она не поняла слов ответа. Она не вслушивалась, потому что ведала: это просто обычай. Он, её жених, ни на кого её не променяет. После слов посла гости дружно смеялись и что-то ему ещё раз втолковывали, чего-то требовали, пока он не ответил на манер того, что если бы царь московский кому-нибудь иному обещал жениться, так его, посла, сюда бы не отправил.
Ответ удовлетворил кардинала.
Затем посол от имени царя передал Марине его обещание взять её в жёны, а Марина от себя пообещала выйти за него замуж. Послу подали сверкающую драгоценными камнями шкатулку, из которой он достал перстень с крупным алмазом. Перстень тут же оказался в руках у кардинала, кардинал надел его на палец Марине. Но когда он взял из рук Марины её кольцо и сделал ещё только движение, чтобы надеть его на палец послу, — тот издал настоящий вопль, будто увидел в руках у кардинала нож, которым тот намеревается отсечь ему пальцы.
— Нет! Нет! — спрятал он свою руку. — Этого делать нельзя! Ни за что! А вот как поступим...
Он взял тут же поданный ему белоснежный платок, завернул, не прикасаясь к нему, перстень в платок и спрятал его в шкатулку, в которой перед тем хранился перстень царя.
— Это я вручу государю в руки! Это я буду беречь как душу!
Марину всё происходящее сначала несколько удивило, однако удивление её на этом не закончилось. Потому что когда кардинал захотел, как это положено, связать полотенцем руки обручённых, то посол проявил ещё большее сопротивление. Он не мог, не смел, почитал страшным святотатством само намерение коснуться голой рукою руки девушки, которой уже точно предстоит стать московскою царицею. Он снова потребовал платок, обернул им свою руку, и лишь тогда удалось его уговорить хотя бы в таком виде подать свою руку для соединения её с рукою царской невесты.
Подобное отношение московских людей к своей будущей царице приятно озадачило Марину. Это приятное чувство крепло в ней и дальше. Ей пришлось наблюдать, как московские люди вручают подарки, предназначенные для невесты. Поскольку мачеха её из-за болезни не могла присутствовать на обручении, то подарки выпало принимать бабушке, пани Тарловой. Сначала были поднесены подарки от будущей свекрови, старой царицы Марфы Фёдоровны, затем — уже от царя лично. Подарков оказалось так много, ценность их и удивительный вид, редкость, необычность — такими притягательными, что все присутствовавшие в зале приходили в восторг.
Пан Мнишек, который принял свои подарки ещё прежде того, счёл за нужное рассказать о чудесном коне, уже стоявшем у него на конюшне, о сбруе для того коня, об огромной булаве в драгоценных каменьях.
— Что ни говорите, — вспоминал старый воевода со слезами на глазах, — но под моим руководством царское войско переправилось через Днепр. А не просто было такое сделать. Потому что многие нам мешали. И с огромными силами.
Он не называл, кто больше всего мешал, но всем было известно: князья Острожские в первую очередь.
Посол добавил к царским подаркам подарки от себя лично. Они тоже вызвали восхищение и даже зависть у людей, на радость пану Мнишеку.
Панну Марину, признаться, всё это занимало не очень. Зато она укрепилась в своём новом мнении, наблюдая за поведением посла и прочих московитов, когда начался банкет, когда её посадили в большом зале за одним столом с королём, по правую от него руку, а напротив неё оказались кардинал Мацеевский и папский нунций Рангони — он говорил изредка, чистой звонкой латынью, и она всё прекрасно понимала. Рядом с нею, как с невестою, полагалось сидеть жениху. Однако усадить московского посла, изображающего жениха, оказалось делом очень нелёгким. Он упирался, ссылался на то, что в инструкциях, данных в Москве, о таком ничего не говорится, что не годится холопу ничтожному пировать за одним столом с королём, притом сидеть рядом с будущей супругою своего государя. Согласился он занять место за столом лишь после того, как панна Марина сама обратила на него свой взор и очень тихо, почти шёпотом, сронила с уст одно только слово: «Садитесь!»
Посол подчинился тотчас.
Правда, он ничего не ел, всё по той же причине. Он только осушал поднесённые ему кубки, потому что за столом провозглашались тосты в первую очередь за здоровье молодых и за здоровье самого короля.
Глядя на всё это, Марина постепенно проникалась покоем, наполнялась уверенностью, что сама она будет ласковой с подданными, будет справедливой правительницей и на это же, на справедливость, она будет направлять помыслы своего супруга.
Она уже начинала гордиться тем, что подобным образом ей удалось поступить уже, по крайней мере, однажды: она убедила, пусть и не сразу, будущего супруга освободить из самборской темницы старого московского монаха. (Царевич прислал своё согласие ещё зимою).
В конце концов она успокоилась окончательно от выпитого вина, от музыки, от всеобщего веселья, от танцев, — она танцевала с самим королём, затем с юным королевичем (посол московский и здесь не осмелился нарушить своих обычаев). И лишь когда бал уже подходил к завершению, когда отец подозвал её к себе, когда они вместе подошли к королю, упали к его ногам, когда король, сняв со своей головы шапку, поздравил её с обручением и предстоящим замужеством, пожелал не забывать свою родину, своих родителей, братьев и сестёр, своих родственников и способствовать дружбе между обоими государствами, — лишь тогда она вдруг ощутила, что на неё надвигается что-то неведомое, огромное, страшное, неотвратимое, что ей самой нет ещё и семнадцати лет, что она не в силах понять происходящее, — и какое-то предчувствие сдавило ей горло.
— Ваше величество! — начала она свою речь, которую вытвердила заранее назубок, так как отцу, оказывается, было ведомо всё, что здесь состоится, но продолжить речи не могла.
Она обхватила руками королевские сапоги и зарыдала.
Вместо неё королю отвечал кардинал Мацеевский.
11
Отец Варлаам не удивился, завидев в своей темнице двух гайдуков в серых жупанах. Гайдуки, правда, были привычные для него, видел их ежедневно. Необычным показалось время их появления.
А гайдуки одновременно выдохнули:
— Собирай, отче, манатки и поднимайся на свежий воздух!
Подобное ему предлагали и прежде, да и не раз. Одно время почти ежедневно, из-за ведренной, наверное, погоды. Однако он всегда отвечал неизменным отказом. Он не желал смотреть на белый свет, чтобы не усиливать тоску по нему в тягостные мгновения, когда придётся возвращаться назад в сырое и прохладное подземелье, в башню самборского замка.
— Нет!
Отцу Варлааму не хотелось тогда даже вставать с постели. Он отвернулся на своём ложе к стене и начал громко читать молитву. Он почувствовал в своём и без того почти невесомом теле такую окрыляющую лёгкость, что мог бы, кажется, тут же взмыть ввысь, если бы не масса нависающих над ним камней.
— Нет! — повторил он ещё раз, обрывая на мгновение молитву.
Он предпочитал раз и навсегда отъединиться от суетного мира, в котором люди неспособны разобраться в своих делах, неспособны отличить плохое от хорошего.
Он предпочитал провести это время в молитвах, а не тратить его на пустые прогулки, к тому же в конце концов тягостные.
Однако гайдуки, переминаясь с сапога на сапог, уходить не спешили.
— Да ты не понял, отче, — совсем по-дружески, благостно пропел один из них. — Молодая панна Марина прислала повеление, чтобы тебя выпустить. Так что хочешь не хочешь, а придётся тебе...
Он хотел что-то добавить, да второй гайдук дёрнул его за рукав.
— Насовсем, что ли? — сверкнула какая-то надежда в мыслях у отца Варлаама. — Какое дело панне Марине...
— Ну да! — с готовностью подхватил второй гайдук, горбоносый и с тонкими чёрными бровями цвета воронова крыла. — Насовсем! Насовсем! Захочешь, сказала, — можешь жить при воеводском дворе. Не захочешь, сказала, — в монастырь куда подавайся. Либо к себе в Москву топай!
— Да, да! — подтвердил первый гайдук. — Панна Марина — дивчина ласковая... Ко всякой живой твари у неё ласковость...
Они помогли ему собраться. Они радовались его свободе и окончанию своей неприятной ежедневной службы при нём, хилом и немощном, совершенно безопасном и никудышном, по их мнению. Они вывели его под руки наверх, по каменным ступенькам, как выводят молодую красивую панну. А там, наверху, сияло солнце, таял снег и кричали в деревьях сотни ворон. У него перед глазами поплыли жёлто-чёрные круги.
— Ничего, ничего, — говорили гайдуки. — Это весна очи ворует... Ничего.
Они терпеливо ждали, когда он почувствует себя твёрдо стоящим на ногах. А когда это наконец произошло, они отвели его первым делом на кухню и накормили там до отвала. Потом уже не отвели, но отнесли в небольшую каморку рядом с конюшней, где и оставили отдыхать...
— Надо передать панне Марине, — сказал один на прощание, — что сделали мы всё, что надо.
С того дня прошло уже достаточно много времени.
В первые дни после освобождения отец Варлаам наслаждался Божиим светом. Он мог просто смотреть на белые пушистые облака, которые отсюда постоянно плывут в одну сторону, на восток, в русские земли. Он терпеливо дожидался, когда же минуют холода. Сушил себе сухари, готовил котомку, лапти. Разминал ноги в постоянных прогулках по Самбору и по окрестным густым борам. Но с наступлением тепла всё переменилось. Правда, его очень обрадовало возвращение из московского похода пана Мнишека. Уже по одному виду этого гордого прежде пана, считавшегося в походе кем-то вроде главного воеводы (некоторые называли его даже гетманом), он понял, что поход самозваного царевича не удался.
Конечно, отцу Варлааму очень хотелось поскорее узнать, что происходит на Руси, пленён или нет лжецаревич, казнили его уже в Москве, либо же по милости царя Бориса вор сослан куда-нибудь в вечное заточение. Однако расспрашивать ни о чём не осмеливался. Но и неведением пришлось томиться недолго. В народе узнается всё очень быстро, пусть и неточно, иногда превратно. И хотя говорили разное, часто совершенно противоположное, однако можно было сделать верное заключение: войско царевича хоть и ослаблено оставившими его польскими рыцарями, хоть и разгромлено почти наголову, однако сам царевич жив, находится в безопасности и надежды не теряет. Скорее наоборот, потому что народ к нему валит валом.
Тем временем из Карпат повеяли тёплые ветры. Это раньше всего почувствовали буковые боры вокруг Самбора. Они загудели ровным гулом. Весна пришла дружная. Очень вскоре отец Варлаам уже полностью был готов оставить свою каморку на замковом подворье, да неожиданно заболел. А когда оклемался, то в замке уже царило совершенно новое настроение. В замке поселилась радость.
— Что произошло? — спросил отец Варлаам у чернобрового гайдука, который по старой привычке наведывался к нему очень часто.
— Царь Борис в Москве умер! — сказал гайдук, не скрывая своей радости. — Теперь царевич Димитрий, говорят, точно возьмёт свою корону!
В замке уже успели позабыть, пожалуй, за что был брошен в темницу безобидный московский чернец, каким-то образом связанный с дерзким преступником Яковом Пыхачёвым, казнённым на рыночной площади.
Отца Варлаама тоже хотели обрадовать:
— Да, царь Борис умер!
— Бог наказал!
— Да, царевич Димитрий уже в Москве!
Ах, как сияло в небе июньское солнце! Как манила дорога, окаймлённая с обеих сторон свежей зелёной травою! Шагаешь по тёплому песку, а трава холодит тебе ноги. А в траве шмели, пчёлы, бабочки, стрекозы... Приляжешь где-нибудь в благодатном тенёчке, уставишься глазами в синее небо... Господи!
Но путь в Москву был закрыт для отца Варлаама.
Он ещё какое-то время подыскивал себе товарища, чтобы отправиться с ним в Святую Землю, да и такую надежду вскоре выронил из памяти.
Так потянулись дни за днями. Однообразные и тягостные. Потому что они действительно принесли всё то, о чём говорили теперь в Самборе стар и млад, кому только запомнился коварный самозванец. Говорили когда-то как о возможном, как о желанном для него — а всё получилось!
— Царевич в Москве! Его признали! Есть Бог на небе!
Царевича помнили все, кто хоть раз его видел.
— Признали!
«Дьявол дал ему притягательную силу, не иначе», — думалось отцу Варлааму.
Да и как упрекать простых неискушённых людей, погрязших в земных грехах, если даже он сам, отец Варлаам, постоянно очищающий свою душу молитвами перед Богом, и то на протяжении многих дней пребывал в тяжком греховном обольщении? Если он хлебал пищу из одной посудины с продавшим дьяволу душу? Если он своими ушами вбирал его обольстительные слова? Если он восхищался его удалью, умом и необыкновенной смелостью?
— Царевич ли, Господи? — говорил он тихо и творил молитвы.
Вот и панну Марину, думалось, околдовал окаянный. Потому что действительно, как говорили гайдуки, душа у этой девушки добрая. Панна Марина сама наведалась к отцу Варлааму в его каморку. Прямо так и вошла, словно солнце весеннее, тогда как сопровождавшие её молодые паны остановились на пороге, зажимая тонкие носы белыми длинными пальцами.
— Скажи, отче, что-нибудь по-московски, — попросила панна Марина по-польски, словно ангельским голоском. — Расскажи о Москве, — добавила чисто по-русски.
Он не знал, куда её посадить. Не мог представить, как это белоснежное платье коснётся простой деревянной скамейки, на которую он иногда ставит свои грязные сапоги.
«Господи! — думалось ему. — И такое создание попадёт в руки великого грешника?»
Конечно, за нею шли гурьбою слуги. Её усадили на изящный вызолоченный стул.
— Говори, отче!
Он рассказал ей о своём доме, который вдруг всплыл в его памяти подобно чудесному видению. Рассказывал язык, а ум чувствовал, что нету у него в душе против этой панночки никакой злости. Была жалость. Ведь она потому попросила говорить по-московски, что хочет под этот говор представить себе того, кто смутил её душу, а теперь зовёт к себе... Хотелось закричать, чтобы одумалась, чтобы осенила себя крестом, оградила себя молитвами. Чтобы молилась денно и нощно. И тогда, быть может, Господь Бог пошлёт ей прозрение, как послано оно ему, рабу смиренному, не разгибающему спины в молитвах.
Но ничего такого не мог сказать отец Варлаам.
Стала бы слушать юная девушка наставления старого монаха?
Юная девушка, которой светит призрачная московская корона?
Всякому овощу свой срок...
Но нет! Он решил молиться и за её душу. Потому что видел: душа её смущена. И никто не собирается помочь отроковице. Ни отец, ни мать (правда, слышал он, что девушка рано потеряла родную мать, а мачеха — известно...). А вот советчиков злых у неё... За порогом своей каморки видел он сутаны бернардинцев — и тогда уже чувствовал в себе кипение злости.
От тяжёлых мыслей бежал на берег Днестра. Вслушивался в шум воды, в гул ветра в чёрных елях, которые здесь называются смереками.
Но не помогало. В шуме деревьев чудились укоры, нисходящие с небес.
Единственным местом, где находил утешение, была небольшая православная церковь на краю Самбора. Туда ежедневно по утрам сходились богомольцы, чтобы присутствовать на службе, отправлявшейся стареньким батюшкою с лысою, как колено, головою. Отец Варлаам иногда заменял батюшку, произносил вместо него проповеди, и проповеди эти нравились прихожанам. Люди внимали и плакали.
Между тем, в бездействии его грешном, пролетело жаркое лето. Оно добавляло всё больше и больше горечи. Потому что знали уже все в Самборе, как зачастили из Москвы гонцы к панне Марине. Они везли ей письма от жениха. Правда, говорили люди и нечто утешительное: ни одного ответного письма она не отправила в этом году. Наверное, полагал отец Варлаам, Бог услышал его молитвы касательно девушки. Прозревает она. Но ответы в Москву писал её отец. Старому пану хочется стать тестем московского государя. Потому что все уже знали в Самборе, даже мальчишки, что царевич Димитрий венчан на московское царство, что уже и родная мать его признала! Коли так — боролась душа Марины, наверное. Не слышно было, чтобы торопила она отца с ответами на писания из Москвы.
И вот однажды, когда Самбор сверх меры наполнился слухами уже о царских послах, когда пан Мнишек вместе с дочерью, с женою, со старшим сыном и с прочими родственниками укатил в Краков, чтобы встречать там сватов, а кто говорил, что и обручение там должно состояться, — забрёл как-то отец Варлаам в глухой закуток на берегу Днестра. Забрёл, чтобы уединиться. Был ветреный день, солнце клонилось уже к закату. Отец Варлаам уселся на камне, подвернув под себя рясу, думал. О чём думал — и сам поведать не мог. Знал одно: не надеялся дожить до такого дня. До такого своего бессилия. Причём не телесного. Шёл сюда когда-то из Москвы — думал, что Богу душу отдаст вскорости. Но получилось наоборот. Здесь окреп. И перестал себя чувствовать стариком. На свежем воздухе, при хорошем питании даже сны его, Господи, стали греховными... Но сделался бессилен духом. Что делать бедному чернецу? У кого совета спросить? Конечно, Бог подаст советы, но их уразуметь надо. Ум для того надобен большой.
И тут явился какой-то старик. Вроде и не было его, пока отец Варлаам сидел с открытыми глазами, а как вздремнул под шум елей, а потом опять раскрыл глаза — старик и сидит. Сам по себе он неприметный, в кунтуше, вроде панок какой из дворовой братии, даже с карабелей и с усами длинными, двухъярусными, — усы, значит, и подусники. И взгляд такой пронзительный, как у лесовика.
— А в Москве, пожалуй, уже снег лежит? — спросил вдруг старик.
Отец Варлаам вздрогнул от такого начала разговора, но хотел сделать вид, что спит, что только на мгновение раскрыл глаза. И ничего не слышал.
— Ох-хо-хо! — сказал старик снова. — Кому Москва поверила? Смех.
Это задело отца Варлаама.
— А что такое? — спросил.
— Да будто ты не знаешь, отче, — отвечал старик. — Всё уже кончено, если и король Жигимонт от него дары принимает и посольство к нему сам готовит. А ведь он — вор! Тебе-то лучше знать, отец Варлаам?
— Да ты кто таков? — отпрянул от незнакомца отец Варлаам. — Откуда знать меня можешь? Я здесь человек перехожий. Иду в Святую Землю. Приболел, замешкался.
Старик хихикнул:
— В Святую Землю... Да одна у тебя она, земля святая. Русь наша. Москва наша... Знаю, как ты стал перехожим и как сюда залетел... На могилу Якова наведывался?
Отец Варлаам не отвечал. Да, не был он на могиле Якова Пыхачёва. И не верилось ему, что тот похоронен. Вместе с Андроном? Кто скажет. Где-то зарыли за городом, где преступников зарывают. Не спросить. Но к чему весь этот разговор?
— Молишься, отче? — наседал старик. — А думается мне, что для тебя действительно далёкий путь проляжет, когда я тебе обо всём расскажу да подскажу при том, как ещё можно нашему делу пособить, как можно отвратить беду.
— Да ты кто таков? — повторил своё отец Варлаам. — Что молчишь о том? Почему я тебе верить должен? Не велика важность меня узнать. А бояться мне сейчас нечего. Всё уже пропало... Антихрист на московском престоле, в московской короне...
— Ничего ещё не пропало! — вдруг улыбнулся старик. — Люди его поставили, не дьявол. Люди его и свергнуть в силе, коли что...
— Люди! — вскочил отец Варлаам с камня. — Ты сказал: люди! А сам ты видел его? Видел, каков он в деле? Для него нет никаких трудностей!
— Вот в том-то и дело, что мудрые люди выбрали, — сделал замечание старик. — Они знали, что делают.
— Знали? — встрепенулся отец Варлаам. — А знают, что сделали?
— Знают, — был уверен старик. — Но нуждаются в помощи. И мы должны им помочь.
— Как?
Старик поднялся на камне во весь рост.
— Завтра на этом месте, вечером, я дам тебе такие документы, которые сразу подскажут, что надо делать и как поступать.
И с этими словами чудный старик исчез. Соскользнул с камня, на котором сидел, словно ящерица, — без шороха скрылся где-то в узкой щели между камнями.
Отец Варлаам привстал на своём месте и даже прокричал несколько раз:
— Эй, ты где? Отзовись!
Но никто не показывался. Не было ответного звука.
Ночь отец Варлаам провёл без сна. Он даже не отправился на дворовую кухню, куда ходил по три раза в день и где его кормили гораздо сытнее и внимательнее, нежели прочих обитателей замкового двора.
В полудремоте ему чудилось, будто он уже снова шагает по людной Москве, будто рядом с ним тяжело сопит огромный и сильный Яков Пыхачёв и будто бы он, отец Варлаам, снова должен указывать Якову самозванца, на этот раз уже даже не царевича самозваного, но самозваного московского государя, царя, что ради этого надо проникнуть в Кремль, превзойти умом и смекалкою царскую стражу.
Отец Варлаам наутро не стал дожидаться завтрака, который готовился очень поздно, — собственно, повара с ним поспевали к такому времени, когда рабочий люд уже управлялся со своей работою.
Отец Варлаам сразу же отправился на берег Днестра, не дожидаясь вечера...
Он ушёл из Самбора с наступлением сумерек. За пазухой у него лежали бумаги, которые он намеревался донести до Москвы.
12
Москву-матушку засыпало чистым белым снегом. Снег валился теперь почти что каждый божий день — тихий, неслышный, пушистый.
По укатанным санным дорогам потянулись к столице вереницы тяжёлых подвод со всевозможными припасами. Обозы доставляли зерно, птицу. Ещё люди гнали скотину, везли свиней. Везли ободранные свиные и говяжьи туши с огромными головами. Страшно зырили с возов остекленелые на холоде мёртвые глаза. Громоздились на санях вместительные пузатые бочки с разными соленьями и мёдом. Везли свежую и копчёную рыбу.
Ушедшее лето оказалось очень щедрым на урожай. Лето люди хвалили.
В житных рядах возле каменных кремлёвских стен бородатые по сами глаза деревенские мужики даже бровью не шевелили при виде растрёпанных воробьёв и прочей мелкой птицы, клюющей ядрёные зёрна в чуть раскрытых тугих мешках. Не тревожили селян также разжиревшие на дармовых харчах голуби.
Мясные ряды горели красным цветом — что тебе малярная доска в руках у ретивого богомаза. Отъевшиеся собаки при мясных рядах не хотели ввязываться в привычные для них кровавые схватки. Волоча по земле раздутые брюха, лукавые усатые коты становились похожими на мешки со всякой дрянью, которые хозяин держит в сарае. Коты воровато отводили в сторону враз подобревшие и потухшие взгляды.
От привозимых в изобилии припасов цены на рынках шатались и падали с каждым днём. Народ ликовал. У москвичей появилась возможность потешить желудки после недавних голодных лет, сплошь неурожайных. Смерть унесла не перечесть сколько молодых жизней.
Умерших теперь поминали во всех церквах, не жалея никаких для того денег.
И в московских кабаках теперь гуляли дни и ночи.
Под взрывы песен, под звуки музыки, под уханье барабанов.
Развелось очень много нищих и скоморохов — словно мух по весне. Нищие тянули руки, а скоморохи выставляли из овчинных шуб размалёванные хари и пели срамные песни, корчились в таких же срамных танцах. При скоморохах обреталось много непотребных жёнок и разных музыкантов. Однако на скоморохов христиане смотрели снисходительно. Каждый сейчас делал то, что хотел.
По улицам бродили ряженые.
Бродили просто захмелевшие.
Валились с ног и снова поднимались — весёлые.
Наряды стрельцов да казаков подбирали тех, кому уже не подняться даже с помощью товарищей. Их бросали в сани, а когда набирали изрядное количество — увозили отогреваться в тёплых избах, приходить в себя. Всё это делалось скорее ради спасения христианской души, но вовсе не для того, чтобы кого-то наказать. Зима — время мирное. Время для отдыха и для того, чтобы славить Бога.
Колокольный звон по утрам пересиливал в Москве всякие прочие звуки.
Перемены в своей жизни народ без рассуждений связывал с именем молодого царя. Стоило самому царю появиться на улице — его тотчас окружали и сопровождали гурьбою. Вслед за ним летели восторженные крики:
— Многая лета, кормилец ты наш!
— Спаси тебя Господь, на радость нам!
А увидеть царя было легко и просто. Царь охотно принимал приглашения на московские буйные свадьбы, на московские крестины. В лёгких открытых санках, чудной работы, украшенных собольими мехами и запряжённых удивительной красоты лошадьми, мчался он по городу, рассыпая на все стороны снежную пыль, под крики очарованных видением московских девиц, зимою гадающих на женихов, под восхищенный свист играющих в снегу мальчишек, вдруг оставивших свои забавы.
— Царь!
— Царь!
Царь самолично управлял лошадьми. Он зычно кричал:
— Поберегись, православные!
А как плясал молодой царь, восхищались, на свадьбе у боярина князя Фёдора Ивановича Мстиславского, женившегося наконец на родственнице самой царицы Марфы. Да и не один царь гулял на той свадьбе. Матушку свою, Марфу Фёдоровну, привозил он с собою. А когда ряженые с той свадьбы ринулись гурьбою по заснеженным улицам, то и он, говорят, затесался среди них, переодетый то ли в арапа черномазого, то ли в цыгана чёрного же, — бог его ведает. А только, говорят, заводилой таким оказался царь, что скомороха за пояс заткнул бы!
Вот какой теперь на Руси царь.
Вот каков крёстный отец у многих нынешних московских карапузов.
Андрей Валигура не везде поспевал за царём. Поэтому вслушивался в людскую молву.
Что это могло твориться именно так — он не сомневался. Он знал царя отлично. Да только опасался, не грозит ли происходящее самому царю. Вот так, без стражи, без верных людей при себе, пускаться в пляски по ночному городу с ненадёжною толпою? Долго ли до беды? Конечно, Бог не допустит ничего дурного. Но на Бога надейся, говорят, а сам не плошай!
Кроме того, как ещё посмотрят на царские похождения послушные Богу москвичи? Царское ли это занятие?
Андрей уже пробовал заговаривать о том с государем, но видел в ответ спокойную улыбку.
— Друг мой Андрей! Да народ мой меня любит как никого иного! Как никакого государя в мире не любили! Стану ли обижать своих верных подданных низкими подозрениями? Так что не задавай никогда подобных вопросов. А лучше пораскинь умом, как бы мне покрепче отбрить самозваного шведского короля Карла! Потому что дал я такое обещание своему приятелю и соседу — королю польскому. Привезут мне оттуда мою невесту ненаглядную. Охота поскорее жениться. Даже Ксению Годунову приказал я из Москвы удалить, лишь бы не было никаких подозрений у папаши Мнишека, будто я на неё, несчастную, зарился. Нет! Марина передо мною стоит день и ночь. Только подумаю о другой — она уже и брови нахмурила! Так что посодействуй мне, друг мой Андрей!
В этот день сенаторы явились разрумяненные с мороза, быстрые в речах и в движениях. У всех вертелись в голове картины вчерашних гуляний. А потому дела государственные казались легко разрешимыми.
Царь накануне выдвинул задание: до его прихода сегодня обсудить и выработать ответ шведскому самозваному королю. Да поставить его на место.
Разговор в палате пошёл бойкий, но Андрей догадывался, что разговор этот может круто перемениться, как только сюда заявится сам государь. Потому что у государя с языка не сходит имя короля Карла. Значит, есть у него на этот счёт своё мнение.
Басманов, открывший заседание, тоже это понимал.
— Высказывайтесь, бояре, отчётливей. Взвешивайте всё. Предстоит нам возможность в разные стороны войско посылать — и против шведов, и против турка, — это уж точно. Государь приказал готовить для султана остриженный тулуп. Быть войне жестокой.
— Как? — неожиданно взбеленился князь Василий Иванович Шуйский. Шмыгнул красненьким носом, жиденькую бороду выставил. — Да ведь это самое страшное — затевать войну сразу против двух неприятелей! Это когда иного выхода нет! Когда враги сами напали, тогда ничего не поделаешь. А так — самим начинать несуразицу? Мой покойный отец остерегал от такого решения, царствие ему небесное! Уж каждому ведомо, какую службу сослужил он Московскому государству под Псковом, отражая Батория! Нет, не быть сему!
— Но царь хочет отнять у шведа нашу Нарву, — подливал масла в огонь Басманов. — Ведь наша она?
— Нарва наша, а всё равно — нет! — махал обеими руками Шуйский. — Ни за что! Говорите всё против. Царь у нас молод. Ему не страшно. Да мы немолоды в большинстве своём. Многие из нас всякого за свою жизнь повидали.
Мстиславский, резко переменившийся и внешне, и по духу после женитьбы, попробовал успокоить Василия Ивановича. Мстиславский заговорил о том, что не так страшен чёрт, как его малюют: умеючи, дескать, можно и шведа побить, и турка. Потому что на турка не одно московское войско двинется, но все государства, которым он угрожал, ответят ему тем же. И против шведа тоже не одни русские будут действовать, но вместе с поляками.
На помощь Мстиславскому бросились Рубец-Мосальский, братья Голицыны, ещё, ещё.
Василий Иванович Шуйский никому не дал толком говорить. Будто и не Басманов здесь решает, кому речь держать.
— Пораскиньте умом пошире, бояре! — кричал Шуйский. — Нам нужно устраиваться сперва толком в своих землях, а потом уже о благополучии соседей задумываться!
«Что он скажет, когда войдёт сюда сам государь? — подумалось не без тайной ухмылки Андрею. — Хватит ли смелости перед царём вот так распинаться?»
И едва успел Андрей так подумать, как уже в палате появился разрумяненный с мороза государь.
— Что, бояре? — сразу начал он, ещё не усевшись на свой позолоченный трон. — Надумали, о чём просил? Каков приговор?
Незаметно было, чтобы Шуйский оробел перед царём.
— Приговор у нас один, великий государь, — так же бойко начал Шуйский, будто перед ним Мстиславский, Басманов, кто угодно, неравный ему сенатор. — Приговор наш одногласный, хотя некоторые и готовы тебе лукаво угодить, если даже и знают, что из-за того в ловушку можно попасть. А приговор заключается в том, что незачем нам сейчас дразнить шведского короля, каков бы он там ни был. Батюшка царь Иван Васильевич шведов не боялся, как и ты, но остерегался нас всех бросать одновременно на двух противников. Уж если надумано тобою идти на турка, так с богом, а со шведом — повремени.
— Да шведа хочется мне пока что только крепко попугать! — тут же возразил царь. — А воевать по-настоящему мы его потом будем!
— Шведы шуток не любят и не понимают, — цепко держался за своё Василий Иванович, белея лицом, так что нос у него уже красным казался на белом. — Со шведами лучше нам не шутить!
— Но шведы сейчас не все стоят за этого незаконного правителя! Потому что он вор! — напомнил царь.
Василий Иванович взглянул на него с какой-то торопливостью:
— Вор он там али не вор, как он сам утверждает, — судить со стороны трудно. Пускай уж сами шведы решают. Они его с детства знают. На их глазах он рос и входил в лета. Одним словом, нет у нас, государь, на то согласия, чтобы ты начинал войну со шведами.
Царь был несколько озадачен такой решительностью со стороны Василия Ивановича.
Царь окинул соколиным взглядом ряды сенаторов и не прочитал там для себя ничего утешительного. Сенаторы были заражены смелостью Шуйского.
Один Рубец-Мосальский проговорил что-то не очень убедительное о возможности побить шведов, чтобы задать им острастки.
— Если поспособствует милосердный Бог! — завершил он.
Басманов хранил молчание.
Но в этом молчании можно было запросто прочитать: даже Басманов сегодня заодно со своим недругом, с Шуйским.
— Что же, — беззаботно сказал вдруг царь, озаряясь светлою улыбкою. — Есть мне над чем подумать. — И повелел переходить к обсуждению прочих дел, намеченных на сегодня.
А Василий Иванович Шуйский опустился на своё место с таким видом, как если бы одержал победу над шведами.
Непонятно, как уж там получилось, а только в тот же день, к вечеру, растерял Василий Иванович своё чувство превосходства над царём.
А случилось так, что прямо в сенат прискакал гонец из подмосковной вотчины боярского сына Ивана Безобразова — будто отыскали там берлогу медведя Тришки, который трижды уходил от охотников в прошлые зимы, перекалечив немало людей и передавив десятки собак. А что он летом вытворял — того и пересказать нельзя. Слух о нём уже давно добрался до Кремля, и царь поклялся лично прикончить разбойника, как только будет обнаружено его логово.
— Наконец-то! — во весь голос сказал царь, едва выслушав тихие слова Басманова о вести, принесённой гонцом.
Конечно, заседание сената тут же свернули, чему никто не противился ни явно, ни тайно, и через непродолжительное время из Кремля вырвалось не менее сотни всадников, впереди которых летел сам царь. Обыкновенно, выезжая, он любил блеснуть своим умением на всём скаку швырнуть вперёд свою шапку, сорвать с нависающего дерева уцелевший листик, стряхнуть с веток комок снега прямо в разинутый рот зазевавшегося мужика, но сейчас он этого не делал. Он торопился. Он увлекал за собою всех.
И поспели вовремя.
Иван Безобразов, завидев царя, стремглав пустился ему навстречу, крича во всё горло:
— Это он, государь-батюшка! Тришка! Он! Истинно говорю! Мои ловчие две недели не спали, но нашли! Выследили!
Брать медведя решено было немедля.
Кто-то было высказал сомнение в необходимости такой спешки, но эту спешку поддержал, к удивлению Андрея, сам Василий Иванович Шуйский, который на этот раз увязался за охотником царём вроде бы даже по собственному побуждению, так как царь его не приглашал вообще. Как и Басманова. Басманов остался в Кремле.
— Чего уж там! Скорее надо прикончить! — обронил Василий Иванович, как-то зло сверкнув глазами, будто и не о медведе Тришке речь.
— Мы его сейчас и прикончим! — торопился царь, ощупывая на поясе острый охотничий нож в золотом чехле. — Посмотрим, что там за зверь! Собаки готовы?
— Да тебе ли, государь, мы не поверим? — и на это поддакивал Шуйский. — Верим! И собаки у Безобразова готовы!
Однако получилось всё почему-то не так гладко, как можно было предполагать.
По лесу пробирались поодиночке. Лесные чащи не пропускали в себя. Царь ехал вслед за проводником, который сразу не понравился Андрею, потому что сам этот проводник напоминал громадного медведя, сбежавшего от скоморохов, но сбежавшего в нелепой для него человеческой одежде.
Боярский сын Иван Безобразов хотел держаться сразу за царём, но Андрей не уступил ему этого места. Вроде бы какой-то голос шепнул Андрею, что нельзя подобного допускать. Безобразов подчинился с явным, с большим неудовольствием. Он кинул взгляд на Василия Ивановича Шуйского — тот ехал далеко позади, рядом со своими братьями Димитрием да Иваном, и все они очень цепко смотрели на царя. Но Андрей был почему-то твёрдо убеждён: Безобразов обменялся взглядом с Василием Ивановичем неспроста.
Хотя и наказывал царь, вместе с Безобразовым, ехать по лесу тихо, чтобы не спугнуть до поры лесного хозяина, а всё равно при таком количестве людей и собак сохранить тишину не удавалось. Чей-то конь соскальзывал в скрытую под снегом колдобину, чей-то срывался в глубокий овраг, кто-то натыкался на дерево. От каждой неожиданности люди вскрикивали, кони ржали, храпели, собаки повизгивали и готовы были разразиться неистовым лаем. В глухом лесу сгущался сумрак — это затрудняло движение само по себе. Из-за этого, наверное, по крайней мере все так подумали, и приключилось нечто непредвиденное. На приметной лесной поляне, заваленной хворостом, конь под бородатым проводником шарахнулся в сторону, испуганный неожиданным треском валежника и непонятно откуда раздавшимся рёвом. И в то же мгновение конь под царём взвился на дыбы.
— Ай! — закричали за спиной у Андрея.
Андрей уже видел, как лохматое ревущее чудовище сжимает лапами пронзительно кричащего государева коня. Андрей тут же прыгнул из седла в снег, чтобы спасти царя. В своём рывке он столкнулся с Иваном Безобразовым, и этой задержки было достаточно, чтобы царь сам справился с медведем. В это было трудно поверить, но ещё через какое-то мгновение на лесной поляне толпилось уже множество народа, и все удивлялись огромной медвежьей туше, бессильно раскинувшейся на снегу.
Сам царь стоял над поверженным зверем. Лицо его казалось бледным, но глаза горели привычной для него удалью. В царской руке сверкал окровавленный нож.
— Чудо! Чудо свершилось! — с каким-то страхом повторял Василий Иванович Шуйский, глядя расширенными глазами на царя.
— Как же ты не заметил здесь ещё одной медвежьей берлоги? — смеясь, спрашивал царь стоявшего перед ним бородатого проводника, лицо у которого было белее снега, так что борода его казалась чужою, наклеенною.
— Ба-ба-ба, — только и можно было разобрать в лепете бородача. — Ба-ба-ба... — Он весь дрожал.
Подбежавший Иван Безобразов ударом кулака сшиб своего холопа в снег и сам упал перед царём на колени.
— Помилуй, батюшка царь! И на старуху бывает проруха!
— Да что ты! Встань! — махнул рукою царь. — Я на тебя зла не держу. Да и на него тоже. Вы оба дали мне возможность поразмяться! Я вами доволен!
— Ну и царь у нас, Господи! — от избытка чувств сказал Василий Иванович Шуйский, ухарским движением бросая в снег свою лисью шапку. — Поискать такого — нигде не сыщешь!
— Нет! Не сыщешь! — шумели вокруг.
А царь уже интересовался, сможет ли ходить под седлом его помятый медвежьими лапами конь.
К вечеру всё прояснилось. Оказалось, бородатый проводник просто перепутал поляны. Убитый медведь и был тем самым неуловимым лесным хозяином Тришкой, свалить которого мечтал царь. Разбойник получил своё!
Ликованию царя не было предела. Пир охотники устроили в доме у Ивана Безобразова, который чувствовал себя как-то скованно после промашки с медвежьей берлогой.
А царь решил его ободрить. К тому же сыскалась подходящая причина.
Прямо на пиру царя отыскал прискакавший из Кракова гонец. Он сообщил, что в Кракове в присутствии короля Сигизмунда, папского нунция Клавдио Рангони и первейших польских вельмож кардинал Мацеевский исполнил обряд обручения панны Марины Мнишек с его царским величеством, представителем которого выступал посол Афанасий Власьев.
— Наконец-то! — сказал царь под всеобщее ликование. — А коли так, то надо посылать к королю нашего гонца. Пусть король знает: я готовлю к нему большое посольство.
— Государь! — с готовностью хотел услужить Василий Иванович Шуйский. — Нет лучше гонца, нежели Иван Безобразов!
Иван Безобразов, заслышав это, упал царю в ноги:
— Царь-батюшка! Не способен я на такое! Христом-богом прошу, не посылай!
— Дурак ты! Дурак! — набросился на него со злостью Василий Иванович. — Можешь! Я знаю тебя лучше, нежели ты сам себя знаешь! Ты один только и можешь это сделать!
Царь как-то озадаченно смотрел то на Безобразова, то на Василия Ивановича, то на Андрея.
Андрей хотел поговорить с царём с глазу на глаз.
13
Конечно, пану Мнишеку теперь завидовали очень многие. Да что там многие. Пана Мнишека теперь знали по всей бесконечной Речи Посполитой. Имя его красавицы дочери не сходило с уст людей во всей Польше. Она удостоилась чести стать в недалёком будущем московскою царицею! Она уже обручена с загадочным юношей, скрывавшимся в чужих землях под видом нищего монаха, но обретшего отцовскую корону благодаря собственной своей настойчивости, упорству, уму, воле и, конечно же, по велению Бога! Это было похоже на сказку. Это стало сказкой. И панне Марине отводилась в сказке роль принцессы.
Внешне пан Мнишек казался вознесённым на седьмое небо. Он с готовностью принимал поздравления, которые сыпались дождём. Это было уже в порядке вещей. Особенно после того, как свои поздравления прислал из Рима его святейшество Папа Римский Павел V.
Пан Мнишек перечитывал папские высокопарные слова, обращённые на этот раз к самой невесте, и чем чаще он это проделывал, тем разительнее чувствовал, что послание приобретает для него какое-то иное звучание. Вроде бы там говорилось всё как следует. Его святейшество желал Марине дожить в счастье и в спокойствии до глубокой старости, желал ей усладить свои взоры лицезрением сынов своих сынов, но вместе с тем там чрезмерно подчёркивалось, что Папа Римский ждёт от этого брака величайшей пользы для Католической церкви. Поскольку, получилось, Бог судил Марине соединиться узами брака с могущественным государем, то она, как ревностная католичка, обязана сделать всё, чтобы помочь святому престолу распространить учение истинной Церкви в Московском государстве. И это, полагал Павел V, и должно явиться главным делом московской царицы.
Скажи нечто подобное кто-нибудь иной, даже хотя бы брат — кардинал Бернард Мацеевский, первейший советник короля Сигизмунда, и пан Мнишек нашёлся бы сразу что ответить. Разве для того выходят замуж? Но Папа...
Впрочем, не это для пана Мнишека казалось сейчас самым главным. Что-то мешало ему вот так, без раздумий, отправиться в далёкую Москву даже после пышного краковского обручения дочери. У него находилось много для того причин. В каждом письме из Москвы, в каждом донесении из Московского государства он невольно вычитывал что-то такое, что удерживало его от решительного шага. Он понимал, насколько бесконечна и могущественна Русь, насколько переменчивы там настроения народа, чтобы поверить, будто все московиты бездумно служат истинному своему царю, сыну Ивана Грозного. Да что говорить, несмотря на восторженный приём царевича Димитрия в Москве, несмотря на торжественное венчание его на царство, несмотря на то, что родная мать признала своего утраченного сына, пану Мнишеку было всё ещё боязно призадуматься даже, всё ли в этой истории полностью прояснилось, всё ли утряслось, нет ли здесь каких-либо двусмысленностей. В глубине души, что и говорить, уверенности в этом у пана Мнишека не было.
Он выжидал. Он хотел убедиться, по крайней мере, в прочности власти своего будущего зятя.
А потому у него находились какие-то отговорки на понукания посла Афанасия Власьева, который засыпал его упрёками в медлительности. Посол сидел в городе Слониме и убеждал пана Мнишека ехать поскорее в Москву, пусть и без надлежащих приготовлений, потому что царь обязательно должен успеть жениться до летнего похода, следовательно, Мнишек должен быть в Москве хотя бы за неделю до масленицы.
Пан Мнишек в числе прочих отговорок упорно выдвигал в посланиях царю доходившие в Самбор слухи, будто бы царь оказывает чересчур большое внимание дочери покойного Бориса Годунова — красавице Ксении. Напирал пан Мнишек на то, что приготовление свадебного обоза в Москву требует весьма значительных затрат, что для такого предприятия приходится залезать в страшные долги.
А сам пан Мнишек по-прежнему думал о своём...
И вот к нему в Самбор явился из Москвы один из братьев Бучинских, личный секретарь московского царя, поляк протестантского вероисповедания. Вместе с царским дворянином Толченовым Ян Бунинский привёз огромную сумму денег, предназначенных и пану Мнишеку, и его сыну Станиславу. А для панны Марины царственный жених прислал новые подарки, о которых одно и промолвишь — сказочные.
Всё это было очень кстати. Кроме денег и подарков жених извещал воеводу о том, что Ксению Годунову, дабы раз и навсегда обрезать ненужные слухи, он повелел постричь в монахини и отправить в дальнюю обитель под именем черницы Ольги. Что же касается невесты Марины, то он, жених, получив от посла Власьева перстень, переданный ею при обручении, теперь уже требует, чтобы она побыстрее оказалась в Москве. Он уже выслал к рубежам государства своих людей. Они будут ждать её под Смоленском, в городе Красное. А ещё царь потребовал, чтобы будущая супруга получила от папского нунция Рангони разрешение причаститься от Патриарха московского по православному обычаю! А ещё — чтобы она ходила молиться в православные храмы, чтобы не открывала волос — так положено поступать всякой замужней православной женщине. А ещё — чтобы на всевозможных приёмах в Речи Посполитой панне Марине уже сейчас оказывались высочайшие почести, потому что она уже царственная особа и ни в чём не уступает прочим находящимся на тронах людям.
Когда пан Мнишек прочитал всё это, он тут же понял, к чему клонится дело. В разговорах с ним Бернард Мацеевский постоянно напоминал, что московский царь тайно принял католическую веру, что он обещал обратить в католичество всю Московию, — стало быть, царь заявит о том рано или поздно, а потому и с Мариной он должен обвенчаться уже по католическому обряду.
Признаться, подобные религиозные тонкости как-то мало занимали пана Мнишека, но здесь он почувствовал, что дело приобретает нежелательный ему оттенок, что может найти коса на камень, что юный царь вряд ли сможет учесть все особенности своего народа, предвидеть всю силу его приверженности православной вере. И холодный пот начал пробирать пана Мнишека при одной мысли, во что это всё может превратиться.
Пан Мнишек сразу же бросился в Краков.
Аудиенцию у короля пан Мнишек получил безо всяких проволочек. Это его, конечно же, и не очень удивило. Он получал её всегда без задержек. Его удивило, причём приятно, какое-то почти дружеское обращение с ним короля Сигизмунда.
— Пан Ержи! — сказал король, протягивая руку для поцелуя. — Это хорошо, что вы здесь.
Такое обращение, конечно, несколько успокоило пана Мнишека. Несколько ослабило в нём то напряжение, в каком он ехал в Краков, подгоняя своих и без того старательных кучеров. Король, оказывается, нисколько не сомневается в прочности власти московского царя.
А ещё удивили перемены в облике самого короля. Король выглядел озабоченным и похудевшим неимоверно.
— Пан Ержи, пан Ержи! — повторял король.
Конечно, было трудно и очень неправильно связывать эти перемены напрямую с наконец-то состоявшейся свадьбою короля с австрийской принцессой Констанцией, сестрою его прежней, покойной ныне, жены.
Против этого брака решительно выступал канцлер Ян Замойский. Замойский был застарелым противником укрепления возможного союза Речи Посполитой с австрийским королевским двором. Но теперь Замойского уже нет. А если не свадьба является причиною королевской усталости, то неужели мучит его старая обида, нанесённая ему родственником Карлом, графом Зюндерманландским, выступающим теперь под именем Карла IX, короля шведского?
— Ваше величество! — начал пан Мнишек. — Поверьте, меня привели к вам дела чрезвычайно серьёзные.
Король со спокойным выражением исхудавшего лица выслушал несколько сбивчивый рассказ пана Мнишека об известиях, полученных из Москвы. Король даже внимательно осмотрел предложенные ему для просмотра места в письмах, адресованных пану Мнишеку, а когда пан Мнишек наконец замолчал, то король отвечал ему по-прежнему со спокойным выражением вытянутого лица:
— Это мне уже известно, пан Ержи. Что касается причастия, то не нам с вами над этим раздумывать. И даже не его преподобию Рангони. Как раз об этом и говорил он мне вот здесь, в кабинете. Всё решится в Риме, куда Рангони уже обратился. — Король высоко поднял вверх руку, указывая пальцем куда-то в окно, за покрытую снегами Вислу. — Меня смущает иное.
Король под каким-то предлогом тут же отослал своего секретаря и, оставшись наедине с паном Мнишеком в огромном кабинете, вдруг упёрся в него тяжёлым неподвижным взглядом и со значением спросил:
— Скажите, пан Ержи, вы полностью уверены в том, что московский царь — истинный сын Ивана Грозного?
Пан Мнишек был застигнут врасплох неожиданным и таким запоздалым вопросом. Он полагал, что все сомнения в его душе на этот счёт уже перегорели. Признаться, он и прежде не мучил себя подобными сомнениями. Даже в самые тяжёлые дни после возвращения из-под Новгорода-Северского. В недавнее время он сомневался совсем в ином: удержится ли молодой царь у власти? Сумеет ли противостоять опытным врагам, скрытным и коварным? А что касается такой постановки вопроса, то разве в том суть? Ведь не столь важно, кто ты, сколь важно то, кем тебя считают!
Пан Мнишек засмеялся в ответ, стараясь казаться беззаботным, а значит, уверенным в том, что сейчас скажет.
— На этот вопрос, ваше величество, ответили уже сами московиты.
— Не все, пан Ержи, — тут же возразил король. — И вот почему. Позавчера у меня побывал канцлер Лев Сапега вместе с гонцом от московского царя. Гонец этот, по имени Иван Безобразов, боярский сын, прислан ради того, чтобы известить меня о большом готовящемся посольстве из Москвы, которое предложит нам условия вечного союза и прочного мира — всё направлено против турок. Я принял гонца как полагается. Однако канцлер явился ко мне через день с невероятным рассказом. Оказывается, гонец Безобразов попросил у канцлера особой аудиенции и с глазу на глаз сообщил ему, что послан он, Безобразов, к нам не столько от имени государя, сколько от имени первейших московских бояр, а именно от Шуйских, Голицыных, Телятьевского, а ещё от духовенства московского с целью передать нам, что им хорошо известно: царь у них сейчас не настоящий. Это вовсе не царь, но Гришка Отрепьев, беглый монах.
Король замолчал, очевидно щадя собеседника. Потому что пан Мнишек и сам вдруг почувствовал, как у него поплыли перед глазами разноцветные круги.
«Вот оно, — подумалось, — то, что пугало уже столько времени. Пугало как что-то неясное, нечёткое, предполагаемое. На что я не обращал внимания. Во что мне не верится».
Голос короля донёсся снова, но уже приглушённо:
— Они жалуются, будто бы я посадил им на престол недостойного человека. Они, конечно, довольны, что избавились от власти Бориса Годунова. Однако новый правитель им не подходит, потому что он легкомыслен, не понимает самого величия царской власти. Он опасен как правитель и для своего государства, и для его соседей. Потому что он, дескать, замышляет злое дело против Речи Посполитой. Он не понимает своего народа...
— Чего же они хотят? — бросил куда-то в туман пан Мнишек.
Король продолжал, то вроде бы приближаясь, то удаляясь. Однако слова его были наполнены ужасным смыслом.
— А хотят они, — говорил король, — чтобы я дал им в цари своего сына Владислава.
«Как? — хотелось закричать пану Мнишеку. — При живом царе, получившем корону с одобрения всего боярства и духовенства, всего народа? Этого не может быть! Гонца следует схватить и отослать царю!»
Однако вслух пан Мнишек ничего не сказал.
А король продолжал:
— Я велел отвечать, что ни в малейшей мере не вмешиваюсь во внутренние московские дела. Это должно решаться в самой Москве. Коль московиты решили, что они обрели истинного царя — пусть будет так. Ежели находят это не отвечающим истине — и здесь я им не судья и не противник. Но сын мой не будет гоняться за короною и брать сторону какой-то незначительной партии, впрочем, как и значительной. На это пусть не надеются. От себя скажу одно: уже известны мне люди у нас в государстве, которые хотели бы с таким же успехом видеть московского царя Димитрия и на польском престоле.
Король говорил и говорил, а пан Мнишек постепенно приходил в себя. Пожалуй, его обнадёжили последние королевские слова. Нечто подобное он и сам уже понял.
Наконец пан Мнишек спросил:
— Ваше величество! Что же мне делать?
— Всё, что я вам доверил, пан Ержи, — отвечал король, — пусть остаётся между нами. А вы, пан Ержи, поступайте так, как вам надлежит поступать. Не торопитесь. Всё равно придётся дожидаться решения его святейшества Папы, потому что Рангони вам ничего не ответит. А там — полагайтесь на Всевышнего и на свой ум.
14
Как ни пытался Андрей Валигура обратить внимание государя на его окружение, на бояр Шуйских, Голицыных, как ни старался побудить, заставить принять меры предосторожности — а всё напрасно. Видя, что это же мучит и Басманова, и Рубца-Мосальского да и прочих немногих государевых приближённых, Андрей хотел заручиться их поддержкою, чтобы действовать сообща. Хотел даже доказать, что при охоте на медведя Тришку замышлялось какое-то коварное дело. Однако ничто не помогло. Дошло до того, что царь просто-напросто запретил Андрею говорить о чём-либо подобном. Запрет прозвучал по-дружески, но твёрдо и бесповоротно.
— Можешь заботиться об университете, — ласково разрешил государь.
Андрей уже неоднократно напоминал царю, где хотелось бы ему, Андрею, видеть московский университет. Мысленно проложил в саду дорожки, посадил вдоль них высокие тополя. В уме возвёл беседки перед белостенным зданием с огромными окнами — перед библиотекой с многоколонным портиком.
При первом обращении с такими пожеланиями царь весьма удивился выбору места.
— Почему не рядом с Кремлем, если и вовсе не в самом Кремле? — вопросительно выгнул царь светлую бровь. Из окон кремлёвской горницы он видел свободное место для университетского здания. — Университет, друг мой Андрей, — украшение для города и всего государства. Кроме того, это почёт для любого государя. И между прочим, учёным мужам всегда и везде требуется поддержка и защита государей.
На это первое удивление Андрей отвечал основательно.
— Так-то оно так, государь, — сказал Андрей, — но, во-первых, царская защита должна простираться не только на столичный город, не только на Кремль, но и на царских подданных по всему государству. Во-вторых, занятие науками требует от человека полной самоотдачи и сосредоточенности. Юные умы к тому же никак не должны видеть перед собою лишних соблазнов. А что касается зрелых умов, то сова Минервы не терпит праздной суеты, это известно. А в городе много излишней суеты. Недаром древние афинские мудрецы основывали свои школы не в городе, но за его пределами. Вспомним Платона с его Академией и Аристотеля с его Ликеем. Украшением городу университет будет служить всегда, на любом расстоянии от Кремля. Впрочем, само существование университета приносит почёт тому государю, который его учредил.
Царь велел тотчас подавать верховых лошадей.
Что же, он согласился со своим другом, как только они оказались вдвоём на приглянувшихся Андрею высоких горах. Царь спешился с коня, опустился на зелёную траву. Как зачарованный загляделся он с высоты на изгиб Москвы-реки, на опоясанный ею город, на золотые макушки кремлёвских белостенных соборов.
— Чудесно, — вздохнул. — Вот она, наша матушка-Русь. Чудесно. Хорошо за рубежом, свободно там дышать человеку, а на своей земле лучше, как ни поверни. Это ты хорошо придумал, Андрей. Хвалю. Хорошо здесь будет учёным головам. Сам бы я у них гостил с удовольствием. Сам бы поскорее возобновил изучение латыни, которое мы начали в Путивле, да только... — И замолчал.
А что «только» — дошло до Андрея не сразу.
Впрочем, не сразу всё было понятно и самому царю.
Так и ускакали тогда сквозь густые лесные заросли.
Молчали.
Но побывали на том месте ещё не раз.
Были там и летом, и осенью, и зимою.
И каждый раз открывались перед ними чудесные картины. Даже в дождливый осенний день висела успокоительная синяя дымка...
— Да только вот что, — сказал наконец царь, — придётся с университетом обождать. Мне тоже хотелось бы поскорее прогуляться по тем дорожкам, которые видятся тебе... Но сперва следует побить турка. Все силы придётся бросить туда. Ты ведь знаешь, какие несчастья терпит наш народ от турок... А когда победим их, когда поколотим как следует шведа...
— О, государь, — вроде бы в шутку, с улыбкою прервал его Андрей, — прежде того я могу состариться...
Царь продолжал загадочно:
— А там ещё и другие могут стать на дороге... Другие неприятели...
Андрей уже не раз слышал похвальбы царя по отношению к Речи Посполитой. И часто не мог понять, насколько серьёзно о том говорится. Но предполагал, что всё может проясниться лишь после того, как здесь, в Москве, окажется панна Марина Мнишек. Ой, по-прежнему крепко любит Димитрий Иванович свою невесту... Эта любовь придавала ему сил в борьбе за царскую корону. Сам говорил...
— Так что и состариться можешь, не скрою, — не отрицал царь. — Да иначе не получится. Многое теперь мне совсем иначе видится, нежели виделось прежде. Вот отправим мы с тобою достойных юношей за рубеж на учёбу... Будут учителями в нашем университете. А большего пока нам не сделать.
Он помолчал, а потом вдруг улыбнулся:
— Да ты, друг мой Андрей, не серчай и не расстраивайся. Ты сам поможешь мне приблизить победу над турками. Я же знаю, ты воевал когда-то под Каменцом... Пока я здесь, в Москве, буду поджидать невесту, ехать тебе предстоит в Елец и от моего имени формировать там наше войско. Я приказал уже давно собирать туда воинскую силу из северных наших земель и свозить туда снаряжение да съестные припасы.
Андрей молчал.
— А приготовим всё для похода, — сказал царь в заключение, — тогда и посольство отправим к Сигизмунду. Когда пушек будем иметь в достаточном количестве. Мушкетов, сабель. Всего. И быть во главе посольства тебе, Андрей. Так что постарайся. Гонец Безобразов уже доложил королю, какое посольство пришлю я в Краков по поводу войны с турками! Пусть готовятся ляхи!
— В Польше, государь, не скоро делается подобное, — напомнил Андрей. — Там король без сейма ничего не отважится решить.
— Знаю, — сказал царь. — В том-то и дело. В том-то и беда.
После некоторого молчания царь добавил, будто стряхнул с себя что-то:
— Эх, переменить бы... И многие в Польше хотят многое переиначить на наш лад, известно мне, а многие у нас — на польский лад. Тоже мне известно. Вот кто раньше успеет...
Понял Андрей только одно: многого царь не договаривает. Многое переменилось в их прежних доверительных отношениях.
И всё же Андрею с большим трудом, но удалось уговорить царя завести личную охрану.
— Какая там охрана! — отмахивался царь по-прежнему. — Мой народ меня любит. Тебе ли этого не видеть, Андрей?
Но вот настойчивый Басманов предотвратил явное покушение на царя, которое готовилось в Кремле руками стрельцов, возглавляемых боярским сыном Шаферетдиновым. Шаферетдинов скрылся и вовсе пропал, а стрельцы сознались в своём гнусном замысле. Они, правда, больше никого из предводителей не выдали, да, может, и не знали, не размышляли, кто подбил их на предательство. Стрельцы были растерзаны своими же товарищами, которые после того слёзно умоляли царя простить им их вину.
Царь простил, но призадумался.
Вот тогда Андрей и сказал:
— Видишь, государь, есть у тебя враги.
После этого была заведена охрана в виде трёх рот иноземцев-алебардщиков. Одна — под руководством бывшего капитана, теперь уже полковника, Якова Маржерета, другая — под рукою немца Кнутсена, третьей командовал тоже немец, Альберт Вандеман.
Конечно, ещё какую-то силу представляли собою оставшиеся на службе у царя польские рыцари. Но их было мало, тоже всего несколько сотен. Жили они вдали от Кремля и от царя. Вели себя заносчиво, буйно, часто вступали в драки с московскими обывателями. Так что трудно было представить, какая из них получится опора для царя. Скорее, пожалуй, наоборот. Поляки могли своим поведением побудить москвичей на ответные дерзкие действия. Об этом, кстати, часто и с каким-то намёком говорил князь Василий Иванович Шуйский.
Андрей надеялся, правда, на личную преданность царю со стороны воеводы Басманова. Басманову подчинялись войска, находящиеся в Москве, в том числе и стрельцы. И только. А так надеяться было больше не на кого.
В приготовлениях к будущей войне миновала суровая зима. Побежали с нагретых солнцем бугров шумные весенние ручьи.
Андрей Валигура между тем сидел в Ельце, лишь изредка наведываясь в Москву, чтобы докладывать царю о военных делах.
Жил Андрей в огромном бревенчатом доме в середине города. Елецкий воевода Иван Стрешнев места себе не находил, постоянно заботясь о безопасности главного военачальника, государева глаза. Вокруг этого дома воевода наставил много верных и преданных стражей — ужу не проползти.
Поблизости от дома стояли новые пушки, доставленные из Москвы. Там их отливали на Пушечном дворе. Ещё больше насчитывалось старых пушек, из которых уже попалили по врагам во многих сражениях. Они поизносились, устарели, но своё ещё покажут. Много пушек свезли сюда из отдалённых северных крепостей, которым неприятель не угрожает. Пушек набиралось в достаточном количестве.
Там же поблизости простиралось огромное поле, где стрельцы и прочие военные люди упражнялись в ратном деле. Они учились быстро становиться в ряды — плотною стеною. Учились передвигаться строем. Учились пускать при надобности в дело сабли, стрелять из луков. Но из аркебузов не стреляли.
Чужеземные военачальники удивлялись: пушкари нисколько не учатся своему главному делу — стрельбе. Но пушкарские начальники отвечали со смехом, что учиться пушкарям незачем. Порох, дескать, на дороге не валяется. Да оно и опасно: вдруг разорвётся ствол у старой пушки? А вдруг при том людей покалечит? Глупо помирать от своей же пушки. И перед государем надо ответ держать за понесённый ущерб.
С великим трудом Андрей наконец добился, чтобы по велению самого царя хотя бы некоторые пушкари производили время от времени выстрелы да показывали примеры молодым своим товарищам. И только.
Так учились.
А между тем воевода Иван Стрешнев с подробностями рассказывал, будто бы он сам видел овчинный тулуп, полностью остриженный, который царь приказал отвезти в подарок крымскому хану.
— Вот, боярин, — обращался Стрешнев к Андрею, — это значит, что как этот тулуп теперь выглядит — так и хану с султаном турецким быть оскубанными! Вот!
— И что же султан сделает с послами? — интересовался Андрей. — Неужели хан отошлёт их прямо к султану? Прямо в Царьград? Или они сами к хану не пойдут?
— Почему не пойдут? Пойдут! — был уверен воевода. — Не впервой так делается, аль не знаешь? Да и нет в этом никакого оскорбления. Говорят, кто бывал в таких посольствах, — хан только улыбнётся. Угостит как следует, накормит-напоит и отпустит. Потому что этот тулуп для него — доказательство неизбежности войны с нами. Без добычи крымчаки жить не могут. Так что быть войне великой. Отомстим за поруганные земли. Вона сколько нашей силы здесь собрано. А к лету, даст Бог, ещё больше будет.
Как ни старался воевода Стрешнев оградить Андрея от всяческих неожиданностей и опасностей, но однажды на краю просторного поля, где по-прежнему упражнялись стрельцы, Андрей увидел не кого-нибудь иного, но давно уже позабытого им отца Варлаама. Тот был в старой изношенной рясе, в худых сапогах, забрызганных грязью, как будто он только что шагал по бездорожью, куда-то спешил. Да и лицо его в рыжих клочьях щетины поражало своею худобой. Одни глаза излучали прямо-таки огонь. Он смотрел на Андрея не мигая, словно требовал: не выдавай меня, брат, не прогоняй меня!
— Это ты? — на всякий случай спросил Андрей, всё ещё не доверяя увиденному.
— Умоляю выслушать меня! — тихо проговорил отец Варлаам. — Я хочу сказать тебе что-то важное!
У Андрея пропали всякие сомнения.
Стоявшие рядом стрельцы с недоумением смотрели на пришельца. Они не могли понять, откуда он взялся.
— Отведи святого отца в мой дом! — спокойно повелел Андрей своему верному Харьку. — Пусть его накормят и уложат спать.
Целый день после этой встречи Андрей чувствовал какое-то беспокойство. Он занимался привычными уже делами. Он осматривал только что доставленные из Москвы пушки. Расспрашивал новоприбывших людей. Заглядывал в купеческие и государевы каменницы, где хранится продовольствие, порох, где лежит оружие, а сам думал об отце Варлааме. Что привело сюда старика? Как он выжил? Как оказался на воле? Ведь он каким-то образом был причастен к замышляемому убийству царевича? Его не напрасно бросили в Самборе в тюрьму. Правда, царевич в одном из писем панне Марине, ещё из-под Новгорода-Северского, помнится, написал, что уступает её просьбам, пускай старика выпустят...
Вечером отца Варлаама Харько привёл к Андрею.
Старик начал без обиняков. Он боялся, что ему не дадут высказаться.
— То, что скажу тебе, Андрей, — промолвил он тихо, — требует, чтобы мы остались наедине.
Как только условие было выполнено, отец Варлаам вытащил из-под ветхой рясы какие-то бумаги:
— Читай! Наш царь, которому ты вернее всех прочих служишь, вовсе не тот человек, за кого себя выдаёт. Он взял на душу страшный грех. Он присвоил себе чужое имя. За то ответит перед Господом Богом. Однако он хочет нас всех ввергнуть в пучину греха. Он хочет, чтобы мы забыли веру наших отцов. Он хочет отдать нас в руки католических ксёндзов!
— Что ты говоришь? — остановил его Андрей. — Тебе ведомо, как царь отстаивает всё наше, русское?
— Только для виду! — не поддавался отец Варлаам. — До поры до времени! Чтобы усыпить дух народа. Прочитай его собственноручное письмо. Вот! Ты был при нём, ещё в Польше, секретарём. Но ты не всё знаешь. Не во всём он тебе открылся. А вот что написал он своею рукою королю Жигимонту! Ты его руку знаешь как никто иной. Читай. — И отец Варлаам развернул лист уже сильно примятой бумаги.
15
В начале марта 1606 года в Самборе было по-весеннему тепло и довольно сухо. Ветерки уже вздымали лёгкую пыль. Леса стояли вымытые дождями, готовые покрыться нежнейшими листочками.
Погожим тёплым утром пан Мнишек наконец уселся в дорожную карету, чтобы отправиться в путь. Он решился.
Лакеи захлопнули за ним тяжёлую дверцу. В маленькое окошко в задней стенке кареты пан Мнишек ещё раз окинул взглядом освещённый весёлым солнцем каменный замок. На высоком помосте перед крепкими воротами стояла жена с детьми в окружении служанок и слуг. Непоседа Ефросиния, в розовом пышном платье, махала сестре Марине обеими руками и что-то громко кричала. Марина отвечала ей царственными движениями одной руки. Самой Марины не было видно.
Пан Мнишек незаметно для сидевших в карете лакея и писаря Стахура тяжело вздохнул.
— С Богом! — сказал он Стахуру, крестясь куда-то в пространство непослушными от волнения пальцами.
Карета тронулась. Вслед за этим, кажется, пришёл в движение весь Самбор. Вдоль улицы стояли и кланялись обозу обыватели. Кто-то бросал вслед цветы. Кто-то закрывал руками лицо.
Кажется, всё уже было в порядке, а спокойствие в душу пану Мнишеку не наведывалось.
Было известие от Папы Римского, ответ на письмо нунция Рангони, — как надлежит вести себя католичке Марине в православной Москве. Марине, servae devotissimae[47]. Уж точно. Было издано такое нужное распоряжение короля Сигизмунда, которое на длительное время освобождает сандомирского воеводу от всяческих исков со стороны заждавшихся кредиторов. Было получено достаточно средств в виде денег и подарков от будущего зятя, чтобы расплатиться с долгами, чтобы всё устроить, уладить, всё купить, снарядить, приготовить, а всё же...
Обоз получился огромный.
Собственно, невесту сопровождала её гофмейстериня, пани Казановская. Ещё — пани Гербуртовна. Ещё — жёны двух братьев Тарлов, родственников ближайших. А ещё — родной брат Станислав, староста саноцкий, и дядя Ян — староста красноставский, родной брат пана Мнишека. И сын пана Яна — Павел, староста луковский. А ещё были в обозе трое братьев Стадницких — старший из них, Мартин, был гофмейстером у невесты. Ещё ехали паны Любомирские, Домарацкие, Голуховские... И прочие, прочие... Всех не упомянуть. Что касается духовных лиц — сопровождали обоз отец Франциск Помаский, вызвавшийся добровольно ехать в далёкую Московию, и отец Каспар Савицкий — этот по поручению папского нунция Клавдио Рангони и на средства самого Папы Римского. Кроме того, Марину, как всегда, окружали монахи-бернардинцы — их насчитывалось семеро, и во главе их стоял отец Анзерин. Ехал также опытный врач пан Пётр Колодницкий. Ехали музыканты пана Станислава Мнишека — их набиралось на целый оркестр, двадцать человек. Ехало, конечно, множество воинов, вооружённых как следует, ну и просто всяких слуг и служанок, как-то: поваров, лакеев, портных, цирульников, горничных и прочих. Не забыли прихватить с собою даже шута — Антонио Риати, уроженца итальянского города Болоньи. Он смешил и вызывал у людей неудержимый хохот уже на протяжении нескольких лет. Пускай своим искусством потешит он московитов. Правда, он прихватил с собою из самборского замка маску богини Немезиды, очень удачно сделанную доморощенным художником Мацеем. Иногда надевал её, и тогда всем становилось не по себе, несмотря на его ужимки и выкрики.
А ещё вместе с обозом отправлялись в Москву послы самого короля Сигизмунда — паны Николай Олесницкий и Александр Гонсевский. Они везли царю грамоты с поздравлениями по поводу свадьбы, а также грамоты по поводу государственных дел.
Ну и, конечно, без этого не обойтись, — ехало много торговцев, разных ремесленников.
Собственно, всего обоза пан Мнишек так ни разу и не увидел из-за его огромности. Он лишь прикинул вместе с писарем Стахуром, сколько же набралось народа, — получалось свыше двух тысяч!
— Невероятно! — только и сказал пан Мнишек.
Ему уже чудилось, будто отправляется он в новый восточный поход.
Будто он снова становится гетманом (недаром вёз с собою булаву в драгоценных камнях, присланную ныне царствующим женихом, почти что зятем).
И уж, конечно, от подобных мыслей не могли отделаться обыватели в пределах московитских земель. Как только обоз этот, постоянно увеличиваясь, миновал Люблин, Слоним (где его наконец дождался обрадованный посол Афанасий Власьев), затем добрался до Орши, где высилась последняя на его пути католическая колокольня, где отец Каспар Савицкий сказал проповедь — как подобает вести себя в чужом государстве, в православных землях. Пожалуй, простым московитам могло именно так и показаться, будто на них идёт чужеземное войско, — таким многолюдным получилось свадебное посольство.
К тому же как ни втолковывал отец Каспар, а многие в обозе — не так, конечно, паны, как их слуги — повели себя сразу же недостойно. Напиваясь, вернее, будучи постоянно пьяными, при малейших спорах и несогласиях угрожая друг другу оружием, они ещё безобразней, ещё более вызывающе вели себя с местными обывателями.
— Пся крев! — кричали такие гуляки, когда им напоминали, что едут они по приглашению самого царя. — Да мы этого царя вам и поставили!
Конечно, ничего подобного лично пан Мнишек не слышал, всё это передавали писарю Стахуру, а уже Стахур — ему. И всё это очень настораживало пана Мнишека. Он приложил немало усилий, лишь бы предотвратить что-нибудь ещё более серьёзное. Он умолял всех панов внимательней присматривать за своими подопечными и одёргивать их.
Народ московский был уже давно предупреждён насчёт того, что царь в столице дожидается своей невесты, что проедет она к нему как раз по этой дороге. Народ московский встречал гостей хлебом-солью. Во главе народных толп выступали священники. В городе Красное, за много вёрст от города Смоленска, уже несколько месяцев поджидали царскую невесту нарочитые посланцы — князь Мстиславский и боярин Михаил Нагой, дядя царя. Они встретили пана Мнишека. Под крики толпы дворян и празднично одетого народа.
— Вот она, наша государыня! — сказал князь Мстиславский, низко кланяясь до земли. — Её нам Бог посылает!
А ещё больше народа высыпало на улицы в самом Смоленске. Подаркам не было счёта. Особенно дарили гостям собольи меха.
Конечно же, народ московский более всего стремился увидеть будущую царицу-матушку собственными глазами. После пасмурных весенних дней, после сырых и холодных ночей, которые большинству людей в обозе приходилось проводить в палатках, отогреваться при кострах, так как строений для всех в дороге не хватало, после опасных переправ через разлившиеся реки погожие дни в Смоленске показались путникам настоящим блаженством. В Смоленске они приходили в себя на протяжении трёх дней и трёх ночей — пили, гуляли, красовались на чудесных конях и в удивительных каретах. И на протяжении всех этих дней смоляне имели возможность восхищаться красотою своей юной царицы. Её возили по городу в открытой карете, в алмазном венце, в белоснежном роскошном платье, — народ кричал от восторга и молил Бога, чтобы Всевышний послал ей счастье, долгих лет жизни — на радость своим подданным и потомкам подданных.
Пан Мнишек обыкновенно ехал в своей не менее роскошной карете следом за дочерью и радовался увиденному и услышанному. Народ, ослеплённый красотою царской невесты, принимал её сразу своей владычицей.
Пану Мнишеку хотелось плакать от умиления и целовать первых встречных московитов, как дворян, так и простых холопов.
Тревога, с которой он выехал из Самбора, начинала улетучиваться сама собою.
С этими чувствами, в сопровождении князя Мстиславского, боярина Нагого и посла Власьева, пан Мнишек наконец оставил Смоленск и вскоре оказался в Вязьме, где ему объявили, что царь повелел привезти его, пана Мнишека, в Москву, чтобы выразить ему лично особую признательность за ласковый приём, оказанный в Самборе.
— Долг платежом красен, пан Ержи, — ласково повторял по дороге дородный князь Мстиславский. — А панна Марина, государыня наша, будет отдыхать. Так уж положено. И с этим надо смириться.
— Понимаю, — соглашался пан Мнишек. — Со своим уставом в чужой монастырь не суйся. Так ещё у вас говорят. Знаю.
За несколько вёрст от Москвы пана Мнишека встретил тот самый воевода Басманов, теперь уже боярин, который когда-то мёртвой хваткой удерживал Новгород-Северский. Теперь Басманов был наряжен в польское гусарское одеяние, сверкавшее золотом. От имени царя он подарил гостю четырёх прекрасных коней, один из которых был предназначен для него лично, второй — для его брата Яна, третий — для сына Станислава, а четвёртый — для пана Павла, сына брата Яна. Сбруя и сёдла на всех конях сверкали золотом.
И на этих-то конях они все четверо, в сопровождении Басманова и знатнейших московских дворян, переправились по специально устроенному через Москву-реку мосту. Затем проехали сквозь искусно придуманные и возведённые триумфальные ворота и между рядами дворян и боярских детей поднялись на зелёный кремлёвский холм, проехали в кремлёвские ворота и оказались в доме, в котором пану Мнишеку предстояло теперь гостить.
— В этом дворце, — сказал ему между прочим важный князь Мстиславский, — прежде жил Борис Годунов.
Уже одно пребывание в таких богатых хоромах, а ещё обильнейший обед, которым угостили его и его людей, а затем отдых, предоставленный после дороги, накануне предстоящей завтрашней встречи с государем, который прислал к нему князя Хворостинина, чтобы справиться о здоровье, — всё это способствовало тому, что пан Мнишек почувствовал себя в ещё большей уверенности.
Но наступивший новый день привёл его снова в удивительное настроение. Уже с раннего утра услышал он какие-то звуки, свидетельствующие о большом скоплении людей за стенами дворца. Ему сказали, что его дожидается в своих хоромах великий царь Димитрий Иванович. Когда же он вышел наружу, то увидел, что от крыльца его дома двойными рядами стоят московские стрельцы — с весёлыми лицами, в малиновых кафтанах, с белыми перевязями и с оружием в руках. Пан Мнишек ехал по узкому пространству, окаймлённому с обеих сторон этими стрельцами, сидя на огромном татарском коне, покрытом пурпурным чепраком, а коня вели под уздцы удалые русоволосые молодцы. За паном Мнишеком шли его родственники в сопровождении очень богато одетых московских дворян. Перед высоким крыльцом пану Мнишеку помогли спешиться, затем повели по красному пушистому ковру в какое-то помещение, где встретили его бояре в высоких горлатных шапках и дорогих шубах с длинными рукавами. Эти бояре ввели пана Мнишека под своды просторной палаты с вызолоченными стенами. Под ногами у него зашуршали другие ковры. И едва пан Мнишек успел поднять взгляд, оторвав его от ковров, как тут же наткнулся глазами на огромное серебряное кресло под балдахином, стоявшее на высоком, в три ступени, помосте. Там ещё высились колонны, над которыми расправлял крылья двуглавый державный орёл.
Пан Мнишек почувствовал себя как бы во сне. Да, перед ним был царевич, которого он почти трусливо оставил под Новгородом-Северским, оставил без особой надежды на то, что ещё когда-нибудь увидит, без особой надежды на успех того дела, ради которого они когда-то выступили с войском из Самбора. Сейчас пан Мнишек знал, кто перед ним. Он узнавал это лицо, хотя одновременно и не узнавал. Потому что перед ним было действительно лицо человека, которого он когда-то приютил в Самборе, которому пожимал руку как нищему приятелю, как существу, нуждавшемуся в помощи. Но сейчас перед ним было знакомое лицо, втиснутое в неправдоподобную живую картину, основу которой составляли люди в высоких боярских шапках, в пышных шубах из дорогого собольего меха, щедро украшенного золотом. Это лицо было здесь центром внимания. Сначала оно даже сильно и неприятно поразило его тем, что оставалось безмолвным, словно нарисованное, словно вылепленное из воска. Всё ожидаемое от него, от царя, громко и беспристрастно произносил дьяк Афанасий Власьев. Пан Мнишек с трудом вспомнил, что так издавна принято у московитов. Царь, имея на голове корону, не может разговаривать с простыми людьми. Он не вправе снизойти до разговора. Он — высшее существо.
Порадовало, что все присутствующие, а в их числе даже князь Василий Иванович Шуйский, о строптивом характере которого и о законных претензиях его на царский престол столько наслушался пан Мнишек, подобострастно взирали на сидящего на троне царя.
Подобное же подобострастие выказывали и прочие бояре, и всё высшее духовенство, во главе которого восседал, по правую руку от царя, Патриарх Игнатий — седобородый, в длинном, чёрного бархата, одеянии, украшенном драгоценными камнями и сплошными полосками жемчуга. Эти люди, знал уже пан Мнишек, — и духовные, и бояре, — и составляют при царе сенат, заменивший бывшую Боярскую думу. Об этом говорил в Польше на всех перекрёстках царский секретарь Ян Бучинский. Это подтверждали все возвратившиеся из Московии, в том числе и Станислав Борша, уже вернувшийся было домой, но теперь снова поддавшийся на уговоры Бунинского и присоединившийся к свадебному обозу пана Мнишека.
Царь, не говоря ни слова, всё же, как показалось пану Мнишеку, глядел на него из-под тяжёлой короны так дружелюбно, что пану Мнишеку враз сделалось исключительно легко на душе. Пользуясь указаниями и наставлениями дьяка Власьева, он смело выступил на середину оставшегося свободным пространства, отсоединился даже от своей свиты и начал заранее приготовленную Стахуром речь.
— Ваше царское величество! — зазвучал его голос. — Очень трудно решить мне сейчас, чему следует больше предаваться: зависти либо же восторгу. Ещё вчера, кажется, видел я скромного юношу, со слезами обиды на глазах говорившего о своей далёкой родине, о Москве, где прошло его раннее детство, где впоследствии его лишили отцовского престола, откуда он бежал, чтобы только спасти свою жизнь. Мало кто верил тогда в его успех. Но стоило только внимательно посмотреть в его глаза, наполненные верою в Бога, верою в справедливость, — и ты сам проникался верою в неизбежность хорошего исхода всего того, что задумано людьми. Именно это и побудило меня принять предложение царственного отрока встать во главе небольшого войска, чтобы окончательно восторжествовала в мире справедливость. Ещё вчера согревали мы рядом руки у воинских костров и я помогал ему словом и делом удерживать тех, кто отчаялся верить в успех, кто уходил с поля сражения... Зато что я вижу сегодня? Вся земля Русская обрела наконец своего законного правителя. И вся земля ликует и радуется этому!
Речь пана Мнишека нравилась сенату. Нравилась всем собравшимся, среди которых ему удалось увидеть даже нескольких своих соотечественников, верно служащих теперь молодому московскому царю под руководством полковника Домарацкого. Пан Мнишек видел, что многие из присутствующих, особенно те, кто постарше, едва сдерживали всхлипывания, а некоторые утирали слёзы рукавами.
Когда же пан Мнишек, по примеру, как полагал, древних ораторов обозрев всех присутствующих, обратил свой взор снова на царское лицо, то он был поражён: как преобразилось это лицо! Из царских глаз лились слёзы. Царь раз за разом брал платок, лежавший на блюде в руках молоденького стряпчего, как две капли воды похожего на дьяка Афанасия Власьева (сын его, что ли?), и не спеша подносил его к своему раскрасневшемуся лицу. Царь плакал — как бобёр.
Увиденное ещё сильнее ободрило пана Мнишека. Речь его полилась неудержимым потоком. Он выражал восхищение тем, что царь ничуть не переменил своего юношеского восторженного намерения жениться на девушке, которая ему полюбилась. Царь увидел и оценил её красоту, добродетель, её сострадание к его горю. Он ничего не забыл. И счастливому отцу невесты, завершил свою речь уже со слезами пан Мнишек, остаётся лишь умолять Всевышнего, чтобы он ниспослал молодой паре счастье, благополучие, равно как и процветание народам обоих государств — польскому и русскому.
После того пан Мнишек был допущен к целованию царской руки.
Приблизясь к трону, поднявшись по золотым ступенькам, он опустился на одно колено, превозмогая боль в другом, плохо гнущемся после холодных ночёвок в продуваемых сквозняками придорожных домах, и так же громко и отчётливо, как и во время произнесения торжественной речи, повторил, приблизясь к царю вплотную:
— Вот она, рука, которую я когда-то пожимал. А теперь я с благоговением припадаю к ней устами.
В ответ за его спиною раздались возгласы одобрения. Но сам царь оставался по-прежнему безмолвным.
После пана Мнишека к царской руке припадали все прочие паны из его свиты, начиная от сына Станислава.
Что-то говорил в ответ от имени царя дьяк Афанасий Власьев, употребляя много польских и латинских выражений, из тех, которые любил употреблять сам царь, — создавалось впечатление, будто слова исходят в самом деле от царя. Однако это уже мало что значило. Пан Мнишек спокойно сидел на скамейке, на месте, которое ему указали. Он мог теперь наблюдать, как по очереди, в соответствии с богатством, древностью рода и прочим, целуют царскую руку все присутствующие в зале.
Правда, уже в этом помещении пан Мнишек наконец услышал голос царя: то было лишь короткое приглашение пану воеводе на обед (ради чего царь приказал боярину снять с его головы корону). А вот когда все московиты помолились в Благовещенском соборе, царь, выйдя из собора (он был уже в иной, лёгкой и не такой богатой, короне), заговорил с паном Мнишеком безо всяких ограничений, как прежде, как в Новгороде-Северском, как в Самборе.
— Как чувствует себя моя невеста, пан отец? — спросил царь первым делом.
Пан Мнишек отвечал основательно, хвалил людей, которые встречали свадебный обоз в дороге.
Царские вопросы пока что вертелись исключительно вокруг невесты, но пан Мнишек и не думал в чём-либо упрекнуть своего будущего зятя.
Затем царь повёл гостей в новый деревянный дворец, о котором Ян Бучинский рассказывал в Польше как о большом чуде. Это было действительно похоже на чудо. Всё там поражало великолепной отделкой, удивительной роскошью.
Там уже были приготовлены столы для пира.
Пиры, надо сказать, последовали один за другим. Пан Мнишек не мог во всех участвовать, по нездоровью, но это его не беспокоило. Он был убеждён: прежние тревоги окончательно остались в прошлом. Сейчас же он ел и пил вместе с первейшими московскими боярами, вместе с Басмановым, с князьями Шуйскими и прочими, прочими. Его свезли даже в Вознесенский монастырь, где он был представлен вдовствующей царице Марфе Фёдоровне, о которой наслышался ещё в Польше. Царица говорила с ним очень любезно, насколько любезно может говорить женщина, столько претерпевшая на своём веку, столько времени просидевшая в монастырских стенах. Она жаждала поскорее увидеть свою невестку. Она поражалась её красоте, глядя на маленькую парсуну, тщательно отделанную итальянскими художниками. А пан Мнишек убеждал её с полной уверенностью, что никакому художнику, даже итальянскому, не дано передать настоящей красоты. Панна Марина, заверял он свою сватью, в жизни ещё красивей.
Пан Мнишек гостил в Москве, а панна Марина уже приближалась к русской столице, где ей готовили торжественный приём.
Отец вскоре выехал из Москвы навстречу дочери и вместе с нею снова проделал путь по перекинутому через Москву-реку мосту.
Пан Мнишек был свидетелем, как перед шатром Марины на зелёном лугу остановилась удивительная карета, запряжённая двенадцатью белыми в яблоках конями. Была она красного цвета, с серебряными накладками. Колёса её слепили глаза золотым блеском. Карету окружали шестеро молодцов в зелёных камзолах и в красных, внакидку, плащах. По обеим сторонам кареты и позади неё шли дебелые немцы-алебардщики и московские стрельцы. За каретой ехали верхом главные царские бояре и думные люди.
Князь Мстиславский, возглавлявший шествие, вошёл с боярами в шатёр и поздравил царскую невесту со счастливым прибытием.
— Карета, — сказал Мстиславский, — прислана за вами его царским величеством. Она доставит вас в Кремль.
Пока невесту усаживали в карету, Мстиславский и бояре и все люди вокруг стояли с обнажёнными головами.
Пану Мнишеку тут же вручили присланные царём новые подарки, вдобавок ко всему — ещё одного коня с очень богатою сбруею, сплошь покрытою золотом.
Когда карета с царской невестой была готова отправиться в путь, то вперёд пропустили дворян и боярских детей, которые встречали будущую царицу в городе Красное, у самого рубежа, и ради этой встречи находились там три месяца. Они шли по свободному пространству, обрамленному двумя стенами пеших стрельцов в красных суконных кафтанах с белыми перевязями. За ними следом двинулись польские гайдуки, с ружьями за плечами и с саблями на боку. Все они, рослые как на подбор, все с закрученными усами и с орлиными взглядами, красовались в голубых жупанах и в красных шапках-магирках с белыми перьями. За гайдуками двинулись гусары пана Мнишека, сопровождавшие его от самого Самбора. Гусар насчитывалось две сотни. Они сидели на вороных венгерских конях. За плечами у каждого шевелились и скрипели на ветерке лёгкие серебристые крылья. Спереди гусар прикрывали вызолоченные щиты, а в руках они держали длинные копья, поднятые остриём вверх.
Вслед за гусарами повели двенадцать лошадей, назначенных царём в дар невесте.
А потом уже поехали князь Мстиславский с боярами, за ними — польские гости: недавно появившийся в обозе князь Константин Вишневецкий со своею свитою, Тарлы, братья Стадницкие, князь Любомирский и прочие.
Пан Мнишек как бы замыкал шествие. Он уже сидел на подаренном царём коне. Он был в малиновом жупане, цвет которого ласкал ему глаза, а соболья оторочка придавала необыкновенную изысканность. За ним ехал огромного роста арап с ослепительной улыбкой на чёрном лице, присланный в подарок от царя. А за арапом катилась подаренная царём удивительная карета. Впряжённых в неё белых лошадей в чёрных яблоках вели под уздцы двенадцать стройных юношей. Панна Марина, в белом платье, осыпанном украшениями, сидела внутри кареты, окружённой почётным караулом в роскошных одеяниях.
Малиновую карету, в которой царская невеста приехала в Московию из Самбора, везли теперь вслед за царской восемь чисто белых лошадей. Она сейчас пустовала. Знатные дамы, сопровождавшие панну Марину от Самбора, сидели в третьей по счёту карете, запряжённой восьмёркой серых лошадей. Остальные женщины, в том числе и служанки невесты, высовывали головы ещё из нескольких карет.
А за каретами шумною толпою двигался московский люд.
Так поднялись к Кремлю. У Лобного места царскую невесту встречали новые толпы.
Людьми была переполнена вся Москва. Под колокольный звон, вдоль стоящих стеною стрельцов, процессия поднялась на Красную площадь. А там было собрано много людей в самых разнообразных нарядах: кто в персидских одеждах, кто в грузинских, кто в татарских, армянских. Все люди кричали, скакали, плясали, пели свои песни и поздравляли царскую невесту.
Карета с панною Мариною, въехав во Фроловские ворота, остановилась у Вознесенского монастыря. Невесте полагалось до свадьбы побыть под крылом у матери своего жениха.
16
Королевские послы, оставаясь друг с другом наедине, предавались между тем нелёгким размышлениям.
Александр Гонсевский, староста велижский, который ехал к царю в звании посла уже вторично, беспокойно теребил длинные усы, поседевшие от нелёгких забот.
— Тяжек хлеб посольский, — повторял он время от времени. — Я говорил королю, что московский царь теперь уже совсем не тот, каким представал он перед королём в Вавеле. Это небо и земля... И я уверен, он заговорит ещё не так, как только заполучит в жёны красавицу Марину. Он пока сдерживает себя. Но уже с усилием. А там... Horribile dictu[48].
Николай Олесницкий, староста малогосский, едучи в Московию в качестве первого посла, не поддавался на уговоры своего коллеги. Он ещё живо помнил скромного белокурого юношу с непокорными вихрами, которого видел в Кракове, с которым не раз беседовал и которого просто полюбил за смелость, настойчивость и здоровый ум. Иначе он не согласился бы ехать с таким королевским поручением.
— Полно вам, пан Александр, — успокаивал он коллегу. — В такие дни молодые люди забывают обо всём на свете. Вот вы сами разве не помните собственной свадьбы? Разве вы о чём-нибудь ином помышляли, кроме как о своей невесте?
Пан Гонсевский не желал слушать.
— Нечего сравнивать! — почти кричал он. — Ни я, ни вы не обладали такою властью. И никогда не будем обладать! Они принимают его за Бога! Уверяю вас! Он даровал своим подданным много свободы, это правда, но это свобода мышки в лапах у кота! Он волен в любое время сделать всё, что захочет, с любым своим подданным! Уверяю вас. Мне было страшно об этом говорить, но я уверен, что он обманывает нашего короля. Водит его за нос. Просто смешно слышать, что наш король всё ещё тешит себя надеждами, будто московский царь возвратит ему Смоленскую и Северскую земли. Никогда! Пока он обретался в Кракове, пока у него не было ни кола ни двора — он всего мог наобещать. По отчаянию, по неведению. Но это ведь всё равно как если бы влюблённый юноша пообещал девушке достать с неба звезду. Когда же московиты дали ему власть, когда они со слезами на глазах умоляли его возложить себе на голову царскую корону — он почувствовал в своих руках страшную силу над людьми. И свою зависимость от людей. И напрасно король напоминает ему о прежних обещаниях. «Не только Смоленска, но ни одной пяди русской земли никому не отдам!» — заявил царь своим подданным. И они с благоговением повторяют его слова. Они ещё сильнее его за это полюбят... Впрочем, он так же водит за нос и Папу Римского. И напрасно его святейшество посылает к нему отца Каспара Савицкого. Ничего не получится. Никаких уступок царь не сделает и для католической веры.
— Но, пан Александр, — перебивал его посол Олесницкий, — ведь правду говорят, будто московский царь тайно принял католическую веру? И будто крестил его не кто иной, как отец Каспар?
— Думаю, что правду, — после некоторого раздумья отвечал пан Гонсевский. — Но, повторяю, это не имеет уже никакого значения. Боюсь, приезд отца Каспара в Москву только разозлит царя напоминанием о том, о чём ему хочется забыть.
Пан Олесницкий наконец понял всю беспочвенность своих надежд.
— Знал бы я... Знал бы я...
— А тут ещё и упрямство нашего короля! — нагнетал опасения пан Александр. — Ни в какую не хочет называть московского правителя царём, точнее — императором даже, как тому очень хочется. Ведь московский царь даже в посланиях к Папе Римскому называет себя Demetrius imperator. Я говорил королю о том гневе, который московский царь обрушил на мою голову, да ничего не добился. В королевских грамотах снова стоят слова «великий князь московский».
— Знал бы я... Знал бы я... — повторял по-прежнему пан Олесницкий. — И всё же будем уповать на Бога! Женитьба делает с человеком чудеса!
— Король, быть может, и смягчил бы свои требования, — жаловался дальше пан Гонсевский, — если бы жив был канцлер Замойский. Замойский не хотел допускать ухудшения отношений с Московией. Но в инструкциях, написанных нам по велению канцлера Сапеги, не говорится о каких-либо возможных наших уступках. Король не хочет предпринимать чего-либо такого, что может лишний раз поссорить его с вельможами нашими. Потому что и так уже поговаривают у нас о новом рокоше. Далибуг!
— Это я тоже слышал, — подтвердил пан Олесницкий.
Так говорили между собою послы всё чаще по мере приближения к Москве.
А после того как пана Мнишека с толпою его ближайших родственников царь пригласил к себе для предварительных угощений и благодарений за тёплый приём, оказанный в Самборе, пан Олесницкий заметно ободрился и стал утешать себя и пана Гонсевского надеждами на заступничество пана Мнишека.
— Ну, тесть на зятя повлияет, коли что!
Пан Гонсевский оставался неутешным по-прежнему.
— Ой, нет, нет!.. Вот, думается мне, помочь нам мог бы Андрей Валигура... Вот на кого надеюсь... Его поскорее надо увидеть. Он на царя имеет сильное влияние. Ещё князь Константин Вишневецкий...
После отъезда пана Мнишека и послам настал черёд ехать в русскую столицу. Через Москву-реку они переправились по тому же мосту, по которому проехала свита Мнишека. Их встречали с подобными же почестями — стрельцы стояли по обеим сторонам улиц от Москвы-реки аж до Посольского двора.
А через несколько дней послам был назначен торжественный приём в Кремле, вместе с родственниками пана Мнишека.
Послы прибыли к указанному им времени, а свита пана Мнишека уже успела лицезреть царя, и пан Мартин Стадницкий, гофмейстер царской невесты, произнёс уже перед государем великолепную речь, на каковую ему с достоинством отвечал дьяк Афанасий Власьев. Затем все целовали царскую руку.
Послы, спешившись перед царским дворцом, уже своими ногами пересекали обширный двор, уставленный рядами чужеземных алебардщиков, которыми командовал полковник Яков Маржерет. Он знал обоих панов ещё по своей службе у польского короля. Он тоже слёз с коня, поздравил их со счастливым прибытием в Москву и проводил до самого высокого крыльца.
— А нельзя ли нам ещё до аудиенции встретиться с Андреем Валигурой? — осторожно поинтересовался пан Гонсевский.
Маржерет отрицательно покачал головою:
— Нет, Панове. Валигура послан государем в Елец. Уже давно. Он там готовит к походу войско. Конечно, на царской свадьбе ему положено быть. Да, видать, что-то случилось. Уж не болезнь ли? Больше ничего не знаю...
В самом дворце послы, как и предполагалось, как просили о том заранее, встретили пана Мнишека. Лицо старика сияло довольной улыбкой. Он чувствовал себя на седьмом небе. Но как только пан Мнишек увидел послов — так сразу лицо его приняло озадаченный вид. Он безнадёжно махнул рукою, наперёд зная, о чём его спросят. Потому что о королевских грамотах с ним говорили ещё по дороге к Красному, да и после Красного не раз заводили о том речь.
— Не знаю, не знаю, — сказал пан Мнишек. — Пусть вам Бог помогает. Да только помните, что это царь...
Послы переглянулись.
Но тут же их окружили бояре и повели в большую залу, стены которой сияли золотом, а посредине её высился серебристый царский трон. На нём, в белых одеждах, сидел царь. В почётном карауле при царе стояли румянощёкие юные рынды в белых меховых шапках, белых же одеждах и белых сапогах. Над головами у них сверкали золотым отливом и слегка покачивались огромные бердыши. В тёмно-малиновом бархатном кафтане, с золотыми накладками в виде замысловатых пышных цветов, высился рядом с троном рослый молодой боярин с русой бородкой и с обнажённым мечом в руках — мечник Скопин-Шуйский, царский любимец.
В руке у сидевшего на троне царя блистало золотое яблоко, так называемая «держава». Царь, голова которого была накрыта огромной золотой короной, уже знакомой пану Гонсевскому по первому приезду в Москву, смотрел на послов ободряющим взглядом. На весёлом лице его, которому он время от времени старался придать величественное выражение, играла постоянная улыбка.
— Послы его величества Сигизмунда, Божией милостью короля польского, великого князя литовского, — пан Николай Олесницкий и пан Александр Гонсевский бьют челом великому государю Димитрию Ивановичу, Божией милостью императору, великому князю всея Руси и всех татарских царств и всех иных подчинённых Московскому царству государств, государю, царю и хозяину!
Послы стояли плечо к плечу, так что пан Гонсевский прикосновением руки мог ободрить своего коллегу на подвиг, — что и было тотчас сделано.
— Его величество Сигизмунд, Божией милостью король польский, великий князь литовский, — торжественно выговаривал пан Олесницкий титулы своего государя, — посылает свои поздравления по случаю бракосочетания, просит принять заверения в братской любви и пожелания всякого счастья своему соседу — великому князю московскому Димитрию Ивановичу!
И тут послы с ужасом увидели, что царь, которого они по королевскому велению назвали всего лишь великим князем московским, совершенно не по-царски дёрнулся всем телом и уже подаёт знаки одному из бояр, чтобы тот приготовился освободить его голову от тяжёлой сверкающей короны!
Это могло означать лишь одно: царь решил отвечать послам лично.
И правда.
Едва пан Олесницкий закончил свою звонкую и пышную речь, едва он подал царскому секретарю Афанасию Власьеву привезённые королевские грамоты, едва тот подошёл к царю — и всё уже стало понятно. Как и можно было предполагать, царь отказывался принимать грамоты. И всё же: одно дело — предполагать, а совсем другое — видеть всё это воочию!
Послы снова переглянулись, ощущая на коже холод.
Ответная речь прозвучала пока из уст Афанасия Власьева.
— Послы его величества Сигизмунда, короля польского и великого князя литовского, — сказал во всеуслышание Афанасий Власьев, не без дрожи в голосе. — Вы привезли грамоты для какого-то князя всея Руси, но не для нашего царя императора. Отвезите эти грамоты и возвратите их его величеству королю польскому!
Пан Олесницкий уже успел прийти в себя.
Стараясь не обнаруживать своего волнения, пан Олесницкий принял из рук Власьева возвращённые грамоты.
— Эти грамоты, — сказал он, — которыми ваше величество пренебрегает, мы возвратим в целости нашему государю. Но мы обязаны напомнить вам, ваше величество, что это первый случай, когда нашему королю не оказывается должного почтения. Государю, власть которого признается во всём мире уже много столетий. Особенно прискорбно нам это видеть ещё и потому, что терпим это от вас, московского государя, который возвратил себе отцовскую царскую корону хоть и по воле Божией, но при помощи польского короля и польских рыцарей. Стало быть, своим отказом принять грамоты вы оскорбляете не только короля нашего, не только нас, его послов, но и весь народ польский и тех польских воинов, которые погибли за ваше дело, и тех, которые и сейчас вам верно служат! Впрочем, это сказано к слову. Мы же ничего более говорить не можем, но просим только предоставить нам возможность свободно возвратиться в пределы нашего государства.
Царь, уже давно готовый вступить в разговор, наконец-то решил высказаться.
— Не годится монарху, сидя на троне, — сказал он, — вступать в разговоры, поучать послов. Но это особый случай. Иначе не смог бы поступить сам Соломон велемудрый. Мы уже говорили королевскому послу, которого и сейчас видим в вашем посольстве, что не потерпим никакого умаления титула русского государя. Мы — император! Над нами нет никакой иной власти, кроме власти самого Бога! Все монархи признают за нами этот титул, и только король польский умаляет его. И, да видит Бог, вся вина падёт на короля польского, если между нами разгорится война!
Пан Олесницкий, бледнея лицом, счёл тоже нужным вступиться за своего государя.
— Послам, ваше величество, — сказал он, — тоже неприлично говорить о том, о чём им не поручено говорить. Но я обязан защищать своего государя и своё отечество, как воин защищает его оружием. А потому скажу вам вот что: наш король не называет вас императором потому, что никто из прежних польских королей не называл так ваших предков, и это можно доказать на основании сохранившихся документов и грамот. А если вы на том настаиваете, если вы уже требовали оного через своего посла и через королевского посланника, то вы ведь знаете: король у нас один не может того решить, без сейма, а новый сейм у нас ещё не скоро соберётся. Так что, ваше величество, совершенно несправедливо обвиняете вы нашего короля в том, будто бы он может стать причиною войны между нашими государствами. Повторяем, что сказано всё это нами просто по необходимости, хотя нам и не дано такой инструкции. А просим мы от вашего величества, повторяю, только одного: отпустить нас поскорее к нашему государю!
Царь уже не мог и не хотел сдерживать своего стремления говорить.
— Конечно, я мог бы доказать вам, послы польского короля, что это вовсе не так, стоит лишь заглянуть в старинные грамоты. Однако наше дело — приказать позаботиться о том думным боярам. Вам же скажу одно: уменьшая наш титул, король ваш оскорбляет не только нас, но и всё христианство, у которого принято именовать человека тем именем и званием, какое даровано ему Богом. Это грех большой. И мне прискорбно слышать, что польский государь, которого я объявил своим первым другом, для которого я хотел стать самым большим другом, какой только бывает на свете, — что этот король нисколько не ценит моей дружбы и что мне теперь приходится его даже остерегаться. Что он с удовольствием слушает людей, которые наговаривают на нас всякие небылицы. Мы знаем, что это за люди.
— Что же! — только вздохнул тяжело пан Олесницкий, показывая, как огорчили его и пана Гонсевского эти царские слова. — Это дело мы готовы рассудить с вашими думными боярами. Но мы горько сожалеем, что из-за этого казуса не можем сказать вам о прочих поручениях нашего государя. Отпустите нас, ваше величество!
— Нет! — вдруг как бы опомнился царь. — Так у нас с гостями не поступают, пан староста малогосский. Я помню, как вы участливо относились ко мне, сирому и бездомному, у себя на родине. Я хочу принять вас у себя как гостя, не как королевского посла.
При этих словах царя все в палате заметили, как побледнело лицо второго посла, пана Гонсевского. Он даже отступил на полшага от своего коллеги.
Но пан Олесницкий резко вскинул голову:
— Благодарю вас, ваше величество, за то, что вы не забыли обо мне как о свободном человеке, сыне своей страны. Но именно осознание этого и даёт мне силы, право и понимание, что подойти к вам сейчас как частный человек я не могу. Я состою на службе у короля. А король мой состоит на службе у государства. Следовательно, я выполняю сейчас долг перед своим государством!
Вся палата, включая самых важных бояр и духовенство, включая и Патриарха Игнатия, сидящего в высоком бархатном кресле тёмного цвета неподалёку от царского трона, — все затаили дыхание.
— Подойдите, пан староста малогосский! — уже с вызовом повторил царь.
— Нет! — оставался на своём месте посол. — Увольте меня, государь, и разрешите мне не делать ничего невозможного!
Кто-то в палате, не выдержав напряжения, громко ахнул. Кому-то, наверное, показалось, что сейчас может свершиться что-нибудь такое, что уже позабыто ныне живущими людьми, о чём ещё помнят разве что старейшие бояре, которых здесь уже насчитывается немного. У кого-нибудь появилось опасение, что царь не потерпит такой дерзости от чужеземного посла.
Однако царь взял себя в руки и вдруг попросил подобревшим голосом:
— Подойдите ко мне как посол!
В это первоначально не поверил сам пан Олесницкий. Однако он повернул лицо к царю, и привычная улыбка вдруг растянула его губы.
— Если возьмёте грамоту, ваше величество!
— Подходите!
Послы, оба одновременно, приблизились к трону.
И вот уже королевская грамота — в руках у Афанасия Власьева. И вот уже царь снова с сияющей короною на голове.
А речь вместо него снова держит Афанасий Власьев:
— Грамоты его величества Сигизмунда, Божией милостью короля польского и великого князя литовского, к нашему государю Димитрию Ивановичу писаны с умалением титула нашего государя. Однако государь принимает их в виде исключения по причине великого торжества — бракосочетания его с панной Мариной Мнишек, дочерью сандомирского воеводы Юрия Мнишека, а заодно принимает он и послов его королевского величества. Его императорское величество Димитрий Иванович приказал, однако, настаивать на том, чтобы вы, послы, напомнили своему государю: впредь пусть он пишет грамоты с полным титулом нашего государя, потому что наш государь не примет грамот с каким бы то ни было умалением своего титула. А ещё вы можете сейчас рассказать о поручениях, с которыми прислал вас к нам его величество король польский.
Пан Олесницкий почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. Он почти с вызовом посмотрел на своего коллегу.
— Ваше величество, — обратился пан Олесницкий к царю, — ради обручения вашего с панною Мариною Мнишек, воеводянкою сандомирскою, направили вы своего посла Афанасия Ивановича Власьева. И на том обручении присутствовал король наш лично вместе с сыном своим Владиславом и сестрою своею, королевною шведскою Анною. Этим он выразил своё братское отношение к вам и желание всего польского государства пребывать в дружбе с государством русским. Теперь он отрядил нас, послов своих, чтобы мы присутствовали вместо него на бракосочетании вашего величества и тем самым знаменовали его братское расположение к вам, а также братское расположение всего польского государства к русскому государству.
Пан Гонсевский продолжил посольскую речь:
— Ваше величество, вы присылали своего посла Афанасия Власьева для объявления намерений противодействовать мусульманскому наступлению. А ещё был у короля ваш посланник Иван Безобразов с уведомлением, что скоро будет прислано вами в Краков нарочное многолюдное посольство для выработки общих взглядов на противодействие. Нашему государю, кроме того, известно, что ваше величество уже вплотную занялось подготовкой войны против врагов христианского мира. Но чтобы посольство ваше могло предложить нашему государю выработанные соглашения, необходимо нам предварительно переговорить с боярами, которых вы назначите, чтобы вы затем могли дать своим послам чёткие указания для подписания окончательного соглашения. Король наш желает поскорее дождаться свершения всего этого и умоляет Всевышнего Бога о благополучном исходе задуманного, о крепкой и вечной дружбе между вами обоими, помазанниками Божиими, а также между обоими народами, подчинёнными вам.
Царь внимательно выслушал посольские речи. И дальше всё пошло хорошо. Послы уже сидели на отведённых для них скамейках и уже спокойно слушали ответную речь из уст Афанасия Власьева.
— Его императорское величество, — раздавался спокойный голос, — очень благодарит своего приятеля Сигизмунда, Божией милостью короля польского и великого князя литовского, за позволение выехать за рубеж, данное им панне Марине Мнишек, и награждает за то послов его величества короля польского. А что касается государственных дел, о которых сказано послом Александром Гонсевским, то его императорское величество даст указания своим думным боярам переговорить с вами, послами его королевского величества.
После обмена дипломатическими вежливостями, после того как были представлены подарки московскому царю от послов короля польского, после целования послами и дворянами польскими царской руки, Афанасий Власьев торжественно объявил:
— За все труды ваши, послы его величества короля польского, его императорское величество награждает вас своим обедом!
Это означало, что послы Олесницкий и Гонсевский со свитою могут отправляться на Посольский двор. Награда будет доставлена им туда.
А ещё это означало, что гроза миновала. Посольство завершилось мирно.
Пан Олесницкий подал свой голос лишь на пороге Посольского двора:
— А всё-таки женитьба очень важное дело! Кого хочешь проймёт.
Пан Гонсевский ничего не отвечал. Сам он чувствовал усталость во всём теле.
17
Для панны Марины всё здесь показалось интересным и удивительным.
Она несказанно обрадовалась, что наконец завершилось бесконечное утомительное путешествие, длившееся много недель. Конечно, ей было приятно осознавать себя центром всего, что она видела. Не говоря уже о тысячах людей, которые сопровождали её в путешествии, — так и все прочие люди в землях, по которым продвигался обоз, думали только о ней. Выразить своё восхищение её красотою стремились все. Особенно это стремление усилилось в московских землях. На неё смотрели уже как на царицу.
Путешествие проходило вроде бы по мокрым и холодным землям, но здесь, в Москве, всё оказалось иным. Здесь было много солнца, тепла, зелени. Много лучистых радостных глаз и сияющих счастьем лиц. Когда она сидела в карете, высланной навстречу женихом, то ей казалось просто невероятным, что в Москве могут случаться морозы, холода, что здесь, по снегу, бродят медведи, как о том говорили ей в Самборе, ещё в раннем детстве. Она уже не могла такому поверить.
Но так ей казалось в Москве только сначала.
До того, как очутилась в монастыре, под крылом своей будущей свекрови. Она боялась этой встречи. Она готовилась увидеть страшную женщину, которая хоть и приходилась матерью царевичу (уже царю!) Димитрию, однако была супругою Ивана Грозного, чьё имя когда-то чудилось Марине страшнее имени сказочного людоеда. А в Вознесенском монастыре её встретила высокая женщина с такими пронзительно синими глазами на тёмном измождённом лице, что она чуть не вскрикнула, завидев это сочетание тёмной кожи и голубого ласкового света.
«Дитятко моё!» — сказала высокая женщина и залилась слезами.
И тогда панна Марина сразу поняла, что это и есть её свекровь.
Свидание длилось совсем недолго. Матушку Марфу, как называли царственную женщину, тут же увели, и панну Марину поместили в роскошных палатах, наполненных сиянием свечей и увешанных ликами святых. Все святые на стенах выглядели необыкновенно суровыми, даже изображения Иисуса Христа и Божией Матери смутили панну Марину именно этой суровостью. Их-то взгляды пронизывали её насквозь, и ей казалось, что спроси её сейчас о самой мельчайшей тайне, о самой грешной мысли, которая когда-либо шевельнулась в сознании, — и она всё непременно раскроет, как будто уже душа предстала перед взглядом Господа на страшном суде.
Только никто её ни о каких грехах не спрашивал. Пожалуй, подумалось ей, эти люди вообще не подозревают, что у неё тоже могут быть какие-нибудь грехи. Она для них — существо высшего порядка. Она для них — святая, да простит Господь.
А затем ей стало страшно. К ней, естественно, не пустили её духовника. Возле неё в монастырских московских стенах оставались только немногие спутницы, а ещё служанки.
Правда, в этих стенах она впервые после длительной, почти двухлетней, разлуки увидела своего жениха. Увидела и радостно удивилась, просто захлебнулась от удивления: ему так шло московское убранство!
Жених показался высоким, выше, чем был в Самборе, но исхудавшим и озабоченным. И это было понятно. На его плечах теперь московская держава. За его спиною — трудный поход, война, осада крепостей, сражения, хитрость и коварство бояр, о чём он намекал ей в своих письмах. И всё же он победил. Он нисколько не лгал, не переоценивал себя, когда говорил с нею в самборском саду. «Я докажу тебе, кохана, что я достоин твоей любви! Ты увидишь! Ты будешь гордиться мною!» И теперь она понимала: уже одна царская корона на его голове оправдывает все его обещания.
Когда-то она даже мечтала о монастырской жизни. О том однажды высказалась вслух перед царевичем в самборском саду. Впрочем, упомянула о подобном ещё в Вишневце, у сестры, у князя Константина Вишневецкого. Перед нею тогда маячил пример старшей сестры Христины, монашки-кармелитки. Она видела её благостное лицо. Она угадывала мысли, направленные только к Небу, только к Богу. Она понимала рассказы Христины о загадочных снах. Она навсегда запомнила слова отца о старшей дочери. Отец говорил о Христине с большим почтением. Многие надежды возлагал он именно на заступничество перед Богом старшей дочери. Ей же, Марине, казалось, что с этим заступничеством отец связывает удачное замужество Урсулы за князем Константином Вишневецким. Теперь же старый отец просто уверен в необычной роли старшей дочери. Более того, отец возлагал надежды на молитвы Христины, когда его грызли сомнения относительно судьбы её, Марины. Когда он в мрачном настроении возвратился из-под Новгорода-Северского. Когда над ним глумились, как он сам говорил, на сейме.
Да, жизнь в монастыре представлялась Марине когда-то счастливым выбором. Но сейчас перед нею был монастырь московский, православный, как оказалось — незнакомый. В Самборе она без особого понимания думала о православной вере, православных храмах, которые видела и большинство которых стояло если не в запустении, то не в таком виде, чтобы они могли похвастаться богатством или ухоженностью. В конце концов, православная вера, полагала она, — это вера в того же Бога, того же Иисуса, в ту же Божию матерь. Но только это вера простых людей, преимущественно бедных, занятых мыслями о том, как обеспечить себя и своих детей хлебом. Это вера людей, решила она, не доросших до понимания истинного Бога. Однако здесь, в московских землях — да ещё по мере продвижения к Москве, а особенно в самой Москве, при виде богатых соборов и церквей, под мощный колокольный звон, — она явственно поняла, что заблуждалась. Что её сознательно вводили в заблуждение. Эта вера очень глубоко проникла в сознание московитов. И догматы её нисколько не уступают вере католической вообще.
Ей хотелось об этом услышать чьё-то серьёзное мнение, но ей не разрешалось никуда выходить, даже к отцу. Правда, суждения отца о таких вопросах, как вера, её не очень удовлетворили бы, она знала. Но всё же... Она хотела послушать жениха, а он здесь не задерживался. Он только сказал при первой встрече, что глядел на неё из толпы, где находился инкогнито, будучи одетым простым дворянином. Возможно, она приметила яркий красный кафтан на одном из всадников, глаза которого были прикрыты шапкой, а конь был весь белый, а сбруя на нём — золотая? Он ещё положил на её карету охапку огненных цветов. Неужели она не догадалась? Неужели такую дерзость допустила бы стража? От этого признания она вспыхнула огнём. Она действительно всё это видела. Она тогда ощутила какое-то беспокойство в душе, но вовсе не радость. И не было у неё предчувствия, что это он находится рядом. Однако она не призналась в том, а с милою улыбкою подтвердила предположения жениха. Дескать, она догадывалась. Это почувствовало её сердце.
И царь тут же удалился.
Так требовали приличия.
От него только раз за разом приносили подарки.
Он думал о ней беспрестанно.
А поговорить было не с кем. Потому что шляхтянки из свиты, которым разрешили поселиться вместе с нею в монастыре, были твёрдо уверены, что несут страшное наказание за какие-то грехи. И даже прежняя зависть, которую можно было прочесть у них на лицах уже давно, начиная от Самбора, теперь потихонечку начала сменяться жалостью к ней, Марине. Ей теперь, дескать, до конца своих дней придётся томиться в чужой стране, молиться Богу не совсем так, как научена она была в своей земле. Они со слезами на глазах отпрашивались в гости к тем шляхтянкам, которым не надо было томиться в Вознесенском женском монастыре, но которые могли ежедневно слушать католическую костёльную службу.
Конечно, панна Марина внешне ничем не выдавала своего невольного страха. Она смеялась над их страхами, насколько дозволяют смеяться приличия.
А они видели, что стоит ей лишь шевельнуть пальцем, как малейшее её желание становится законом. К примеру, она никак не могла привыкнуть к московским острым блюдам, которые в большинстве своём были перенасыщены луком и чесноком, а что касается всего печёного — тесто готовилось в пресном виде, без соли. Стоило ей намекнуть о том царю — и прямо в монастырь прислали польского повара, которому были отданы ключи от кладовых, которому придали целый сонм помощников, и он начал готовить для неё и её свиты всё то, чем они тешили себя на родине. Стоило только намекнуть при встрече с женихом, что её невольно угнетает здешняя тишина, — и тут же в монастырь, в её покои, были присланы польские музыканты, даже с весёлым шутом-итальянцем Антонио Риати. Уже одним своим присутствием эти люди, не говоря о весёлой музыке, наверняка смутили обитательниц древней обители. Однако каждое подобное замечание вызывало со стороны жениха желание задобрить невесту, заставить забыть причинённое неудобство, загладить его. Панне Марине приносили столько дорогих подарков, что она не знала, куда их девать. Она раздавала их своим компаньонкам.
Говорили ей, что царь по-прежнему одаривает её отца. Он подарил ему чудесные сани, наполненные золотыми монетами и обитые серебром, увешанные собольими мехами. На этих санях, объяснили ей, запряжённых чудесным конём, тоже царским подарком, пан воевода поедет в царский дворец в день венчания царя.
— На санях? — удивилась панна Марина. — Летом?
Она приняла всё за шутку.
— Таковы обычаи, ваше величество, — отвечали ей. — То ли ещё в Москве увидите!.. Государь и не такие подарки вам приготовил.
И правда. Накануне дня венчания, во время короткого свидания в монастыре, царь-жених сообщил, что решил он сделать для неё самый главный подарок: её венчают на царство!
— Ещё до того, моя кохана, как ты будешь обвенчана со мною!
Это было сказано многозначительно, но быстро. Она не успела ничего ответить, ни о чём спросить.
В ту же ночь, при свете факелов, её перевезли во дворец, который, сказали ей, уже давно выстроен специально для неё. Пока везли, она видела по обеим сторонам от кареты только одинаковые усатые и бородатые лица московских стрельцов и чужеземных воинов, находящихся на службе у царя. Но во дворце она встретила уже отца, брата, своего гофмейстера Стадницкого, своих придворных дам — всех, всех.
Улучив момент, она сказала отцу об обещании жениха венчать её на царство.
Отец побледнел и стал молиться куда-то в угол, где висели православные образа.
— Господи! — шептали его губы под вздрагивающими усами. — Не оставляй нас своею ласкою! Господи! Ведёшь ты нас по пути к счастью, так доведи до цели!
И вторую ночь панна Марина не могла уснуть.
Что говорить, ей очень понравились весёлые покои в новом дворце, сооружённом для неё и соединённом с похожим дворцом жениха крытым прекрасным переходом. Дворец Димитрия она видела в огромное окно, где было больше прозрачных стёкол, нежели цветных, как то принято у неё на родине, в Самборе. Её дворец даже внешне совершенно не походил на прочие московские сооружения. И конечно, его нельзя было сравнить ни с чем подобным, находясь внутри него. Во всяком случае, нельзя было сравнить с покоями Вознесенского монастыря. Ясно, это было временное жилище. Пока в Кремле не появится новый царский дворец — каменный, огромный и пышный. Так объяснил ей сам царь. Глаза его при этом разговоре мечтательно округлялись и светились голубым огнём. Он был весь переполнен любовью.
Глядя на него, она понимала, что неясное чувство, которое она носила в себе уже давно, уже почти два года, которое она оправдывала первоначально искренней верой в Бога, подчинением судьбе, теперь можно смело назвать любовью. Она полюбила. Она полюбила своего жениха за его неожиданную и крепкую, всё возрастающую любовь к ней. Она порою сама удивлялась, что теперь уже никак не может слить в одно целое образ молодого царевича, которого впервые увидела в Вишневце, с образом московского царя, существа вообще сказочного, непонятного, но зримо явившегося к ней в монастырь в сверкающих пышных одеждах, в сопровождении многих бояр в высоких красивых шапках. Если тогда, в Вишневце, ей было приятней слышать его речи с закрытыми глазами, то сейчас она наслаждалась не только его голосом, но и всем его обликом, его сверкающими голубыми глазами, его быстрой порывистой фигурой, его упрямыми светло-жёлтыми волосами, которые не гнулись даже под тяжестью короны.
Конечно, её почти заставили улечься в постель накануне такого торжественного дня; ей объяснили, какие ответственные дела ждут её завтра.
Она лежала с закрытыми глазами, иногда до её слуха доносились отчётливые окрики стражи; и хотя спальня её была окружена плотными занавесками, хотя кровать её находилась в полной темноте, если не считать едва пробивавшихся сквозь щели огней светильников, однако она безошибочно ощутила, что над Москвою уже занимается новый день.
— Доброе утро, ваше величество! — сказала ей пани Тарлова как никогда торжественным голосом, выставляя своё тоже утомлённое напряжением и бессонницей лицо.
Её долго и тщательно, как будто впервые в жизни, мыли, поливая водою из разноцветных огромных кувшинов, да ещё приговаривая при том не совсем понятные для неё слова-заклинания: от дурного глаза, от злого человека, от злой судьбы.
Затем её бесстыже осматривали какие-то женщины с почерневшими от старости лицами и с твёрдыми, будто железными, пальцами. После того её тело растирали благовониями, от которых у неё кружилась голова, а тело наполнялось сладкой истомой. Затем одевали.
Она уже перестала отдавать себе отчёт о том, что с нею творится, а когда наконец оказалась перед зеркалами, привезёнными из Кракова, то оттуда на неё глянула совсем незнакомая ей красавица, и она, поняв, что оценивает саму себя, удивилась, до чего же она сейчас, здесь, в московском дворце, не похожа на ту юную невесту, которую видела зимою в зеркалах в Кракове, перед обручением в доме Фирлея, где царевича представлял его посол Афанасий Власьев. Перед нею сейчас стояла красавица в алом бархатном сарафане, из-под которого выглядывали широкие рукава белоснежной рубахи. Впрочем, всё это было так густо покрыто драгоценными украшениями, что и цвет сарафана не сразу можно было различить. Она показалась сама себе очень высокой, потому что на ногах имела сафьяновые сапожки на очень высоких, как котурны, каблуках, а на голове у неё сверкал алмазный венец.
Она себя узнавала с трудом, но сама себе понравилась. Именно так должна выглядеть царская невеста!
В таком виде её проводили в трапезную, где при входе её благословил какой-то очень важный московский поп, и усадили за стол, на котором высился румяный хлеб-каравай. Она уже знала, что свадьба будет совершаться по русским обычаям, а потому очень обрадовалась, увидев в трапезной отца и двух панов Тарлов. Отец выглядел удручённым. Он успел шепнуть ей, что с ним произошло нечто таинственное и подозрительное. Когда он ехал сюда на подаренных царём праздничных санях, то запряжённый в эти сани белый царский конь споткнулся на ровном месте и упал при всём народе.
— Плохая примета, доченька, — повторил старик несколько раз, стараясь всё же внешне ничем не выдавать своей тревоги, наоборот — старался всячески показать, как он счастлив, весел и бесшабашен.
Панна Марина не придавала приметам особого значения, а тем более сегодня. Цепким взором она выделила среди прочих гостей в трапезной ещё князя Дмитрия Ивановича Шуйского и двух пожилых бояр Нагих — они приходились жениху дядьями. Все они, будучи дружками жениха, вместе с паном Тарлом сверкающими ножами принялись резать свадебный каравай, действительно весело и беззаботно при том смеясь.
Спокойствие дружек уже начало переходить и на невесту, но тут все в палате на мгновение замерли и стихли, потому что на пороге, вслед за другим князем Шуйским, Василием Ивановичем, показался сам царь-жених. Василий Иванович Шуйский, знала панна Марина, назначен главным распорядителем на свадьбе — тысяцким.
Жених был в царском венце и в длинной малиновой мантии, усыпанной, как и наряд невесты, драгоценными камнями. Из-под мантии выглядывали только носки ярко-красных сафьяновых сапог.
— Василий Иванович! — сказал жених, глядя при этом на невесту и обвораживая её сиянием своих голубых глаз. — Ты не мешкай. Ты подгоняй нас, потому что у нас сегодня не только свадьба. Ты ведь сам знаешь.
Князь Шуйский, петушась и радуясь, как молодой парнишка, желающий казаться взрослым и очень хозяйственным, не заставил царя повторять сказанное.
— Не беспокойся, государь! Мы сейчас всё провернём!
Жених был тотчас усажен возле невесты, под пение весёлых песен и под разные складные слова, которые сыпались из лукавых уст собравшихся людей так обильно, словно здесь разыгрывалась какая-нибудь пиеса, из тех, какие панне Марине приходилось видеть в отцовском замке. Однако здесь она уже почти ничего не понимала, потому что у неё закружилась голова от коловращения ярких красок, от мощных звуков. Она ухватилась за руку жениха, такую спасительную, и не отрывалась от неё. И её даже не удивило то, что здесь, в трапезной, она снова была обручена, причём уже с настоящим суженым, настоящим женихом. Обручена, правда, на православный лад. Это её нисколько не смутило. Она над этим не раздумывала, хотя заметила, как вытянулось во время нового обручения лицо её старого отца.
— Счастья! Счастья! — раздавалось вокруг, и это слово она только и понимала, а больше ничего не понимала и не старалась понимать.
Из трапезной молодых повели по красным пушистым коврам в Грановитую палату, как сказал ей на ухо жених, сам отчего-то невольно поддающийся её волнению. Их сопровождали высокие, стройные рынды в белых одеждах на соболях, в высоких шапках и с серебряными топорами на плечах. Следом за молодыми красивый боярин нёс сверкающий острый меч. Ещё один такой же боярин нёс царский скипетр, а ещё один, которого панна Марина знала уже по прозвищу. — Басманов! — нёс в руках золотое яблоко, символизирующее в Московии державную власть, так называемую державу.
В Грановитой палате царь оставил на время руку невесты и уселся на золотой престол, рядом с которым высился ещё один престол, точно такой же, но сделанный из серебра.
Тысяцкий — князь Шуйский жестом остановил царскую невесту и произнёс довольно длинную речь, раболепно глядя ей в глаза. Но из всего сказанного она поняла только то, что боярин называет её русскою императрицею и великою княгинею всея Руси, что по желанию её будущего супруга сейчас она будет повенчана на русское царство, равно как это уже сделано с её будущим супругом.
После такой речи священник благословил её крестом, а отец и княгиня Мстиславская, молодая и весьма красивая женщина, взяли её под руки и усадили рядом с царём.
— Не бойся, матушка-царица! — ободрила её с лёгкой улыбкою княгиня Мстиславская. — Так надо... Я сама недавно замуж вышла...
И тут же в палате появились родственники невесты и королевские послы пан Олесницкий и пан Гонсевский. Вошедшие становились свидетелями её нового триумфа.
Все в палате обратили взоры на принесённую царскую корону. Она лежала на широком блюде, ряде с золотым крестом и диадемой. Ко всем принесённым священным предметам царь приложился устами и жестом пригласил проделать то же самое и её, Марину. Затем, когда всё это унесли, царь снова взял невесту за руку и направился с нею в храм, который, как он успел шепнуть, носит название Успенский собор. У неё окончательно потеплело на сердце: она хорошо знала, что там венчаются цари. Она шла по коврам. Царя вёл под руку её отец, она же опиралась на руку молодой княгини Мстиславской. По обеим сторонам от красной дорожки высились стенами стрельцы и чужеземные воины, сверкающие медью. А вслед за женихом и невестою двигались русские бояре и польские гости, прибывшие со свадебным обозом.
Непрерывно гудели колокола.
В Успенском соборе их встретило многоголосое красивое пение, которое она уже знала и в котором отчётливо слышались слова «Многая лета!». Как и царевич, она приложилась к иконам. До них дотянуться было не так просто — ради этого бойкие слуги ловко подставляли ей под ноги скамеечку. Затем их подвели к важному седому священнику (она тут же догадалась, что это и есть православный Патриарх Игнатий), и этот старик в сияющих золотых одеждах и в таком же головном уборе, встав со своего кресла и благословив их обоих, повёл их на возвышенное место, расположенное посредине собора, ради чего преодолел вместе с ними не менее десяти ступеней. На вершине помоста стоял новый царский трон, весь из драгоценных камней.
Патриарх выслушал обращённую к нему речь царя, в которой было высказано пожелание, чтобы супруга царя была коронована на царство, и отвечал на это желание вполне одобрительно. В ответ на высказанные просьбы он усадил царя на трон, а невесту его на престол из золота. Беря по очереди подносимые ему знаки царской власти, которые панна Марина уже видела в Грановитой палате, Патриарх давал их поцеловать, а затем с молитвами возлагал их на неё. Так поступил он с бармами, крестом, короной.
Слёзы застилали лицо панны Марины, однако она различала всех и всё вокруг. Более того, ей казалось, что она видит огромное пространство, раскинувшееся за Москвою вплоть до Самбора, до Днестра и Карпатских гор. Она видела даже Краков. И Краков, который прежде казался ей неизмеримо огромным, проигрывал сравнение с Москвою, в которой она теперь была повенчана на трон!
Она была в царской короне!
Она обладала властью, и такая власть не могла и сниться тем людям, которых она прежде знала.
А потому венчание с московским царём, совершенное вслед за венчанием на царство, уже не вызывало ожидаемого восторга.
18
— Ну, брат Василий Иванович, — говорил растроганный царь, — сослужил ты мне службу верную. Никогда не забуду! Одно у меня теперь на уме — как наградить тебя достойно! Да я из любого затруднения выходил. Дай Бог теперь только турок побить. А там... Тридцать четыре года сулят мне знахари царствовать! Вона! Представляешь? Турок я побью! Есть у меня Басманов. Есть у меня Андрей Валигура. Есть и ты...
Князь Шуйский земно кланялся, теребя бороду, по которой за эти дни стекало столько крепчайших царских медов, отговаривался, как положено:
— Это и есть для меня сейчас самая большая награда, государь, увидеть твою радость неподдельную. Да пошлёт тебе Господь царствование по твоим заслугам! Да очистит Всевышний нашу землю Русскую от всего лихого и недоброго! Побей, побей турок! — и клал поклоны перед святыми образами. А у самого голова кружилась и образы двоились. И множество глаз устремлялось на него с укором и с ободрением, по-разному.
— Отдохни теперь, Василий Иванович! — безо всякой усталости продолжал твердить царь. Он заглядывал уже в грядущую осень, видел, как войско возвращается из похода. Он уже всё видел. — А там и твою свадьбу сыграем! И будет у меня возможность тебя отблагодарить!
— Что я, что я, государь? — трепетал голос у князя Шуйского.
А в груди — пело.
Несмотря на усталость.
Вроде бы уже плохо соображал Василий Иванович, где он находится, что перед ним, кто перед ним. Потому что бесконечными казались эти свадебные пиры. И уже сам государь счастливый двоился, троился от своих бесконечных переодеваний (словно скоморох какой, прости Господи!). То в виде русского удалого молодца предстанет перед удивлёнными гостями, да ещё пройдёт перед ними в таком танце, словно вихри пронеслись. То уже он в польском гусарском платье, ловкий, неудержимый. А то предстанет вдруг знатным заморским господином. А то снова обернётся московским недоступным государем с высокой короной на голове и с усыпанными драгоценностями одеждами. То в одном дворце даётся пир для бояр да дворян, то в другом, где уже только ляхи гуляют, где ни одного дворянина и боярина, кажется, не увидишь, кроме вездесущего Петрушки Басманова, во всём подражающего своему царю. (А вот Андрея Валигуры, слава те Господи, так и не видно. Не прибыл. Говорят, болеет. Хе-хе. Отец Варлаам своё дело туго знает...) Зато на каждом пиру приходилось теперь присутствовать князю Шуйскому как тысяцкому. Оно и неплохо. Всё усмотрел.
— Отдохни теперь, друг мой Василий Иванович! — повторил царь, загораясь уже новыми мыслями. — Потому что впереди у нас с тобою новое гулянье! Хочу, чтобы мою свадьбу стар и млад навсегда запомнили. Хочу приучить моих подданных к новым для них увеселениям! Увидишь, что будет в воскресенье! За Сретенскими воротами уже возводят потешную крепость! Потешатся наши молодцы. Покажут свою удаль перед настоящими сражениями. Да и сам я, клянусь Богом, в стороне не останусь! Сила из меня так и прёт! Так и хочется мне сражаться, танцевать, делать что-то! Чтобы дым коромыслом!
Вся Москва в эти буйные дни переполнялась людом. Земля, кажется, прогибалась под тяжестью сытых да пьяных тел.
А что уж говорить об усадьбе Василия Ивановича! Столпотворение, да и только. Из дальних вотчин целыми днями прибывали обозы. И было дано в вотчины такое указание, чтобы никому не чинились препоны, буде кто возгорится желанием поглазеть на царскую свадьбу, и даже способствовать всякому в подобной поездке. Скажем, предоставив ему место в обозе, на боярской подводе, если у него собственного коня не имеется.
И таких охочих сыскалось без счёту.
Потому что всем ведомо: в Москве будут щедрые угощения от царя.
А князь свой умысел лелеял, отдавая подобные приказания. Чем больше наберётся в Москве под рукою верных холопов — тем оно надёжнее в решительное время. А решительное время наступит. Должно наступить.
Едучи от Кремля до своей усадьбы, обозревал князь Василий Иванович загулявшую Москву.
Угощения народу выставлялись прямо на площадях, перед царскими кабаками, корчмами, при церковных папертях да перед монастырскими воротами. И всякого вида убогий люд — калеки, оборванцы в пёстрых лохмотьях набивали себе животы дармовою едой и запивали дармовою же брагою. И накопилось уже много таких, кто в эти дни и не утруждал себя даже удалением от сытных мест. Опростав чару, закусив, утёршись рукавом, они не спеша отходили в призаборные лопухи, пробирались, протискивались, если ещё хватало сил, сквозь отверстия в этих заборах в сами сады, укладывались там в подходящих местах и храпели, пока новые приступы голода и жажды не заставляли их опять воспользоваться дармовыми харчами. Были и такие, кому хмель не давал покоя, — такие бродили по улицам в поисках приключений. Такие торчали возле подворья, где остановились люди князя Константина Вишневецкого, в Китай-городе, где получили пристанище паны Стадницкие, Тарлы и прочие. При малейшей возможности, и даже без неё, паны ляхи старались показать, что они птицы высокого полёта, не чета, дескать, московитам, неучам и пьяницам. А ещё — что сам царь их любит и уважает больше, нежели своих подданных. Догадывался князь Шуйский, да и сам видел не раз, как возникают из-за этого ссоры, драки. Правда, стрельцы пока справлялись, наводили порядок. Удерживали тех и других от буйства. Но Василий Иванович уже не единожды слышал доклады Басманова, а то и полковника Якова Маржерета, что с каждым днём труднее становится утихомиривать буйство на улицах.
«Не так ещё паны, ваше величество, — убеждал Басманов, — как их челядь, чернь. Пустились в чужом городе во все тяжкие, греха не боятся! Особенно много таких вокруг князя Константина Вишневецкого!»
Василий Иванович слушал это, вздыхал для виду, а втайне радовался. У москвичей уже крепко чешутся руки на этих нахалов-пришельцев. А ещё сказано кому следует, чтобы правильные слухи об этих бесчинствах распространяли. Дай только клич... И не допусти, Господи, чтобы сам царь догадался кликнуть этот клич. Тогда всё пропало. На всех боярах грех тогда останется. А на Шуйских — в первую очередь...
Глядя на гуляющий люд, князь останавливал своего возницу. Спускался на землю, прислушивался, присматривался. Как ни крути, получалось, народ московский вроде очень даже доволен царём. Народ не видел прежних царей вблизи. Народ не может оценить правильно царских поступков. Народу всё надо разъяснять. Да ещё правильно разъяснять.
И лёгкая тревога пробирала князя. И приходило решение, что очень даже просто можно упустить подходящий момент. А тогда...
В народе, слышно было, говорили о новых угощениях и подарках, о новых увеселениях. Говорили о том, что готовится за Сретенскими воротами. Говорили о новых послаблениях для простого народа, о новых вольностях для него. Хотя, по правде сказать, о каких ещё послаблениях можно говорить? Что делать мужику уже с тем, что ему предоставлено?
Тревога князя усиливалась.
И казалось, будто худо стараются те, кому велено было сеять в народе «настоящие» новости.
И томило уже сомнение: да возможно ли такое? Да успеется ли? Не придётся ли ещё раз класть на плаху голову? Не возвратится ли некстати Андрей Валигура? (А есть такое подозрение. Пришла вроде бы царю такая весточка из Ельца!)
— Нет! — ударил князь кулаком о дверцу возка. — Хитростью надо брать! Да. — И закричал: — Пошёл быстрее!
С такими мыслями оказался он у себя на подворье.
А вечером того же дня Василий Иванович, вопреки всем предположениям царя, а тем паче предположениям Басманова, вовсе не спал. С наступлением сумерек во дворце у него собралось очень много гостей, но это никому не бросалось в глаза и никого не настораживало. Так было по всей Москве. По всем московским дворам, особенно по боярским.
Василий Иванович отлежался малость в горнице у Прасковьюшки, на её мягких подушках. Прасковьюшка о чём ни заговаривала, а всё поворачивала на предстоящую женитьбу, и голос её при этом вздрагивал и лицо дурнело и старилось, так что князь хотя и утешал её для виду, а всё же невольно подумывал: молодая княгинюшка Буйносова-Ростовская, с тугими щёчками, будет куда приятнее, нежели привычная, уже рыхлеющая Прасковьюшка, которую и перед народом-то не выставишь, а вечно с нею таись.
Прасковьюшка, правда, расспрашивала князя о царской свадьбе, надеясь услышать нужное ей, да только не удовлетворяло её услышанное.
— Князюшка, — сказала, ласкаясь, — дозволь посмотреть сегодня на твоих гостей.
Князя это вначале задело. Вроде бы подсказал кто: «Не доверяй бабе! Дело тайное!» Да тут же сам над собою посмеялся. Остерегаться Прасковьюшки? Бабье любопытство. Что ей остаётся делать? Пусть зырит из потайной горенки. Так у царей было заведено. У Бориски — даже для дочери Ксении. Пусть зырит. А тайное... Для кого надо — тайною и останется.
— Смотри, да только не высовывайся!
— Князюшка, голубчик! — обхватила она враз руками его шею и расцеловала, наваливаясь горячей мягкой грудью, обволакивая тело, словно опарой. — Мне Варсонофий покажет, где стать!
Князь почувствовал себя разгорячённым, молодым, не хуже и не слабее царя-жениха. А потому явился собравшимся гостям как настоящий молодец (так ему казалось) и по-молодому, без постыдной вкрадчивости, начал речь, чувствуя на себе ободряющий взгляд Прасковьюшки из-за красной занавески в вышине. Указал ей место Варсонофий-проныра.
— Други мои! — воздел руки к внимающим в полумраке образам. — Люди московские!
Собравшиеся — а их в этот раз было куда больше, нежели в предыдущие дни, когда так же собирались — возбуждённо загудели:
— Давай, боярин!
— Надежда ты наша!
— Береги тебя Господь!
Кроме боярских лиц, ведомых всем москвичам, кроме духовных чинов, тоже ведомых, кроме дворянских сынов да торговых людей, собралось и много людей неизвестных, но сразу видно — ратных. Знать, решил князь тотчас, из войска они, которое стягивает к Ельцу расстрига-царь. Это хорошо.
— Други мои! — с новою силою повторил Василий Иванович. — Перед святыми ликами заклинаю вас: давайте в одно русло направим наши побуждения! Давайте отважимся и поправим дело. Потому что упустишь время — и не возвратишь его. Умоляю вас. Не переменил я мыслей своих, хотя многие из вас могли видеть, как помыкал расстрига мною в эти дни, словно холопом своим. Словно раб, укладывал я ему ногу на ногу! Чуть ли не сапоги заставлял он меня лизать, так что даже польские паны негодовали и плевались, глядя на это: до чего же мы бесправные по сравнению с ляхами! Правда, не ляшским панам нас судить-рядить, пускай они в своей земле со своим королём разбираются! А я, говорю вам, не переменил своих собственных мыслей: вор-расстрига сидит на московском троне и царскою короною свою голову накрывает! Казалось бы, о чём сожалеть? Он помог нам избавиться от другого вора, который гнул нас в бараний рог и жизни нам не давал из-за подозрительности своей. При этом царе мы вроде бы вздохнули посвободней. Возвратил он всех из ссылки: Романовых, Черкасских, Воротынских... Живи — не хочу. Да это только так кажется. А на самом деле попали мы из огня да в полымя. Потому что не русским духом дышит наш новый царь. Продаёт он нас ляхам в благодарность за их поддержку. Хотя наша поддержка помогла бы ему усесться на любой престол. А если бы мы этого не захотели, если бы воспротивились как следует да холопов своих подбили не пущать его к нам как Антихриста? То-то же. Так нет. Мы ему способствовали всячески, а он приказал привезти католичку, не крещённую в нашу веру, обвевался с нею, прельстясь её бесовскою красотою! Как будто у нас нету своих красавиц и по боярским дворам, и по княжеским! А теперь вводит ляхов в наши православные храмы. А они с саблями туда! Да! Ляхи над нами измываются. Посмотрите, что творится на московских улицах! Ляхи хвастаются тем, что это они, дескать, поставили нам, баранам, царя, так и нас подмять надумали. Вы сами видели, какие подарки получают ляхи от царя нашего! Какими подарками осыпал он свою невесту! Как одарил своего чужеземного тестя, простого воеводу сандомирского, которого бы я конюхом к себе не взял по причине его непригодности! А царь поселил его в Кремле, в бывшем дворце царском. Такими щедротами разоряется казна наша, которую по лепте собирали настоящие наши цари, которую скопил Иван Васильевич Грозный. И намерен расстрига сидеть на троне тридцать лет и четыре года — так пророчат ему предсказатели! А ещё собирается он в воскресенье вывезти пушки за город — и уже вывозит, все вы видели, — будто бы для потешной игры, как уже не раз им делалось. Но на самом деле не это им задумано. Доподлинно мне известно, выведал я... Хочет он ядрами положить на месте бояр да дворян московских. А затем прикончат уцелевших вооружённые ляхи. Потому что все вы видели: каждый лях привёз в своём возке по десятку ружей да сабель. Посмотрите хотя бы на людей князя Вишневецкого. Разорит расстрига окончательно нашу землю горемычную, лишит народ наш возможности молиться своему Богу. И тогда пришлёт король Жигимонт своё войско во главе с гетманом Жолкевским, как уже не раз грозился, и всё...
— Не приведи Господи! — закричали в полутёмном зале.
И тут кто-то из темноты крикнул:
— Василий Иванович! Да уверен ли ты, что это точно расстрига? Богдан Бельский говорит, будто это тот человек, которого он послал за границу, что это царевич! Как бы не ошибиться!
Голос этот утонул в криках. Голоса этого не желали слушать.
— Цыц!
— А ты говори, князь Василий!
— Говори, заступник наш!
Красная занавеска над головами людей от криков судорожно задвигалась, да только никто туда не глядел, кроме самого разве князя-боярина Шуйского, который метнул туда свой взор на одно лишь мгновение. Да там Варсонофий на страже.
Василий Иванович испугался было страшного вопроса, но ненадолго. Он взмахнул широким рукавом, чтобы утихомирить гостей.
— Что делать нам? — снова требовали ответа из зала.
— Что делать?
— Как спасти Русь?
— А вот как! — сказал Василий Иванович и снова метнул взгляд вверх, будто бы на лики святых, а в самом деле для того, чтобы удостовериться, слышит ли его и достойно ли оценивает прильнувшая к занавескам Прасковьюшка. — Вот что, други мои! Должны мы собраться с силами и в одну ночь убить его!
— Что? — ахнули. — Да какие же это силы надо собрать!
— Нет! — заорали. — Как?
— Быть такого не может!
Князь Шуйский иного ответа и ждать не мог. Только он всё уже обдумал.
— Если с умом приступить, то и силы большой не понадобится, а малой кровью пособим земле своей и принесём ей волю. Вы послушайте только. Ляхи живут беспечно, чувствуют себя свадебными гостями, ни о чём не подозревают. Они верят своему приятелю царю. А царь уверен, что народ его любит и что ему не следует ничего опасаться. Это, быть может, и похоже на правду. Да народ уже не прочь побить ляхов. И пока он не сделал такого по велению царя и тем самым окончательно не утвердил его на престоле — давайте опередим всех! Давайте прикончим царя в субботу. В субботу на рассвете ударит набатный колокол. А вы постарайтесь, чтобы накануне на каждом доме, где остановились ляхи, были поставлены знаки в виде креста. И чтобы на рассвете, при звоне колокола, везде раздавались крики: «Ляхи хотят царя нашего убить! Бейте ляхов!» Об остальном не заботьтесь.
Кто-то в зале ещё попытался возразить, что это всё-таки гости, да таким быстро горло заткнули:
— Гости! Какие такие гости?
— Мы их звали? Какие они нам гости!
Голос Шуйского пересилил все крики:
— Не забудьте колодников из тюрем выпустить! А когда народ бросится бить этих «гостей», то никто не сможет помешать нам прикончить расстригу в Кремле! Вот! Вы только крепко-накрепко запомните: другого такого случая Бог может и не послать нам из-за грехов наших!
Гул одобрения прошёл по всему пространству, от стен до стен.
— Присягаем на том!
— Присягаем! Не быть расстриге над нами господином!
— Присягаем!
Князь Шуйский поднял руки. Он ничего не боялся. Братья Димитрий да Иван стояли рядом с ним. Ещё — бояре Голицыны, Черкасские, многие.
19
Князь Константин Вишневецкий проснулся с окрепшим за ночь намерением непременно поговорить сегодня хотя бы с паном Мнишеком, чтобы при его содействии получить аудиенцию у царя.
Князь Вишневецкий даже в гостях не мог отделаться от своих привычек. В Москве, имея в Китай-городе для постоя подворье молдавского господарчика Стефана, которое из-за огромных своих размеров скорее напоминало собою настоящий небольшой удел, он не забывал перед сном повесить на видном месте в горнице саблю и положить заряженные пистолеты, не говоря уж о пике — она всегда стояла в углу горницы, не говоря о шпагах, прикрытых золотыми перевязями. Всё будет под руками в случае чего. Проснувшись, он непременно глядел на юг, благо туда выходили окна роскошно убранной горницы, служившей теперь для него опочивальней. И тут же прикасался руками к оружию.
А потом посмеивался над собою и дёргал красную верёвку, чтобы вызвать дремавших в передней казачков.
Взгляд его хотя и был направлен на юг, но непременно упирался в бревенчатые московские постройки, потемневшие от зимней непогоды. Теперь же над ними сияло чистое солнце. Осыпанные ярким светом казаки, в одних вышитых красных рубахах, расчёсывали конские влажные гривы, напевая песни. Казаки обыкновенно успевали уже возвратиться — кто с Москвы-реки, а кто с Неглинной, где сами вдоволь набарахтались в тёплой воде, напоили заодно коней и почистили им бока. Бег воды в московских реках напоминал казакам о родной земле. Отсюда и песни о чернобровой дивчине, которая ждёт суженого, уехавшего за Дунай.
Всё повторялось точно так же и сегодня. Уже в который раз.
— Сегодня я буду говорить с паном Мнишеком! — как заклинание произнёс князь Константин. И тут же приказал вбежавшему на зов казачку: — Узнай у пана Пеха, отправил ли он письмо пану Мнишеку!
Нельзя сказать, чтобы князь Константин не любил весёлых пиров. Под звон бокалов прошла его юность, исключая разве что годы обучения в иезуитских коллегиумах. Приобщение к лону Католической церкви ничего не переменило. Славянская натура всё пересилит и на всё наложит свой отпечаток, был уверен князь. Однако сейчас, в Москве, его уже начинало удручать затянувшееся до бесконечности веселье, тяготили пышные пиршества. Слов нет, это льстило. Всесильный московский царь теперь становится ему свояком! Их жёны — родные сёстры. Отправляясь в Москву и отдавая твёрдые наставления военачальникам в Каменце, князь Константин с полной уверенностью обнадёживал их: «Скоро Каменец наш станет самым безопасным местом. Мы отодвинем от него границы, если Бог поможет — то и за море!»
То же самое сообщил жене Урсуле, оставляя её в Вишневце. Она ждёт появления на свет ещё одного ребёнка, хорошо бы — сына. При расставании у неё были тревожные глаза. И он долго не мог забыть в дороге страдальческого выражения её лица.
Князь Константин намеревался присоединиться к свадебному обозу как можно раньше. Предполагал, что произойдёт это в Орше. А по пути завернул в Овруч, к тамошнему старосте, своему двоюродному брату князю Михаилу Вишневецкому, намереваясь и его прихватить с собою в Москву. То же самое, что и Урсуле, повторил ему, да только Михаил охладил настрой гостя:
— Ты, брат, поезжай пока один. Гуляй на свадьбе панны Марины, а я здесь на страже буду. Конечно, ты должен уважить тестя и поддержать его, понимаю. А насчёт Каменца — укреплять его надо всеми силами. Потому что в Москве кое у кого семь пятниц на неделе!
— К чему говоришь, брат? — опешил князь Константин.
— Ещё осенью побывал там брат Адам.
— Так он и сейчас со мною отправится, — напомнил князь Константин о предварительной договорённости с князем Адамом.
— Кто знает... Боюсь, что нет. Ему надо готовить войско к походу. Он пообещал в Москве поддержку своему бывшему гайдуку. Быть может, поход и начнётся. То как бы нам от того лиха не случилось.
— Что значит «кажется»? Этой надеждою полнятся степи за Каменцом. Все казаки говорят о стриженом тулупе, который послан из Москвы крымскому хану. Война обязательно будет. Андрей Валигура собирает в Ельце войско по указанию царя. Знаю. Обратного хода нет. Собак раздразнил — бежать нельзя.
— Вот я и говорю, — продолжал князь Михаил. — Войну легко начать. А дальше...
Одним словом, нагнал брат тревоги на брата. Надеялся князь Константин, что в Брагине ему станет легче. Что там всё прояснится.
И пан Пех поддерживал эту надежду. Потому что пан Пех прихватил с собою в дорогу достаточный запас бумаги и всего прочего для писания. Обещал: «Князь Константин! Буду писать анналы для истории. Начинается великая война против турок. Конечно, я не Тит Ливий, не Тацит. Но свою лепту в историю могу внести. А вы уж помогите. Допускайте меня, где только можете, присутствовать при разговорах всяких. И к царю московскому».
О царе московском — это ещё вилами на воде писано. Но при разговоре с князем Адамом пан Пех присутствовал и записывал что хотел.
— В Москву не заманишь, брат, — сразу заявил пан Адам и окутал себя дымом из трубки. — Был я там. Да не то увидел, что хотелось бы. Опасаюсь, как бы нам... Как бы не получилось того, о чём в народе про пана Заблоцкого толкуют: клал да клал он себе ночью новую печку, а как на небе день загорелся, так увидели соседи, что вместо печки у него крыльцо получилось!
Пан Пех писал торопливо, только усы над бумагою трепыхались.
Князь Константин заметил:
— Мудрено сказано.
— Что мудрёного? Он — сын Ивана Грозного. Яблоко от яблони недалеко падает, — отвечал князь Адам. — Боюсь, женитьба эта ему только руки развяжет. Вот как бы нам не пойти за шерстью, а стрижеными не возвратиться.
Любит князь Адам простонародные выражения. У пана Пеха от них глаза на лоб лезли.
— Ничего я в Москве не добился. Никаких уступок, — продолжал князь Адам. — Кроме заверений, что на мои земли не будет больше наездов московских. Что мы будем жить с ними в мире. В дружбе. Вот только это я и услышал... Что же, буду войско готовить. Война с турками должна быть, если... Если царю вожжа под хвост не попадёт!
Пан Пех при таких словах оказался в сильном затруднении. У него даже челюсть отвисла. Писать такое? Не писать? Потомки ведь не поверят.
Ехать пришлось в обществе одного пана Пеха аж до Орши. Обоз пана Мнишека удалось догнать недалеко от Вязьмы. Там отдыхали.
Приём в Москве получился, как и следовало ожидать, по-царски великолепным. Но не более того. Теперь всё отчётливее проясняется: променяли шило на мыло. Личной аудиенции у царя, для которой готовил бумаги неутомимый пан Пех, князю до сих пор получить не удалось. И пока не предвидится. Последняя надежда только на пана Мнишека. Потому что больше не на кого надеяться. Андрея Валигуры, или, как его здесь чаще называют, Великогорского, всё ещё нету в городе. А между тем многое говорит за то, что князь Адам недалёк от истины. Скажем, взять обращение царя с королевскими послами...
И что на это всё скажет старый князь Острожский? С каким негодованием, говорят, слушал он сообщения об успехах молодого царя в Москве. Страшно злился, узнав, что князья Вишневецкие готовы отправиться туда, к своему свояку и приятелю. Да, получалось, встреча с паном Мнишеком сейчас необходима. Как никогда.
Пан Пех познакомился с ротмистром Станиславом Боршей, от которого узнал, что тот описал весь поход царевича, от Самбора до Москвы. Пан Пех умолил ротмистра дать рукопись на несколько дней для ознакомления. Прочитал он её в княжеской горнице вслух в один из вечеров. У Борши всё сделано великолепно. Останется память для потомков. Говорят, сам царь уже ознакомился, обещает отдать на Печатный двор, что в Китай-городе. Но как бы там ни было с рукописями Станислава Борши, а своим примером ротмистр подтолкнул к действиям пана Пеха.
У пана Пеха уже много строчек накопилось. И даже вступление написал он весьма приятное. За душу берёт. По-латыни сочинил. А строй речи высокий. Прямо второй Матвей Меховский, епископ Краковский, с его трактатом «De duobus Sarmatiis»[49]. Возможно, подтолкнуло пана Пеха ещё и то, что один его брат родной погиб в схватке с татарами, а второй где-то в плену пропал. Когда пан Пех читает свои строки, то слышишь, как ветры гуляют по степям. Потому что одним ветрам только и не боязно так летать. Потому что, когда несётся татарская дикая конница, всё мертвеет. И плач, и стон громкий по земле христианской. И уже повели невольников в степи.
Потащили на арканах, со связанными руками. И страдают они, словно казак Байда Вишневецкий, княжеский предок, принявший мученическую смерть в Стамбуле. О нём теперь слепые лирники песни слагают.
«Пан Пех! — сказал как-то князь Константин. — Да вы перещеголяете Станислава Боршу!»
Пан Пех зарделся лёгким румянцем, понимая, что князь ни перед кем, стоящим над ним, не станет лукавить (впрочем, есть ли такие?), а уж тем более не станет он этого делать перед теми, кто ему служит.
«Я буду стараться, князь Константин!» — с учтивым поклоном пообещал пан Пех. И руки его торопливо застрочили, застрочили...
Сегодня пан Пех вошёл со своими бумагами, полагая, что для того и зван. И что вопрос о письме для пана Мнишека только предлог.
— Будет новый пир, пан Константин? — спросил пан Пех после приветствия. И сразу переменил весёлое настроение. — Сотник Данило Бевза хотел вручить письмо пану Мнишеку, пан Константин. Но это вроде и ни к чему. Потому что пан Мнишек уже здесь. Здесь он его прочитал.
— Как? — удивился князь Константин. — Он ждёт? Давно?
— Нет. Совсем недавно.
— Проси его скорее сюда.
Пан Мнишек уже знал о высоких побуждениях пана Пеха, отчего нисколько не удивился, заметив, что тот собирается присутствовать при их беседе с князем Константином. Однако пан Мнишек не поинтересовался на этот раз, пусть и в шутку, как идут у летописца дела. Так-то он любил поговорить о подобных занятиях, намекая, что и его писарь Стахур заболел писательством. Да только всё это, мол, почти игрушки по сравнению с тем, на что был способен московит Климура. У того был настоящий дар к писательству. Пусть и не без грехов был покойник, а всё же достоин похвалы.
На этот раз пан Мнишек сразу взял быка за рога.
— Пан Константин, — обратился он к князю. — Одна у меня сейчас надежда: на вас! Чувствую, вижу, знаю: в Москве вызрел заговор. Он разразится не сегодня завтра. Но его царское величество запретил мне даже упоминать о подобном. А что уж говорить о прочих людях. Кто осмелится ему противоречить?
Князю Константину оставалось горько улыбнуться.
— Гордыня обуяла человека, пан отец, как говорят московиты, — отвечал князь Константин. — Подобные опасения, какие мучат вас, заставили меня искать встречи с вами. Я же лично не могу даже получить у царя аудиенции. Не могу поведать ему, как необходимо сейчас срочно принять военные решения, поскольку хан крымский медлить не станет. О стриженом тулупе говорит вся степь. Нельзя продолжать эти бесконечные пиршества.
— Тише! Тише! Ради Бога — тише! — замахал руками пан Мнишек, оглядываясь на пана Пеха. — Только этого сейчас не говорите его величеству!
— А что?
— Да хуже будет! Я его сам сейчас не узнаю. Не всегда узнаю.
После долгих сетований, недоумений, споров остановились на одном: придётся дожидаться Андрея Валигуры.
Пан Мнишек, пожалуй, уходил ещё в большем замешательстве, нежели явился сюда.
А князь Константин в тот же день, почти сразу после отбытия пана Мнишека, обошёл подворье, где получил постой, да и не только его, но и соседние строения, и примыкающие улицы. Он оценивал всё глазами военного человека, которому, быть может, придётся пробиваться со своими людьми к Кремлю, на помощь шурину и тестю.
Пан Пех ходил за ним и всё выслушивал.
Казаки и гусары ничего опасного не подозревали. Выезжали коней, упражнялись в рубке лозы.
20
Басманов с нетерпением ждал возвращения в Москву Андрея Валигуры.
Свои надежды боярин возлагал теперь только на молодого царского дружка. Потому что чувствовал опасность, а воздействовать на царя не мог. И томился тем.
А царь обнадёживал его невольно.
— Видишь, Пётр Фёдорович, — показывал он недавно разорванный по живому свиток, — вот его послание. Крепко болел, сказано. Извинения просит за своё отсутствие на свадьбе. Обещает вскорости явиться.
Видно было: царь и сам соскучился по своему любимцу.
Понимание этого, правда, несколько по-иному начинало томить Басманова. И делалось муторно на сердце: угораздило остаться главным стражем для царя. Вроде начальника Сыскного приказа. Вроде покойного ныне Семёна Годунова, каковым тот был при своём родственнике, царе Борисе. А не лучше ли было бы собирать войско в Ельце, готовить рати в поход против турка? Дожидаться верной славы. Потому что турка наверняка удастся побить. Сколько пушек изготовлено. Сколько пищалей, аркебузов. Теперь только на выучку подналечь. Казаков поднять. И на Дону, и на Днепре. Князья Вишневецкие пособят. Князь Константин обещает... А слава падёт на того, кто подготовил воинскую силу, от самого начала. Не прогадал Андрей Валигура. Быть ему теперь князем Великогорским, не иначе. А здесь... Впрочем, что говорить: друг тебе царь, полюбился ты ему, а решает он дела так, как ему вздумается...
Правда, небольшое облегчение Басманов ощутил на себе во дворце у царицы Марины, которая давала пир для московских бояр.
Бояре входили в царицыны покои с надутыми, важными лицами, с недовольным выражением глаз. Словно бы с неохотой. Но бояре незаметно преображались уже при одном виде очаровательной юной хозяйки.
Царица была одета в роскошный московский сарафан рытого алого бархата, очень скромно, но со вкусом украшенный драгоценными камнями, и в белую сорочку с удивительно узкими рукавами, которые подчёркивали лёгкость и хрупкость её нежных рук. Она бегло говорила по-русски, и, если бы не какое-то шипение в её выговоре, свойственное её родной польской речи, не догадаться бы, что перед тобою не молодая московская боярыня, выросшая в высоком терему у строгого своего батюшки, знавшая лишь дорогу в Божий храм, под присмотром сенных девушек, братьев, отца и множества холопов. Надо сказать, новая царица поражала своей приветливостью, простотою в обращении, что нисколько, однако, не умаляло в ней чувства понимания своего нынешнего величия.
Это-то видение и преображало московских бояр. Московские бояре, как очень быстро уловил Басманов, с каким-то оценивающим выражением глаз начинали смотреть на своих жён. Словно сравнивали их с этой юной женщиной, о которой уже шла молва как о католичке, — её-де надо было крестить в православную веру.
А боярские жёны, подавив в себе невольно предвзятое мнение касательно новой царицы, с каким они вошли в хоромы, вдруг начинали ловить себя на том, что они уже подражают хозяйке-царице. Она же, получалось, неспроста говорила, что ещё в отцовском самборском замке частенько исполняла роль хозяйки, поскольку мачеха её в последнее время постоянно и тяжело болеет. И даже это сухое и корявое слово «мачеха», полагал Басманов, звучало в её устах весьма приемлемо, если даже не приятно. Московские боярыни начинали даже говорить с теми же интонациями в голосе, с какими говорила царица, и порою начинали издавать лёгкое шипение в таких обычных русских словах, в которых ничего подобного не отмечалось сроду.
То и дело слышалось:
— А вот мы, матушка-царица, дак и вовсе никуда не ездим!
— Да! Да!
— Окромя как в вотчины!
— Иногда!
Кричали, как будто царица уверяла их в обратном.
Басманов диву давался по причине всего этого, а ещё радовался. Даст Бог, надеялся, стерпится — слюбится. Ласковый телёнок двух маток сосёт.
Басманов посматривал на царского тестя, старался и ему внушить хотя бы подобие спокойствия, потому что старик примечал исключительно всё косые взгляды, брошенные на приезжих гостей. А ещё к старику приходило много людей с предупреждениями, да все предупреждения звучали одинаково: ой, что-то в городе затевается! Ой, пусть царь будет начеку. Пусть не доверяет так бездумно своим боярам! Говорили о том немцы, по-дружески. И купцы немецкие. А ещё упорнее — наёмные воины. А потому, в присутствии Басманова, да и по наущению его, старик начал было толковать об этом царю, а в ответ услышал:
— Отец! Не говорите мне, умоляю, о таких пустяках! Ведь меня вы знаете. Я на войне никого не боялся, ни от кого не прятался. Так стану ли запираться в Кремле от своих подданных, которые со слезами на глазах умоляли меня взять отцовскую корону? Подумайте!
Пан Мнишек топтался на месте, не зная, что возразить. И на том разговор этот кончился.
И вот сейчас, на пиру, старик торчит перед царственной четою, словно слуга какой. Не налюбоваться ему дочерью. Не наглядеться. А взгляд — тревожен. Будто предчувствие лиха.
Что касается царя — царь смотрел на юную супругу влюблёнными глазами, и только на неё. Но о гостях не забывал ни на мгновение. Бояре вроде бы в гостях у царицы, да царь — он везде царь. Он провозглашал тосты. Он отдавал всяческие приказания: что подавать, кому что делать.
В царицыном дворце без устали играли привезённые из Польши музыканты. Они исполняли различные опусы, часто посматривая на бумагу с нотными значками. Бумагу перед ними держали малые пахолята в ярких одеждах. Иногда же бумаги с нотными знаками помещались на треножниках.
Вперемежку с танцами исполнялись и песни. Пели двое статных итальянцев. У них были такие упоительные голоса, что гости, преимущественно боярыни, начинали утирать глаза и беспокойно озираться вокруг, посматривать на пол, как бы желая удостовериться, что сидят они на крепких основаниях.
А время от времени царёв взгляд обращался на привезённого ляхами неутомимого шута Антонио Риати.
— Ну и паяц!
Впрочем, эти слова были излишни. Шут изводил своим кривляньем всех без разбора. И немало уже посуды было уронено на пол и перебито, поскольку слуги, застигнутые проделками шута, тут же забывали, что у них в руках, и боярыни, которые вначале не могли смотреть на шутовскую образину без того, чтобы не перекрестить шута, теперь хохотали без забот и до слёз.
Правда, иногда шут закрывал своё лицо страшною маскою, привезённою из Самбора, и тогда всем становилось не по себе, несмотря на его кривляния. Что-то зловещее чудилось всем от одного взгляда на малевание какого-то тамошнего умельца, называемого Мацеем.
Затем были обещанные танцы. И если первый танец вызвал также некоторое удивление, даже оторопь, поскольку открыли его сами хозяева, царь с царицею, то дальше бояре, особенно боярыни, начали любоваться плавными движениями и даже учиться им, подражая лёгкой царице Марине, которая просто порхала — то в паре с царём, то с его секретарём Яном Бучинским, то с послами Олесницким, Гонсевским.
Даже князь Василий Иванович Шуйский с братьями, все крепко подвыпившие, делали ногами частые замысловатые коленца, больше помогая себе руками.
Да, сказано, этот пир заметно успокоил Басманова. Но ненадолго.
Уходя из царицына дворца, чтобы проверить стражу, оставляя во дворце веселящихся бояр с их жёнами, среди прочих и Василия Ивановича Шуйского с братьями, Басманов уже готов был поверить, что известия, которые приносили ему и домой, и в Кремль нарочные ярыжки и разные поставленные на то люди, — что эти известия впустую указывают на Василия Ивановича как на заговорщика и злодея тайного. Вроде бы в самом деле одумался он ещё после прошлого лета, позабыл о новых злых умыслах против своего царя. Быть может, казалось, и прав был царь, когда не придал никакого значения подобным доносам, даже последним из них, когда стражи изловили и привели в Сыскной приказ наглецов, уличённых в распространении среди москвичей невероятных поклёпов. Уже были они поставлены на правёж в каменных подвалах, и уже развязывались у них лживые языки, но царь, заглянув в подвалы, даже возмутился: как, мол, смеете верить, будто у государевых подданных дурное на уме? Немедленно отпускайте. И ещё — накормить до отвала. Напоить и на опохмелку дать! Ни более ни менее. Двоих накормили и напоили. А третьему уже ничего не понадобилось, кроме гроба. Но царь своего вроде бы добился: милость его — на виду.
С такими мыслями Басманов отправился к себе домой, чтобы встряхнуться от пиров, чтобы Парамошка вылил ему на голову ведра два-три ледяной воды из колодца, как привык это делать с молодых лет при наступлении тёплой поры. Всё шло к тому и сейчас, да он уже взялся за ворот рубахи на заднем дворе, как вдруг прибежал Парамошка и, гнусавя сильнее обычного, так что и не разобрать было остального, окромя имени князя Шуйского, замахал длинными цепкими руками.
— Там! Там! — указывал он пальцами на горницу, в которой Басманов обычно принимает ярыжек.
Басманов оставил в покое ворот рубахи и быстро зашагал за Парамошкой.
Вместо ожидаемого ярыжки в горнице сидела женщина в монашеской одежде. Басманов сразу заподозрил, что никакая это не монашка. Он ещё не успел сообразить, почему Парамошка кричал о князе Шуйском, как сидящая женщина приоткрыла лицо. То была зазнобушка Василия Ивановича Шуйского, по имени Прасковьюшка, которую князь держал взаперти, берег и лелеял пуще глаза, полагая, что никто её в лицо не знает, никто даже не догадывается о её существовании. А она известна всей Москве. Вот и Парамошке стоило только взглянуть на её фигуру. Прасковьюшка гордится, что именно она избрана Василием Ивановичем в подружки, что её выделил он из массы своих дворовых девок-красавиц, не имея возможности жениться законным образом. Для москвичей уже не тайна, что она родила ему нескольких сыновей, что князь вроде налюбоваться ими не может.
— Что тебе надобно, женщина? — спросил будто бы равнодушно Басманов, стараясь показать, что ему неведома Прасковьюшка.
Это её устраивало. Она, по-видимому, хотела про извести на боярина неожиданное впечатление, внезапно раскрыв своё имя.
— Я холопка князя Василия Ивановича Шуйского, — сказала она, глядя Басманову в глаза. — Небось, боярин, слыхал о Прасковьюшке?
Басманов и на это не клюнул.
— Бог тебя ведает, женщина, — отвечал он уклончиво. — Нешто мне люди такого князя известны? Бог тебя знает. Дак что тебя привело ко мне? Я только что оставил князя в царицыном дворце. Он жив-здоров и ни на что не жаловался. Говори, коли не шутишь, а то и мне пора. При государе моя служба...
— Да знаю, болезный, — сказала женщина со вздохом. — Потому и пришла к тебе, что ты при государе. Чай, не напрасно хлеб государев ешь...
Басманов ничего не объяснял относительно хлеба, а потому Прасковьюшка вынуждена была заторопиться.
— Донос хочу вчинить на своего господина. Варсонофий мне начертал.
— Ты понимаешь, что говоришь, женщина? — остановил её Басманов.
В его голове тут же пронеслось, что князь Василий Иванович собирается жениться, — вот и бесится Прасковьюшка.
Но Прасковьюшку уже ничто не могло остановить.
— А задумал он со своими дружками-приятелями убить государя нашего на рассвете в субботу! — сказала она. — И все они согласны на богопротивное дело! И решилась я, боярин, на извет последний, потому что грех мне будет перед Богом, если не скажу, не предупрежу тебя. А только ты и способен сейчас остановить их. А ещё — доложить царю-батюшке. А там пускай меня огнём калёным жгут-пытают, мне всё равно. Потому что нету для меня жизни на этом свете!
Она стояла на коленях, билась головою о стены. И своими последними словами многое сводила на нет.
Хоть и устал Басманов в эти тёплые майские дни, а всё же не до сна ему было, как на то он сам надеялся, пересиливая свою дремоту в царских хоромах. И долго скрипела его дубовая кровать, на которую он вообще редко приходил ложиться с тех пор, как возвратился в Москву, а с недавнего времени вообще не ночевал в доме своём, в связи со свадебными торжествами в царском доме.
Теперь он лежал, а что-то вроде подмывало его встать и немедленно бежать в царский дворец, в Кремль, потому что заговорщики могли поторопиться.
«Да нет же, — уговаривал он себя. — Если и есть какая-никакая капля правды в сказанном Прасковьюшкой, так Василий Иванович сейчас у царя пирует, до того ли ему... Да и может ли такое случиться вообще? Господи! Может ли человек, христианин, столь безбожно затевать убийство? Быть того не может! Богобоязнен крепко боярин Шуйский. Да на кого ему руку поднимать? На того, кто вчера его простил и от смерти спас?»
«Нет! Нет! — хотелось просто кричать и уличать Прасковьюшку, не иначе как от ревности потерявшую свой разум. — Быть тысяцким на свадьбе — и жениху гибель готовить? Нет!»
Однако тут же другой голос отвечал с уверенностью и с насмешкой: «Но какого человека? Бывают люди, за убийство которых десяток грехов отпускается!»
И тут же начинал бродить в голове вопрос, над которым Басманову не хотелось думать. Вопрос, который он гнал от себя ещё прошлой весною. Особенно с тех дней под Кромами, когда он решительно переметнулся на сторону молодого царевича Димитрия, забыв о клятве юному царю Фёдору Годунову. Как только решился — и всё тогда почудилось вдруг таким простым да понятным. Молодой царь оказался умным. Службу ценил как полагается, не то что Годунов-самозванец. И чем ближе к Москве подходили сторонники Димитрия Ивановича — тем прочнее становилась эта уверенность. И ничто не омрачало ума Басманова. Будто и не было никаких сомнений.
А ведь говорил когда-то Борис Годунов со слезами на глазах: «Вы, бояре, царевича этого породили и пустили на меня! Потому что нету на свете сына Ивана Грозного! Вот перед вами Василий Иванович Шуйский. Скажи им, боярин!»
Князь Шуйский, слёзно молясь, твердил с земными поклонами:
«Нету, горемычного! Нету! Пресёкся род Ивана Грозного!»
И никто из бояр не смел возразить царю Борису.
А Шуйский... И так и сяк готов был стелиться. Пока до плахи не довели поступки. Впрочем... Может быть, на плахе... Когда был готов перед Богом предстать, быть может, тогда и... Тогда и говорит человек правду? Господи! Неужели?
Басманов не дождался утра. Над куполами московских церквей, щедро окрашенных лучами солнца, качалось что-то вроде молочного киселя, а он уже бежал к Кремлю, якобы для того, чтобы проверить стражу.
В Кремле встретил полковника Маржерета — вот у кого не сыщется никаких сомнений. Он служит законному царю. И всё. Но и у него лёгкое недоумение в глазах. Не бережёт себя царь. Зря, мол, не слушает верных подсказок. Тревожно сейчас в Москве.
— Спокойной службы вам, господин Басманов! — слегка коснулся Маржерет своей широкой шапки с пером, лихо сидящей на его небольшой голове и так идущей к его тонким усикам.
Да, послужишь здесь спокойно!
«Буду наказывать доносчиков! — заявил уже царь принародно. — Не терплю доносов!»
А в Кремле полно погулявших на царицыном пиру. Ещё только бредут домой.
А вот и князь Василий Иванович Шуйский. Он хоть и прогулял во дворце всю ночь, но меру, видать, крепко знает. У слуг его нет надобности укладывать его в возок, тогда как родные его братья петли по двору ногами пишут. Оба. Он же вообще возком не воспользовался. Пошёл бойкою походкою, а возница за ним повёл запряжённого в возок вороного жеребца со звездою на лбу. Заметил Шуйский вдруг Басманова — улыбнулся по-приятельски.
Вот и пойми его.
Что он скажет, придя домой и не завидев там своей Прасковьюшки? Догадается, где побывала? Она же твёрдо решила к нему не возвращаться. В монастыре укроется. А Варсонофий-писарь... Каков?
А так в Кремле ничего особого не случилось. Если не считать очередных наглецов, которые на этот раз попались ночью в подвалах царского дворца. Что высматривали? Кем посланы? Правёж должен сказать, если будет на то царское дозволение. А то будет сказано: «Отпустите! Разве пьяный ведает, куда и зачем залез?»
Думал Басманов, что поздненько увидит сегодня царя. Надеялся отлежаться в своей горнице в царском дворце, собраться с мыслями, всё взвесить, потолковать там с паном Мнишеком. Может, через царицу удастся повлиять на царя? Кто ведает?
Ан нет. Царь почивал недолго. Уже явился своей чуть прыгающей походкою прямо к Басманову. Видать, не с какой-то целью явился, но шёл мимо.
— Пётр Фёдорович! — с порога закричал. — Пётр Фёдорович! Заходи обязательно. Сейчас буду принимать посланника Папы Римского. Так ты поприсутствуй. И для приличия, и как свидетель. Чтобы потом не говорили, будто я готов целовать башмак у Папы Римского. Политика. Его святейшество может побудить многих государей поскорее помочь мне в войне против турок. Вот. Скоро Андрей Валигура приедет. Он бы мне пригодился на аудиенции.
Не выпадало Басманову говорить сегодня с царём о доносе Прасковьюшки. Выгнул бы в ответ его величество свою светлую бровь, засмеялся бы. Ещё, чего доброго, и Прасковьюшку выдал бы невольно. Дело, мол, почти семейное...
Иезуит Каспар Савицкий долго дожидался аудиенции. Он вошёл бодрыми шагами, после приветствия заговорил с царём как со старым знакомым.
Царь заметил немного настороженный гостев взгляд, брошенный в сторону Басманова, успокоил:
— У меня от него нет секретов.
Иезуит вручил царю письма от генерала своего ордена, а также подарки. Ещё — послание и подарки от самого Папы Римского. В глаза бросилась красочная парсуна Папы.
Вручив всё это, отец Каспар сказал, что имеет поручение от его святейшества узнать волю русского государя относительно построек католических храмов в русском государстве.
— А также, ваше величество, относительно предоставления католическим священникам возможности отправлять в них службу.
При этих словах царь очень быстро взглянул на Басманова, как бы говоря ему: «Вот оно, начинается!» — тут же поднялся с места и принялся расхаживать, озабоченно морща лоб. Нарочитость всего этого было несложно угадать: царь никогда не задумывался так, чтобы это было заметно внешне. Он решает всё мгновенно. Значит, царь хотел показать, что не желает так с ходу давать ответ на подобный вопрос. Что Басманов — тому помеха. Однако царь не желал и отправлять Басманова. Царь хитрил.
Иезуит оказался как бы в неловком положении. Иезуит невольно двинулся вслед за царём. И царь заговорил с ним уже нарочито громко, но совершенно о другом, не о том, о чём был только что поставлен вопрос. Он отвлекал внимание собеседника.
— Мне нужна ваша помощь, ваше преподобие, — говорил он, — потому что в Москве мне надобно основать коллегиум, где будем готовить наставников молодёжи, в том числе и для будущего нашего университета. Я уже приказал собирать в какой-то степени подготовленных мальчиков, которые смогут стать учениками.
Иезуит кивал головою, но отвечал, что для исполнения просьбы требуется время.
Царь и этого ответа как бы не желал слушать, а то и боялся услышать что-то нежелательное. Он вдруг заговорил о войне:
— Я собираю сейчас войско, ваше преподобие. Оно у меня стекается к городу Ельцу. Князь Шуйский отправляет туда дружину за дружиною, как только находит, что воины достаточно оснащены, вооружены и обучены. А там уже другой мой верный военачальник приводит войско в полный порядок. И хотя по моему велению уже послан крымскому хану остриженный тулуп как знак, что мы на него пойдём войною, однако я ещё не решил, кого в первую очередь следует наказать, какого врага. Вот и польский король возгордился и не признает моего императорского титула, о чём я уже не раз толковал с его послами.
Признаться, услышанное покоробило Басманова. Конечно, подобное он уже не раз слышал от царя в минуты его раздражения, но говорилось всё это с глазу на глаз — о разговоре, царь мог быть уверен, никто больше не узнает, а вот заявить о том иезуиту, присланному Папой Римским, — ведь это же всё равно что сказать подобное лично самому польскому королю!
Басманов понял, что хотя иезуит внешне не подаёт виду, будто на него подействовало услышанное, однако голос его приобрёл вдруг какое-то новое звучание, как если бы он только что нырнул в ледяную прорубь, замёрз, вмиг простыл.
— Бог милосердный не допустит вражды между христианскими государями! — осенил он себя крестным знамением и снова дёрнулся всем телом, как бы желая завести речь снова о своём очень важном деле, но царь вдруг засуетился, объясняя второпях, что его дожидается сейчас матушка-царица.
— Жаль, — сказал он и тут же направил шаги к дверям, — что нету при мне моего верного человека — Андрея Валигуры. Это мой фактотум. Он бы с вами, ваше преподобие, поговорил более основательно о коллегиуме, а пока его нету здесь, можете обращаться к моему секретарю Яну Бучинскому. Он всё устроит и обо всём мне доложит. А там и Андрей Валигура приедет.
Тут уже Басманов окончательно понял, к чему клонится вся аудиенция: Бучинский — протестант. Обращаться к нему у отца иезуита нет никакого желания. Но именно на это и рассчитывает царь.
Впрочем, оставив дворец и совсем озадаченного иезуита, царь увлёк Басманова за робою вовсе не к царице-матушке, но на Пушечный двор, где их встретил князь Василий Иванович Шуйский. Князь докладывал царю, глядя прямо в глаза, сколько воинов стоит сейчас под Москвою, дожидаясь необходимого вооружения. А что касается стрельцов, стрелецкие головы, да и военачальники пониже — сотники разные, десятники, — сразу уводят своих людей к войску, в Елец.
Князь глядел на государя такими преданными глазами, что заподозрить его в тех грехах, в которых обвиняла его Прасковьюшка, ну никак не хватало смелости.
Пушечный двор работал в полную мощь.
На следующее утро оказалось, что ночная стража в Кремле снова наткнулась на злодеев. Нескольких немецкие вояки уложили выстрелами из мушкетов — полковник Маржерет показывал трупы, при нём дело было, — нескольких захватили и по ночному времени подвергли решительной пытке. Но ничего не добились.
Только царь и на это посмотрел сквозь пальцы. Более того, Басманову доложили, будто один из немецких капитанов, воспользовавшись встречей с царём в конюшне, когда его величество наведывался к захворавшему своему любимому коню, — что этот немецкий капитан подал царю записку о грозящем заговоре, направленном против гостящих в Москве поляков. Царь в ответ разорвал записку, едва пробежав её глазами. И ответил с явным раздражением: «Пустяки всё это!»
Басманов тут же направился к государю с самыми решительными намерениями рассказать о доносе Прасковьюшки, да царь целый день не расставался с князем Василием Ивановичем Шуйским, и разговор у них шёл о подготовке к походу. Василий Иванович, по его собственным словам, представлялся замечательным знатоком военного дела, организатором, если только не замечательным полководцем.
А ещё говорили о предстоящем воскресенье, о задуманном зрелище для народа, о всеобщем веселье за Сретенскими воротами. Ездили даже туда — там уже на свеженасыпанных валах стояли пушки; там высились крепостные башни.
Конечно, всё это, а ещё то, что царь торопился, стараясь поспеть к вечеру на пир, который он давал в своём новом дворце, — всё это обернулось тем, что Басманов всё-таки отважился напомнить царю о пойманных сегодняшней ночью злодеях, что их, дескать, надо допросить в Сыскном приказе. О Прасковьюшкином доносе, который, конечно же, по причине присутствия тут князя Василия Ивановича не мог никак найти подтверждения завтра утром, Басманов решил рассказать на следующий день, тем более что назавтра ждали в Кремль Андрея Валигуру.
Какое-то раздумье пробежало по лицу царя при упоминании Басманова о ночных происшествиях. Но длилось это недолго.
— Так и быть! — сказал царь. — Завтра разберёмся. С утра я буду в Потешном городке, а после обеда — займёмся. Если, конечно, успеем. Если Андрей Валигура, приехав, не отвлечёт. А ещё пану Мнишеку скажу, чтобы поляки вели себя поскромнее. Жалобы на них.
Басманов намеревался только показаться на царском пиру. Что бы там ни было, а он никак не мог забыть предсказаний насчёт завтрашнего, субботнего, утра. Особую роль в предсказаниях играла, конечно, Прасковьюшка.
Входя во дворец, Басманов невольно очень внимательно оглядел иноземных воинов (стояли в этот день люди не полковника Маржерета, но полковника-немца Кнутсена). Возле них расхаживал князь Василий Иванович Шуйский, вроде бы озабоченный чем-то своим. Иногда он заговаривал с полковником Кнутсеном, а тот подобострастно кивал ему головою в медном огромном шлеме.
Во дворце висел такой невообразимый шум, поднятый польскими музыкантами, что даже паи Мнишек, страдающий к тому же от телесных недугов, морщился и вбирал голову в плечи.
Князь Шуйский на пиру уселся по правую руку от царя, переговаривался с ним весело, — и это снова не могло не подействовать успокоительно на Басманова.
Как всегда, Басманов принял хлеб и вино из рук государя, а потом уже пил, беря кубки из рук виночерпиев да стольников. И враз, после очередного кубка, он почувствовал, что перепил. Потому что потолок вдруг сорвался с места и поплыл, увлекая за собою толстые колонны, столы, всех сидящих за ними, орущих и галдящих, включая даже самого царя... Басманову стало стыдно своей податливости хмелю...
Очнулся Басманов на широкой скамье в царском дворце. Он это сразу понял. Сквозь узорчатые стёкла уже пробивался утренний свет, и те лучи, которые пронизывали стёкла, падали на противоположную стену кровавыми алыми пятнами.
Басманов успел припомнить вчерашний пир. Подобного срама с ним ещё не случалось в жизни: чтобы его свалило вино! Это просто недопустимо. Неприлично для первого боярина, верного государева слуги. Да к тому же в такое время. Придётся держать ответ перед царём... И вдруг его внимание отвлёк раздавшийся звон набатного колокола. Он привстал со скамьи, приблизился к окну, чувствуя в теле неизвестную доселе слабость. Сразу нахлынуло вчерашнее. Он не мог пересилить охватившую сознание тревогу. Но окно из горницы, где он почивал, выходило на глухую стену дворца, так что ничего узнать было нельзя, кроме того, что набатный звон стоит уже надо всею Москвою, что он разрастается и приближается, давит, что уже раздались выстрелы, не один, много, всё чаще и чаще.
Басманов набросил на себя кафтан и устремился к выходу.
— Что там такое, Пётр Фёдорович? — упали ему на голову слова царя. — Князь Димитрий Иванович Шуйский мне сказал: это пожар! Я сейчас... Или нет...
Царь стоял взлохмаченный, — видать, только что поднял с подушки голову. Длинная белая рубаха, похожая на саван, ниспадала до самого пола. И если бы не этот, такой знакомый, голос, Басманов и не поверил бы, что видит царя.
— Сейчас я, государь! — ответил Басманов, бросаясь к ближайшему окну.
Он рванул на себя раму — колокольный звон заставил, наверное, вздрогнуть не только его. Звон нарастал, близился, а вместе с ним накатывалось море голосов — как ветер, как шум грозы. Как знамения Страшного суда, Божией кары. Человеческой лавине противостояло, он заметил, всего с десяток-полтора стрельцов в ослепительно ярких малиновых кафтанах, с алебардами в руках, а ещё, на крыльце, — мушкетёры, чужеземные воины, тоже примерно в таком же ничтожном количестве. Они растянулись на крыльце жиденькою цепочкой, безумно ненадёжной, чтобы удержать толпу.
«Где же остальные? — холодом осыпало Басманову спину. — Неужели Шуйский... Неужели он успел распорядиться, пока я... Неужели правда...»
— Государь! — громко и выразительно закричал Басманов, чувствуя, что в нём просыпается нечто такое, что помогло ему когда-то с честью удержать Новгород-Северский. — Государь! Это измена! Берегись! Я их задержу!
Он не уловил царского ответа. Его увлекала возможность очутиться снова в своей стихии, показать своё презрение к опасности.
Когда он вышел на крыльцо, то не услышал под собою ударов о камни своих подкованных гвоздями сапог. Стрельцы в сверкающих на солнце кафтанах, особенно на фоне серой толпы, были уже смяты и отброшены, зажаты со всех сторон, а чужеземцы на крыльце ещё не успели дать по толпе выстрелов.
— Стойте! — остановил их скорее даже не криком, но только решительным видом и решительными движениями Басманов. — Стойте!
Его появление, надо сказать, подействовало на толпу, которая уже добежала до первых ступенек крыльца.
С той же решительностью, грохая сапогами в наступившей тишине, Басманов спустился на самую последнюю ступеньку.
— Братья! — сказал он во всю силу своего голоса. — Что вы задумали? Кто вас подбивает на богопротивное дело? Бросайте оружие! Государь наш милостив!
Толпа будто бы и ждала только этих слов. Толпа издала ещё более угрожающий рёв. Хлопнуло сразу несколько выстрелов. Со стен упали-посыпались белые ошмётки дерева.
— Братья! — не сдавался Басманов, вздымая к небу обе руки.
Он никого и ничего не боялся. Он успел крикнуть какое-то гневное слово метнувшемуся к нему боярину Михаилу Татищеву, о возвращении которого из ссылки он недавно умолял государя, успел с силой оттолкнуть какого-то настырного дьяка, твердящего слова из Священного Писания, — и тут же с удивлением почувствовал, как на него самого наваливаются церковные купола...
21
Под Ельцом и в Ельце всё шло благополучно. Андрею Валигуре уже начало казаться, будто и в Москве, с его приездом, всё должно найти своё правильное разрешение.
Он уже давно порывался в столицу, да вынужденно задерживался. Он хотел скорее доложить, что к походу всё уже в значительной степени готово, что прибывают гонцы от донских да днепровских казаков (особенно усердствует уехавший в родные края атаман Корела). И те и другие казаки ждут не дождутся начала похода. И на Дон, и на Днепров Низ стекаются разного рода удальцы как из царских, так и от ляшских пределов.
Конечно, Андрей понимал, как непросто управлять такою массою вольнолюбивого войска. И всё же он надеялся, что справится с подобным делом. Он хотел убедить в Москве царя и Боярскую думу, вернее, сенат в том, чтобы было позволено привлекать к походу всех желающих казаков. Участие этих людей в освободительной войне куда угоднее Богу, нежели и дальше позволять им бездействовать, бродить в поисках пропитания, безнаказанно грабить соотечественников, мешать людям спокойно жить.
И вот наконец Андрей вырвался на дорогу. Он скакал на своём неутомимом Зубке, но документов, доставленных отцом Варлаамом, не доверял никому. Вёз их при себе. По старому казацкому обычаю — зашитыми в полах кафтана.
Иногда ему становилось смешно, когда на постоялых дворах перед ним падали в грязь бородатые содержатели, привыкшие преклоняться перед властителями. Они боготворят своих князей да бояр. Но знали бы они, кого видят сейчас перед собою! Знали бы, что таится у Андрея под шитым золотом кафтаном!
«Я казак! — смеялся он мысленно. — Я докажу, на какие услуги способен. Мне бы только вырваться в степи. Вдохнуть грудью степного воздуха... Я знаю, как надо бить татарина и турка!»
Кони стелились по пыльной дороге — и Зубок под Андреем, и Дрозд под Харьком, и прочие под немногочисленным конвоем.
Андрей же думал, думал. Хотя решение вызрело уже в Ельце.
Нет греха страшнее, чем отказаться от своего крестного имени. Чем назвать себя именем другого человека. Даже ради того, чтобы оказаться во главе огромного государства. В этом отец Варлаам прав. Благие намерения заставили его принести на Русь эти документы. Да только... нет и такого греха, в котором нельзя раскаяться!
Так думалось.
Но иногда казалось, что подобного не могло случиться. Что это просто новая хитрость ляхов. Не намерились ли они сковырнуть молодого царя, который вздумал им угрожать? А коли нет, дескать, на Руси законных наследников престола — так отдадут, мол, московский престол королевичу Владиславу?
Успокаивал себя надеждами Андрей. Стремился поскорее обо всём открыто потолковать в Москве.
Встречные люди говорили о царской свадьбе — как о сказке. И чем ближе к Москве, тем сильнее верилось в эту сказку. Особенно после того, как миновали Тулу.
Андрей живо представлял себе счастливого жениха, красавицу невесту при нём. И ни тени зависти не улавливал в душе. Так надо. Так повелел сам Бог.
Так неужели Бог допустил этого человека до подобного греха?
Не верилось!
Уже виделось, как обрадуется царь, узнав о готовности войска к походу.
Ночью неожиданно наткнулись на большое скопление пеших и конных людей и скрипучих гружёных повозок. На головах у конников сверкали шлемы. На фоне звёздного неба, над островерхими шлемами, отчётливо прорезались многочисленные пики. Нетрудно было догадаться, что движется большой воинский отряд. Однако двигался он вовсе не к югу, не в направлении Ельца, как следовало бы ожидать, но в сторону Москвы, на север.
— Что это значит? — спросил Андрей преградившего ему путь всадника. — Куда путь держите?
Тот заметил на Андрее золотое шитьё кафтана и дорогую сбрую на Зубке, сдержанно отвечал:
— Там вот стрелецкий голова. С ним толкуй, боярин.
Стрелецкий голова сам поспешил на разговор.
— Кто таков? — спросил густым строгим басом, наезжая приземистым конём на вставшего на дыбы Зубка.
— Именем государя, — отвечал Андрей вопросом на вопрос, — почему направляетесь к Москве? Я боярин Великогорский. Из Ельца еду.
Стрелецкий голова попятил коня назад, озадаченно замолчал, возможно, его смутила было немногочисленная свита при человеке, о котором он, без сомнения, много наслышался. Но делать было нечего.
— Да я и не знаю, боярин, — признался он. — Таков приказ от князя Василия Ивановича Шуйского. Повернул нас и приказал идти к Москве на ночь глядя.
— Шуйский? — переспросил Андрей. — Шуйский правит царским войском?
— Бог их ведает, боярин. На всё воля царская. А мы люди подневольные. Нам приказывают. Да только Шуйский, сказывают, теперь у царя в почёте. Прежние грехи свои, сказывают, замолил.
Андрей не отвечал, а лишь пришпорил Зубка — и конь рванул с места.
К Москве приближались на рассвете.
Едва миновали какую-то сонную заставу, едва перекрестились на золотые маковки призаставской церкви, как предутреннюю тишину вдребезги разбили набатные звоны.
— Что это? — натянул поводья своего Дрозда ехавший рядом Харько.
Над московскими холмами вставало кровавое зарево, пробиваясь из-под плотных, на окоёме, туч. То ли всходило солнце, то ли начинался пожар.
— Пожар? — неуверенно сказали за спиною у Андрея.
А колокола уже бушевали надо всею Москвою.
Но зарево стояло над теми холмами, над которыми загорелось, и не распространялось.
И тут же раздался отчаянный человеческий гул. Где-то там, где угадывался Кремль.
— Нет! — тотчас решил Харько. — Это не пожар!
Страшная догадка пронизала сердце Андрея.
— Айда! — закричал он, не отдавая себе отчёта.
Огромная Москва сейчас напоминала собою поле невиданного сражения, уже распавшегося на отдельные очаги сопротивления, где сила сопротивления нисколько не снизилась, но ещё увеличилась в несколько раз.
Гром выстрелов раздавался то здесь, то там. Толпы народа с новым остервенением устремлялись в разных направлениях, так что Андрей никак не мог разобраться, куда ему следует направиться, где может совершиться что-то самое важное. Вместе с Харьком и своею малочисленною свитою, оставив повозки при заставе, он метался на Зубке по улицам взбудораженного Замоскворечья, продвигаясь по направлению к Кремлю, который прорезался из розового тумана на том берегу Москвы-реки.
Все, кого удавалось хотя бы на мгновение остановить, задержать, задеть вопросом, — все кричали в ответ одно и то же:
— Ляхи хотят убить царя-батюшку!
— Ляхи! Ляхи!
Прочие тут же подхватывали:
— На ляхов! На Литву!
— Ляхов бить!
Особенно много народа торопилось в Китай-город, примыкающий к Кремлю с востока. Лодки, паромы, плоты — всё, что можно было так или иначе использовать, приспособить для переправы — всё шло в дело, всё бралось с бою. А многие люди, чересчур нетерпеливые, бросались в воду безо всяких средств для переправы, пытаясь преодолеть преграду вплавь, благо Москва-река уже обмелела от жары и нисколько не страшила своею глубиною.
— Побьём князя Вишневецкого! — кричали.
Андрей понял, что там, в Китай-городе, несомненно, остановился князь Константин Вишневецкий, приехавший в Москву на царскую свадьбу.
Андрей не стал дожидаться средств переправы. Такая речка казака не остановит. Ему и его спутникам не пришлось даже оставлять седел.
Ехавший рядом Харько недоумевал:
— Не может того быть! Князь Константин всегда стоял за царя Димитрия Ивановича. Не могу поверить!
Андрей молчал.
Народ же неистовствовал:
— Защитим царя!
— Не дадим в обиду нашего батюшку!
Андрею, конечно, тоже не верилось в подобное. Он сразу заподозрил, что здесь скрывается какая-то коварная уловка. Он уже видел невыразительное лицо князя Шуйского и невольно проникался подозрением: если и задумано что-то против царя, так уж никак не обошлось без вмешательства князя Василия Ивановича.
Первой мыслью было пробиться к Кремлю. Однако сделать это было не так просто. Едва горячий Зубок вынес Андрея на усыпанный людьми берег, как человеческий поток увлёк его вместе со спутниками в направлении Китай-города.
С какого-то пригорка, от чьих-то бревенчатых ворот, Андрей увидел, как смело бросились в атаку крылатые польские гусары, безусловно приехавшие с князем Константином. Гусары быстро продвигались вперёд, но недолго. Из-за берёзовой рощи, выделявшейся нежной зеленью и украшавшей высокий светлый терем с башенкой, вывалилась новая волна московитов; конники замедлили свой напор, заметались, остановились, повернули назад.
— Безумие! — не хотелось верить в увиденное Андрею. — Кто это придумал? Кому это выгодно? Господи!
Откуда-то ударили пушки, однако неудачно для московитов: ядра задевали своих, не доставая до конников.
Андрей понял лишь одно: надо пробиваться к царю.
Он крикнул:
— За мною! Спасём царя-батюшку!
И тут же за ним увязалось много народа. Мощный человеческий поток понёс его вместе с Зубком, как щепочку по пенной воде.
На Красной площади народ бурлил — вооружённый, злой, решительный. Андрею пришлось даже спешиться, оставить Зубка (так же поступили и прочие его спутники) под защитой какого-то каменного строения.
Из Фроловских ворот Кремля хлынула новая волна народа, а вокруг раздались крики:
— Несут!
— Несут!
— Тащат! Воров поймали!
Ещё Андрей заметил, что люди на Красной площади своим убранством отличаются от людей, которые пришли вслед за ним из Замоскворечья. Здесь, на Красной площади, собрались бояре да дворяне со своими слугами.
— Кого тащат? — попытался узнать Андрей.
Возле Лобного места стоял невообразимый шум, люди давили друг друга. Мощных криков не мог заглушить даже колокольный звон. Взрывы хохота сотрясали воздух.
— Что там происходит?
Когда Андрей, подпираемый Харьком, наконец добрался до края толпы и заглянул через кричащие мятущиеся головы, словно в прорубь, то увидел такое, от чего у него подкосились ноги: на короткой скамейке лежал окровавленный обнажённый мертвец. Поскольку скамейка была короткой, то голова и ноги мертвеца свисали вниз, причём ноги его, окровавленные сильнее, нежели всё тело, упирались в грудь другого мертвеца, лежавшего под скамейкою.
— Кто это? — вырвалось из горла у Андрея, потому что свалявшиеся клочки светлых волос, испачканные кровью, показались ему удивительно знакомыми. Впрочем, видел он прежде и того человека, чей труп валялся теперь под скамейкой.
Но вопроса никто не услышал.
— Он это! — побелевшими губами прошелестел рядом Харько, почти беззвучно. — А под скамейкой — Басманов...
Андрей просто догадался, что мог сказать Харько.
— А где молодая царица Марина? — завопил кто-то. — Где?
Вопрос был подхвачен.
— Где эта курва?
— Поймали? Жива?
Андрей почувствовал, как закачалась под ногами земля.
— Да нетто разберёшь? — отвечали со смехом валившие из Кремля молодцы. — Все бабы ляшские на одну колодку! Как попались в наши руки эти телки — только визжали!
— Да! Да! Всех перепробовали!
— И не разобрать, которая царица!
— Не поняли! У царицы, знать, всё так же, братцы! Ей-богу!
— Теперь и у неё хоть ложкой хлебай! Ха-ха-ха!
Народ хохотал.
Но кое-кто любопытствовал о серьёзном.
— А как же старая царица? Мать его... Или не мать она...
— Да что? — отвечали всё те же охмелевшие, хриплые голоса. — Ей показали...
— Василий Иванович Шуйский приказал! Он сейчас нам всем начальник.
— Мимо монастыря тащили... Мимо её окон...
— И что?
— Да до последнего вздоха твердил, собака, будто он сын Ивана Грозного... А она взглянула только на эту тушу — побелела лицом, а ни слезинки не сронила...
— А что сказала? Спрашивали, чай?
— Да что?.. «Теперь он уже не мой!» — сказала... Что, дескать, спрашивать?..
В народе некоторые крестились:
— Теперь он уже у Бога! Теперь он там за свои грехи ответ держит! Разве можно было себя за другого человека выдавать? Грех-то какой...
— Прости его, Господи! Может, он и добра хотел нам...
И тут все вокруг взорвались утробным хохотом, завидев, как пробившийся сквозь толпу губастый молодец с плутовскими красивыми глазами шлёпнул на лицо мертвеца разрисованную лицедейскую маску, на которой застыли одновременно ужас, смех, страдание — всё вперемешку.
— Поглумился над нами, шут гороховый! — захохотал молодец. — Поцарствовал, собака! И получил своё! Так вот тебе ещё!
Губастый молодец без злости, но изо всех сил пнул сапогом окровавленный труп, затем вырвал у себя из-за широкого красного пояса розовую дудочку, которую Андрей сразу признал (видел в Самборе, у шута при дворе пана Мнишека), и воткнул эту дудочку в отверстие, изображавшее у маски рот.
— Поиграй, злодей! Потешь народ напоследок! Не помог тебе ни предатель Басманов, не помог Вишневецкий, не помогли ляхи!
Взрыв хохота покрыл его слова.
Андрей склонил голову, закрыл глаза. Харько, с белым до неузнаваемости лицом, сгорбившийся, тащил его куда-то за руку, подальше от страшного видения, ото всего того, что оставалось от человека, которого они оба долго почитали царём, но которому Андрей не поспешил сегодня вовремя на помощь, не мог этого сделать, не имел на то права.
Следуя за Харьком, Андрей ощутил на себе, сквозь податливую ткань кафтана, твёрдость бумаг, переданных отцом Варлаамом, и тут же подумал, что от них следует поскорее избавиться. Они уже не имели никакого значения.
А ещё ему захотелось очутиться где-то в степи, на вольном воздухе, на горячем своём Зубке, сразиться с неприятелем... А то — отдохнуть у себя в глухом лесном имении, под присмотром ветхого Хомы Ваната... Впрочем, он не знал, куда ему хотелось бы сейчас первым делом податься.
СПИСОК СЛОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОБЪЯСНЕНИЯ
Адгерент — сторонник.
Алебарда — оружие в виде секиры на длинном древке, заканчивающемся остриём.
Аркебуз — фитильное ружьё, заряжавшееся с дула.
Атрамент — чернила.
Бакалавр (бакаляр) — зд.: студент.
Бируч — глашатай.
Ванькирчик — чулан.
Венгржин — венгерское вино.
Волох, волошский — зд.: итальянец, итальянский.
Гарцевать — красоваться на коне, джигитовать.
Герц — поединок.
Далибуг — ей-богу.
Дзиглик — стул.
Изограф — художник.
Каламарь — чернильница.
Кастелян — смотритель (комендант) замка.
Кварта — кружка.
Коваль — кузнец.
Кравец — портной.
Либерия — зд.: придворная свита богатого польского пана.
Лотр — зд.: разбойник, негодяй.
Майдан — городская (сельская) площадь.
Огирь — жеребец.
Оселедец — чуб у запорожца, клок волос на голове.
Саква — сума котомка.
Свита, свитка — длиннополая одежда.
Секвестр — арест.
Характерник — колдун.
Примечания
1
Свита, кортеж. Здесь — обоз со свитой.
(обратно)2
Троицын день.
(обратно)3
Слуги.
(обратно)4
Каменная башня.
(обратно)5
Орёл не ловит мух (лат.).
(обратно)6
Война, победа, Бог (лат.).
(обратно)7
Млечный Путь.
(обратно)8
На подносе.
(обратно)9
Бунт, мятеж.
(обратно)10
Металлические крылья за спиной у гусар составляли часть их воинского снаряжения.
(обратно)11
Бежит на четырёх ногах (лат.), то есть «похоже на правду».
(обратно)12
Запрещаю! (лат.)
(обратно)13
Фехтование.
(обратно)14
Светлейший (лат.).
(обратно)15
Лебединая песня (лат.).
(обратно)16
Здесь львы (лат.).
(обратно)17
Времена убегают (лат.).
(обратно)18
Дух замирает от воспоминаний (лат.).
(обратно)19
Свободное вето (лат.).
(обратно)20
О времена! О нравы! (лат.)
(обратно)21
Просьбы короля — приказ! (лат.).
(обратно)22
Сиятельнейший и непобедимый царь Димитрий! (лат.).
(обратно)23
Кресло.
(обратно)24
Еще один воскресший португальский царевич (ит.).
(обратно)25
Декоративная сабля.
(обратно)26
Имена известны (лат.).
(обратно)27
Да свершится воля Твоя, Господи! (лат.)
(обратно)28
Святая простота! (лат.).
(обратно)29
Мы, наияснейший и непобедимейший царь (лат.).
(обратно)30
Слуга, оруженосец.
(обратно)31
Чулан, кладовка.
(обратно)32
Герц — поединок.
(обратно)33
Слепа (лат.).
(обратно)34
Здесь: «Исход войны неизвестен» (лат.).
(обратно)35
Без гнева и пристрастия (лат.).
(обратно)36
Изгнанников.
(обратно)37
Побеждённый плачет! (лат.).
(обратно)38
Не правда ли, господин капитан? (нем.).
(обратно)39
Подолия... (нем.).
(обратно)40
Иди, иди! (нем.).
(обратно)41
Не этого! Дальше! (нем.).
(обратно)42
Лихорадка.
(обратно)43
Собор Василия Блаженного.
(обратно)44
Золотной — шитый золотом.
(обратно)45
Дарёному коню... (лат.).
(обратно)46
Самая послушная и самая преданная дочь и раба (лат.).
(обратно)47
Рабыне преданнейшей (лат.).
(обратно)48
Страшно сказать (лат.).
(обратно)49
О двух Сарматиях (лат.).
(обратно)

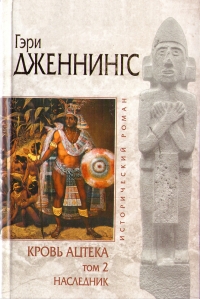

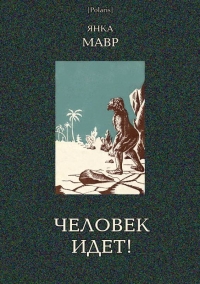


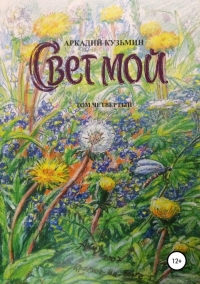


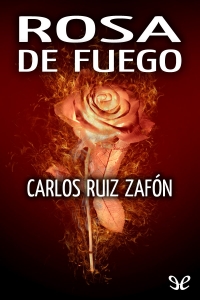
Комментарии к книге «Лжедмитрий», Станислав Антонович Венгловский
Всего 0 комментариев