Григорий Гулиа
Мгновения вечности
Об исторической прозе Георгия Гулиа
Кто-то, кажется, Сартр, однажды сравнил персонажей романа У. Фолкнера «Шум и ярость» с пассажирами автомобиля, обернувшимися назад; лишь стремительно убегающее вдаль прошлое различимо их застывшему взгляду…
Есть писатели, вполне сознательно выбирающие аналогичную позицию. Таков, например, Д. Мережковский, особенно в своих исторических сочинениях эмигрантской поры. Если трилогия «Христос и Антихрист» — еще своеобразный отклик на современные события, лихорадочная попытка автора найти историческое оправдание своего неприятия надвигающейся революции, страха перед «грядущим Хамом», то в таких книгах, как «Тайна трех. Египет и Вавилон» и «Рождение богов. Тутанхамон на Крите», написанных в эмиграции, истолкованное в религиозно-мистическом духе прошлое становится для Д. Мережковского последним прибежищем, соломинкой в разбушевавшемся море истории, когда «все падает, рушится, земля уходит из-под ног». «Вот отчего я бегу в древность. Там твердыни вечные; чем древнее, тем незыблемей…»
Георгий Гулиа менее всего похож на человека, едущего спиной вперед. Писатель остросовременный по складу своего дарования, чуткий не только к проблемам, но и к ритмам, краскам, интонациям дня сегодняшнего, он остается самим собой и в исторических своих книгах.
В «Сказании об Омаре Хайяме» это находит свое наглядное выражение в откровенно журналистском приеме; повествование об одном месяце из жизни великого поэта и ученого средневекового Востока разворачивается как бы в обрамлении путевых зарисовок, корреспондентских наблюдений и комментариев, авторских размышлений о времени, о причудливом переплетении старого и нового, о тайне неиссякаемой жизнеспособности истинной поэзии…
«Жизнь и смерть Михаила Лермонтова» прослоена такими комментариями от начала и до конца. Даты и факты, письма, свидетельства очевидцев и современников, оценки потомков, мнения ученых — все это сплавлено воедино, обрело смысл и цельность лишь благодаря живому голосу автора, его ненавязчивому, но постоянному «присутствию». Хроника цементируется активной авторской мыслью.
Впрочем, и другие исторические романы Г. Гулиа, выдержанные в более объективной манере, не оставляют у читателя сомнений: это написано нашим современником, человеком двадцатого столетия.
Говоря так, я имею в виду, разумеется, не ту неуклюжую модернизацию прошлого, когда, по замечанию Пушкина, писатель перебирается в минувшую эпоху «с тяжелым запасом домашних привычек, предрассудков и дневных впечатлений». Для Г. Гулиа это не характерно, хотя некоторые авторитетные рецензенты все же отмечали — и, надо признать, не совсем без оснований — в языке его романов следы известной модернизации; придирчивый читатель обнаружит такие следы и в предлагаемой книге.
Вообще же современность Г. Гулиа в ином: в выборе темы и отборе исторических фактов, в отношении к ним, в умудренном вековым опытом и сегодняшним знанием взгляде на историю и умении постигать ее уроки. Недаром в своей книге об отце он приводит такие слова Дмитрия Гулиа: «История мертва. И если писатель оживляет ее, то только ради волнующих вопросов современности». Приводит как и свое собственное творческое кредо.
Георгия Гулиа — исторического романиста — отличает поразительная широта диапазона, огромный временной размах, когда счет идет на века и тысячелетия. Восточное средневековье («Сказание об Омаре Хайяме») — и Древний Египет («Фараон Эхнатон»); николаевская Россия («Жизнь и смерть Михаила Лермонтова») — и Рим эпохи гражданских войн («Сулла»); Афинское государство во времена Перикла («Человек из Афин») — и Абхазия XIX века («Черные гости», «Водоворот»), Норвегия времен викингов («Сага о Кари, сыне Гуннара»)…
Что может объединять эти книги, повествующие о столь различных эпохах и странах, о жизни и деяниях столь непохожих друг на друга исторических персонажей?
Тщетно было бы искать здесь сугубо формальные признаки единства — их нет. Зато есть связи иного порядка. Монтаж — вот слово, которое, пожалуй, подходит в данном случае более всего. Подобно тому, как в кинематографе новое качество возникает нередко «на стыке» отдельных, на первый взгляд разрозненных кусков, зависит от их соотношения, сопоставления (об этом интересно пишет В. Шкловский в своей книге об Эйзенштейне, а раньше много писал и сам Эйзенштейн), так и исторические романы Г. Гулиа складываются в некое единство не по внешним — сюжетным, хронологическим, географическим — признакам, а по законам глубинной, «неформальной» логики. Залог этого единства — личность, позиция, взгляд художника, его чувство историзма, способность сближать далекое, видеть в разном, непохожем, порою противоположном (Перикл — и Сулла!) преломление общих жизненных закономерностей.
Вот почему так важно включенные в данную книгу романы о Лермонтове и Омаре Хайяме соотнести с другими историческими сочинениями писателя. Так что пусть уж читатель не сетует на автора предисловия, который отдает предпочтение не привычному «разбору» произведений (полагаясь более всего на внимательность и вдумчивость самого читателя), а выявлению некоторых характерных в целом для исторической прозы Г. Гулиа черт и особенностей.
Есть в его романах один важнейший лейтмотив, одна сквозная тема — тема искусства.
В книгах о Лермонтове и Омаре Хайяме это, естественно, в значительной мере предопределено самим выбором героев. Правда, Омар Хайям, как это ни покажется странным, довольно уклончив, когда речь заходит о поэзии. Кажется, он охотнее говорит об астрономии и математике, о любви и вине, но остается равнодушным, когда главный визирь начинает читать его рубаи. И лишь изредка, в минуты полнейшей душевной раскрепощенности, чаще всего наедине с женщиной, он позволяет себе прочесть вслух собственные стихи, и мы видим, сколь велико его преклонение перед поэзией, сколь сильна вера в то, что «поэзия и жизнь — это одно целое». Нет, это не равнодушие, скорее — наоборот. Слишком требователен к себе Омар Хайям, слишком трепетно любит он поэзию, чтобы говорить о ней всуе.
Столь же сдержан в этом отношении и Лермонтов. Г. Гулиа предоставляет возможность порассуждать о поэзии многочисленным авторитетам — биографам, исследователям, писателям разных времен. Сам же герой книги раскрывается прежде всего в конкретных жизненных ситуациях — дома, в пансионе, среди друзей и однополчан, во взаимоотношениях с женщинами, в свете, на Кавказе… В книге очень мало стихотворных цитат и совсем нет претенциозных потуг на проникновение в глубины психологии творчества, но при этом есть главное — ощущение истинной поэзии, пульсирующей под оболочкой строгой документальности, — так угадывается дыхание лежащего где-то рядом, хотя и невидимого, моря…
Много места и авторского внимания занимает искусство в «Фараоне Эхнатоне».
«Мечтою Египта была вечность…» — писал когда-то Т. Готье. Это желание навсегда запечатлеть, сохранить для будущего свою эпоху и самих себя воплотилось и в мумиях, и в рассчитанных на вечность пирамидах, и, разумеется, в искусстве. Платон полагал, что египетское искусство старше древнегреческого на десять тысяч пет. Современные исследователи несколько более сдержанны, но речь все равно идет о тысячелетиях. Как бы там ни было, достаточно сказать, что именно в древнеегипетском искусстве в образе Исиды с младенцем впервые было воспето материнство, здесь же возникло одно из древнейших, если не первых, скульптурных изображений лица человеческого — Сфинкс…
Примечательная особенность этого искусства — твердая приверженность к устоявшимся нормам, канонам; тому были свои причины, глубоко проанализированные советским египтологом М. Матье в ее фундаментальном труде «Искусство Древнего Египта». В период царствования Эхнатона каноны эти подверглись решительной ломке: в искусстве усиливается индивидуальное начало, проявляется стремление следовать натуре, правде жизни, в письменность проникает разговорный язык. Это привело к замечательному расцвету художественного творчества, нашедшему свое выражение, в частности, в таких шедеврах, как знаменитый скульптурный портрет Нефертити, жены Эхнатона, и поразительные по экспрессии и достоверности изображения самого фараона.
Эта сторона реформаторской деятельности Эхнатона привлекает пристальное внимание Г. Гулиа. Многие страницы его романа посвящены описанию мастерских знаменитого ваятеля Джехутимеса и его помощников, спорам и раздумьям об искусстве. Писателю удается передать атмосферу смелой ломки устаревших традиций, дерзкого поиска, осознания безграничных возможностей искусства: «…нет силы, кроме силы ваятеля, которая в состоянии изваять нечто прекрасное». Велика власть царей, но камень оживает лишь под ударами молотка мастера.
Может быть, Г. Гулиа тем самым невольно ставит художника как бы над эпохой, обществом, политической борьбой? Нет, писатель верен исторической правде. Не только «плюгавенький» Вакерра, чей сомнительный поэтический дар цинично использует в своих низменных целях Сулла, но даже такие олимпийцы, как Джехутимес и Фидий, так или иначе испытывают на себе влияние общественного климата, оказываются втянутыми в водоворот политических страстей.
А Омар Хайям — разве он в беседе с главным визирем не говорит о необходимости для правителя обратить свой взор «на тех, кто копошится в земле от зари до зари», не призывает сделать все, чтобы из жизни были исключены нужда, голод и насилие? И разве для Лермонтова не становится подлинно звездным часом появление стихотворения «Смерть поэта» — этой поэтической и, по существу, политической прокламации?
Особенно бурно кипят политические страсти в исторической трилогии Г. Гулиа — «Фараон Эхнатон», «Человек из Афин» и «Сулла». Об этом стоит сказать чуть подробнее.
… Почему Геродот, признанный «отец истории», один из добросовестнейших и достовернейших античных авторов, так искренне увлекавшийся Египтом и — по тогдашним меркам — отлично знавший его прошлое и настоящее, почему он даже не упоминает нигде об Эхнатоне? Одной только давностью лет это вряд ли можно объяснить. Ведь обнаруживаем же мы в «Евтерпе», второй книге геродотовской «Истории», имена фараонов куда более древних династий, вплоть до Хеопса. Нет, дело здесь в другом, и, видимо, прежде всего в фигуре самого Эхнатона.
Известный французский египтолог Гастон Масперо как-то заметил, что «памятники некогда поведают нам о делах Хеопса, Рамсеса, Тутмоса, от Геродота же мы узнаем то, что говорили о них на улицах главного города».
Об Эхнатоне «на улицах главного города», то есть в той среде, откуда главным образом черпал информацию Геродот, а среда эта была в значительной мере жреческой, — об Эхнатоне предпочитали не говорить. О нем следовало забыть. Царь-бунтарь, царь-еретик, дерзнувший посягнуть на власть древнего бога Амона, на традиции предков, на извечные привилегии лучших людей Египта, — вот кем был Эхнатон в глазах жрецов и реакционной знати. Не случайно вскоре после его смерти исчезла с лица земли построенная им новая столица — Ахетатон; все, что напоминало о фараоне-отступнике, должно было уйти в небытие. Что ж удивительного, что Геродот ничего не услышал о нем…
Георгий Гулиа сразу же вводит нас в самую гущу политической борьбы. Уже в первой главе мы знакомимся с теми, кто мечтает о гибели фараона, и не только мечтает, но и всерьез готовится к заговору. Вот аристократ Усеркааф, скрывающийся под именем Нефтеруфа, вот некогда блистательный Шери, вот красавица Ка-Нефер… История подготовки несостоявшегося покушения на Эхнатона, не состоявшегося потому, что фараон вдруг скоропостижно скончался, и составляет, собственно, главную канву сюжета в романе «Фараон Эхнатон».
Сюжет этот увлекателен, умело выстроен, есть здесь и напряженность, и неожиданные повороты, и отступления, как бы «притормаживающие» развитие действия. Что же это — занимательная хроника дворцовых интриг? Своего рода боевик «из древнеегипетской жизни»? Нет, перед нами серьезное социальное полотно, реалистически воссоздающее картины острейшей политической борьбы, в которой, кроме фараона, жречества и рабовладельческой верхушки, так или иначе принимают участие и широкие слои населения тогдашнего Египта.
По существу, «Фараон Эхнатон» — не просто исторический роман в привычном смысле этого слова, я бы сказал, что это политический роман.
То же самое с еще большим основанием можно отнести к «Человеку из Афин», хотя в предисловии к книге автор высказывается в том смысле, что Перикл «не был… гениальным политиком». Писателя более всего привлекают человеческие и гражданские добродетели Перикла, его гуманизм, мудрость, широта души и взглядов, его приверженность идеалам демократии. Ключ к образу Георгий Гулиа видит в словах Плутарха о Перикле: «…он считал, что из всех его достоинств самым прекрасным было то, что он, имея столь большую власть, ничего не делал из зависти или под влиянием раздражения и никого не считал своим непримиримым врагом». Сам Перикл в финале романа, уже на смертном одре, как бы дополняет своего будущего биографа: «Вы не отыщете в Афинах ни одного человека, кто бы по моей вине надел черный, траурный плащ… Ни одного… Ни одного…»
Право же, это очень, очень немало для правителя, стоявшего у власти сорок лет!..
Но разве эти достоинства Перикла не обнаруживают в нем именно великого политика, и не в политической ли деятельности прежде всего раскрылись они в полной мере? Разве не была политика всей жизнью этого незаурядного человека, смыслом его существования, разве не владела она безраздельно всеми его мыслями и чувствами?
Да, Перикл — личность незаурядная. Однако же и сложная. Таким, кстати, и рисует его Плутарх. Он отмечает величие духа, благородство и бескорыстие Перикла, но не забывает сказать и о «наивном бахвальстве», о «спеси и презрении к обездоленным», о том, что «не существует в природе более мягкого характера при высоком мнении о себе и более недоступного при всей своей кротости». Он говорит о выдающихся заслугах Перикла перед Афинами, но не обходит молчанием и того, как Перикл сначала угождал пароду, а затем «сменил мягкую демагогию, основанную на уступках массам, на аристократический и даже монархический строй». Похожее писал о перикловских Афинах и Фукидид: «По имени это была демократия, на деле власть принадлежала первому гражданину».
Отголоски этих мнений находим и у Г. Гулиа, в частности, в острых спорах между Периклом и молодым тираноборцем Агенором. Но именно отголоски. Читая роман «Человек из Афин», иной раз невольно ловишь себя на мысли, что автор заметно более снисходителен к своему герою, нежели столь высоко им чтимый Плутарх. Порою его Периклу недостает психологической многозначности, той реальной, живой противоречивости, которая делала его сыном своей непростой эпохи. Может быть, сказывается увлеченность писателя своим героем, а может быть, отчасти и жанровые особенности романа, где сюжетное начало несколько ослаблено, зато важная роль принадлежит политическим спорам, философским дискуссиям, размышлениям, отступлениям в прошлое.
Совсем иное дело — «Сулла», последняя книга трилогии Г. Гулиа: здесь все — динамика, действие, стремительный бег событий. Роман раскрывает перед нами одну из самых драматических страниц эпохи гражданских войн в Древнем Риме и пронизан политикой от начала до конца. Но, в отличие от «Человека из Афин», в «Сулле» политическая стихия выявляется не в речах или диспутах, не в борьбе идей и концепций, а в борьбе военной, в борьбе кровавой, в открытом противоборстве рвущихся к власти сил.
В чем угодно, только не в велеречивости можно упрекнуть Луция Корнелия Суллу. Словам он не придает значения. Он верит в силу оружия и в силу воинской дисциплины, прославленной римской дисциплины. «Что сталось бы на свете, не будь этой дисциплины, рядом с которой меркнет любая философия, любая наука и даже религия?!» И на эту силу Сулла делает свою ставку: развязывает войну римлян против римлян, одного за другим убирает с дороги соперников, огнем и мечом карает правого и виноватого…
В исторической памяти человечества Сулла остался как кровавый, вероломный тиран, и роман Г. Гулиа еще раз подтверждает, что репутацию эту он заслужил вполне; достаточно вспомнить впечатляющую сцену расправы над восемью тысячами безоружных пленных, расправы, целью которой было — разъяснить некоторым не слишком понятливым сенаторам кое-что относительно намерений диктатора… Однако он далеко не прост, этот Сулла. Недаром о нем говорили, что в его душе лев уживается с лисицей, причем лисица опаснее льва. Плутарх отмечает, что «крутой нравом и мстительный от природы, Сулла, ради пользы, умел сдерживать гнев, уступая расчету», что он «обхаживал тех, в ком имел нужду, и чванился перед теми, кто имел нужду в нем, так что непонятно, что было более свойственно его натуре — высокомерие или угодливость». О необычайной переменчивости, сложности натуры Суллы, о его склонности к непредвиденным поступкам пишет в своих «Гражданских войнах» и Аппиан.
Именно таким — многомерным, объемным, противоречивым и вместе с тем по-своему цельным — рисует Суллу Г. Гулиа. Исторически и психологически это едва ли не самый убедительный образ трилогии, есть в нем скрытая внутренняя сила, если угодно, известная притягательность (не знаю, уместно ли в данном случае говорить о притягательности, но ведь существует же на театре и в кино такое понятие, как «отрицательное обаяние»). Без Суллы, разительно контрастирующего с образами Эхнатона и Перикла и дополняющего их, а в чем-то, быть может, и до предела заостряющего отдельные их черты, главная тема трилогии Г. Гулиа, тема власти и своеволия, гуманизма и деспотии, не была бы развита по-настоящему.
Называя исторические романы Г. Гулиа романами политическими, я, конечно же, не хочу тем самым сказать, будто в них безраздельно господствует одна только «голая» политика. Дело обстоит совсем не так. Прошлое, этот настолько удаленный от нас, что почти нереальный мир, предстает у Г. Гулиа в самой что ни на есть реальной достоверности, предстает зримо, осязаемо, вещно, в красках, звуках, запахах, в деталях быта. И человек здесь отнюдь не абстрактный homo politicus, а существо из плоти и крови, со своим лицом, характером, эмоциями. Во всяком случае, писатель стремится именно к этому и во многом, надо сказать, достигает успеха. В его романах «пахнет человечиной», если воспользоваться выражением Марка Блока, автора книги «Апология истории».
Факты и вымысел — вот вечная для исторической романистики проблема, и решается она по-разному. Известно, что, работая над «Саламбо», Флобер широко опирался на исторические труды, особенно много дал ему Полибий; однако при этом писатель очень заботился о том, чтобы, как он говорил, «работа археолога не чувствовалась». В романах Г. Гулиа художник и археолог идут рядом, помогая друг другу. Завидная историческая эрудиция — результат многолетних штудий, досконального изучения древних и современных авторов — не только создает прочную основу для творческого воображения, но нередко выявляется и в прямых ссылках, цитатах, сопоставлениях. Не берусь судить о степени научной бесспорности тех или иных гипотез — это в компетенции специалистов. Я говорю в данном случае лишь о некоторых особенностях писательской манеры, о его методе художественной реконструкции облика ушедших эпох.
Как свет далеких звезд, доходят до нас из этих эпох женские образы, как бы чуть-чуть затуманенные временем, но «оживляемые» воображением и чувством писателя.
Первой здесь должна быть названа Нефертити, жена фараона Эхнатона. Для нас это фигура почти мифическая, пленительный, но в какой-то мере все же условный символ женской красоты. В романе Г. Гулиа перед нами реальный, полнокровный, психологически достоверный образ женщины — прекрасной, мудрой, любящей, мучимой ревностью… Да, ревностью. Подумать только: отвергнутая Нефертити, Нефертити, которой предпочли другую! Есть в этом какая-то дерзость со стороны писателя, но дерзость, я думаю, оправданная, дающая несомненный художественный эффект.
Другие женские образы в исторической прозе Г. Гулиа, пожалуй, вряд ли могут сравниться с Нефертити по убедительности и очарованию, но все же нельзя не признать, что в общем они Г. Гулиа удаются, это несомненно: Кийа — соперница Нефертити, Ка-Нефер, Сорру («Фараон Эхнатон»), верная подруга Перикла Аспазия («Человек из Афин»), Коринна («Сулла»), Эльпи и Айше («Сказание об Омаре Хайяме»)…
Раз уж мы заговорили о женских образах, рискну затронуть один, быть может, отнюдь не первостепенный, но и не совсем уж несущественный момент. Встречаются у Г. Гулиа любовные сцены, написанные с той степенью смелости, которая, не исключено, может показаться кое-кому чрезмерной. Между тем не следует забывать, что речь, как правило, идет о временах, когда в представления о плотской любви не привносились нормы аскетической христианской морали, а если иметь в виду Рим, то об эпохе неслыханного упадка нравов. Художник, стремящийся к исторической достоверности, не может не считаться с этим, как не может он игнорировать древнейшую литературную традицию, к которой принадлежит, например, пронизанная любовным томлением и восторгом библейская «Песнь песней».
Вспоминается в этой связи полемика Достоевского с «Русским вестником» по поводу пушкинских «Египетских ночей». Один из авторов катковского журнала счел, что рассказанная Пушкиным, вернее, его персонажем, итальянцем-импровизатором, история о Клеопатре и ее любовниках недостаточно целомудренна, ибо дело здесь доходит, дескать, «до последних выражений страстности». Достоевский справедливо усматривает в такой трактовке «что-то маркиз-де-садовское и клубничное». «Это последнее выражение, о котором вы так часто толкуете, — пишет он в статье «Ответ «Русскому вестнику», — по-вашему, действительно, может быть соблазнительно, по-нашему же, в нем представляется только извращение природы человеческой, дошедшее до таких ужасных размеров и представленное с такой точки зрения поэтом (а точка зрения-то и главное), что производит вовсе не клубничное, а потрясающее впечатление».
Конечно, это говорится не о ком-нибудь, а о Пушкине, о гении, но ведь нравственные и эстетические критерии суждений о литературе едины. Хотелось бы, чтобы о них помнили и мы, читатели романов Г. Гулиа.
* * *
Что такое миг вечности?
Омар Хайям рассказывает индийскую притчу, в которой древний мудрец отвечает на этот вопрос так: «Вы видите Луну? Вообразите себе столб из алмаза высотою от нас до Луны. А потом вообразите себе, что каждый день садится на вершину столба некая птица и чистит свой клюв об алмаз. Она при этом слегка стирает столб, не правда ли?.. Так вот… когда птица опустится до земли, источив весь столб, это и будет миг вечности».
И вот перед нами несколько запечатленных художником мгновений вечности, бесконечно далекого, навсегда ушедшего от нас прошлого… Казалось бы, что нам в нем, в этом прошлом?
Аспазия, покорившая Перикла не только красотой, но и умом, та самая Аспазия, за подлинные мемуары которой Мериме готов был отдать всего Фукидида, говорит об этом так: «… Истинный прорицатель прежде всего хороший знаток прошлого. Может быть, я выразилась не совсем точно: прекрасный знаток прошлого! Умеющий заглядывать в прошлое и угадывать путь, пройденный человеком, схватывать извивы пути — и мысленно продолжать этот путь с учетом всяческих неожиданностей, случающихся в жизни».
Но будем слишком придирчивы к фразеологии тех, кто жил две с половиной тысячи лет тому назад. Да, разумеется, современный художник, если это серьезный художник, — не прорицатель, он и не претендует на эту роль. Но разве не мечтает он, полнее познав настоящее, яснее представить себе пути в будущее? И разве не важно ему для этого уметь «заглядывать в прошлое»?
Мне кажется, Георгий Гулиа своей исторической прозой доказал, что ему это под силу.
Юрий БАРАБАШ
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МИХАИЛА ЛЕРМОНТОВА
(книга-роман)
К читателю
Лермонтов писал: «Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь: оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики».
Из головы нейдут эти слова, когда меня спрашивают мои товарищи: романы об Эхнатоне, Перикле и Сулле и вдруг — Лермонтов?!
Надо ли говорить, что «вдруг» в литературе ничего не бывает? Если стихи поэта ты впитал, что называется, с молоком матери, если никогда не проходит щемящая боль в сердце, вызванная трагическим образом поэта, если тебя всю жизнь тянет ко всем уголкам, где он бывал, то спрашивается: можно ли не браться за перо?
Эта книга — про жизнь и про смерть Лермонтова так, как они могут быть объяснены документально, без особых домыслов. Про жизнь и про смерть его так, как понимаю я, как представляю себе. Следовательно, это не монография и не литературоведческое исследование, а скорее роман. Но и не совсем роман в обычном понимании. Читатель, разумеется, может предъявить к ней самые различные требования с самых различных точек зрения. По своему вкусу. А я бы назвал ее «книга-роман».
Мне могут сказать: а не слишком ли мало разбора самих произведений Лермонтова? Что на это можно ответить? Я пишу не школьное пособие, и нет лучшего «разбора» произведений поэта, чем чтение его книг.
Следует помнить, что о Лермонтове написано много. Попутно написано немало и о его многочисленных друзьях и родственниках — известных, полузабытых и вовсе не известных. О Лермонтове, я уверен, будут еще писать и писать. И, наверное, каждая новая книга будет иною, чем предыдущие. Было бы очень грустно, если бы они повторяли друг друга. Самое утешительное в этой ситуации то, что каждый может взять в руки перо, чистые листы бумаги и попытаться написать о поэте, сообразуясь со своим вкусом и познаниями. Все это пойдет в нашу общую литературную копилку.
Ночь у Красных ворот
В мире творилось что-то странное: в эту ночь над московским домом у Красных ворот позабыли зажечь звезду. И волхвы не искали сюда дороги. Может быть, потому, что в небе не оказалось путеводной звезды. Но скорее всего другое: вот уже восемнадцать веков тому, как мир не видел чудес и позабылись времена, когда «солнце останавливали словом, словом разрушали города».
Это странное явление станет ощутимей, когда сын человеческий — спустя двадцать семь без малого лет — почиет вечным сном на кавказской земле. Но и тогда не содрогнутся горы, и великое землетрясение не потревожит людей, и не разверзнутся могилы на горах и в долинах. И это несправедливо!
Но мир привык к несправедливости. С той самой поры, когда человек нашел в себе силы встать на ноги и гордо запрокинуть голову. Именно с той поры несправедливость, кажется, преследует его. Вполне возможно, что человек сам породил ее. Что она — его родное детище. Но все-таки следует отдать и должное человеку: он никогда не примирится с несправедливостью, и он ее первый, неумолимый враг. Ясно одно: наш мир далек от совершенства. С одной стороны, грустно произносить эти слова. Но с другой, — я уверен — этот непреложный факт направляет энергию рода человеческого на совершенствование жизни…
Итак, над Красными воротами не видно было библейской звезды. Зато почти всю ночь в самом доме горел свет и суетились люди. Спали только хозяева дома — семья генерал-майора Федора Толя, сдавшего несколько комнат отставному капитану Юрию Петровичу Лермонтову.
Поздней ночью доктор сообщил капитану, что родился мальчик.
— Душевно поздравляю, — произнес доктор без той особенной приподнятости, которая сама собою приходит с появлением здорового, ревущего во всю глотку ребенка. Мальчик был крохотный, и опытный глаз доктора мигом приметил болезненные формы рук и ног.
Очень плохо чувствовала себя мать. Роды вконец измучили ее.
Юрий Петрович был бледен. От забот, вдруг нахлынувших, и от бессонной ночи. Для своих двадцати семи лет он выглядел неважно. Что-то тайное, нездоровое проступало на его лице. Может, это был тот самый недуг, из-за которого пришлось ему оставить военную службу в 1811 году. И тот самый недуг, который, в конце концов, свел его в могилу семнадцать лет спустя после этой ночи.
Но была в этом доме женщина, которая в трудные часы сохраняла — по крайней мере внешне — спокойствие и твердую решимость оказать помощь тому, кому она потребуется. Из уст ее не срывались пустые слова утешения. Она негромко советовала, молча подавала воду или лекарство. Без суетливости. Не теряя присутствия духа, что было не так-то просто в эту тревожную ночь.
Нынче, в ночь со второго на третье октября, в доме у Красных ворот мы находим главных действующих лиц той семейной драмы, перипетии которой окажут сильнейшее влияние на характер, на душу, может быть, и на судьбу одного из величайших поэтов России и всего мира — Михаила Юрьевича Лермонтова.
Ему дали жизнь Мария Михайловна и Юрий Петрович. Но та невысокая, статная пожилая женщина, готовая оказать любую помощь любому в этом доме, воспитает его, поставит на ноги и окружит такой несказанной любовью и заботой, на которую способна только поздняя бабушкина любовь. Я говорю о Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной.
Тугой узел семейной драмы завязался именно в ту пору, когда Юрий Петрович попросил руки Марии Михайловны, когда Маша сказала «да», а мать ее, Елизавета Алексеевна, произнесла слово «нет». «Нет», — повторила вслед за нею вся родня. Потому что, дескать, они не пара: он — беден, она — невеста богатая. Пусть он рода дворянского. Но ведь обедневшего. Одно только название: дворянин!
Но Маша сказала «да» и настаивала на своем. Мать ее в конце концов сдалась. И он вошел в дом к жене. В дом к теще. Юрий Петрович явно поступился самолюбием.
Маша любила его горячо. В этом — никакого сомнения! Молод он, красив, воспитан, учтив.
А он? Любил ли он Машу, хрупкую, милую Машу? Тоже — несомненно! Нет никаких указаний на то, что Юрий Петрович в данном случае действовал из чистой корысти. Это соответствовало искреннему желанию и невесты, и жениха. И Юрий Петрович оказался в Тарханах на правах молодого хозяина.
Елизавета Алексеевна, казалось, тоже пошла на уступки ради своей дочери. Однако неприязнь к зятю нарастала не по дням, а по часам; теща не могла бороться против своих чувств.
А со временем заговорит и ревность — едва сдерживаемая ревность больной жены. По-видимому, были для этого основания. А легкомысленный муж все будет гнать от себя мысль о драматической развязке.
Логическое развитие семейной драмы, не правда ли? «Бог нашей драмой коротает вечность — сам сочиняет, ставит и глядит». Так сказал поэт и мудрец Омар Хайям. Бог, судьба, жизнь — не все ли равно, как называть все это?.. В несокрушимом триединстве сочиняются и ставятся миллионы и миллионы драм. И редко повторяется до мелочей одна и та же ситуация. Она «повторяется» только для непосвященных, ибо жизнь в каждое свое мгновение несет с собой все новое и новое. Подобно горной речке, бегущей по каменистому ложу. И похожа она на себя и не похожа! А жизнь неистощима в своей фантазии, и сюжеты ее — один острее другого…
А этот маленький мальчик, не подозревающий, куда, к кому и зачем явился?
Все, кажется, предельно ясно в завязке этой драмы, кроме самого главного: кто этот пришелец, этот только что народившийся человек? Великие библейские времена, метившие особой метой людей необыкновенных, безвозвратно канули в вечность. От той старины осталась только любовь. Своим теплом спасающая человека для грядущих дел. Источником такой любви стала для мальчика строгая бабушка, сердце которой мгновенно размягчалось под его взглядом и при одном звуке его голоса.
Дворянский род Лермонтовых появился в России в начале семнадцатого века. Следуя московскому говору, фамилия эта писалась через «а»: Лермантов. Это продолжалось вплоть до того временя, когда молодой Лермонтов-поэт начал правильно писать свою фамилию — через «о».
Предок поэта Георг Лермонт — возможно, один из потомков шотландского барда Лермонта, будто бы жившего в одиннадцатом веке близ Эдинбурга, — оставил родину и выехал в Польшу. При одном из столкновений поляков с московскими войсками перешел к русскому царю. Вместе с несколькими десятками шотландцев и ирландцев. Потом жил в Галиче, в собственном поместье. Умер под Смоленском в звании ротмистра рейтар.
В словарной справке Брокгауза и Ефрона говорится, что продолжатель довольно многочисленного рода Лермонтовых — сын Георга (Юрия) Петр. В Саранске он был воеводою, а сыновья его — Евтихий и Петр — стольниками. У Евтихия был праправнук Юрий Петрович, отец поэта.
Мужчины рода Лермонтовых носили, как правило, имена Юрий или Петр. Михаил составляет редкое исключение. Это отступление от фамильной традиции проливает свет на расстановку семейных сил, когда появился на свет Михаил Юрьевич. А полагалось бы, будь на то воля отца, называться ему Петром Юрьевичем.
Шотландское происхождение Лермонтовых имеет, разумеется, узкогенеалогическое значение. Два века пролегли между Георгом Лермонтом и Михаилом Лермонтовым. И тем не менее, ступив на лондонскую землю, я уже думал о Шотландии. Замыслив книгу о Лермонтове, я, естественно, мечтал побывать во всех уголках, связанных с именем Лермонтова.
И в один прекрасный вечер я отправился на поезде в Эдинбург. Мое волнение все возрастало по мере того, как приближался к столице Шотландии.
Сошел я на эдинбургский асфальт ранним январским утром. И долго бродил по улицам города. Любовался средневековым замком, маячившим в утренней дымке. И вволю глядел на небо.
Как журналиста меня всегда влечет в редакцию, словно голодного коня в конюшню. Мне нужен был ответ на интересовавший меня вопрос, и я его быстро мог получить в стенах редакции.
Словом, я оказался в кабинете мистера Алистера Даннета, редактора газеты «Скотсмэн». Он встретил меня радушно. Сказал, что совсем недавно был в Сочи и в Абхазии. Охотно взялся ответить на мой вопрос.
— Мистер Даннет, — сказал я, — мне бы хотелось узнать, живы ли потомки вашего знаменитого певца древности Лермонта? Если да, то можно ли повидать кого-либо по фамилии Лермонт?
Через минуту на столе перед ним лежало несколько телефонных книг.
— Вот номера телефонов эдинбургских Лермонтов, — сказал он. — А вот список Лермонтов из Глазго. Вернее, их телефонов. А вот Лермонты в Данди, Абердине… Вам нужно еще?
Лермонтов оказалось так много, что я вынужден был довольствоваться копиями списков.
Вскоре я стоял на стене замка и любовался видом Эдинбурга и его окрестностей, которые оттуда — словно на ладони.
Семнадцатилетним юношей Михаил Лермонтов писал в стихотворении «Желание»: «Зачем я не птица, не ворон степной… На запад, на запад помчался бы я, где цветут моих предков поля, где в замке пустом, на туманных горах, их забвенный покоится прах… И арфы шотландской струну бы задел, и по сводам бы звук полетел…»
Так писал Михаил. Но сам Юрий Петрович Лермонтов, как видно, не очень-то хорошо был осведомлен о своем генеалогическом древе. И мы знаем немного о самом Юрии Петровиче. Павел Висковатов признает, что «сведений об Юрии Петровиче очень немного». Известно, что умер он 1 октября 1831 года. Похоронен в родном селе Кроптово, или Кропотово, недалеко от города Ефремова Тульской области. Могила его, казалось, затеряна. Однако в конце 1974 года она была отыскана, и под руководством директора музея-заповедника «Тарханы» Валентина Арзамасцева прах Юрия Петровича был перевезен в село Лермонтове и захоронен недалеко от фамильной часовни-склепа Арсеньевых.
Родился Юрий Петрович в 1787 году. Воспитывался в кадетском корпусе, служил прапорщиком в Кексгольмском пехотном полку. Снова вернулся в кадетский корпус. Служил Юрий Петрович недолго (семь лет), числился на хорошем счету у начальства и уволился по болезни в чине капитана, двадцати четырех лет от роду (7 ноября 1811 года).
По всем сведениям, это был красивый, со столичными манерами человек. Дворянское происхождение обеспечивало ему некоторое положение в свете. Но всего лишь — некоторое, ибо род его обеднел. По тем временам — ужасный порок.
Судя по всему, Юрий Петрович пользовался успехом у дам. Совершенно определенно. Вспомним, что им увлеклась почти с первого взгляда застенчивая Мария Арсеньева, которой едва минуло восемнадцать лет.
Мария Михайловна была единственной дочерью в семье Арсеньевых, имение которых находилось в селе Тарханы Пензенской губернии. Это очень близко от Чембар. Она потеряла отца в пятнадцать лет, жила с матерью.
Путь в Москву из Тархан лежал обычно через Рязань или же Тулу. В Москве проживала многочисленная родня Арсеньевых, и девушку приходилось вывозить туда, особенно с шестнадцати лет. В эту пору она считалась на выданье. Была хрупка здоровьем, а по нраву — добрая, большая мечтательница. И, на мой взгляд, была женщиной «с характером». Вообще говоря, со стороны столыпинской почти все женщины были «с характером». Я уж не говорю о Елизавете Алексеевне. Взять хотя бы ее младшую сестру Екатерину Алексеевну. Она влюбилась в генерала Хастатова, армянина по происхождению. Жил Хастатов далеко-далеко, в своем имении в Шелковом, что близ Кизляра, по существу, в «прифронтовой полосе». Здесь, можно сказать, проходила граница кавказской войны. В Шелковом — постоянные тревоги, набеги горцев, боровшихся не на жизнь, а на смерть против царских войск. Тут, меж двух огней, и жил бравый Хастатов. Екатерина Алексеевна твердо решила идти за него замуж, и уговоры многочисленной родни не возымели никакого действия: она уехала в Шелковое. И вскоре удостоилась прозвища «передовой» помещицы, то есть помещицы, живущей на передовой линии огня.
Нечто подобное произошло и с хрупкой Машенькой: она влюбилась в отставного капитана Юрия Петровича Лермонтова. И чем больше убеждали ее забыть Лермонтова, тем больше росло в ней сопротивление «добрым» советам. Поначалу слово д о б р о е я хотел написать без кавычек. Возможно, лично для Машеньки советы эти явились бы добрыми. Возможно, она была бы счастливей с каким-нибудь пензенским помещиком или московским барином «на покое». Кто знает, как бы сложилась судьба этой глубоко несчастной женщины, не дожившей до двадцати двух лет, со скорбью покинувшей этот свет! Самое дорогое существо, которое оставляла она на земле, был ее сын Мишель. Ему только минуло два с половиной года. Рос он хилым… Вот все, что могла знать о нем Машенька. Могла ли она предположить, что этот самый болезненный Мишель, локоны которого нежно гладила она прозрачно-восковой ладонью перед смертью своей, прославит в веках имя ее и, «смертью смерть поправ», дарует живот всем близким своим: суровой бабушке, больной матери, отцу и многим, многим еще. Даже своему убийце.
Таковы, как говорили в старину, неисповедимые пути господни.
Но так или иначе, мечтательная, музицирующая на фортепьянах девушка стала женою Юрия Петровича. Наперекор всем!
Мать и отец дают ребенку жизнь. Но что же дает ему тот, кто воспитывает его?
Несомненно, гены играют большую роль в нашей судьбе. Я помню годы, когда их откровенно презирали мало компетентные в науке журналисты. В наше время, когда наука принялась решать на практике даже «парадоксы», пренебрежение генами или наследственностью кажется просто смешным. Но как бы то ни было, воспитание есть воспитание. И труд, который человек кладет на воспитание своего потомства, не знает себе равного по душевной и физической трудоемкости.
На примере короткой, но ярчайшей жизни Михаила Лермонтова мы увидим, что есть воспитание. Мы увидим, что может сделать одна бабушка, если даже она своенравна и сурова. Русская литература так многим обязана Елизавете Алексеевне Арсеньевой, что память о ней никогда не померкнет. Я бы сказал так: она будет вечно рядом с памятью о внуке ее. И не может быть иначе, ибо стояла Елизавета Алексеевна в ту октябрьскую ночь у Красных ворот над священными яслями Мишеля. Это она ласкала старческой рукой свинцовый гроб, в котором доставили Михаила с Кавказа в Тарханы — на место последнего упокоения. Возможно, не всегда угождала она окружающим. Не всегда нравилась им. Возможно, не всё в жизни делала она лучшим образом. А кто же все делал или делает самым лучшим образом? Говорят, Магомет и тот порой ошибался. Я это к тому, что Елизавета Алексеевна Арсеньева, утверждают, была слишком требовательна к своему зятю. И даже не в меру придирчива.
Человеческие отношения умирают вместе с людьми. Самые горячие страсти окаменевают вместе с остановившимся сердцем. Только документы проливают истинный свет. Да и то не всякий документ. Не все же доверишь бумаге! Тут бывают разные причины: от заблуждений вольных или невольных до прямой фальсификации из самых банальных, эгоистических побуждений. Одно остается неопровержимым: отношения между Юрием Лермонтовым и бабушкой Арсеньевой были не лучшими.
Столыпины — исконные и богатые дворяне. Симбирская вотчина Алексея Емельяновича Столыпина славилась хлебосольством. Пожить он любил. Говорят, охоч был до кулачных боев. Его дети не могли пожаловаться на свое здоровье или дурное воспитание.
Особенное пристрастие питал Алексей Емельянович к театру. Содержал его. Даже привозил в Москву на потеху и удивление друзьям. Как обычно в ту пору, играли в театре крепостные и часто домочадцы.
У Арсеньевой было три сестры и пятеро братьев. Елизавета Алексеевна вышла замуж не рано. Муж ее, Михаил Васильевич Арсеньев, был старше ее на пять лет. Проживал у себя в Тульской губернии, Ефремовского уезда. Вскоре молодожены переехали в село Тарханы. Машенька была их единственной дочерью.
Нельзя сказать, что судьба баловала Елизавету Алексеевну. Замужество, хотя это тщательно скрывала Арсеньева, не было счастливым. Муж ее, как видно, был человеком не то чтобы любвеобильным, но, несомненно, увлекающимся. В крепостнической России не очень-то обращали внимание на эту сторону помещичьих повадок. Но кое-кто и обращал. Елизавета Алексеевна не могла, например, простить мужу того, что он чрезмерно внимателен к одной из соседних помещиц. Возможно даже, что Арсеньев ставил спектакли в своем самодеятельном домашнем театре и часто играл в них ради этой самой соседки. Во всяком случае, Арсеньева приняла свои меры: однажды не пустила соседку на спектакль. И дело окончилось трагически: Арсеньев принял яд и умер. Именно таким способом свел счеты с жизнью незаурядный характером Михаил Васильевич. В возрасте сорока двух лет.
Со свойственной Столыпиным стойкостью Елизавета Алексеевна снесла этот удар. И мир интересов ее сошелся на дочери.
Итак, в ту ночь у Красных ворот у колыбели Мишеля находились три близких ему человека: Мария Михайловна, Юрий Петрович и Елизавета Алексеевна. Разве не достаточно этих четырех действующих лиц, чтобы разыграть любую трагедию или любую комедию, мыслимую в нашей жизни? «Бог нашей драмой коротает вечность…» Мы еще увидим, насколько справедлив был бог, пославший своего сына на Голгофу и ничего но сделавший для того, чтобы спасти, для того, чтобы оградить его от издевательств центурионов. И мы увидим еще, сколь несправедлив оказался он к тому смуглому, большеглазому ребенку, которого приняли священные ясли в осеннюю ночь у Красных ворот.
Мы увидим с вами еще одну драму, которой «бог коротает вечность». Мы ничего в ней не изменим при всем нашем желании. А хотелось бы, очень хотелось бы изменить. И прежде всего — конец ее.
Но наше счастье — великое человеческое счастье — заключается в том, что, бессильные изменить что-либо в уже сыгранной трагедии, мы можем изменить кое-что в своей собственной душе. Изменить к лучшему.
И эта возможность — большая награда для нас.
День второй
Великим желанием жить и наслаждаться жизнью обуреваем человек с первой же минуты своего появления на свет. Он не имеет никакого представления о том, куда и зачем явился. Его не тревожит ничто, он целеустремлен: жить во что бы то ни стало! Вот и вся его забота.
Но если бы новорожденный мог осмотреться и попытаться понять окружающее — неизвестно еще, пожелал бы он так неистово бороться за свое существование. Во всяком случае, наверняка призадумался бы кое над чем. И тогда, может быть, скепсис пришел бы к нему значительно раньше. Все возможно… Но не будем гадать, тем более что новое существо, народившееся у Красных ворот, спало блаженным сном, в то время как огромная его родина просыпалась уже ото сна в этот октябрьский четверг. Весьма знаменательный для наследника четы Лермонтовых — это был день первый!
Я уже говорил о том, что мир наш далек от совершенства. Разумеется, в этом утверждении нет ничего нового. В самой различной форме это повторяли мудрецы и поэты разных времен и народов. Страна, в которой родился Лермонтов, в этом отношении давала большую пищу для размышлений.
Всего два года тому назад пережила она великое наполеоновское нашествие. Бородино и пожар Москвы — все это словно бы вчера. Не было большей угрозы для государства российского со времен Батыя. Но Россия выдюжила. И на этот раз храбро сражались ее солдаты, большинство из которых были крепостные. Вот вам парадокс: забитый, до предела угнетенный крестьянский сын горою встает на защиту того самого государства, в котором сам он ценится не дороже простого, обиходного инвентаря. Парадокс этот покажется еще более удивительным, если представить себе на минуту, что на поле боя крестьянским сыном командовал тот же самый помещик, который снимал шкуру с него где-нибудь в Пензенской или Тамбовской губернии. В чем тут было дело? В глубоком ли национальном самосознании, которое заставляет забыть обо всех муках, или в организационной структуре развитого государства, когда человек значит не больше маленького винтика в машинном механизме? В отличие от некоторых кандидатов наук у меня нет готовой формулировки, которая исчерпывающе ответила бы на этот сложный вопрос. Особенная сложность, по-моему, заключается в том, что помимо социальных, чисто государственных, военных и прочих проблем здесь замешана и человеческая душа, психология человека, связанного с определенной землей, имя которой Родина. Чего только не перетерпишь во имя родной земли, будь она большая или малая, если ей грозит опасность!
Наполеон не учел всего этого. Его походы, будоражившие Европу, его на первых порах революционизирующие идеи с годами свелись к обычным имперским завоеваниям. Какая же роль отводилась другим народам в «великой наполеоновской империи»? Вассальная? А какая же еще? Но ведь и это не было новшеством в Европе, которую Наполеон именовал «кротовой норой». Европа видела-перевидела подобные «чудеса».
Допустим на одну минуту, что Наполеону удалось бы покорить Россию. Что он мог в этом случае предложить ее великому народу? Может быть, республиканский строй, который он растоптал в своем же доме? Или избавление от царя, с которым он не раз лобызался?
Наполеон мог позволить себе бесцеремонно схватить и расстрелять в Венсенском рву герцога Энгиенского. И потрясти этим расстрелом малых и больших европейских правителей. А русский мужик? Он даже понятия не имел о каком-то несчастном герцоге. Зато он воочию увидел за своей околицей угрожающие ряды иноземной армии. Как ни угнетали его помещики, как ни глумились над ним царские чиновники, — мужик оказался и умнее, и патриотичнее многих помещиков и чиновников. Поэтому не мог он спокойно воспринять иноземное нашествие, не мог не встать на защиту России в рядах армий Кутузова и Барклая де Толли, не мог не уйти к партизанам Дениса Давыдова. Потому-то так худо пришлось армиям Наполеона, потому-то многие из них не вернулись с поля брани. Чувство родной земли, чувство родины оказалось превыше обид мужика. В этом один из уроков войны Наполеона против России. Русский мужик, которого так третировал царский трон, в трудную минуту оказался на высоте национального самосознания, на высоте общенародных интересов.
В 1814 году в Париже появились русские воины-бородачи, до конца преследовавшие Наполеона вместе с союзными армиями. Русское слово «быстро!» настолько укоренится во французской столице, что этим словом станут называть небольшие кафе — «бистро». Хотя до Ватерлоо остается еще целый год, но звезда Наполеона, можно сказать, уже закатилась. Это был приговор истории.
Стоя на высоком холме в Ватерлоо, я думал о превратностях наполеоновской судьбы. Много зла причинил Европе этот неистовый корсиканец.
В Париже мне рассказывали о том, что акцент у Наполеона был ужасен. Он даже самое распространенное «кес-кесе́» произносил будто как «кешь-кешье́». И до самой смерти не выучился «правильному» произношению. Может быть, император и шокировал своим говором рафинированных парижан, но несомненно одно: он был единодержавным правителем Франции и сделал немало для ее возвеличения, для ее мировой славы. Другое дело — какой ценою и какой постиг конец его самого и его империю…
В Доме инвалидов я наблюдал туристов, приехавших из различных европейских стран, некогда покоренных Наполеоном, Они шумно восхищались гробницей императора. Это я могу понять. Но не только гробницей, но и подвигами его! Впрочем, что удивительного в этом, если предки их, испытавшие на себе жесткую руку Наполеона, очень скоро «забыли» обо всем и с подобострастием рассказывали своим потомкам о «великом пленнике острова Св. Елены». Каким бы привлекательным ни казался современникам кодекс Наполеона, не совсем понятно это преклонение перед чистейшей воды завоевателем. Для меня безразлично, например, в каком обличье предстоит завоеватель: с раскосыми очами Чингисхана или в белых перчатках парижанина, жарит он барана в минуты отдыха или же подписывает декрет об учреждении оперного театра. Завоеватель есть завоеватель!
Не успел отполыхать московский пожар, а образ Наполеона уж стал покрываться неким романтическим флёром. Портреты и статуэтки его появляются чуть ли не в каждом русском доме. Поэты наперебой будут посвящать ему стихи, в которых нет-нет да и проскользнут неприкрыто сочувственные строки.
Пушкин в 1821 году скажет о нем так: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек… Народов ненависть почила и луч бессмертия горит…»
В Доме инвалидов высоко вознеслась огромная каменная чаша над могилой Наполеона. Если разглядывать ее с близкого расстояния — приходится задирать голову. Я спросил одного туриста из Бельгии, нравится ли эта могила? «О, да!» — сказал он восхищенно. А я невольно подумал о другой могиле на зеленой лужайке. О скромной могиле, обложенной дерном, покрытой травою. О яснополянской могиле великого старца Толстого. Насколько та зелень величественней этого камня! Насколько та слава выше этой славы!
Однако факт остается фактом: наполеоновская треуголка и «серый походный сюртук» пожинали посмертную славу своего владельца на бескрайних просторах России. Может быть, это было выражением великодушия победителей?.. И наш поэт напишет: «Да тень твою никто не порицает, муж рока!.. Великое ж ничто не изменяет». И только после этого появится его замечательное «Бородино», с более высокой политической и человеческой точки зрения оценивающее нашествие Наполеона. И более реалистической.
Но, говоря откровенно, какая беда могла бы сравниться с тою, что творилась в русской деревне? Ничтожное меньшинство — помещики — правило гигантским крестьянством. Позор крепостничества черной тенью ложился на всю Россию, отравляя жизнь всем мыслящим людям того времени. Если крестьянин был низведен до состояния живого инвентаря, то о каком его человеческом праве можно было говорить? Порка, повседневное унижение, существование безо всякой надежды на справедливость — вот что ожидало миллионы и миллионы крестьянских детей. И это в крестьянской-то стране!
В городах, разумеется, тоже жилось не сладко. Здесь полноправно хозяйничали царское чиновничество и оголтелая военщина. Правда, при всем при этом здесь нельзя было продать человека, какого бы он ни был состояния, словно вещь. Но и только.
Да, пожалуй, не было в Европе страны, где бесправие царило бы столь безнаказанно и полновластно, как в России. И все, о чем писал Радищев, еще бытовало долгие-долгие годы после него.
Но вот удивительно: если на одну секунду отвлечься от всей этой социальной несправедливости, калечившей людей и убивавшей душу человеческую, если увлечься внешней стороной цивилизованного технического прогресса, то никогда не скажешь, что жизнь в России того времени была столь мрачной. Не скажешь, что она была адом. Ибо в аду, как известно, полностью исключается какая-либо прогрессивная деятельность. А в крепостнической России «чудеса» техники того времени появлялись тогда же, когда и в Англии, Франции, Германии, то есть в наиболее развитых в социальном и техническом отношении странах. Правда, в России не было еще своего Шекспира, Данте, Вольтера или Гёте. Это обстоятельство вдруг наводит на нелепую мысль: значит, Черепанов или Артамонов могли обойтись и без них? Или еще того нелепее: стало быть, пароход может ходить по реке, на берегах которой процветает рабство, или паровоз бегать мимо деревень, изнывающих под гнетом крепостничества? Нет, жизнь полна противоречий. Так же, как нельзя ее живописать каким-нибудь одним цветом, так же трудно представить ее одноцветной. В этом главный секрет ее сложности, в этом и главное объяснение тех или иных достижений. Разные силы действуют в мире: одни тянут назад, другие — вперед, третьи — топчутся на месте. Последние пять тысячелетий человеческой цивилизации принесли несомненное доказательство того, что слагающая всех этих сил неизменно направлена вперед. Она может быть большей по величине или меньшей. Это не столь важно. Важнее то, что она всегда направлена вперед. В биологическом плане это сохраняет жизнь на земле, а в философском и нравственном — дает человеку и всему человечеству силы, чтобы жить. В этом смысле мы далеки от бога Омара Хайяма, который «ни во что не верит» и где-то берет силы, «чтобы жить». «Сила» заложена в самом человеке. В его душе — красивой и могучей, любящей жизнь и верящей в нее.
Тот, который родился вчера у Красных ворот, не понимал еще всего этого. Однако природа заложила в его маленькую грудь все, что необходимо для любви и ненависти на земле, все, чем дышит и живет взрослый человек. Можно обижаться на природу, можно опять же сетовать на ее несовершенство. Но есть великое оправдание для появления каждого нового человека: ему дано многое, и прежде всего возможность улучшать, совершенствовать без предела себя и саму природу, создавшую его.
Стоит появляться на свет хотя бы ради этого. Стоит!
Из Тархан в Москву загодя были вызваны две крестьянки с грудными детьми. Кормилицы для новорожденного. Буде в них появится нужда. Врачи из двух выбрали одну — Лукерью Алексеевну Шубенину. Действительно, нужда в ней вскоре появилась. И Лукерья Алексеевна кормила Лермонтова своей грудью. Павел Висковатов говорит, что потомки Шубениной получили прозвище Кормилицыных. Могила ее в Тарханах. На старинном погосте. Это по дороге из Тархан на Михайловку. Говорят, что одна из безымянных могил, как назвал ее Сергей Андреев-Кривич, «без племени, без роду и имени», и есть могила Лукерьи Шубениной. Возможно. А может быть, и она затерялась так же, как могила Арины Родионовны в Петербурге, а народная молва да Кормилицыны окрестили бугорок именем Лукерьи? Впрочем, что в этом удивительного! Напрасно я пытался найти могилы фараона Эхнатона и великого Перикла. Человечество многим обязано им, но оно не сумело сохранить их последнего пристанища… (Недавно я получил письмо от Валентина Арзамасцева, в котором он пишет: «Могила Л. А. Шубениной не затеряна…»)
Ребенка по православному обычаю полагалось крестить. Этот обряд был совершен спустя неделю после его рождения, то есть 11 октября. Метрическое свидетельство было обнародовано в ноябре 1881 года в «Русской мысли».
Доподлинно известно, что на крещение Лермонтова были приглашены из церкви Трех Святителей протоиерей Петров, дьякон Петр Федоров, дьячок Яков Федоров и пономарь Алексей Никифоров. Протоиерей Петров был известен в церковных кругах, его потомки занимали долгое время священническое место при церкви Трех Святителей.
Как полагается, у крещеного были восприемники: бабушка Елизавета Алексеевна и коллежский асессор Фома Хотяинцев. Был ли младенец крещен в церкви или дома? Об этом нет точных данных. Но, по-видимому, дома; едва ли недельного ребенка понесли бы в церковь, учитывая состояние его здоровья, здоровье его матери и октябрьскую погоду. В прежнее время довольно часто крестили дома…
У купели, недалеко от Красных ворот, получил свое завершение небольшой семейный конфликт. По традиции Лермонтовых — я уж говорил об этом — сына полагалось бы назвать Петром. То есть по имени деда Петра. Но в дело, по всей видимости, вмешалась бабушка. Прямо или через посредство своей дочери. Было внесено другое предложение: назвать мальчика Михаилом по имени отца его матери.
Была ли при этом борьба? Несомненно! Ведь Юрий Петрович шел к купели с готовым именем, уже освященным семейной традицией. Во имя чего надо было нарушать ее? Да потому, что настаивала бабушка. Сдался ли Юрий Петрович мгновенно? Едва ли! Значит, был нажим.
Я хочу, чтобы на этот, казалось бы, незначительный случай было обращено особое внимание. Следует учесть — я уже говорил, — что Елизавета Алексеевна очень неохотно согласилась на брак своей дочери. Знал ли обо всем этом Юрий Петрович? Разумеется, да. Теперь ко всему прибавились крестины, где Юрий Петрович как глава семьи потерпел явное поражение.
Или надо было очень любить Марию Михайловну и ни в чем не перечить ни ей, ни ее матери, или же надо было обладать очень мягким, покладистым характером. Последнее, кажется, не подтверждается. Может быть, тут сыграла свою роль чисто мужская снисходительность к напору женщин? Ведь бывает такое в жизни.
Так или иначе, верх взяла Елизавета Алексеевна. Это она пожелала увидеть в своем внуке продолжение рода Михаила Арсеньева.
Поражение, которое потерпел у купели своего сына Юрий Петрович, несомненно, не прошло для него бесследно. И, наверное, позабылось бы неприятное, возможно, даже не осталось бы в душе горького осадка, если бы дальше все сложилось более или менее сносно. Если бы совместная жизнь не осложнилась еще больше.
Семейная жизнь не всегда протекает гладко. Это банальная истина. Я помню, как, будучи мальчиком и не очень-то разбираясь в том, что есть семейная жизнь, улавливал обрывки речей: «семья — это тюрьма для человеческих страстей», «семья — болото, в котором погрязают и женщина и мужчина», «да здравствует свободная Любовь без семьи, без брака!» Это было в двадцатые годы, когда имели хождение всяческие архиреволюционные теории, и насчет брака тоже. А мудрые люди, покачивая головами, говорили, может быть повторяя чьи-то слова: «Семья не самое совершенное изобретение, но пока что не выдумано ничего лучше нее».
Неизвестно, что думал Юрий Петрович о своей семейной жизни. Не оставил он на этот счет никаких письменных свидетельств. Мы можем судить об этом только по различным косвенным данным. Как бы то ни было, отношения между молодыми становились день ото дня все более натянутыми.
Вскоре Лермонтовы, разумеется, вместе с Елизаветой Алексеевной, вернулись в Тарханы. У всех троих, независимо от их отношений, была одна великая забота: уберечь от любой — большой или малой — беды слабенького Мишеля. Что бы ни случилось в семье — надо всем царствовало недреманное око бабушки, и око это всецело было направлено на Мишеля. При всех обстоятельствах Мишель для бабушки был дороже всего на свете.
Юрий Петрович редко, говорят, в это время выезжал из Тархан: только по самым неотложным делам в Москву или в свое Тульское имение. Нет никаких указаний на то, что отец хоть чуточку пренебрег интересами сына. По-видимому, он был любящим отцом — добрым и внимательным.
Что же говорить о Марии Михайловне?
Она обратила всю свою нежность на Мишеля. Целью дни проводила она с маленьким ребенком. Сама больная, не жалела она своих последних сил ради Мишеля. Мальчик требовал к себе полного внимания. Он отвлекал мать почти от всех дел. Но только почти… Ибо ее любящее сердце раскалывалось надвое: одна половина тянулась к Мишелю, другая — к Юрию Петровичу, который все дальше и дальше отдалялся от нее. Вопреки ее желанию.
В таких случаях близкому человеку очень трудно соблюсти хотя бы видимость нейтралитета. Речь идет о бабушке. Самое мудрое, разумеется, нейтралитет. Но возможен ли он, если под боком любимое существо, которое незаслуженно страдает? Елизавета Алексеевна не могла соблюдать нейтралитет. Не такого была она склада. С ее точки зрения, недостойный ее дочери муж вел себя к тому же и в супружестве недостойно: не раз обижал жену, а иногда и грубил ей. А однажды будто даже посмел поднять на нее руку. В минуту сильнейшего раздражения…
Довольно легко придумать любой диалог или монолог, из которых можно было бы заключить, что не все ладно в семье Лермонтовых. Нет ничего унизительнее подобной беллетризации, когда и «ложь на волосок от правды». А документов на этот счет нет никаких. Есть события, есть жизнь и отчасти молва, которую из первых рук в свое время получили Хохряков и Висковатов. Некоторые литературоведы не согласны с «традиционной» трактовкой семейного конфликта Висковатовым и пытаются почерпнуть из поэм Лермонтова больше автобиографического материала, чем это полагалось бы. Висковатову можно и должно верить, пока не получены иные, более достоверные документы.
Обычно даже самые мелкие семейные неурядицы, если они не пресекаются в самом зародыше, ведут к охлаждению. Теряется чувство. Говорят, уходит любовь.
Как должна была вести себя в этих условиях Елизавета Алексеевна? Наверное, всячески отвращать любящую дочь от мужа. Так она и поступала.
Над колыбелью Мишеля-несмышленыша пела грустные песни Мария Михайловна. Может быть, заодно оплакивала она и свою молодость? Поэт когда-нибудь напишет: «Я видел женский лик, он хладен был как лед, и очи — этот взор в груди моей живет; как совесть душу он хранит от преступлений; он след единственный младенческих видений…» Не о ней ли, не о ней ли эти строки?
Жизнь в тарханском барском доме делалась для его взрослых обитателей все невыносимее…
Итак, позади день второй.
Развязка
Любое жизнеописание Михаила Лермонтова не сможет обойтись без книги Павла Висковатова. А до него был Владимир Хохряков.
Ираклий Андроников пишет о Хохрякове: «Он первый, по живым следам, начал собирать рукописи Лермонтова и материалы для его биографии. Как много вложил он в это дело благородной и бескорыстной любви!» Его начинания с большим успехом продолжал Висковатов. Оба они еще застали в живых кое-кого из жителей Тархан, лично знавших Лермонтова, и донесли до нас их бесценные рассказы. К сожалению, многое из того, что происходило в барском доме, так и остается тайною до сих пор.
Неурядицы в семье Лермонтовых со временем приняли такой характер, что скрывать их уже было невозможно. По всем данным, Мария Михайловна переживала все это крайне тяжело. Но с достоинством. Она нянчила свое дитя, в свободное время играла на фортепьяно или ходила по крестьянским избам, чтобы утешить немощных и помочь лекарствами.
Ребенок выравнивался очень медленно. А мать его худела с каждым днем, и слезы на глазах ее не просыхали. Елизавета Алексеевна, которой приходилось наблюдать это, несомненно, делала все, чтобы отвлечь свою дочь от «непутевого мужа».
Юрий Петрович вступил в ополчение. Но его кратковременное отсутствие не поправило семейных дел, все оставалось по-прежнему: неприязнь, переходящая во враждебность, мелкие дрязги, доходящие до крупных ссор.
Лермонтовы приехали из Москвы в тарханскую усадьбу зимою 1814/15 года. По-видимому, когда ребенку было полгода. Во всяком случае, именно этот возраст записан в Вероисповедной книге. Прежде, до того как Елизавета Алексеевна купила тарханское имение у Нарышкина, село называлось «Никольское, Яковлевское тож». Это название сохранялось много лет.
Долго я ходил по комнатам барского дома и внушал себе, что именно здесь, — в углу ли, у окна ли, — сидел юный Лермонтов. А того дома, где на суконных коврах ползал Мишель и в котором умерла Мария Михайловна, уже нет. Он был снесен Елизаветой Алексеевной, а на его месте воздвигли домовую церковь. Можно понять Елизавету Алексеевну: ей было тяжело среди стен, в которых умерли ее муж и дочь.
О внешнем виде тарханского дома, — как он выглядел в прошлом веке, — мы можем судить по рисунку Павла Висковатова. Думаю, что сад, пруд, дорожки не очень изменились более чем за столетие: все это сберегли окрестные крестьяне.
Бродя по селу, я невольно вспоминал строки поэта: «Из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой…», «И прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка…» — и мне казалось, что это писалось вчера, что все остается так, как тогда, при Лермонтове.
Я бродил по роще, по берегу пруда и сравнивал со стихами поэта то, что видел: «Родные все места: высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей; зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится — и встают вдали туманы над полями». И прихожу к выводу: как мало здесь перемен за сто с лишним лет! И оттого, что все почти, как прежде, при Лермонтове, ты испытываешь особое чувство благоговения перед окружающим…
Чем могла бы закончиться семейная драма Лермонтовых, если бы не смерть Марии Михайловны? Жестокая болезнь — чахотка, которую только в наше время смогли победить, подкосила ее. И она ушла из жизни, не подозревая, кем будет ее мальчик! И что напишет он много лет спустя: «…он был дитя, когда в тесовый гроб его родную с пеньем уложили. Он помнил, что над нею черный поп читал большую книгу, что кадили…» и что, «закрыв весь лоб большим платком, отец стоял в молчанье. И что когда последнее лобзанье ему велели матери отдать, то стал он громко плакать и кричать…»
Так распорядилась судьба, и тугой узел семейной драмы вдруг оказался распутанным. Для взрослых. Но не для того мальчика, который громко плакал и кричал. Для него начались новые муки — на сей раз настоящие, ибо сознание его понемногу прояснилось и он стал день ото дня понимать все больше, мир начал открываться его глазам и во всей прелести, и в неприглядной наготе.
Похоронили Марию Михайловну рядом с могилой ее отца.
С каким чувством возвращались взрослые домой? О чем думал Юрий Петрович? О том, что больше не жить ему в этом доме под одной крышей с Елизаветой Алексеевной? По-видимому, да. Но что делать с ребенком, к которому питал самые горячие чувства Юрий Петрович? Разумеется, увезти с собою в свое тульское имение Кропотово. Ведь это же естественно! Было бы непонятно, если бы Юрий Петрович думал иначе. Нет, иначе он все-таки не думал: он решил забрать Мишеля…
А Елизавета Алексеевна? Неужели она готовила себя к тому, что Мишеля вот-вот увезут и она останется одна в целом свете? Разве жалела она силы и средства, чтобы выходить Мишеля? Разве не бодрствовала она ночами, когда болел Мишель? Вместе с Марией Михайловной, разумеется, и вместе с Христиной Осиповной, которая со дня рождения Мишеля к нему была приставлена. Разлука с внуком исключалась. За полной ее невозможностью для Елизаветы Алексеевны…
Но ведь и пра́ва отцовства никто не лишал Юрия Петровича. Да и невозможно было лишить его этого!..
Вот вам еще одна, уже новая коллизия развивающейся семейной драмы. Как быть? — этот вопрос не давал покоя ни Елизавете Алексеевне, ни Юрию Петровичу.
Но не думайте, что трехлетний Мишель совсем в стороне. Нет, его роль пока просто пассивна. Но в его душе все эти перипетии оставят глубокий, так и не заживший до самой его смерти след.
Ошибается тот, кто думает, что трехлетний ребенок — сущий несмышленыш, Это совсем не так! Все — хорошее и плохое, радостное и горестное — когда-нибудь скажется. Когда-нибудь «прорежется». Хорошей или недоброй гранью…
… Словом, детская память чрезвычайно обострена. Это мы по себе знаем. На ней отпечатывается все, словно на воске. А что сказать о детской душе? Она слишком хрупка и поэтому слишком ко всему восприимчива.
Когда семья снова собралась под общей кровлей, то окончательно выяснилось, что двое в ней совершенно непримиримы — это Юрий Петрович и Елизавета Алексеевна. Не было ничего, что бы объединяло их теперь, кроме Мишеля. Мальчик играл на полу, казалось, не замечал ничего. Но слух его был чуток, и он ловил все, что говорилось и как говорилось его отцом и бабушкой. Наверное, принимались меры, чтобы уберечь ребенка от ненужных ему разговоров. Наверное, Христина Осиповна не оставалась безучастной. Но не все же скроешь. Тем более когда родственные отношения переходят во враждебные. В полном смысле этого слова.
Девять дней и ночей провел Юрий Петрович в тарханском доме. Девять мучительных дней и ночей. Это тот минимальный срок, когда, по обычаю, необходимо «побыть» с покойным. На девятый день — поминальный обед…
Наступил день десятый… И теперь уже ничто не может удержать Юрия Петровича в этом постылом для него доме. И он уезжает к себе в Кропотово. Покуда оставляя сына. На попечение его бабки.
И в этом случае обнаруживается решительность и настойчивость Елизаветы Алексеевны.
Словом, Юрий Петрович уступил.
Что же все-таки произошло?
На этот счет не имеется доподлинных документов. Однако картина поддается описанию и исследованию.
Аргументы Юрия Петровича: он не может долее жить в этом доме. Он вынужден уехать к себе, в Кропотово. Сын есть сын, он любит сына, а посему забирает его с собою. Верно, достаток будет не тот, но что поделаешь, придется напрячь все силы и возможности. Ради сына.
Аргументы Елизаветы Алексеевны: верно, жить Юрию Петровичу здесь, должно быть, невмоготу. А сын есть сын. Это можно понять. Но ведь надо понять и Елизавету Алексеевну: это ее внук! Не может она без него. Достаток для ребенка, тем более болезненного, очень важен. Нельзя подвергать Мишеля риску. Елизавета Алексеевна сделает для него все, она отдаст ему все свое немалое имущество. Она позаботится о нем. Отец может наезжать, может видеться и даже иногда брать сына с собою.
Была обещана «помощь» и Юрию Петровичу. И она воспоследовала. Именно эта «помощь» в значительной степени повлияла на его уступчивость в вопросе о сыне.
Юрий Петрович уехал к себе после мучительных девятидневных разговоров с тещей. И Мишель навсегда лишился и матери, и отца. Хотя время от времени Мишель и виделся с отцом. Хотя время от времени Юрий Петрович требовал сына к себе. Но одно дело — видеться, а другое — жить с отцом и чувствовать его локоть каждодневно.
Достаточно ли было для мальчика бабушкиной любви — безотчетной, всепоглощающей, слепой? Наверное, да. И тем не менее недоставало родительской. Одна любовь в семье не заменяет полностью другую. Это давно известно.
Елизавета Алексеевна дала обет: она поклялась сделать для внука все возможное и даже невозможное.
И она это сделала. И это было подвигом ее. Трудным и радостным. Поэтому никогда не померкнет имя Елизаветы Алексеевны Арсеньевой.
Итак, завершился первый акт семейной драмы. Со смертью Марии Михайловны. Ее возраст точно определен в надписи на надгробии: 21 год, 11 месяцев и 7 дней.
Над прудом среди дубравы
Помещичьи усадьбы редко обходились без обширного сада, без зеленой рощи и большого пруда. В этом смысле Тарханы не представляли исключения. Здесь, на лоне природы, в стенах просторного барского дома, протекали детские годы Мишеля Лермонтова. Бабушка делала все, чтобы внук ее рос в полнейшем достатке. Ни в чем ему не было отказа. Забавы его не ограничивались. Летом — пруд, прохлада в тени деревьев, зеленые лужайки, а зимою — ледяная гора, санки, игры в теплых покоях. Бабушка звала к себе плясуний и певиц. Приходили ряженые, которых на это время освобождали от повседневных работ. (Разумеется, устроить сыну такую жизнь Юрий Петрович не смог бы.) И, можно сказать, ни единой минуты без бабушкиного глаза. Она спала с ним в одной комнате, прислушивалась с тревогой к его дыханию по ночам, когда Мишель болел. И хозяйственными делами занималась теперь Елизавета Алексеевна только ради своего внука. Ибо. он был для нее всей жизнью, всем миром, светом ее очей. Желание Мишеля — закон для бабушки, для всех, кто жил в Тарханах. Баловень, скажете вы. И не ошибетесь: да, баловень!
И неизбежно встает вопрос: как мог избалованный в детстве человек, выросший в неге и холе, возненавидеть политический и социальный строй, взрастивший его самого?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, что же было здесь кроме удобных покоев, кроме пруда и дубравы. Ведь Тарханы — это не только барская усадьба, но и нивы, гумна, крестьянские печальные избы и печальные деревеньки в округе. Ведь Елизавете Алексеевне принадлежали не только дом, деревья, избы, но и люди, жившие в Тарханах. Здесь во всей наготе представала та самая крепостническая деревня, которая не давала покоя совести лучших людей того времени.
Елизавета Алексеевна вела хозяйство не без умения. Сотни рабочих рук трудились день-деньской, добывая для нее и пропитание, и деньги. Ибо только таким путем можно было удерживать на определенном уровне «процветающее» хозяйство. Царский строй ревниво оберегал интересы помещика. Сам царь был первым и самым богатым помещиком на Руси. Дворянство составляло верную, неподкупную опору режима. А офицерство — почти все — набиралось из дворян. Помещик, можно сказать, не только отдавал армии своих детей, но, по существу, содержал их на свои деньги во имя защиты «царя и отечества». Между государством, армией и дворянством была столь прочная взаимосвязь, что нарушить ее было совершенно невозможно без радикального изменения всей жизни, всего строя сверху донизу.
Спрашивается: видел ли юный Лермонтов, как пороли нерадивых крестьян? Несомненно! Наблюдал ли он слезы бедных солдаток? Несомненно! Проходила ли мимо его пытливого взгляда вся подлость и жестокость крепостнической деревни? Нет, не проходила. Ибо все это уж слишком было на виду, на самой поверхности жизни.
О деревне той поры есть точное свидетельство. Оно принадлежит Пушкину. Хотя оно давно стало хрестоматийным, я приведу его: «Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца. Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, надежд и склонностей в душе питать не смея, здесь девы юные цветут для прихоти бесчувственной злодея».
Поэту деревня представлялась «толпой измученных рабов». Можно ли сказать яснее, точнее? Можно ли беспощадней пригвоздить к позорному столбу царский строй? Был ли в подобном обличении великий Пушкин одиноким? Нет, разумеется. Но слова его, сказанные столь прекрасно и авторитетно, дают вернейшую картину деревенской жизни той эпохи.
Лермонтову никуда не надо было ездить, чтобы это все увидеть и прочувствовать.
Впечатления детства — на всю жизнь! Можно запамятовать кое-что из мелочей. Но слезы и дикие нравы крепостнической деревни — никогда!
С одной стороны, личная, семейная драма, сиротство при живом отце влили в молодую душу ту самую долю горечи, которая обернется потом мрачными стихами, великой человеческой печалью, доходящей до озлобления. С другой стороны, картины жестокой деревенской жизни оставили в нем такой след, что он всем сердцем возненавидел рабство и подлость, больших и малых покровителей их.
Уже с детских лет зрела в Лермонтове ненависть к несправедливости и накапливалась горечь. Этот дворянин, баловень достатка, стал непримиримым врагом того самого строя, который дал бы ему все для беззаботного существования до самой гробовой доски, если бы он этого пожелал, если бы не «портил» себе и другим настроения своим «железным стихом, облитым горечью и злостью».
«Почвы для исследования Лермонтова нет, — писал Александр Блок, — биография нищенская. Остается «провидеть» Лермонтова». Это верно только отчасти и требует уточнения. Биография Лермонтова — биография молодого человека, едва вышедшего «в люди». Она мало документирована в обычном понимании этого слова. Однако все, что им написано, — 400 стихотворений, около 25 поэм, 5 драм и 7 повестей, — есть итог этой короткой жизни, и они, его произведения, — самые надежные документы для тех, кто пожелает «провидеть» поэта.
Защищая творчество Лермонтова от не в меру педантичных литературоведов, в частности от «анализа» профессора Котляревского, Блок писал: «…Профессор Котляревский внезапно обмолвился одной фразой, будто с неба звезду схватил: «…истина заключалась в бессменной тревоге духа самого Лермонтова». Эта роковая обмолвка уничтожает все остальное исследование». Верно, тревога духа! Разве мало этого для понимания поэта, какую бы он ни прожил жизнь — малую или большую?
Процесс становления человека — сложный процесс. Тут и влияние наследственности, и окружающей среды, и порою совершенно незаметных столкновений с действительностью и даже с отдельной личностью. Можно ли, например, не принимать в расчет хотя бы бесед бонны Христины Осиповны, обучавшей его немецкому языку? Что она читала Мишелю из немецкой литературы? Что говорила она ему о Гёте и Шиллере? Что читала из их книг? Мишель, говорят, называл ее «мамушкой». И надо полагать, что «мамушка» тоже немало воздействовала на его впечатлительную душу.
Идут месяцы, годы… Мишеля одолевает золотуха. Те, кто знал его детскую пору, отмечают болезненность Мишеля. «Жидкий, — говорят, — мальчик, здоровьем золотушный». И кривизну ног отмечают, как следствие этой самой болезненности. Павел Висковатов приводит рассказ жителей Тархан о Мишеле: «В детстве на нем постоянно показывалась сыпь, мокрые струпья, так что сорочка прилипала к телу, и мальчика много кормили серным цветом». Сейчас это называется аллергией, и борьба с нею даже в наше время считается делом не простым, поскольку причины, вызывающие ее, весьма разнообразны, подчас коварны.
Известно, что к Мишелю был приставлен доктор Ансельм Левис, или Леви, — французский еврей. Он жил в тарханской усадьбе. Главною его обязанностью было выходить Мишеля, елико возможно поправить его здоровье. Бабушка ничего не жалела ради внука. Буквально ничего!..
Можно ли уверенно предсказать будущий талант ребенка? Едва ли. К шестнадцати — девятнадцати годам человек претерпевает довольно серьезные духовные и физические изменения. Ни те, ни другие нельзя рассматривать обособленно. Поэтому прогнозирование сильно усложняется. Моцарт очень рано проявил свои способности. И Пушкин тоже. По-видимому, талант так или иначе уходит корнями в раннее детство. И в то же время можно задать такой вопрос: можно ли было «увидеть» в хилом ребенке великого Ньютона? Кто бы распознал в двадцатилетнем юноше, ничего не умеющем делать по-настоящему, будущего О'Генри? Не задним числом, а с помощью гаданий, хотя бы при содействии современного компьютера или каким-либо иным способом. Может ли самый тонкий психологический анализ открыть в подростке будущего прозаика? Едва ли, поскольку развитие такого таланта очень тесно связано с накоплением разнообразного жизненного опыта. Особенно в наше время, когда наука вторгается во все поры жизни, когда искусство и литература должны быть на гребне научного познания бытия. Поэтому лично я не очень верю, чтобы в семидесятые годы двадцатого века вдруг объявился гениальный прозаик двадцати — двадцати пяти лет от роду. Может, чувства у него вполне достанет, но что касается суммы знаний и жизненного опыта — сомнительно. И в то же время литература такая порой загадочная область, что не знаешь, что когда найдешь и когда что потеряешь.
Говорят: природа навевает поэтические образы. Вероятно, часто оно так и бывает. Хотя я, грешным делом, полагаю, что ничего сама по себе она навеять не может без человека, без его присутствия, в какой бы форме оно ни было — «заочным» или «очным». Но это спорно, и отношу это только на счет идиосинкразии, вызываемой во мне голой красотой природы, не одухотворенной человеком. Я бы даже сказал: не оживленной его присутствием. Но это, повторяю, — сугубо личное…
Кто бы ни приехал в Тарханы, кто бы ни прошелся по их таинственным тропам, где все дышит неподдельной красотой, тот наверняка скажет: да, здесь должна была родиться истинная поэзия! Это не бурная природа, неуемная в своем цветении и увядании. Это не Кавказ с его необузданным пейзажем, со взлетами скал и сказочными глубинами долин. Нет, это великолепная в своем роде среднерусская флора, где зелень в меру зелена, где увяданье ее медленно и печально, где дали подернуты дымкой и небо нависает над землею чудесным шатром. И тихий пруд кажется постоянно дремлющим, его зеркальная поверхность, и берега, полные грусти, навеваемой густыми ветлами, — все, все подчеркивает необозримость далей и высоту небес. И как ни странно, среди этой необозримости не пропадает ни одна былинка, ни единый цветок. Здесь все как бы на виду. Не в эти ли часы «смиряется души моей тревога» и «расходятся морщины на челе»?
Здесь, в Тарханах, было все, чтобы сформировать характер, я бы сказал, в самых различных вариантах. Честная же и прямая душа была бы уязвлена всей обстановкою, крепостнической жизнью в самом натуральном, ничем не прикрытом виде. И этой честной и прямой душе опостылел бы белый свет, и сделала бы она все, чтобы отмежеваться от жестокой действительности. Страдания крестьян, вид «печальных деревень», наконец, жалкий облик сверстников не могли не подействовать на маленького Мишеля. Хрупкий, болезненный мальчик видел и понимал больше, чем это предполагали взрослые. И когда мы в дальнейшем встретимся с «крайней раздражительностью» поэта, когда услышим горькие речи его и «железный стих» — мы должны помнить, что «настроение» это «сложилось» в тех самых Тарханах, в которых, как в капле, можно было изучать «идиотизм» жизни той поры в любом ракурсе и в любом разрезе. И если здесь вырос не великовозрастный барчук, а человек глубокой мысли и широчайшей души, если здесь родился и окреп поэтический гений, которым может гордиться все человечество, то в этом, в первую очередь, «повинны» те же Тарханы и та же Россия. И, наверное, тарханские крепостные крестьяне внесли свою лепту в воспитание великого поэта. Сами того не подозревая, они тоже «формировали» его характер своей жизнью, точнее, неприятием этой жизни.
Стало быть, говоря о том, что влияло на духовное формирование Лермонтова, с одной стороны, мы должны помнить барские покои и их обитателей, а с другой — Тарханы и их несчастных жителей.
Перечисляя тех, кто окружал Лермонтова в тарханскую пору, мы непременно должны упомянуть и Жана Капэ. Он пришел вместе с наполеоновской армией в Россию. В отличие от некоторых воинов, нашедших гибель в Бородине, в Смоленской губернии от рук партизан или при переправе через Березину, Капэ спасся в русском плену. И оказался рядом с будущим поэтом.
Капэ обучал Мишеля французскому. Неизвестно, был ли он знатоком языка, но, во всяком случае, хорошо знал живую французскую речь. По воспоминаниям современников, он был человеком хорошим. И выказал себя преданным Мишелю наставником.
О чем мог рассказывать Капэ? По-моему, догадаться об этом не очень-то трудно: о войне, о Франции, о великом императоре.
Капэ, несомненно, поражал ребенка достоверностью своих рассказов, будил в нем любознательность, подогревал романтические порывы души. Француз был человеком болезненным: чахотка исподволь подтачивала его силы. Но он держался, учил своего питомца произношению французских слов, возможно, с некоторым эльзасским диалектом, ибо Капэ был из Эльзаса (по свидетельству Акима Шан-Гирея).
Мишель, вооруженный игрушечной саблей, носился по аллеям парка с гиканьем и визгом. Орава деревенских ребятишек, которых лично опекала ради внука Елизавета Алексеевна, многоголосо повторяла военные кличи всех времен и народов. Детская фантазия бурно разрасталась на таинственных тарханских просторах, среди вётел и высоких кустов, среди травы-муравы и горькой полыни. И какой мудрец предсказал бы великое будущее этому ребенку? И существует ли, повторяю, на свете возможность для точных предсказаний? То есть можно ли распознать в человеке поэта, которого еще не потребовал «к священной жертве Аполлон»? Пушкин в том же стихотворении, откуда взяты эти слова, отрицает эту возможность. Может, кто-нибудь возьмется опровергнуть его?
О многом я передумал, бродя по тарханским тропам. Как было бы хорошо, размышлял я, если бы вовремя угадывали гения! Еще в малолетстве его. Сколько талантов сберегли бы для человечества, сколько умов, бессмысленно загубленных!
Но вся сложность, если угодно, противоречивость человечьей жизни в том, что это почти невозможно. И бабушка видела в Мишеле только внука, Христина Осиповна — милого болезненного мальчика, а Капэ — способного ученика.
Может быть, особенный провидец, буде он появился бы в Тарханах, приметил бы в глазах Мишеля — в его больших и черных глазах — радость, когда они смотрели на облачное, быстро меняющееся небо, или на водную гладь пруда, или на покрытый росою серебристый ландыш, удивление, которое неизменно вызывала в мальчике бескрайняя волнующаяся нива, или ненависть, молнией сверкавшую в зрачках маленького Лермонтова, когда лупили «провинившегося» крепостного. Может быть, этот провидец догадался бы, с кем имеет дело в лице шустрого Мишеля. Может быть…
А вдали маячат Кавказские горы
Молодой критик сформулировал некую литературную сентенцию на страницах солидной московской газеты. Заключена она была в следующем, совершенно определенном утверждении: лучшая проза пишется на равнинах, лучшая поэзия рождается в горах. Сделал это критик из самых лучших побуждений, разбирая сборник стихов горского поэта. По-видимому, вторая часть формулировки подтверждалась конкретными примерами. Но достаточно спуститься с Кавказских гор в село Тарханы, чтобы заподозрить нашего критика в ироническом складе ума. Именно заподозрить, ибо критик в этом отношении — вне всякого подозрения.
Если говорить серьезно, поэзия не имеет отношения к «высоте над уровнем моря»: она рождается в самом сердце. Она зависит, в первую очередь, от таланта, а затем — от тех жизненных столкновений, которые, подобно кресалу и кремню, рождают искры, то есть мысли и чувства. Надо ли присовокуплять, что трудолюбию здесь должно быть отведено одно из первых мест, ибо истинному таланту органично большое трудолюбие.
Разумеется, ни о каком поэтическом таланте в Тарханах и не помышляли. Зато бабушка Мишеля очень верно рассудила, что внуку необходимо дать хорошее образование. Поскольку до поры до времени оно мыслилось только в стенах тарханского дома, было решено обучать мальчика наукам и языкам при помощи приглашенных наставников.
Елизавета Алексеевна понимала, что для блестяще образованного человека необходимо помимо знания европейских еще и знание древнегреческого и латинского языков. G этой целью в усадьбе был поселен некий греческий беженец из Кефалонии. Говорят, что сей далекий потомок Гомера вскоре переменил свою работу и занялся в Тарханах выделкою собачьих шкур. И обучил этому ремеслу кое-кого из жителей. Да так хорошо, что дело это со временем развилось. И не погибло со смертью деловитого кефалонца.
Доподлинно неизвестно, кто преподавал в тарханской усадьбе арифметику и другие науки. Возможно, это были те же Христина Осиповна и Капэ. Или кто-нибудь еще. Из крепостных.
Елизавета Алексеевна верно рассудила, что будет лучше, если Мишель станет заниматься не один, а со своими сверстниками. Она пригласила к себе Акима Шан-Гирея, двоюродных братьев Мишеля со стороны Юрия Петровича — Николая и Михаила Пожогиных-Отрашкевичей, двух братьев Юрьевых, князей Николая и Петра Максютовых. И еще кое-кого из детей своих родственников. Павел Висковатов утверждает, что детей собралось в усадьбе чуть ли не десять человек. И это будто бы обходилось чуть ли не в десять тысяч ассигнациями в год.
Был ли доволен положением своего сына в Тарханах Юрий Петрович? Несомненно. И ему, должно быть, не раз указывали в беседах на эти расходы — десять тысяч в год! И не могли не указывать. Юрий Петрович все время должен был ощущать свое положение бедного дворянина и не претендовать на воспитание сына. Присутствие в Тарханах братьев Пожогиных-Отрашкевичей указывает на то, что Елизавета Алексеевна пыталась как-то поддерживать свои отношения с родственниками Юрия Петровича. Трудно сказать, делала ли это Елизавета Алексеевна с большим удовольствием. Однако факт остается фактом: она не порвала отношений с отцом Мишеля. Да, видимо, и сам Юрий Петрович не давал для этого особого повода. Предполагали, что Лермонтов не раз бывал у своего отца. Одно такое посещение Ефремовской деревни засвидетельствовано лично поэтом в приписке к стихотворению «К гению» (1829 год), В ней сказано: «Напоминание о том, что было в Ефремовской деревне в 1827 году, где я во второй раз полюбил 12 лет — и п о н ы н е л ю б л ю».
Утверждают, что и Юрий Петрович наезжал в Тарханы. На этот счет тоже не существует документальных данных. Вряд ли подобные свидания приносили большое удовольствие бабушке. Другое дело, сколь частыми были они. Надо думать, что, поскольку особые приглашения Юрию Петровичу конечно же не посылались, свидания с сыном сводились к минимуму. Лучше в этом отношении обстояли дела в Москве, где позже учился Мишель, Но об этом — после…
Итак, Мишель обучался наукам. Уже разговаривал по-немецки и по-французски. И любил, говорят, лепить из воска разные фигуры, устраивал театральные представления, где актерами были те же фигурки. Висковатов, ссылаясь на материалы Хохрякова, на свидетельство Раевского, пишет, что двенадцати лет Лермонтов «вылепил из воску спасение жизни Александра Великого Клитом при переходе через Граник». Это свое пристрастие к театру кукол Лермонтов сохранял долго, продолжая лепить фигурки и в Москве.
И, разумеется, по-прежнему в ходу излюбленные игры — военные, с переходами, боями, наступлениями, отступлениями. В этом нет ничего удивительного: обычные мальчишеские забавы.
Бабушка с великим усердием поддерживала как учение своего внука, так и забавы его. Делалось все для того, чтобы дать внуку хорошее образование (по тем временам) и не давать ему скучать без сверстников. Аким Шан-Гирей из ближайшего имения Апалиха был на несколько лет моложе Мишеля. Несмотря на эту разницу в летах, они были привязаны друг к другу. И эта привязанность сохранилась меж ними до самой смерти Михаила Лермонтова. Аким Шан-Гирей был сыном дочери той самой Хастатовой, о которой уже говорилось и которую называли «передовой помещицей». Иными словами, он приходился Лермонтову троюродным братом.
Шли годы. Мишель заметно окреп. Во всяком случае, в играх, шалостях, баловстве он не уступал своим друзьям.
И все-таки бабушке хотелось, чтобы Мишель выглядел еще лучше, чтобы был еще крепче, чтобы сгладились все проявления детского недуга. И тут она обратила свои взоры на Кавказ, на целебные горячие воды в Пятигорске. Уж ежели бабушка решала что-либо, то свое решение она неукоснительно претворяла в жизнь.
На жизненном пути Михаила Лермонтова замаячили Кавказские горы…
Мы не будем забегать вперед, чтобы показать, какое значение имел Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова. Мальчику было около десяти лет, когда он впервые увидел горы и их снежные вершины. «Отсюда пошла связь Лермонтова с Кавказом, ставшая потом неразрывной». Это слова Блока.
Независимо от наклонностей юной натуры, перемена мест — всегда большое событие: расширяется представление о мире, накапливаются впечатления, приобретается опыт. С этой точки зрения поездка на Кавказ такое же событие в жизни ребенка, как и поездка юного горца в среднерусскую равнинную полосу. Обширная степь и хлебное море производят не меньшее впечатление, чем Эльбрус или Казбек на жителя Тамбовщины или Мещеры. Я это могу говорить хотя бы на основании своих личных переживаний. В свою первую поездку в Москву, где-то за Курском, ранним утром я увидел колышущиеся хлеба. Стелился легкий туман. И я долго не мог понять, какое это море волнуется за Курском (я не сомневался, что это море или огромное озеро). И это впечатление у меня — на всю жизнь…
Теперь вообразите себе, что мальчик, никогда не видавший земли выше тарханского полугорья и воды обширнее тарханского пруда, — вдруг попадает на Кавказ. У него, разумеется, захватывает дух от высоты белоснежных хребтов, его слух поражают бурные реки, а тенистые ущелья удивляют своей таинственностью. Мне хочется привести здесь несколько строк из Чехова, относящихся к его впечатлениям от Абхазии, поскольку их можно распространить на весь Кавказ. Вот эти строки: «Природа удивительная… Из каждого кустика, со всех теней и полутеней на горах, с моря и с неба глядят тысячи сюжетов».
Встреча с Кавказом сулила Лермонтову тем больше романтики, чем чаще задумывался он над полулегендарными рассказами о своих отдаленных предках. Доподлинно неизвестно, от кого шли эти рассказы. Едва ли Юрий Петрович придавал им какое-либо значение. Вряд ли это можно отнести к Елизавете Алексеевне. Но, по-видимому, кто-то возбуждал в ребенке интерес к предку из Шотландии или Испании. Лерма, Лермонт… Эти имена будили в мальчике романтический дух, мысленно уносили его к неким бесплотным горам и туманным далям и небесам. И, едва научившись писать, Мишель будет подписываться именем «Лерма». А повзрослев, нарисует на стене, у изголовья своего друга Лопухина, портрет Лермы — бородатого испанца — и назовет его своим предком. Даже этот незначительный факт говорит о впечатлительной и неспокойной его натуре. А такие натуры, как известно, чаще всего радуют нас своими творческими деяниями. Но я повторяю еще раз: ничто еще не давало основания видеть в большеглазом, смуглом, «восточном» мальчике будущего поэта. На данном, как говорится, этапе мы можем лишь констатировать впечатлительность Мишеля, его интерес к различным романтическим рассказам и отметить в нем повышенную любознательность. Но все это симптоматично почти для каждого ребенка и еще ни о чем не говорит.
Мне кажется, была еще одна причина повышенного интереса к Кавказу, которая играла роль не меньшую, чем его горы и ущелья. Это — свободолюбие его народов.
Еще в восемнадцатом веке русские цари всячески поддерживают и направляют экспансию на юг, которая исторически началась еще раньше. Если угодно, женитьба Ивана Грозного на кабардинской княжне не была да и не могла быть продиктована только лишь велением сердца. С той поры и идет упорное продвижение к предгорьям Кавказа, которое со временем станет все более ожесточенным и кровопролитным. Казачество всячески натравливается на горцев, поощряется его воинственность. На помощь ему идут все новые царские полки, и царские генералы становятся полновластными хозяевами завоеванных земель.
В ответ на нестерпимые притеснения и угрозы горцы начинают борьбу не на жизнь, а на смерть. Со временем окрепнет и развернется знаменитое движение Шамиля. Но это еще впереди. К моменту первой поездки Мишеля на Горячие воды почти все предгорье Кавказа от Тамани до Кисловодска и Кизляра прочно удерживалось царем. Горское население ушло в горы, и там оно бешено огрызалось.
Рассказы о косматых бурках и бесстрашии черкесов проникли в глубь России. Рассказы — следует это отметить ради справедливости — не только не вызывали злобу против горцев, но часто рождали уважение к ним и восхищение их борьбой. Уже первые поэмы Пушкина свидетельствуют об этом. Потом появятся кавказские поэмы Лермонтова и кавказские произведения Толстого. Великое сочувствие к горцам и восхищение их обычаями, нравами и свободолюбием так или иначе отразились в этих вещах, ставших любимым чтением всего просвещенного русского общества.
В начале девятнадцатого века Грузия присоединилась к Российской империи. Для этого у грузинского царя Ираклия имелись веские основания: надо было обеспечить южные границы Грузии от посягательств персидских шахов и турецких султанов. Обстоятельства вынудили Ираклия искать покровительства у единоверного царя в Петербурге. Этот акт сильно изменил положение горцев: теперь уже им приходилось защищаться от наступления царских полков и с севера и с юга.
Независимо от того, что происходило на Кавказе, поездка туда была тяжелой. И не день, не два, и не три. И даже не неделя! Наконец желанная цель: вдали маячат Кавказские горы. Очень близко, за степями Ставрополья…
В своей книге, изданной не так давно в Монреале, профессор Павел Пагануцци приводит карты путешествий Михаила Лермонтова. На одной из них указан маршрут поездок для лечения: Москва — Железноводск и Пятигорск. Пагануцци полагает, что Лермонтова возили на Кавказ трижды: в 1818 году, 1820 и 1825-м. Именно три раза. И точно приводит даты. Висковатов в свое время не очень-то был уверен в этом.
Абсолютно достоверно — и это подтверждено самим поэтом, — что в 1825 году состоялась одна из первых и весьма памятных поездок Мишеля на Кавказ. Известно, кто поехал вместе с ним: разумеется, бабушка, доктор Леви, Иван Капэ и Христина Осиповна, а также Михаил Пожогин-Отрашкевич и кузины Лермонтова — Мария, Агафья и Александра Столыпины. Я ни минуты не сомневался в том, что «детское общество» было специально подобрано для Мишеля Елизаветой Алексеевной.
Пагануцци почему-то считает, что все «три маршрута» начинались в Москве. Для этого Арсеньевой с внуком пришлось бы проделать крюк в несколько десятков верст. Проще было из Тархан ехать на Тамбов или Кирсанов, а уж оттуда выбираться на столбовую дорогу Москва — Воронеж — Черкасск — Ставрополь. Может быть, разок и заехали в Москву, но почему же обязательно все три раза?
В Пятигорске Арсеньева с внуком встретилась с Екатериной Хастатовой, жившей в Шелкозаводске, за Владикавказом, поближе к Кизляру. (Полагают, что Мишель побывал впервые в Шелкозаводске в 1818 году, и как доказательство этого приводят запись в альбоме матери Мишеля, который он возил с собою с детства; «1818 июля 30-го, Шелкозаводск». Запись эта сделана рукою П. И. Петрова под стихами, обращенными к Арсеньевой. Вторая запись в том же альбоме сделана дядей поэта А. А. Столыпиным: «Кислые воды, 1820-го, августа 1-го».)
Что касается самой достоверной поездки Мишеля на Кавказ — 1825 года, — Лермонтов оставил такую запись: «Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушка, кузины». И тут же рассказывает о своей первой любви… «имея десять лет от роду». И мы читаем: «К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там… Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность… Нет, с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз». Это писалось шесть лет спустя с того памятного часа…
Что мог увидеть любознательный мальчик на Кавказе?
Укрепления, казачьи пикеты, войска с пушками, обозами, черкесов мирных в косматых бурках, офицеров на водах, людей цивильных, тоже приехавших полечиться. Но не только: а горы, а снеговые вершины, а грозы в горах, ливни, обвалы, бурные реки, а буйная зелень, а скалы? Разве этого мало для впечатлительной души? Кавказ всем своим своеобразием, всей разноплеменностью, войной и миром вливался в детскую душу незабываемыми картинами. Сюда надо прибавить и различные рассказы кавказских старожилов — и тогда будет понятно, что означали для Мишеля поездки на Кавказ. Здесь могли переплетаться и быль и небылицы, рассказы точные с рассказами нарочито гиперболизированными. Но суть не только в этом. А в том, главным образом, что воображение ребенка было возбуждено всей новизной бытия, ее неповторимостью, И несомненной романтичностью. Поэтому-то Мишель мог с полным основанием воскликнуть: «Горы кавказские для меня священны…»
Поездки на Кавказ оказались благотворными для Мишеля, (Я говорю сейчас не о его творчестве, но о здоровье.) Ребенок окреп, хорошо развивался. Как и в наше время, в ту пору принимали минеральные ванны и пили воду. Я не знаю дозировки. Нынче за этим очень внимательно следят. Были хорошие знатоки своего дела и в то время. Доктор Гааз, например, принимавший весьма деятельное участие в исследовании вод в Ессентуках, был крупным врачевателем. Но, наверное, кое-кто и перебарщивал в приеме вод. Не без этого. В Карловых Варах мне рассказывали, что Петр I, который приезжал туда для лечения, принимал в сутки до полусотни стаканов «шпруделя». Тогда это была «норма». Во времена Лермонтова, наверное, более осторожно относились к дозировке.
Из Тулы в Ставрополь путь был долгий: фельдъегерь при хороших лошадях покрывал это расстояние за семь суток. Думаю, что на бабушкином дормезе Мишель трясся не менее двух недель, учитывая, что из Тулы надо было ехать в Тарханы, а из Ставрополя добираться еще до Пятигорска. Как минимум — две недели! Так и путешествовали. Притом люди не простые, но имущие. Скажем прямо: без особой нужды не выедешь за ворота усадьбы в дальнее путешествие. Даже поездка из Тархан в Москву была целым событием, не говоря уже о поездке в Петербург, а тем паче — на Кавказ. (Надо ли говорить, что в то время еще не было железных дорог. Первая дорога с «паровиком» появилась в тридцатых годах. Она соединяла Петербург с Царским Селом и вызывала во многих суеверный страх.)
На Кавказе Мишель имел возможность в какой-то мере изучить нравы и характеры горцев. В памяти отлагались одни картины за другими. Их никогда не забудет Мишель. Пагануцци пишет: «Черкесы из соседних аулов ежедневно приезжали в Горячеводск для продажи бурок, седел и баранов… Из Горячеводска Лермонтов ездил в Аджи Аул на празднование байрама, на которое съезжалось все горячеводское общество. Устраивались джигитовки, пели, плясали и угощали всех гостей, а знаменитый певец Закубанья Керим Гирей пел под звуки пишнендук'окъо (вид арфы)».
Пройдет время, и в покоях тарханского дома Мишель все будет «лепить Кавказ», из воска, а позже напишет свое пылкое признание: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ…»
Ученье — свет
Из Пятигорска обратный путь лежал в Тарханы. По дороге — то дождь, то солнце с пылью. Дорога ведь грунтовая. Дормез по-прежнему тащится медленно. В этих поездках своя прелесть, если угодно, своя магия: много впечатлений, много времени для размышлений. Молодые могли любоваться природой, старые — подремать, вспомнить о молодости, загодя помолиться о собственной душе во спасение ее.
Елизавета Алексеевна с внуком вернулись в родные места. Мишелю было за десять: пора подумать о серьезном учении. Мы снова видим Мишеля в обществе своих сверстников, с которыми он проходит науки и делит досуг. Однако юное общество пополнилось: из ближайшего имения Апалиха к Мишелю явились его троюродные братья и сестра Шан-Гирея, дети родной племянницы Арсеньевой — Марии Акимовны Шан-Гирей.
Помимо прямых занятий Мишель продолжал лепить восковые фигурки, устраивал «театр», заставляя играть фигурки в собственных пьесах. Мишель в эту пору уже начинает рисовать. Рисунки он «заносит» в альбом своей матери, с которым редко расстается. К персонажам его восковых произведений и рисунков прибавились кавказские типы и боевые эпизоды.
В этот тарханский период Мишель предстает значительно развитым подростком. Да и в смысле поправления здоровья сделаны большие успехи: плечи широкие, грудь крепнет, золотуха заметно отступает, Нет, не пропали даром великие бабушкины заботы!
Комната Мишеля находилась в мезонине. Вот одно из самых ранних описаний тарханского дома и комнаты Мишеля, сделанное Н. Рыбкиным в 1881 году: «Я был в селе Тарханах. Это было большое здание с антресолями; кругом его сад, опустившийся к оврагу и пруду… В детской спальне поэта красовалась изразцовая лежанка; близ нее стояла кроватка и детский стулик на высоких ножках, образок в углу, диванчик и кресла. Мебель обита шелковой материей с узорами.» К нашему счастью, дом и усадьба сохранились почти в натуральном виде.
Мишель понемногу выходит из детского возраста. Глаза его теперь видят больше и лучше. А уши слышат яснее. И вся неприглядная крестьянская жизнь становится для него понятней. И все горше делается на сердце. Оказывается, крестьян не только порют, не только унижают, не только заставляют работать день-деньской, как рабов, но и продают их, как живой товар. Да, продают! И этому Мишель был свидетелем.
Что ему могла объяснить бабушка? Что мог сказать Капэ? Кто мог растолковать мальчику: отчего так скупа и строга с девушками хмурая ключница Дарья Григорьевна? Отчего столь различны две соприкасающиеся жизни: одна — полная достатка, счастливая барская жизнь, а другая — полунищенская, бесправная, крестьянская. Две жизни — две доли! Кто мог бы дать мальчику правильные ответы на эти «проклятые вопросы»?
Аким Шан-Гирей писал о той поре: «…Мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке и с клоком белокурых волос надо лбом, резко отличавшихся от прочих, черных как смоль… Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в пятнадцать лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу».
Мальчик, по разным свидетельствам, продолжал выезжать к своему отцу в Кропотово. Цехановский писал в 1898 году, что дворовые люди Юрия Петровича еще живы и что, «по их рассказам, поэт был резвый и шаловливый мальчик, крепко любивший отца и всегда горько плакавший при отъезде обратно к бабушке». Надо думать, что со временем Мишелю стала более понятной семейная драма и любовь к отцу, которая никогда не затихала в его сердце, заилилась. И он, как видно, постоянно метался между отцом и бабушкой. Итак, семейные распри с годами не стали менее горькими. И впечатления от странной семейной жизни еще больше ранили ребенка и заставляли его бессильно вопрошать.
К этому следует добавить еще одно немаловажное обстоятельство. Гёте и Шиллер в подлинниках уже были доступны Мишелю. А французская поэзия и Вольтер? Но что еще важнее: Пушкин полноправно властвовал в русской литературе. Мишель зачитывался его стихами и полюбил его всею душою.
Вспомним события декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге. Декабристы тогда основательно встряхнули Россию. Имена Пестеля и Рылеева были у всех на устах. Одни произносили их со злобою, другие — с любовью и уважением. Можно ли думать, что одиннадцатилетний Лермонтов всего этого не заметил? Что стихи Рылеева прошли мимо него?
Братья Елизаветы Алексеевны Аркадий и Дмитрий Столыпины были связаны с декабристами. Сергей Иванов, автор известной биографии Лермонтова, пишет: «Декабристы предполагали ввести Аркадия Столыпина, в состав правительства, если бы их выступление окончилось успешно». Приезжая в Тарханы, братья беседовали о своих единомышленниках, и слова их, несомненно, достигали ушей Лермонтова.
Как бы жестоко ни расправился царь с декабристами, Россия уже стала иною. Да и не могла она оставаться прежней: уж слишком были взбудоражены просвещенные умы событиями в Петербурге! Нарождалось новое поколение людей, отдававших себе отчет в том, что в России явно неблагополучно, что нужны радикальные социальные перемены. Можно было повесить пятерых приверженцев свободы, но нельзя было убить самую мысль о свободе. Каким бы заброшенным уголком ни казались Тарханы, но и сюда, несомненно, доходили вести об отважных декабристах. Все, вместе взятое, налагало особый отпечаток на развитие Мишеля. Иначе и не могло быть!
Вот что писал о Мишеле А. Корсаков в 1881 году со слов Пожогина-Отрашкевича: «Учился он прилежно, имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки. В нем обнаруживался нрав добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость».
Мишель вот-вот начнет «изливать душу» в стихах. Но в нем скорее можно бы «угадать» будущего художника или ваятеля. Эти дарования в нем несомненно проявлялись.
А покуда бабушка его обеспокоена продолжением учения, думает о настоящей школе. Елизавета Алексеевна принимает окончательное решение: надо ехать в Москву и там определять внука на учение.
В Москву
Для продолжения учения в стенах учебного заведения Елизавета Алексеевна выбрала Москву, где проживали ее многочисленные родственники. В Москву можно было ехать двумя путями: Тарханы — Нижний Ломов, затем к Спасску, и далее через Рязань, Коломну, Бронницу. Дорога эта была живописная, с лесами и перелесками, с любопытной для мальчика паромной переправой через речку Цну. Но был и другой путь: через Чембары, Ефремов и Тулу. Однажды, когда Лермонтов гусаром возвращался из Москвы в отпуск к бабушке, она рекомендовала ему ехать через Рязань, Тамбов, Кирсанов, Чембары. Дело шло к рождеству, и, возможно, зимою этот путь был удобней.
Осенью 1827 года бабушка с внуком отправляются в путь-дорогу. Вместе с ними, разумеется, бонна Христина Ремер и Жан Капэ. Неизвестно, поехал ли с ними и доктор Леви, который не только лечил Мишеля, но и прививал ему вкус к естественным наукам. Его следы теряются в биографиях Лермонтова. А жаль: всегда хочется знать дальнейшую судьбу тех, кто имел отношение к полюбившимся нам людям.
Капэ оставался любимым наставником Мишеля. Его рассказы о войне имели успех у мальчика: как воевал Наполеон в египетских песках, как протекала битва при Маренго, какое бесстрашие проявил император при Аустерлице и как грустно было наблюдать переправу через Березину. Особое место в этих рассказах француза занимало Бородинское сражение. Да и самого Мишеля оно интересовало более другого. Бородино и пожар Москвы! Ведь речь шла не о далеком Симплоне, но о близком и родном.
Бедный Капэ, подобранный на поле битвы и выхоженный русскими людьми, при всем своем уважении к своей второй родине — России с жаром и любовью рассказывал о великом, непобедимом императоре. Ему, разумеется, прощалась эта любовь. К ней, к любви этой, даже относились сочувственно и часто разделяли ее. Как-никак Наполеона породила Великая французская революция.
Жан Капэ был влюблен в своего монарха, разгромленного в России, добитого в Ватерлоо и нашедшего смерть на далеком острове Св. Елены, там, где «буря на просторе над пучиною шумит». Фантазия Мишеля была подготовлена вполне для различных историй романтического характера. Жизнь и смерть Наполеона давали прекрасную пищу для размышлений. Капэ не жалел красок для всяческого возвеличивания любимого Бонапарта. И Лермонтов в своих стихах отдал дань Наполеону в духе рассказов Капэ. Однако интерпретация Бородинской битвы у него совсем иная, чем это вытекало из пылких экспромтов француза. По всему видно, что Лермонтов слушал рассказы не одного только Капэ — находилось немало ветеранов войны, которые с несколько иных позиций оценивали походы французского императора и особенно Бородинскую битву. И в своем знаменитом «Бородино» Лермонтов отразил именно народную точку зрения на это великое событие…
Надо заметить, что осенью 1827 года Лермонтов надолго перебирался на новое место жительства, в Москву. Тарханы остались позади. Отныне Лермонтов окунался в новую жизнь. Она была неизбежна, эта новая жизнь, если думать о серьезном образовании. А об этом бабушка помышляла очень серьезно.
Елизавета Алексеевна остановилась на Сретенке у своих родственников — Мещериновых. Здесь она, что называется, осмотрелась, посоветовалась о том, куда лучше определить Мишеля. Вот что писал по этому поводу художник Моисей Меликов в 1896 году: «Мещеринова и Арсеньева жили почти одним домом. Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А. Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион…»
Здесь, в доме Мещериновых, случилась беда: Жан Капэ серьезно простудился. Кашель все усиливался. Озноб донимал несчастного француза. Наконец, настал его черный день: смерть пришла в дом и унесла Капэ. Это был еще один большой силы удар по сердцу Мишеля. Он очень любил Капэ, больше всех своих наставников. Здесь, на московской земле, схоронили Жана Капэ и, как тысячи других могил, затерялась и его могила.
Как ни тяжело было горе утраты, пришлось думать о новом наставнике. Елизавете Алексеевне посоветовали француза-эмигранта по имени Жан-Пьер Коллет-Жандро. Его очень хорошо рекомендовали.
Надо отдать Елизавете Алексеевне должное: наставников для Мишеля подбирала она достойных. Особенно это надо отнести к Александру Зиновьеву, надзирателю и учителю русского и латинского языков Благородного университетского пансиона. Он руководил всеми занятиями Мишеля перед экзаменами в пансион. Его рекомендовали Мещериновы. Зиновьев оставался попечителем Мишеля и в пансионе. (Так полагалось по заведенной традиции.)
Пансион находился в то время на Тверской улице (ныне Горького) на том самом месте, где стоит сейчас здание Центрального телеграфа. В пансионе было шесть классов, до трехсот учеников. Мишелю после поступления в пансион пришлось бы поселиться в нем и, разумеется, разлучиться с бабушкой. Могла ли пойти на такую большую жертву Елизавета Алексеевна? Могла ли она не видеть Мишеля хотя бы день один, одну ночь? Нет, разумеется!
Недреманное бабушкино око должно было следить за любимым внуком денно и нощно. Не могла допустить бабушка, чтобы внук ее целиком перешел на чуждое попечение. И она принимает решение, которое согласуется с ее неистовой любовью к Мишелю: ежели он выдержит экзамены и поступит в пансион, то станет не пансионером, а полупансионером. То есть днем он будет заниматься в стенах учебного заведения, а на вечер и на ночь возвращаться домой. Только здесь, под боком у бабушки, Мишель найдет свое благополучие. Так, вероятно, думала Елизавета Алексеевна.
От тех московских времен осталось описание наружности Мишеля, сделанное уже упомянутым Меликовым. Мне бы хотелось привести его полностью: «Помню, что когда впервые встретился я с Мишей Лермонтовым, его занимала лепка из красного воска: он вылепил, например, охотника с собакой и сцены сражений. Кроме того, маленький Лермонтов составил театр из марионеток, в котором принимал участие и я с Мещериновыми; пиесы для этих представлений сочинял сам Лермонтов. В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание: приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными, черными ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они бывали ужасны. Я никогда не в состоянии был написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, вставить огонь в глаз).
В личных воспоминаниях моих маленький Миша Лермонтов рисуется не иначе как с нагайкой в руке, властным руководителем наших забав, болезненно-самолюбивым, экзальтированным ребенком».
В этом отрывке мне хочется обратить внимание, так сказать, на два момента: Мишель уже пишет пьески для собственных театральных представлений; властность его и болезненное самолюбие уже подмечены его другом детства.
И все же главные наклонности Мишеля и в эти московские годы скорее свидетельствуют о его художнических способностях, нежели литераторских.
Аким Шан-Гирей писал: «В Мишеле я нашел большую перемену, он был уже не дитя, ему минуло четырнадцать лет: он учился прилежно. M-r Gindrot, гувернер, почтенный и добрый старик, был однако строг и взыскателен и держал нас в руках; к нам ходили разные другие учителя, как водится. Тут я в первый раз увидел русские стихи у Мишеля: Ломоносова, Державина, Дмитриева, Озерова, Батюшкова, Крылова, Жуковского, Козлова и Пушкина».
Мишель, по-видимому, уже знал Пушкина. Что думал он, читая, например, вот эти пушкинские строки: «Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный и рабство, падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» Или такие строки из «Андрея Шенье»: «Твой бич настигнул их, казнил сих палачей самодержавных; твой стих свистал по их главам»… Не все крамольные строки Пушкина печатались в то время, но ведь существовали еще и списки. Разве их не знали любители поэзии? Что могли навеять Лермонтову такие, например, слова: «Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты». Или: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты»… Или из «Демона»: «Не верил он любви, свободе, на жизнь насмешливо глядел — и ничего во всей природе благословить он не хотел». Разве эти и многие другие пушкинские строки не давали пищу живому отроческому уму, не настраивали душу на определенный лад?
Пушкин в те годы уже был Пушкиным. Он царствовал в русской литературе безраздельно.
Когда современники Пушкина называли поэта «солнцем русской поэзии» — они ничуть не преувеличивали. Так оно и было. При всем том, что сделали Державин, Батюшков и Жуковский для русской литературы. При всем их благороднейшем труде и вдохновении — Пушкин действительно оказался солнцем. Только можно вообразить себе, какова была сила пушкинского слова, воздействовавшая в то время на умы!
Разумеется, Лермонтов, уже взявший книгу в свои руки, развитой не по годам мальчик Лермонтов почувствовал всю силу пушкинского слова. Из дальнейшей его жизни мы хорошо знаем, сколь сильным было это воздействие, как любил он Пушкина. Словом, мы никак не ошибемся, если скажем, что Лермонтов в Москве рос под воздействием пушкинских стихов. В самом деле, даже самое беглое исследование поэзии юного Лермонтова говорит об огромном влиянии Пушкина. Да и не могло не быть этого влияния, нельзя было в то время жить без Пушкина любому одаренному человеку. Забегая вперед, скажу, что очень часто досужие головы начинают сравнивать Пушкина и Лермонтова: дескать, кто выше? Хорошо сказал по этому поводу Юрий Барабаш: «…Какая странная, какая в самом деле неблагодарная литературная судьба: постоянно, и при жизни и после смерти, вечно испытывать эту изнурительную «проверку гением», быть под беспощадным прожектором его славы. Право же, нужно быть Лермонтовым, чтобы не поблекнуть на этом фоне, выдержать такую проверку!»
Когда же написал свои первые стихи Мишель? По-видимому, здесь, в Москве. Возможно даже — у Мещериновых. Любопытно в этом отношении свидетельство Шан-Гирея: «Тогда же Мишель прочел мне своего сочинения стансы К ***; меня ужасно интриговало, что значит слово с т а н с ы и зачем три звездочки?.. Вскоре была написана первая поэма «Индианка» и начал издаваться…» Но — стоп! Здесь нам следует остановиться и немного поразмыслить над этим сообщением Шан-Гирея.
Стало быть, в 1827 году или в начале следующего, 28 года, Мишель начал писать стихи. Правда, от той поры у нас ничего не осталось. Школьный рукописный журнал, в котором «публиковались» стихи, был сожжен «при разборе старых бумаг». Тактичный Шан-Гирей присовокупляет: «по счастию». Как видно, это были стихи весьма и весьма зеленые, которые сочинялись в большом количестве мало-мальски грамотными молодыми людьми. А ну-ка, вспомните свою молодость и ответьте, положа руку на сердце: стихи писали?
Надо сказать, что Мишель держал экзамен в пансион и был принят. Он стал полупансионером: днем учился в школе, а к вечеру возвращался домой.
Я уже говорил, что пансион находился на месте нынешнего телеграфа, а дом Мещериновых — на Сретенке. Это не очень близко даже ныне, при троллейбусах и автобусах. А в то время — и подавно.
А посему бабушка решает устроиться где-нибудь поближе к пансиону. Район Арбата в те годы считался фешенебельным: тихие переулки, зеленые закоулки в сердце Москвы, богатые особняки. Елизавета Алексеевна сняла дом на Поварской улице, недалеко от Арбатской площади. Отсюда до пансиона, ежели идти переулками, — буквально два шага. Дом этот не сохранился. Позже Елизавета Алексеевна переехала в особняк, который был неподалеку отсюда — на Малой Молчановке, № 2. Здесь Лермонтов прожил несколько лет в просторном мезонине. Этот дом стоит и сейчас почти в первозданном виде. Находится он позади двадцатиэтажного здания, что на проспекте Калинина. К фасаду его прикреплена мемориальная металлическая доска. Т.Иванова пишет об этом доме следующее: «При Лермонтове дом со двора, как и с улицы, был одноэтажный: антресоли надстроены позднее. Направо был низенький, кривой заборчик, а в глубине двора — флигель и конюшня, только не каменные, как теперь, а деревянные. Эти сведения о доме, где жил Лермонтов, сообщил мне П. В. Сытин». В доме, говорят, было семь комнат, две из них — в мезонине, где и обитал Мишель. Вход в дом, как обычно в московских небольших особняках, был со двора.
Нам следует запомнить имена ближайших соседей Арсеньевой, с детьми которых дружил Мишель. (Их имена будут часто встречаться в стихах будущего поэта.) Первым делом следует назвать Лопухиных и Поливановых. Они жили очень близко, на Большой Молчановке. К Лопухиным Лермонтов являлся как свой человек. Сын Лопухиных Алексей был ровесником Мишеля. Молодые люди дружили, часто проводили вместе целые вечера — у Лермонтова или у Лопухина.
У Алексея были две младшие сестры: Мария и Варя. Это были задушевные друзья Мишеля, а в младшую, Вареньку, поэт был влюблен. И оставался верен этой любви всю жизнь.
Мишель дружил также и со старшим сыном Поливановых — Николаем. К слову сказать, герой войны, партизан Денис Давыдов, был родственником Поливановых.
Здесь же следует упомянуть юную Александру Верещагину, которой, так же как и Вареньке, Мишель поверял свои самые сокровенные мысли. Ее имя тоже не раз повстречается нам, когда пойдем дальше по поэтическому пути Лермонтова.
Давайте же подытожим, что нового принес Мишелю 1828 год: он уже учится в стенах Благородного пансиона, стало быть, живет в Москве, подружился со своими сверстниками Алексеем Лопухиным и Николаем Поливановым и милыми созданиями: сестрами Машей и Варенькой Лопухиными и Сашенькой Верещагиной.
Мишель и друзья его играли на фортепьяно, увлеченно пели, танцевали, читали друг другу стихи. Где? У кого придется. На Большой Молчановке или на Малой. Бабушка Мишеля всегда была рада, когда друзья Мишеля собирались у нее — как-никак глаз, любящий и всевидящий глаз! Мишель находился под неусыпным наблюдением Елизаветы Алексеевны.
Но я не сказал еще об одном важном событии: в 1828 году Мишель написал первые стихи, которые дошли до нас как «первые». Это не значит, что он не писал стихов «до». Нет, он, несомненно, писал. Мы об этом узнали от Шан-Гирея.
Первое стихотворение называлось «Осень». Им открывается полное собрание сочинений под редакцией П. Висковатова. Читаем: «Листья в поле пожелтели, и кружатся и летят; лишь в бору поникши ели зелень мрачную хранят» и так далее. А заканчивается это двенадцатистрочное стихотворение так: «Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит». И еще три стихотворения остались от того года. Всего, значит, четыре.
Наверное, Мишель написал еще. Не может быть, чтобы не писал. Но затерялись стихи, не дошли до нас. По этим стихотворениям Мишеля можно ли сказать, что мы уже имеем дело с поэтом, с будущим настоящим поэтом? Думаю, что нет. Стихи слишком ординарны, слишком подражательны. Так наверняка писали многие. Я не уверен, что Алексей или Николай писали хуже или не могли бы написать именно так. Ведь у Маши, Саши и Вареньки были альбомы, как у многих девиц того времени. Разве в них оставлял стихи только один Мишель?
В 1828 году написано Мишелем и стихотворение «Поэт». («Когда Рафаэль вдохновенный пречистой девы лик священный живою кистью окончал».) Но и они, эти стихи, посланные в альбом тетке Марии Акимовне Шан-Гирей, не смогли бы изменить нашего мнения о начальных стихах Мишеля. Да, владеет мальчик слогом, — сказали бы в то время люди, сведущие в поэзии.
Значительно, на мой взгляд, важнее одно из первых писем Лермонтова, дошедшее до нас. Пишет он своей тете в Апалиху. С радостью сообщает, что испытания кончились и вакация началась. Лермонтов — второй ученик в классе!
Но вот еще одна новость: «Папенька сюда приехал, и вот уже 2 картины извлечены из моего portefeuille, слава богу! Что такими любезными мне руками!..»
Значит, снова, — правда на короткое время, — сошлись два любимых Мишелем человека под одной кровлей: бабушка и отец. Какова была встреча Юрия Петровича с Елизаветой Алексеевной, мы не знаем. Можем лишь догадываться. Она не залечила душевной раны Мишеля. А лишь только разбередила ее…
Что же еще можно сказать?
«Бабушка, я и Еким — все, слава богу, здоровы, но m-r G. Gendroz был болен, однако теперь почти совсем поправился… Целую ваши ручки. Покорный ваш племянник М. Лермантов».
Мишель здоров…
И «папенька» — тоже. «… Слава Богу, что такими любезными мне руками…»
Кажется, Мишель вполне был счастлив в том, 1829 году. В Москве. На Малой Молчановке.
Пансион Благородный
Этот пансион был неотделим от Московского университета. В нем обучались многие, позже ставшие государственными, общественными деятелями и литераторами.
Как уже отмечалось, в пансионе было шесть классов. Последний класс, говорят, подразделялся на младшее и старшее отделения. Если это так, то практически получается семь. Александр Зиновьев, по-видимому, неплохо подготовил Михаила Лермонтова к вступительным экзаменам: инспектор пансиона Михаил Павлов поздравил Лермонтова с зачислением в школу. Это было 1 сентября 1828 года. Лермонтов был принят сразу в четвертый класс. С тихой, невозмутимой жизнью в Тарханах было покончено. Михаил стал одним из трехсот учащихся пансиона. Поскольку пансион и университет нельзя было отделить друг от друга, можно понять все значение такого поступления: дорога в университет, по существу, была открыта.
Наиболее подробно о пансионском обучении рассказано Висковатовым. Сведения свои он почерпнул из бесед с Александром Зиновьевым в 1880 году. Стало быть, спустя почти полвека со времен пансионских. Период этот очень важен тем, что именно в стенах этого учебного заведения Лермонтов начал писать стихи. (А может быть, и незадолго до этого.) «В 1828–1830 годах Лермонтов не только принимал участие в литературно-писательской жизни пансиона, — пишет Виктор Мануйлов, — но постоянно посещал спектакли московских театров».
Очень часто Лермонтов переписывал к себе в альбом понравившиеся ему чужие стихи. Потом он изменял в них отдельные строки и набрасывал свои собственные. Большинство стихов этого времени ценны, пожалуй, только тем, что принадлежат Михаилу Юрьевичу Лермонтову, автору многих стихотворных шедевров, «Демона», «Маскарада» и «Героя нашего времени».
Михаил, как видно, был доволен пансионом. Из его писем к тете явствует, что настроение у него хорошее. Но вскоре свалилась на него беда: скончался господин Жандро. Медицина не смогла помочь.
Говорят, что смерть его принесла невольную развязку, ибо так или иначе Жандро, дескать, пришлось бы расстаться со своим питомцем. Одни утверждают, что за старым французом-эмигрантом полиция чуть ли не установила негласный надзор. И тут же добавляют, что «Жандро прививал Михаилу неприязнь к парижской черни». Тогда непонятно, что надо было полиции от Жандро? Другие пишут также, что фатоватый француз «смущал» мальчика легкомысленными рассказами, коими был полон бывший любимец женщин. Я думаю, что нет никакого смысла входить в рассмотрение этих мнений и делать из них «проблему». Как говорится, царствие небесное господину Жандро. Мы уж за то признательны ему, что учил он Михаила живому парижскому наречию.
Француза сменил мистер Виндсон, человек степенный и семейный. Весьма возможно, что бабушка решила восполнить «пробел» и научить внука английскому. Прошло время — и Михаил Лермонтов читал Байрона и Шекспира в оригинале. Байрон к тому времени прочно пленил умы многих европейцев. И вполне естественно, что и молодой Лермонтов стал поклонником байроновской поэзии. Не последнюю роль в увлечении молодежи Байроном играло свободолюбие англичанина и его смерть в Миссолунгах, можно сказать, на поле битвы, во имя свободы Греции.
Аким Шан-Гирей жил у Елизаветы Алексеевны. С этой поры он редко будет расставаться с Михаилом. Пройдут годы, и Аким — уже человек пожилой — оставит свои воспоминания. Шан-Гирей писал с тактом, не наделяя задним числом будущего поэта выдуманными или нарочито усугубленными чертами характера. А ведь не трудно было бы поддаться соблазну и многое присочинить, и показать себя в некотором роде провидцем, — благо, для этого имелись все основания: Лермонтов к середине второй половины прошлого века, когда писались воспоминания, был повсеместно признанным великаном русской поэзии. (Шан-Гирей позже жил в Тифлисе, где и умер, а похоронен в Пятигорске.)
Юрий Петрович нередко наезжал в Москву, чтобы повидать своего сына. Беседовал он — и не раз — с наставником Михаила Александром Зиновьевым. Кстати, единственное свидетельство о Юрии Петровиче тех времен принадлежит именно Зиновьеву. Можно его привести здесь, чтобы еще раз освежить память о Юрии Петровиче.
Зиновьев виделся с Юрием Петровичем в Москве в 1828, 1829 и 1830 годах. Его мнение совпадает с теми сведениями, которые добыл Висковатов в Тарханах у Петра Журавлева: «Это был человек добрый, мягкий, но вспыльчивый, самодур… Следовавшие затем раскаяние и сожаление о случившемся не всегда были в состоянии выкупать совершившегося…»
Последний приезд Юрия Петровича, говорят, оставил у сына тягостное впечатление. Как видно, на всю жизнь. Юрий Петрович якобы потребовал от сына ясного ответа: с кем он хочет быть — с бабушкой или с отцом? Ответить на этот вопрос было нелегко. И это понятно. Говорят, Лермонтов заколебался — так сильна была его любовь к отцу. Но ведь он обожал и свою бабушку! Хотя, насколько припоминаю, в стихах его нет на то никакого намека. Впрочем, надо ли объясняться в любви самому дорогому и близкому человеку? На мой взгляд, тот факт, что бабушке ничего не посвящено и о бабушке нет ни единого слова, ни о чем еще не говорит.
От Лермонтова ждали решительного слова. И бабушка, и отец. Если прямого ответа Мишель не мог дать раньше, то это вполне понятно — детство же! Но теперь ему шестнадцать, и ответ не должен быть двусмысленным или маловразумительным. Поэтому надо решать.
Вроде бы так обстояло дело на тихой Молчановке. Впрочем, все это отчасти домысел, ибо никто в точности не знает, что и как происходило на самом деле. Об этом не оставил свидетельства Юрий Петрович. Елизавета Алексеевна — тоже. Михаил Лермонтов коснулся этой стороны семейной жизни в драмах «Люди и страсти» и «Странный человек», если художественное произведение полностью отождествить с «документом».
В итоге Юрий Петрович уехал, что называется, с пустыми руками. Убедили ли его аргументы Елизаветы Алексеевны и на сей раз или сам Юрий Петрович понял всю бессмысленность спора со старухой? Никто этого не знает. Сын в последний раз видел своего отца: Юрий Петрович вскоре скончался в Кропотово. Был ли сын на похоронах? По-видимому, нет. А был ли он когда-нибудь позже на могиле отца? Мы этого не знаем… Смерть Юрия Петровича по-своему «отрегулировала» вечный спор отца и бабушки. Михаил остался теперь круглым сиротой. Был он, и была бабушка. В целом свете!
Умер Юрий Петрович, как уже говорилось, 1 октября 1831 года. Лермонтов посвятил этому событию несколько стихотворений. Вот строки из «Эпитафии»: «Прости! увидимся ль мы снова? И смерть захочет ли свести две жертвы жребия земного, как знать! Итак, прости, прости!.. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал…» Вот еще: «Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть… Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанною кончиной…» И еще один отрывок: «Я сын страданья. Мой отец не знал покоя под конец; в слезах угасла мать моя; от них остался только я…»
Но мне кажется, что никто не сказал о Юрии Петровиче лучше, чем сам Юрий Петрович. Вот что писал он в своем завещании 29 июня 1831 года: «Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, дабы избежать неминуемого неудовольствия. Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо, явно, она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины…» В этом же завещании Юрий Петрович пишет: «Благодарю тебя, бесценный друг мой, за любовь твою ко мне и нежное твое ко мне внимание, которое я мог замечать, хотя и лишен был утешения жить вместе с тобою.
Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь…» Юрий Петрович делает важное для нас наблюдение: «Хотя ты еще и в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума». Я полагаю, что это был голос не только любящего сердца.
Немало теплых слов посвятил Юрий Петрович своей кропотовской семье — сестрам и ближайшим родственникам. Не позабыл он и некоего «малолетнего Александра, отпущенного на волю сестрою». Внимательно прочитав завещание Юрия Петровича, начинаешь понимать, что не из соображений риторики задавался вопросом Висковатов, когда писал: «Что сразило его — болезнь или нравственное страдание?» Я полагаю, что, при всех своих недостатках чисто человеческих, Юрий Петрович обладал одним очень важным качеством души: был добр.
Так почему же все-таки Михаил Лермонтов не присутствовал на похоронах отца? Не разрешила ехать бабушка? Поздно сообщили? Или вовсе не сообщили?
Есть предположение, что Юрий Петрович умер в Москве и что сын присутствовал на похоронах. Как доказательство приводят стихи «Эпитафия» (1830 год). Тут определенная путаница, и сама эта путаница указывает на то, что смерть Юрия Петровича недостаточно встряхнула дом на Малой Молчановке. Да и сам Михаил Лермонтов, который любил, особенно в ту пору, «документировать» свои чувства и сильные картины жизни, не прошел бы мимо похорон, не «позабыл» бы их в своей поэзии.
Как бы то ни было, приходится констатировать один непреложный факт: отчуждение между Елизаветой Алексеевной и Юрием Петровичем достигло такой степени, что ни Михаил, ни даже сама смерть не смогли хотя бы внешне примирить их. Бывают обстоятельства, которые сильнее нас самих. И — об этом можно только сожалеть…
В стенах университетского Благородного пансиона Лермонтов воистину расписался. Начинающий поэт поверяет бумаге все свои мысли. При этом он предельно искренен. Он не смеет лгать. Он пишет потому, что хочет высказать правду, и только правду. Лермонтов, можно сказать, заносит в альбом то, что «видит». Это во многом живые зарисовки, лишенные философского обобщения. Но не всегда. Это следует подчеркнуть. И как почти «взрослый» пессимист, достаточно громко говорит о смерти. Ему скучно в свете, на земле. Он мечтает об ином мире, где «более счастлив человек».
В пансионе много молодых, мыслящих, энергичных людей. У Лермонтова здесь немало друзей. Беседы с ними будоражат воображение юного поэта. Существовало в пансионе Общество любителей словесности. Руководил им в то время С. Раич. Жаркие споры разгорались на собраниях кружка, и они, безусловно, оказывали большое влияние на Лермонтова. В 1854 году С. Раич писал: «В последние годы существования Благородного пансиона под моим руководством вступили на литературное поприще некоторые из юношей, как-то: г. Лермонтов, Стромилов, Колачевский, Якубович, В. М. Строев».
Кружок Раича, говорят, собирался по субботам, а заседания Общества любителей словесности проходили торжественно, в месяц раз. На них читали стихи. Но можно ли утверждать, например, что Лермонтов мог публично прочитать свои «Жалобы турка»? В этом стихотворении есть такие строки: «Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, где рощи и луга поблекшие цветут?.. Там рано жизнь тяжка бывает для людей, там за утехами несется укоризна, там стонет человек от рабства и цепей!.. Друг! этот край… моя отчизна!» И, как бы ставя все точки над «и», юный Лермонтов так заканчивает это стихотворение: «Ах, если ты меня поймешь, прости свободные намеки; — пусть истину скрывает ложь: что ж делать? — все мы человеки!..»
И неспроста Бенкендорф докладывал царю, что и среди воспитанников «Пансиона при Московском университете… встречаем многих, пропитанных либеральными идеями, мечтающих о революциях и верящих в возможность конституционного правления в России».
«Лермонтов вращался среди товарищей, — пишет Н. Бродский, — интенсивно живших умственной жизнью, горячо волновавшихся вопросами искусства, литературы, театра». В пансионский период Лермонтов много читает, посещает театры. К его услугам были такие органы русской журналистики, как «Московский вестник», «Галатея», «Атеней», «Московский телеграф», «Вестник Европы». И конечно же, стихи Рылеева и плюс ко всему знакомство с поэтом-декабристом А. И. Одоевским.
Александр Герцен писал о Лермонтове: «Он полностью принадлежал к нашему поколению. Все мы были слишком юны, чтобы принять участие в 14 декабря. Разбуженные этим великим днем, мы увидели лишь казни и изгнания…» «Лермонтов не мог найти спасенье в лиризме, как находил его Пушкин. Он влачил тяжелый груз скептицизма через все мечты и наслажденья». (Я обращаю особое внимание на последнюю фразу и прошу помнить о ней всякий раз, когда будем касаться веселья и наслаждений Михаила Лермонтова.)
Удивительно, как много говорит молодой Лермонтов о «прожитых годах», о прошедшем времени, где не успел пожить, но уже думает об «ином мире…» «Настанет день — и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни — гордый, хоть презренный — я кончу жизнь мою…» И это в шестнадцать лет? Что это? Поза? Или пророчество? И откуда такое?.. «Не привлекай меня красой! Мой дух погас и состарелся…» А это — что? Подражание? Красное словцо? Или голая правда?
Лермонтов заносит в свои листы одно стихотворение за другим. Перо не знает покоя… Молодой человек пишет свою лирическую биографию. «Но я в сей жизни скоротечной так испытал отчаянья порыв, что не могу сказать чистосердечно: я был счастлив!» Позвольте, можно бы здесь возразить: на голое «заявление», полное укоризны, имеет моральное право человек «поживший». А здесь? Откуда у шестнадцатилетнего подобные мотивы? А ведь все, кажется, идет, что называется, как по маслу: жизнь Лермонтову улыбается в общем-то, учение дается хорошо, бабушка под боком, и достатка предовольно. Да и как взглянешь на малого — вроде бы довольный всем, весел, танцует, играет на фортепьяно, рисует, нравятся ему все или почти все девицы. Чего же еще, спрашивается?
А любовь? Михаил хорошо знает, что поэты должны писать про любовь. Разве первые слова о любви не должны быть несколько наивными? Может быть, даже несколько прямолинейными. Ведь не сорок же лет, но всего шестнадцать! А как о ней пишет пансионер? «Моя воля надеждам противна моим, я люблю и страшусь быть взаимно любим». И пишет знаете — кто? А вот кто: «Когда законом осужденный в чужой я буду стороне — изгнанник мрачный и презренный». Вот именно, а не кто-нибудь иной! И «не удивительно», ибо пансионер, творящий на Малой Молчановке, оказывается, пьет «из чаши бытия с закрытыми очами, златые омочив края своими же слезами…» «Я много плакал — но придут вновь эти слезы — вечно им не освежать моих очей…» «и провиденье заплотит мне спокойным днем за долгое мученье…» «Зачем так рано, так ужасно я должен был узнать людей, и счастьем жертвовать напрасно…» Заметьте: и все это в те же шестнадцать лет! И все, видимо, потому, что, «в жизни зло лишь испытав, умру я…».
И вот, листая страницу за страницей, вдруг забываешь, что имеешь дело с юношей. Нет, говоришь себе, это человек, немало хлебнувший горя на своем веку, но все еще пишущий довольно неуверенно в смысле формы (чтобы не сказать: часто коряво). Но ведь молодой совсем, начинающий всего-навсего!.. И вдруг набредешь на такие строки: «Кавказ! далекая страна! Жилище вольности простой! И ты несчастьями полна и окровавлена войной!.. Нет! прошлых лет не ожидай, черкес, в отечество свое: свободе прежде милый край приметно гибнет для нее». Но ведь это просто удивительно — сказать так просто и так верно!
Вы помните своих учителей? Тех, которые прививали вам любовь к арифметике, алгебре или литературе. Которые умели заинтересовать вас, а порою и сильно заинтриговать. Согласитесь, что велика роль учителя в нашей жизни. Думаю, что это полностью относится и к Лермонтову.
До нас дошло немало сведений о Благородном пансионе, нам известны имена учителей Лермонтова. В первую очередь надо еще раз назвать Зиновьева и инспектора Михаила Павлова. Павлов был внимателен к Лермонтову, украсил стены своей квартиры его рисунками и живописью. То есть проявил то внимание, которое невозможно переоценить. Очень и очень важно поощрить способного молодого человека. Порою от этого зависит его дальнейшая судьба. В этом смысле большая заслуга принадлежит и Зиновьеву. По-видимому, он был не только человек эрудированный, но и душевный. Знания плюс душа — что может быть лучше?
Следует отметить, что преподавал Лермонтову также Дмитрий Дубенский, прекрасный знаток «Слова о полку Игореве». Директором пансиона был Петр Курбатов.
Работал в этом учебном заведении и поэт Алексей Мерзляков. Сейчас он почти забыт и напомнить о нем может разве что старинный романс «Среди долины ровныя».
Однако первым литературным наставником был Семен Раич, в то время известный поэт. Он многое сделал для того, чтобы Лермонтов и некоторые другие пансионеры «вступили на литературное поприще».
Живое слово живого поэта, даже если он и не очень велик, всегда производит большое впечатление на слушателей, особенно на учащихся. Речь поэта резко отличалась от речей других ораторов. Это отличие и есть живость, неожиданность оборота и течения мысли.
Мерзлякова, говорят, слушали с большим удовольствием. Молодые люди восхищались им, его лекции всегда собирали полную аудиторию.
Следует заметить, что Мерзляков давал Лермонтову частные уроки на дому. Мы можем себе только вообразить направление этих уроков. Уж, наверное, известный поэт и поэт начинающий говорили о поэзии «профессионально». Лермонтов из этих бесед мог почерпнуть немало полезных советов по части техники стихосложения.
Висковатов предполагает даже наличие влияния Мерзлякова на умонастроение Лермонтова и приводит такой факт: бабушка Лермонтова якобы воскликнула после того, как «крамольные» стихи «Смерть Поэта» получили широкую огласку: «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтоб учить Мишу литературе! Вот до чего он довел его!»
Мерзляков скончался в том же году, в котором Лермонтов окончил пансион, — в 1830-м. Это был человек одинокий, добрый и горячий душою. Такие люди уходят тихо, незаметно, но оставляют по себе явственный след. Их можно и не вспоминать в стихах, как это случилось в данном случае с Михаилом Лермонтовым, но они оживают, притом нежданно-негаданно, в образах, строфах и стихах совсем, может быть, по другому поводу. В этом и состоит отличие литературы от научных знаний. Эти неожиданные повороты не всегда поддаются учету, часто невозможно предвидеть течение художественной мысли.
Михаил Лермонтов провел в стенах Благородного пансиона более двух лет. За это время он написал немало стихотворений, среди которых я бы особо выделил такие, как «Молитва», «Могила бойца», «Кавказу» и другие. Здесь же создавались пьесы «Испанцы» и «Люди и страсти». Юношеские сочинения Лермонтова дают все основания для, так сказать, положительного прогнозирования. Но ведь от просто поэта до гения расстояние преогромное. Задним числом, уже зная великого Лермонтова, конечно, начинаешь выискивать настоящие и мнимые перлы.
Лермонтов писал много. Но мало кому показывал свои стихи. Тем более не носил он их издателям, в отличие от некоторых сегодняшних нетерпеливых молодых авторов. Здесь еще не место говорить о ранней профессионализации, которая, на мой взгляд, является бичом поэзии и литературы вообще. Но мы еще будем иметь возможность вернуться к этому.
Михаил Лермонтов в годы пребывания в Благородном пансионе не только учился, писал стихи, получал отметки (к слову сказать, высший балл — 4, низший — 0). Лермонтов ходил по Москве, по Кремлю, посещал театр, смотрел Мочалова, слушал оперы, сам пел и играл дома, в кругу друзей, рисовал, лепил из воска, влюблялся, немало времени уделял своим сверстникам. Одним словом, поэзия хотя и весьма занимала его, но не была единственным его занятием. Она рождалась в гуще юношеских радостей и страданий, в пылу молодых споров и ссор, под сенью дружбы и пылких увлечений.
Наконец, его занятия в области искусства не вдруг родились на Малой Молчановке или в стенах пансиона на Тверской улице. Нет, нити тянутся в Тарханы, на Кавказ, в дорожные тяготы и мелкие приключения. Поэтическая душа уже шлифовалась там, среди тарханских нив и крестьян, среди горцев Кавказа и казаков, в домашнем уюте, и под огромным небом, и на виду белоснежных гор… Ничто в литературе не бывает «вдруг». Талант рождается исподволь, он крепнет год от году, закаляется в жизни. Поэтому пансионский период — очень важный этап в развитии лермонтовской поэзии, но первым его я все-таки не назвал бы, ибо поэзия рождается раньше — значительно раньше! — чем заносится она на бумагу. Последний процесс — наиболее легкое дело. Тут есть кажущееся противоречие. Оно усугубляется тем, что не все в поэзии можно объяснить при помощи четких формулировок, готовых рецептов и абстрактных рассуждений. Вот почему тайна сия велика есть! (Я не говорю о тех ученых, которые все знают и все разъясняют и для которых само слово «тайна» в приложении к искусству всего-навсего крамола.)
Итак, почти ежедневно от Молчановки до Тверской вышагивал широкоплечий, большеглазый юноша, сама встреча с которым, если бы кто-либо узнал в нем будущего пророка, была бы величайшей наградой для любого мыслящего человека. Однако нимбы исчезли давным-давно. Еще во времена библейские. Впрочем, был один человек, жил в шестнадцатом веке. Он видел свой собственный нимб. Но никто, кроме него. К сожалению… Это был тоже человек искусства. И звали его Бенвенуто Челлини…
Лермонтову, сказать по правде, уже изрядно надоел пансион.
Благо, приходил конец учению.
Впереди — Московский университет, студенческая жизнь.
Лермонтов — студент
Мы всегда полны движения. Будущее нас манит. В этом отличие человека от прочего живого мира.
Лермонтов, кажется, не чаял, когда распростится с пансионом и пойдет дальше, если верить его стихам: «Из пансиона скоро вышел он, наскуча все твердить азы да буки; и, наконец, в студенты посвящен, вступил надменно в светлый храм науки». Говоря откровенно, у Лермонтова не было особых причин для жалоб на свою пансионскую жизнь. Разве здесь его не отличали преподаватели? Разве не здесь написал он первые свои стихи и поэмы? Или, может быть, пансион отрывал его от любимых друзей и обожаемой бабушки? Ведь нет же! Даже в холерный год, когда все вокруг, казалось, падали, Михаил Лермонтов живет в доме, где чисто, тихо и сытно, где его друзья и наперсницы. А летом — Середниково, большое поместье Столыпиных. А рядом — все те же любимые друзья — Лопухины, Верещагины и Сушкова.
Николай I посетил пансион весною 1830 года и остался недоволен даже его умеренным либерализмом. Вскоре пансион был превращен в обычную гимназию, где учеников пороли. Можно было оставаться в таком учебном заведении?..
Шан-Гирей писал: «В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием…» «Играли мы часто в шахматы…»
Екатерина Сушкова оставила примечательный портрет Лермонтова той поры: «У Сашеньки (Верещагиной) встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой. Он учился в Университетском пансионе, но ученые его занятия не мешали ему быть почти каждый вечер нашим кавалером на гулянье, и на вечерах; все его называли просто Мишель… Я прозвала его своим чиновником по особым поручениям и отдавала ему на сбережение мою шляпу, мой зонтик, мои перчатки…»
В Середникове (ныне Фирсановка) собирались молодые люди, устраивали игры, танцы, кавалькады — прогулки верхом, ходили и на богомолье. Лермонтов влюблялся пылкой юношеской любовью, писал об этом стихи. (Напомню, что говорил Гёте: «Я сочинял любовные стихи только тогда, когда я любил».) Впрочем, писал Лермонтов чуть ли не по всякому поводу, писал везде, где «настигало его вдохновенье»: ночью у окна, на кладбище, в жилище Никона, у пруда, на поле. Писал на чем попало, а потом уж «перебеливал», то есть переписывал набело. Поэтическая фантазия заносит его на Кавказ, в Италию, Шотландию, в небеса и под землю. То он грустит, то веселится. В стихах его чувствуется влияние поэтов того времени, особенно Пушкина. Да это и неизбежно. В литературе трудно вести себя, словно в вакууме. Ведь речь идет не о подражательстве, но о влиянии идей и течений. Поэтому я бы, скорее, говорил о незрелости лермонтовского таланта при очень больших способностях. И отдельных поэтических перлах. (Об этом мимоходом было выше.)
Спрашивается: будем ли мы рассматривать творчество Лермонтова того времени как большое литературное явление или же взглянем на него с высот лермонтовской поэзии зрелой поры? Мне кажется — второе. В противном случае мы будем выглядеть слепыми апологетами. И тем не менее, «молодые» стихи Лермонтова — замечательное сокровище для нас. Виктор Мануйлов пишет: «Отроческие и юношеские стихотворения Лермонтова свидетельствуют о поразительной силе духа, о стремлении к борьбе за грядущее освобождение. В эти же годы в его лирике возникает образ поэта-гражданина, поэта-пророка». А такие стихи, как «Ангел» или «Парус»? Разве не отмечены они печатью великого таланта? Эти стихи я бы назвал гениальными всплесками в творчестве молодого поэта. Приходится поражаться тому, что Лермонтов не включил эти шедевры в свой первый поэтический сборник. (И в солидных изданиях произведений поэта и «Ангел» и «Парус» идут обособленно, после стихов 1836–1841 годов, то есть стихов зрелого периода.)
Я часто думаю об океане поэзии, который грозит потопить нас. Что касается истинной поэзии — ее-то как раз с гулькин нос. В связи с этим я как-то сказал одному моему другу-поэту, что не надо писать много, вернее — пиши сколько угодно, но публикуй стихи с большим выбором. На это он ответил: «А кормить меня будет Пушкин?» Это большое несчастье — ранняя профессионализация. Стихи в молодые годы никого кормить не обязаны и кормить не могут. Причина простая: хорошие стихи пишутся редко и надежда на «прокорм» ими слаба. По-моему, надо иметь еще какое-то «дело», кроме поэзии. До той поры, пока ты позарез не будешь нужен людям. Говорят, Роберт Фрост не мог «кормиться» стихами до пятидесяти лет и стал профессионалом, лишь перейдя во второе пятидесятилетие…
Пансион был реорганизован в гимназию… Перед Лермонтовым, естественно, встала дилемма: либо оставаться в гимназии, либо идти в университет. Судя по тому, что Лермонтов оказался студентом Московского университета, мы теперь точно знаем, какое он принял решение. Но мы никогда не узнаем, какой семейный совет предшествовал ему. Однако это особого значения не имеет, поскольку, на мой взгляд, все протекало «нормально»: Лермонтов был уволен, согласно его прошению, 16 апреля 1830 года. А в августе 1830 года он пишет: «… Ныне же желаю продолжать учение мое в Императорском Московском университете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня в число своекоштных студентов Нравственно-Политического Отделения, допустить к слушанию профессорских лекций…»
Через некоторое время ординарные профессора Семен Ивашковский, Иван Снегирев, Петр Победоносцев, Михаил Погодин, Николай Коцауров, Федор Кистер и Amédée Decampe направили в Правление такое «Донесение»: «По назначению господина Ректора Университета, мы испытывали Михаила Лермонтова, сына капитана Юрия Лермонтова, в языках и науках… и нашли его способным к слушанию профессорских лекций…»
Университетский курс продолжался три года. Висковатов писал: «Лермонтов, впрочем… перешел в словесное отделение, более соответствующее его вкусам и направлению».
Михаил Лермонтов облекся в форменный сюртук с малиновым воротником. Вне стен университета, говорят, разрешалось ходить в обычном, партикулярном платье.
«Бывало, только восемь бьет часов, — читаем мы у Лермонтова, — по мостовой валит народ ученый. Кто ночь провел с лампадой средь трудов, кто в грязной луже, Вакхом упоенный: но все равно задумчивы, без слов текут… Пришли, шумят… Профессор длинный напрасно входит, кланяется чинно, — он книгу взял, раскрыл, прочел… шумят; уходит — втрое хуже. Сущий ад!..»
Однокурсник Лермонтова Петр Вистенгоф писал: «Всех слушателей на первом курсе словесного факультета было около ста пятидесяти человек… Выделялись между ними и люди, горячо принявшиеся за науку: Станкевич, Строев, Красов, Компанейщиков, Плетнев, Ефремов, Лермонтов…»
Иван Гончаров писал: «Молодые профессора, адъюнкты — заставляли нас упражняться в древних и новых языках. Это были замечательно умные, образованные и прекрасные люди, например, — француз Куртенер, немецкий лектор Геринг, профессор латинского языка Кубарев и греческого — Оболенский… Между ними, как патриарх, красовался убеленный сединами почтенный профессор русской словесности, человек старого века — П. В. Победоносцев».
Первые месяцы университетских занятий были омрачены холерой. Все общественные места, учебпые и увеселительные заведения были закрыты. Александр Герцен писал: «Все трепетало страшной заразы, подвигавшейся по Волге к Москве. Преувеличенные слухи наполняли ужасом воображение. Болезнь шла капризно, останавливалась, перескакивала, казалось, обошла Москву, и вдруг грозная весть «холера в Москве!» разнеслась по городу… А дома всех встретили вонючей хлористой известью, «уксусом четырех разбойников» и такой диетой, которая одна, без хлора и холеры, могла свести человека в постель».
Сушкова рассказывает в своей книге: «Страх заразителен, вот и мы, и соседи наши побоялись оставаться дома в деревне и всем караваном перебрались в город… Бабушку Арсеньеву нашли в горе: ей только что объявили о смерти брата ее, Столыпина…»
Это было в самом начале июня 1830 года. Как видим, Лермонтов с бабушкой в это «холерное время» оставался в Москве. Но уже в июле и августе Лермонтов в Середникове, сочиняет стихи. В октябре он пишет проникновенное стихотворение «Могила бойца»: «Он спит последним сном давно, он спит последним сном». Примечателен, на мой взгляд, конец стихотворения: «Хотя певец земли родной не раз уж пел о нем, но песнь — всё песнь; а жизнь — всё жизнь! Он спит последним сном». И считает необходимым точно датировать их: 5 октября 1830 года, во время холеры.
Давайте послушаем шестнадцатилетнего воспитанника Московского университета — с чем он пришел туда из пансиона, что на душе у него, чем занята его голова.
Необходимо заметить, что юноша знает цену своему таланту. Ему необходимо подумать о бессмертии: «Боюсь не смерти я. О, нет! Боюсь исчезнуть совершенно. Хочу чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет». Сказано очень определенно. Я прошу запомнить эти стихи. Мы увидим в дальнейшем, как распорядился он своим талантом и своими произведениями, когда эта мечта его осуществлялась.
Как бы примериваясь к знаменитым поэтам, молодой Лермонтов, по-видимому, не смеет думать о Пушкине, — зато Байрон ему явно «по плечу»: «Нет, я не Байрон, я другой…»
Ничего нельзя возразить даже начинающему поэту, если он чувствует в себе подспудные великие силы, пока еще не видимые для «посторонних». Ведь до той поры, когда истинный поэт раскрывается публике и становится признан ею, проходит некий, так сказать, инкубационный период созревания таланта.
Подражая Байрону, Лермонтов писал: «Не смейся, друг, над жертвою страстей, венец терновый я сужден влачить». И это вполне понятно, ибо «схожи» оба поэта, очень близки душою, хотя Лермонтов «не Байрон, он другой». Пророк — всегда в терновом венце, он — обречен на мученичество. Юноша говорит об этом пока что тайно, один на один со своим альбомом, куда он «перебеливает» стихи. Этот альбом предназначен для очень узкого круга друзей. Это — святая святых. И поэтому и речи не может быть о публикации, хотя, на мой взгляд, некоторые из них вполне этого были достойны. Даже при определенном критическом подходе. Некоторые, подчеркиваю я.
Если уж поэт говорит, хотя и наедине, о своей мечте и мечта эта довольно дерзка, то надо поговорить и о своей душе и самых сокровенных чувствах и мыслях — о жизни и смерти. Наверное, смысл жизни и сущность смерти есть важнейший вопрос истинной, высокой поэзии. Даже сам поиск смысла жизни, — а человек до него должен доискаться сам, так же как в любви, — есть ответ на вопрос: что есть смерть?
«Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Я любил все обольщенья света, но не свет». Чья это интонация? Юноши? Пожилого человека? Старика? Как это понимать: «с детских лет»? С пяти до шестнадцати? «Все обольщенья света»? Позвольте, а кто пытался обольщать? Нет ли здесь своеобычной литературной реминисценции? Нет ли перепева чужих чувств? Наверное, есть. Но есть, несомненно, что-то и свое. Если бы мы имели дело с начинающим поэтом, мы бы ему сказали: «Не говори с чужих слов. Испытай сначала все сам, поживи с наше». Но ведь перед нами будущий Михаил Юрьевич Лермонтов, и поэтому мы должны отнестись с должным вниманием, а главное, пониманием к его юным словам. Ибо мы будем встречаться и с более удивительными заявлениями, когда невольно приходит в голову: а не есть ли все это просто поза?
«Всевышний произнес свой приговор — его ничто не переменит; меж нами руку мести он простер и беспристрастно все оценит. Он знает, и ему лишь можно знать, как нежно, пламенно любил я, как безответно все, что мог отдать, тебе на жертву приносил я». Не знаю, что может отдать юноша, что значит это «все»? Можно подумать — плоды большой жизни. То, что здесь мы имеем дело с явной гиперболизацией, в этом я не сомневаюсь. Чувствительная душа трепещет при, казалось бы, незаметном прикосновении к ней. Другая осталась бы спокойной, а эта звенит дивной струною. Это и есть настоящий поэтический отзвук. Мы и дальше будем встречаться с подобными преувеличениями у Лермонтова, если соотносить все слова только с его юношеским возрастом. Но если со зрелым поэтом? Тем более с будущим гением? Что тогда? Как это все понимать? Умозрительно объяснить можно, но достаточно ли убедительным все это покажется? Дело заключается в том, что при всей гиперболизации молодая лермонтовская поэзия, — как и зрелая, — вполне реалистична. И в этом ее сила. Это полностью мы относим и к такому заявлению: «Ни перед кем я не склонял еще послушного колена…» О ком речь? О царе, вельможах? Иль о Лопухиной и Сушковой? А может, речь об учителях пансиона? Но ведь это заявление мужа, убеленного сединами! Не имеем ли мы здесь дела с тем самым «предзнанием», без которого нет поэзии и литературы вообще? По-моему, имеем, и очень даже. Не может писать поэт, если не пользуется он не только собственным, но и чужим жизненным опытом. Не может быть литератора, который, например, описывая смерть, не воспользовался бы «сторонним» опытом. В противном случае ему самому пришлось бы умереть и воскреснуть, чтобы написать «В полдневный жар в долине Дагестана…»
Юноша говорит не только о высоком призвании своей души, о любви своей неутоленной. Он определенно знает, что проживет недолгий срок: «Душа моя должна прожить в земной неволе не долго…» Или: «Как ты, мой друг, я не рожден для света и не умею жить среди людей… взгляни на бледный цвет чела… На нем ты видишь след страстей уснувших…» И еще: «…Быть может, когда мы покинем навек этот мир, где душою так стынем; быть может, в стране, где не знают обману, — ты ангелом будешь, я демоном стану!» И еще и еще: «покой души не вечен, и счастье на земле — обман». А вот что сказал юноша о людской душе: «Люди хотят иметь души… и что же? Души в них — волн холодней!»
Короткая жизнь — долгое мученье… Мы уже видели, хотя и мельком, какая была жизнь и какие мученья. Со стороны, может, трагедии особой и не было: обычная человеческая жизнь, каких на свете множество. И дает ли все это основание для таких стихов: «и провиденье заплатит мне спокойным днем за долгое мое мученье»? Долгое мученье? А нет ли здесь просто-напросто поэтического обобщения, которое отталкивается от факта, так сказать, материализуется в конкретном лице и оттого еще сильнее его воздействие на читателя? И насколько здесь образ лирического героя аутентичен автору как таковому? В стихотворении «Одиночество» есть такие строки: «Один я здесь, как царь воздушный, страданья в сердце стеснены, и вижу, как, судьбе послушно, года уходят будто сны»… Обратите внимание: года уходят! Значит, ощущение такое, что вот-вот конец жизни. Уместно здесь снова привести уже цитированные строки: «И в жизни зло лишь испытав, умру я, сердцем не познав печальных дум печальной цели». И еще хочу напомнить о том, что молодой поэт уже твердо знает о ранней смерти своей, когда погибнет его «недоцветший гений». Над юношей, написавшим эти стихи, наверное, смеялись в свое время. Но что сказали бы десять лет спустя?
В студенте Московского университета уже живет и зреет пророк — молодой с «пожилой» душою. Что изменилось с пансионских лет? Форма одежды да маршрут, который стал чуть ли не вдвое короче? Да, так. Но движение души и мысли, точнее сказать, направление движения осталось прежним.
Но кто это замечал? Близкие друзья? Они были слишком близки и слишком заняты собой и дружбою с Михаилом Лермонтовым, чтобы вдумываться в такие безделушки, как стихи. Да и разве один Лермонтов кропал их?
Так где же та печать духовного неистовства, которая резко отличает пророка?
Может быть, угадав в нем поэта-пророка, люди дали бы ему некую синекуру и, оградив от всяческих треволнений, вручили бы заветную лиру? Может, было бы лучше, если бы не было ни гусарского полка, ни боев на Валерике, ни дуэли под Машуком? Может быть, в этом случае на памятнике его вместо горестных цифр «1841» было бы начертано: «1885»? Возможно…
Но в этом случае не было бы Михаила Юрьевича Лермонтова. Которого мы знаем.
Ибо таков закон жизни.
Следовательно, и поэзии.
Прощай, Молчановка!
Холера внесла большую сумятицу в московскую жизнь, особенно в студенческое житье-бытье. Университет был закрыт после смерти одного из воспитанников. И страх был велик. Свидетель этому Кристин писал к графине Е. Бобринской: «Нет, графиня, пяти студентов университета не умирало. Умер всего один жертвою своей невоздержанности, пьянства и разврата. Из-за этого поднялась тревога и лекции прекращены». А другой свидетель, Я. Костенецкий, несколько иного мнения о холере и ее жертвах: «В конце декабря месяца холера, унеся более пяти тысяч жертв, совершенно прекратилась в Москве, и после Рождественских праздников, после двухмесячного закрытия, открыт Университет, и студенты стали ходить на лекции». В том числе, разумеется, и Лермонтов, который фактически был заперт в доме на Молчановке. Тот же Кристин писал той же графине Бобринской: «Каждый спешил закупить себе припасов на случай запечатания домов, так как распространился слух, что все частные дома будут запираться от полиции…»
В эти дни Лермонтов пишет стихи, которые, впрочем, нельзя считать специфически «холерными». Он говорит: «Быть может, завтра он (закат. — Г. Г.) заблещет надо мною безжизненным, холодным мертвецом… Мой дух утонет в бездне бесконечной!..» Холера могла навеять такие стихи — это естественно. Но они не стали от этого более мрачными. Мы видели, что раньше о смерти Лермонтов-пансионер писал не менее сильно, я бы даже сказал, более определенно. «Чума явилась в наш предел. Хоть страхом сердце стеснено, из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно». Нет, смерть определенно не стала еще страшнее от присутствия холеры в Москве. Герцен говорит: «Москва приняла совсем иной вид… Экипажей было меньше; мрачные толпы народа стояли на перекрестках и толковали об отравителях; кареты, возившие больных, шагом двигались, сопровождаемые полицейскими; люди сторонились от черных фур с трупами… Город был оцеплен…» Казалось, эта картина могла навеять стихотворцу страшные апокалипсические явления. Но нет, мысль поэта не идет далее «банальной» смерти и… любви: «Из миллиона мертвых тел мне будет дорого одно… Лобзая их (уста. — Г. Г.), я б был счастлив, когда б в себя яд смерти влил, затем что, сладость их испив, я деву некогда забыл». Или в стихотворении «Смерть» (уже цитированном), читаем: «Одна лишь дума в сердце опустелом, то мысль об ней… О, пожалей о мне, краса моя! Никто не мог тебя любить, как я…» Это писалось 9 октября 1830 года, то есть в самый разгар холеры.
Висковатов говорит: «Ни профессора, ни студенты еще не могли войти в обычную колею, да и не все были налицо, так что на этот раз весенних переводных экзаменов не было и не все студенты остались на прежних курсах. Год был потерян».
Москва только в начале следующего, 1831 года пришла в себя. Однообразно потекли университетские будни. Заметим к слову, это тот самый университет, в котором учились Белинский, Герцен, Огарев, Гончаров и многие другие. Вистенгоф говорит: «К девяти часам утра мы собирались в нашу аудиторию слушать монотонные, бессодержательные лекции бесцветных профессоров наших: Победоносцева, Гастева, Оболенского, Геринга, Кубарева, Малова, Василевского, протоиерея Терновского. В два часа пополудни мы расходились по домам». Да, если эта картина верна, то действительно не очень-то радостная была доля студенческая.
Любопытно, каким представлялся Михаил Лермонтов его однокурсникам. От той поры сохранился ряд свидетельств, которые мне очень хочется привести. Вот что пишет Костенецкий о Лермонтове: «Когда уже я был на третьем курсе… поступил в университет по политическому же факультету Лермонтов, неуклюжий, сутуловатый, маленький, лет шестнадцати юноша, брюнет, с лицом оливкового цвета и большими черными глазами, как бы исподлобья смотревшими». Костенецкий сообщает, что Лермонтов часто садился подле него, чтобы слушать лекции. Все это хорошо. Но не очень понятно, как это он, студент старшего курса, хорошо запомнил какого-то первокурсника? Ведь он же не знал, что Лермонтов — это тот самый Лермонтов! Может быть, он повторяет общеизвестные описания внешности Лермонтова? Настораживает и такая фраза Костенецкого: «Вообще студенты последнего курса не очень-то сходились с первокурсниками, и потому и я был мало знаком с Лермонтовым…»
Более любопытно, на мой взгляд, воспоминание Ивана Гончарова, однокурсника Михаила Лермонтова: «Нас, первогодичных, было, помнится, человек сорок. Между прочим тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть…»
Вистенгоф отмечает «тяжелый, несходчивый характер» Лермонтова, который, дескать, «держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания… Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь по обыкновению на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушая профессорских лекций».
Что ж, несколько пристрастная характеристика, но все же любопытная. Она, мне кажется, повторяет сложившееся в свое время мнение о некоем «демоническом» характере Лермонтова, о его неуживчивости и заносчивости. Но почти все сходятся на том, что Лермонтов был очень добрым и милым другом и товарищем для близких людей. Да ведь и невозможно требовать, чтобы он улыбался каждому встречному-поперечному и непременно вертелся в гуще гогочущих студентов! Я не вижу ничего удивительного в том, что студент интересуется «посторонней» книгой больше, чем лекцией. Это было, есть и будет. Дело лектора перетянуть студента на свою сторону. Из воспоминаний о Лермонтове-студенте еще не следует, что мы имеем дело с гениальным молодым человеком. Тем более что вне стен университета Лермонтов вел себя более чем ординарно.
Тот же Вистенгоф писал: «Лермонтов любил посещать каждый вторник тогдашнее великолепное Московское Благородное собрание, блестящие балы которого были очаровательны. Он всегда был изысканно одет, а при встрече с нами делал вид, будто нас не замечает… Он постоянно окружен был хорошенькими молодыми дамами высшего общества… Танцующим мы его никогда не видали».
Шан-Гирей вспоминает о том, как однажды в Благородное собрание «Лермонтов явился в костюме астролога, с огромной книгой судеб под мышкой…» В этой книге имелись листки с эпиграммами. Одна из эпиграмм, может быть, адресовалась Наталье Соломоновне Мартыновой, сестре того самого Мартынова. (Впоследствии она вышла замуж за графа Альфреда де ла Турдонне.) Была в этой книге и эпиграмма «Додо». Это прозвище Евдокии Сушковой (Ростопчиной), будущей известной поэтессы и большой приятельницы Лермонтова. Мы еще встретимся с нею, ибо с нею и дальше встречался Михаил Лермонтов. И, видимо, не случайно Лермонтов говорил о ней: «Умеешь ты сердца тревожить, толпу очей остановить, улыбкой гордой уничтожить, улыбкой нежной оживить». Не думаю, чтоб тут было особое преувеличение. Кстати, Ростопчина дала блестящую по форме и глубине характеристику Лермонтову-человеку и Лермонтову-поэту. Это была одна из верных первых характеристик наряду с характеристиками Белинского и Боденштедта. (Мы об этом скажем в своем месте.)
«Мне здесь довольно весело, — пишет Лермонтов своей тете Шан-Гирей, — почти каждый вечер на бале… В университете все идет хорошо». Его близкий друг Шан-Гирей подтверждает это: «Часто посещал театр, балы, маскарады; в жизни не знал никаких лишений, ни неудач: бабушка в нем души не чаяла и никогда ни в чем ему не отказывала; родные и короткие знакомые носили его, так сказать, на руках; особенно чувствительных утрат он не терпел; откуда же такая мрачность, такая безнадежность?»
Милейший Шан-Гирей пытается объяснить эту «мрачность» и «безнадежность» чуть ли не модным тогда байронизмом и желанием «поморочить» головы обворожительным «московским львицам». Следовательно, Шан-Гирей полностью отказывает в искренности лермонтовской, пусть не окрепшей еще, поэзии тех лет. Если здесь на минуту поверить Шан-Гирею, то придется признать, что и вся последующая поэзия Лермонтова тоже была своего рода «драпировкой». Может быть, для тех же львиц писались и «Смерть Поэта», и «Завещание», и «Герой нашего времени»?..
Бедный Шан-Гирей не понимал, что можно быть вполне сытым и в то же время негодовать по поводу того, что не все сыты, что многие нищенствуют, что можно принадлежать к господствующим слоям и в то же время ненавидеть эти слои. Может быть, говоря о «прекрасном поле», Лермонтов и «драпировался» порою. Однако главная черта его характера и поэзии — искренность. Нет, Лермонтов не лгал наедине с чистым листом бумаги. Если и встречаются затруднения при объяснении «разрыва» между его личной жизнью и поэзией, то это только потому, что мы иногда не принимаем во внимание сложной личности, какой и была личность Лермонтова.
На мой взгляд, не следует отождествлять автора с его героями, нельзя также и «целиком» отрывать автора от произведения, от духа его. Многие исследователи ищут точных биографических соответствий между «Вадимом» и другими неоконченными вещами Лермонтова. Кое-что, разумеется, находят. Каждое литературное произведение есть «дитя» данного литератора. И оно отражает определенные качества самого автора, а подчас и его биографические данные. Но не всегда. И не во всем, разумеется.
Мне кажется, что когда дело имеешь с литератором, тем более гениальным, следует отрешиться от чисто механического «отбора» добра и зла и в творчестве, и в поступках. А иначе в литературе ничего не поймешь и алгеброй не проверишь глубин поэзии. Сложность заключается в том, что литератор — человек с усложненной психикой. Вряд ли я могу претендовать на оригинальность, высказывая эту истину. Во всяком случае, человеческий духовный механизм необыкновенно сложен, а литература есть результат его наивысшей деятельности. Ибо создается она в моменты особенного подъема, особенной активности.
Шан-Гирей, а за ним все исследователи отмечают, что Лермонтов был влюблен в Вареньку Лопухину. Да, любил. По словам того же Шан-Гирея, Варенька Лопухина была молоденькая, умная, в полном смысле слова, восхитительная. Лермонтов посвятил ей несколько стихотворений, дружил с нею и с ее братом и сестрою. Была ли это любовь Данте к Беатриче? Не думаю. Хотя всю жизнь Лермонтов вспоминал Вареньку с глубоким почтением. Его стихи студенческих лет, посвященные мнимо или действительно обожаемым девицам, весьма ординарны, и чувства в них скорее названы, нежели раскрыты. Впрочем, качество восполнялось здесь количеством: Лермонтов писал очень много. В этом можно убедиться, перелистав его юношеские стихи и поэмы. Давайте вспомним: к 1831 году Лермонтов уже имел собственные поэмы: «Кавказский пленник», «Черкесы», «Корсар», «Джулио», «Литвинка», «Ангел Смерти». Вскоре им были написаны «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», «Каллы». Делалась большая работа. Рука привыкла к стихам. Оттачивалась техника стиха. Надо отдать должное молодому Лермонтову: он не обольщался, отлично понимая, что он всего лишь на подступах к чему-то большому, возможно, великому. Он чувствовал в своей душе те самые подземные толчки, которые свидетельствуют об огромных подспудных силах, до поры до времени но проявляющих себя. «Нет, я не Байрон, я другой…» По-моему, сказано предельно ясно.
Как бы мало ни давали профессорские лекции, скажем, того же Победоносцева, студенты все-таки находили пищу и для души, и для размышлений. Почти каждый, кто вспоминает Лермонтова тех лет, указывает на то, что будущий поэт много читал. Пустопорожность некоторых лекций восполнялась чтением умных книг «из собственной библиотеки». Рассказывают о различных столкновениях профессоров со студентами. Если лекция малоинтересна или просто нудная — студенты читают «посторонние» книги или устраивают профессору обструкцию. Рассказывают о резких столкновениях с профессурой студентов Белинского, Герцена и других. Известна так называемая «маловская история». Костенецкий называет Малова «олицетворением глупости и ничтожества». Герцен писал: «Малов был глупый, грубый и необразованный профессор… Студенты презирали его, смеялись над ним… Студенты решились прогнать его из аудитории».
Словом, этот замысел был приведен в исполнение: Малова прогнали из аудитории. И не просто, а, что называется, с музыкой. Музыка, разумеется, была шумовая.
Инцидент этот сильно смахивал на демонстрацию. А всякая демонстрация вызывала негодование дворцовых кругов, у которых живы были воспоминания о событиях декабря 1825 года. Руководителям университета, говорят, удалось представить «маловское дело» обыкновенной студенческой шалостью и недисциплинированностью. Что называется, замяли его.
А Лермонтову все-таки пришлось уйти из университета и навсегда распроститься с Молчановкой…
На перепутье
Да, Михаил Лермонтов покинул Московский университет. Что же он уносил с собою? Очень хорошо на этот вопрос ответил Герцен. Мне кажется, стоит в этом месте привести его слова. Они скажут больше, чем специальное исследование. «Учились ли мы… чему-нибудь? Могли ли научиться? Полагаю, что «да». Преподавание было скудное… Университет, впрочем, не должен оканчивать научное воспитание… его дело — возбудить вопросы, научить спрашивать. Именно это-то и делали такие профессора, как М. Г. Павлов, а с другой стороны, и такие, как Каченовский. Но больше лекций и профессоров развивала студентов аудитория юным столкновением, обменом мыслей, чтений». «…Московский университет свое дело делал: профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Каверина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать в земле».
Я хочу несколько дополнить слова Герцена применительно к Лермонтову. Кроме горячих споров со студентами и академического обмена мыслями Лермонтов носил с собою и театральные впечатления, что очень, на мой взгляд, важно. По всем данным, Лермонтов часто бывал в театрах. А главное — книги. Своей тете в Апалиху он писал: «Вы говорили, что наши актеры (московские) хуже петербургских. Как жалко, что вы не видали здесь Игрока, трагедию Разбойники. Вы бы иначе думали». Это писалось в 1829 году. Но с большим основанием подобные же слова можно отнести и к 30-му и 31-му годам. Своей тете он пишет: «Вступаюсь за честь Шекспира. Если он велик, то это в «Гамлете», если он истинно Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, т. е. неподражаемый Шекспир — то это в «Гамлете». И так далее. Я советую внимательно перечесть письма Лермонтова (их около полусотни), они короткие, но, право, стоят целого исследования.
А была ли какая-либо серьезная подоплека, которая удовлетворительно объяснила бы несколько неожиданный для нас уход Лермонтова из университета?
Все указывают на столкновение с профессорами. Думаю, что это могло послужить причиной.
Петр Вистенгоф, однокурсник Лермонтова, приводит такой случай:
«Профессор Победоносцев, читавший изящную словесность, задал Лермонтову какой-то вопрос.
Лермонтов начал бойко и с уверенностью отвечать. Профессор сначала слушал его, а потом остановил и сказал:
— Я вам этого не читал; я желал бы, чтобы вы мне отвечали именно то, что я проходил. Откуда могли вы почерпнуть эти знания?
— Это правда, господин профессор, того, что я сейчас говорил, вы нам не читали и не могли передавать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным.
Мы все переглянулись.
Подобный ответ дан был и адъюнкт-профессору Гастову, читавшему геральдику и нумизматику.
Дерзкими выходками этими профессора обиделись…»
Сам Лермонтов прямо ничего не говорит по этому поводу. Только однажды обмолвился он в письме своей тете, что «в университете все идет хорошо». Значит, все шло хорошо — и вдруг плохо? Да, получается так. Возможно, что Лермонтов не хотел углубляться в свои студенческие невзгоды. Но возможно и другое: просто его письма потеряны, письма, в которых он писал о своих университетских делах. И как всегда — откровенно.
Мне кажется, что следует констатировать один непреложный и достоверный факт: Лермонтов ушел из университета. Причина? Все-таки столкновения с профессорами, если угодно, взаимное неудовольствие. А что же еще? Эта причина, вообще говоря, весьма основательная. Еще бы! «Нерадивый», отказавшийся от публичных экзаменов студент! Это же скандал!
Весьма вероятно, что бабушка, как это бывало не раз, смягчила неприятности и начальство согласилось на уход «по семейным обстоятельствам», без скандала. Эта туманная формула устраивала и Лермонтова. На том, как видно, и сошлись.
Итак, время идет! С Тарханами покончено: сюда Лермонтов будет наезжать все реже и реже. С Москвою тоже покончено: здесь Лермонтов будет бывать только проездами. «Семейные обстоятельства» вынуждают его переселиться в Санкт-Петербург, в столицу. Разумеется, и Елизавету Алексеевну вынуждают: ведь внуку нужен глаз да глаз. Бабушка его не оставит. Она тоже поедет за ним — воистину по «семейным обстоятельствам».
Сохранилось письмо, написанное Лермонтовым «на пути из Москвы в Петербург». Оно адресовано Софье Бахметевой. «Я обретаюсь в ужасной тоске, — пишет Лермонтов, — извозчик едет тихо, дорога пряма, как палка, на квартире вонь, и перо скверное». И тем не менее письмо в целом не лишено юмора. Видимо, автор бодрился изо всех сил. Так мне кажется. Подписано: «Раб ваш М. Lerma». О чем думал Лермонтов, переселяясь в Петербург? Что его заботило? Видимо, главное — университет.
Лермонтов ехал из Москвы в Петербург. Лет за сорок с небольшим до этого в обратном направлении совершил путешествие Александр Радищев и, как известно, описал его в своей знаменитой книге. Лермонтов мог наблюдать те же самые картины, что и Радищев. То есть все ужасы крепостничества. И не думаю, чтобы все это привело его в хорошее настроение. И когда он лет десять спустя напишет «Прощай, немытая Россия», — вспомнит и про бедность и грязь на дороге — «прямой, как палка» — из Москвы в Петербург. Ибо такая фраза не рождается в минуту мгновенного гнева или оскорбленного чувства, но складывается в сердце исподволь, на протяжении многих лет. Она сложилась не на пленэре, не на экскурсии или трехдневном богомолье. Нужен был не только острый глаз, но и зрелый ум, чтобы записалась она на бумаге. И стала знаменитой на всю Россию.
Я очень советую взявшим в руки эту книгу снова перечесть Радищева. Вся она — обвинительный акт против крепостничества. Я утверждаю, что хотя Лермонтов и не написал книгу о своем путешествии из Москвы в Петербург, тем не менее она невидимыми письменами отпечаталась на его сердце. Это, может быть, сказано несколько выспренне. Но не беда, зато, как говорится, это правда.
Таким, как Радищев, которые бесстрашно возвышали свой голос против несправедливости, не выпадало легкой судьбы.
Мыслящему человеку в ту пору было невмоготу. Как Радищеву. Почему же Лермонтов должен был составлять исключение?
Проехав по столбовой дороге и уразумев еще и еще раз, что есть человечья доля, Лермонтов прибыл в столицу империи. Он быстро составил себе мнение о ней и выразил его в таких стихах: «Увы! как скучен этот город, с своим туманом и водой!.. Куда ни взглянешь, красный ворот, как шиш, торчит перед тобой…» (речь идет о красных воротах жандармов).
В августе он пишет Бахметевой: «До самого нынешнего дня я был в ужасных хлопотах; ездил туда-сюда… рассматривал город по частям и на лодке ездил в море, — короче, я ищу впечатлений, каких-нибудь впечатлений!..» «Мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный дом — и со всем тем душа моя к нему не лежит; мне кажется, что отныне я сам буду пуст, как был он, когда мы взъехали». И вдруг: «Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит». Примечательное признание! И это надлежит нам хорошенько запомнить… Лермонтов «начинает» понимать, чего он хочет: «Я жить хочу! хочу печали…» «Что без страданий жизнь поэта? И что без бури океан?» И «смешной» конец: «Я болтаю вздор, потому что натощак. Прощайте: член вашей bandejoyeuse M. Lerma».
Мы с вами знаем, что это за «ужасные хлопоты» Лермонтова: устройство в Петербургский университет. Ведь в этом-то и заключались все его «семейные обстоятельства». Хлопоты хлопотами, но надо посетить и родственников, перезнакомиться со всеми. Что Лермонтов и делает, хотя и без особого удовольствия. В конце августа он пишет письмо в Москву, в котором есть такие любопытные строки: «Назвать вам всех, у кого я бываю? Я — та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием… Видел я образчики здешнего общества: дам очень любезных, молодых людей очень воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого, но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».
Словом, Петербург и петербургское общество не очень-то порадовали москвича. Ему здесь неуютно. Пишет мало. Это и понятно: приходится бегать по делам. Но кое-что все-таки Лермонтов писал. По-видимому, повесть «Вадим», которую так и не окончил. «Я перерыл всю свою душу, чтобы добыть из нее все, что только способно обратиться в ненависть». Это сказано Лермонтовым.
Восемнадцатилетний молодой человек заканчивает одно из писем таким пассажем: «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: я!» Мы будем иметь возможность вспомнить об этом, по крайней мере, в двух случаях на протяжении его короткой жизни.
Наконец выяснилось, что Михаил Лермонтов не сможет поступить в Петербургский университет.
Что же все-таки произошло?
Этот очень важный в жизни Лермонтова момент, переломный, я бы сказал, не может быть освещен с полнейшей документальной достоверностью. Но кое-что мы знаем. Например, имеется свидетельство родственницы Лермонтова Екатерины Симанской, урожденной Боборыкиной. Оно передано Е. Ладыженской в «Русском вестнике» в 1872 году. Оказывается, Петербургский университет дозволял «перевод не иначе, как с условием, чтобы проситель начал сызнова, то есть выдержал вступительный экзамен. Такое требование рассердило Лермонтова». Кроме чисто морального довода имелся и еще один немаловажный против принятия университетского условия: терялся один год! Можно ли было идти на это? И Лермонтов не пошел… Других объяснений, насколько мне известно, нет.
Можно вообразить себе настроение молодого человека, который из одного учебного заведения гордо ушел, а в другое не попал. Есть отчего впасть в уныние. Я не знаю, произвел ли этот случай тот шум у начальства, о котором говорит та же Ладыженская. По ее словам, якобы с той поры «студенты могут переходить из одного университета в другой, ничего не теряя из своих учебных годов». Шан-Гирей по этому поводу пишет, что Лермонтов «отправился с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний, но вместо университета он поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров…»
Не правда ли, довольно странный пируэт? А как еще назвать этот выбор? Если не университет — так школа подпрапорщиков? Очень и очень непонятное решение для Лермонтова, которого мы уже немножко узнали.
Павел Висковатов приводит в своей книге диалог, который произошел между полковником Гельмерсеном и Елизаветой Алексеевной Арсеньевой. Рассказ этот — со слов Гельмерсен, урожденной Россильон.
Полковник якобы спросил бабушку Лермонтова:
— Что вы сделаете, если внук ваш захворает во время войны?
— А ты думаешь… что я его так и отпущу в военное время?
— Так зачем же он тогда в военной службе?
— Да это пока мир, батюшка!.. А ты что думал?
Мне кажется, что если Лермонтов советовался с бабушкой, то не мог найти в ней союзника, одобрившего его переход на военную службу. Крутой поворот в жизни внука так встревожил бабушку, что она слегла в постель.
Всполошилась вся родия Михаила Лермонтова. Пошел слух о том, что и в Петербургском университете у Лермонтова тоже вышла крупная неприятность. По этому поводу Саша Верещагина писала ему: «Аннет Столыпина пишет П., что вы имели неприятность в университете и что тетка моя от этого захворала; ради бога, напишите мне, что это значит? У нас все делают из мухи слона — ради бога успокойте меня! К несчастию, я вас знаю слишком хорошо, чтобы быть спокойною. Я знаю, что вы способны резаться с первым встречным из-за первого вздора. Фи, стыд какой!.. С таким дурным характером вы никогда не будете счастливы».
Прежде чем привести здесь слово Лермонтова, я хочу обратить внимание на замечание Верещагиной по поводу характера поэта, готового «резаться с первым встречным из-за первого вздора». Очень приятно отметить, что эта девушка (примерно одних лет с Лермонтовым) оказалась хорошим знатоком души близкого человека (такое не часто встретишь). Ее наблюдения кое-что объяснят нам и в дальнейшем.
Я понимаю деликатное положение самолюбивого молодого человека: поехал студент поступать в университет — и осечка! Его не зачисляют. Надо начинать все сызнова, с первого курса. А почему? Из-за тупости начальства. Согласитесь, это очень обидно. Не пойдешь же в другой университет: его нет в Петербурге. А время поджимает, надо что-то быстро решать… И еще одно обстоятельство: как раз в это время пришло правительственное распоряжение об увеличении числа университетских курсов с трех до четырех. А это значит, что еще один лишний год придется проводить в стенах учебного заведения. Всего, значит, два лишних года!
Вот здесь мы и приведем обещанное слово Лермонтова. Вот оно: «Вы поверили словам и письму молодой девушки, не подвергнув их критике. Annette говорит, что она никогда не писала, что я имел неприятность, но что мне не зачли, как это было сделано для других, годы, проведенные мною в Московском университете. Дело в том, что вышла реформа для всех университетов… к прежним трем невыносимым годам прибавили еще один…»
Таково объяснение Лермонтова. Можно ли ему верить? Разумеется, можно. Верещагиной он не солгал бы. Других документов нет в нашем распоряжении. Нет прошения самого Лермонтова, нет ответа университетского начальства.
Оставалась, по-видимому, школа подпрапорщиков.
Чем соблазняла школа? Короткий срок обучения. Это — раз. Военная карьера, веселая гусарская жизнь. Это — два. Наконец, советы друзей.
Лермонтов очутился на перепутье.
Пушкин писал в «Пророке»: «И шестикрылый серафим на перепутьи мне явился». Этот посланец небес сделал все для того, чтобы стал настоящим пророком тот, который был предназначен для этой великой миссии.
Но к Лермонтову серафима не послали. Возможно, и тут сказалась несправедливость судьбы. К нему явился в самый ответственный час просто Столыпин. Тот самый Монго. Родственник и друг Михаила Лермонтова. Избравший для себя военную карьеру. Чуть помоложе Лермонтова. Говорят, его советы действовали неотразимо.
И жребий был брошен…
Стало быть, с университетом в Петербурге не получилось. У некоторых дело выгорело, а у Лермонтова нет. Почему? Было ли какое-либо тайное письмо из Москвы? Едва ли. В чем могли обвинить Лермонтова? В участии в «маловском деле»? Но ведь оно с самого начала было признано не столь уж тяжким. Политического характера ему не придали. Как говорится, спустили на тормозах. И все-таки, как понимать слова: «как это было сделано для других»? Мы знаем, что бабушка могла горы свернуть ради внука. Неужели она при всех своих связях не сумела сделать для Михаила того же, что удалось другим? Это не укладывается в моей голове! Значит, было нечто непреодолимое, о чем мы не ведаем. Было еще что-то сверх того, о чем пишет Лермонтов Верещагиной.
Что значило идти в школу подпрапорщиков? Первое: отдалиться от стихов. Это было неизбежно, и Лермонтов это, несомненно, понимал. Второе: требовалось коренным образом изменить весь уклад жизни, все перестроить с учетом «маршировок и парадировок». И это при характере Лермонтова, при живом складе ума, при его «ученых наклонностях»?»
Я почему-то верю, что бабушка захворала, узнав о неожиданном решении внука. И не мудрено! Что хорошего сулила бабушке военная карьера внука? Жизнь вдали от нее! Или казарменную жизнь где-нибудь поблизости? Нет, военный быт не мог прийтись по праву Елизавете Алексеевне. Это совершенно ясно. Стало быть, не могла она служить ему союзницей в этом деле. Ежели Михаил пошел в школу подпрапорщиков, — значит, против ее желания. Впрочем, мне попадалось на глаза чье-то утверждение о том, что именно бабушка желала видеть во внуке военного. Не знаю, не думаю. Разве Елизавета Алексеевна похожа на бабушку, которая запросто отдает своего любимца в руки какого-нибудь Шлиппенбаха или Гельмерсена? Как бы не так!
Вспоминают, что в то время школа подпрапорщиков почти ничем не отличалась от университета. Что в ней было мало от солдафонства и больше от обычного учебного заведения. И именно в тот час, когда Лермонтов поступил в школу подпрапорщиков, все в ней и переменилось. Дескать, вдруг и муштры бессмысленной стало в ней больше, и строгостей всяких подвалило начальство, и дисциплины строевой, разумеется.
Павел Висковатов рассказывает кратко, но достаточно подробно об истории создания и развития этой школы. Прямое отношение к перестройке школы имел Николай Павлович, позже — самодержец всероссийский. Из истории школы видно, что верх в ней взяли «чисто» военные люди, что люди «знающие» уступали им место. По-видимому, все так и было.
Момент оказался, несомненно, драматическим: быть или не быть? Если «быть» — надо идти в военные. Ежели «не быть»? Что тогда? Садиться на скамью вместе с первокурсниками? Это полностью исключалось — не тот характер у Михаила!
Но ведь бабушка и ее хворобы — тоже аргумент немаловажный. Не стоило ли прислушаться к ее советам и пощадить ее любовь и ее старость?
Нет, жизнь, оказывается, сильнее. Точнее, обстоятельства. Трудно идти поперек им! И снова вспоминается мудрый Омар Хайям: «Небрежен ветер: в вечной книге жизни мог и не той страницей шевельнуть!» Могут спросить: а какой же еще ветер? Мало ли какой! Попал же Кюри под колеса телеги — и погиб. Задохнулся же Золя перед собственным камином. Утонул же Писарев в небольшой воде на Рижском взморье. Да мало ли какой страницей способен шевельнуть «ветер жизни»! На то он и ветер. На то он — от жизни.
Я спрашиваю вас: допустим на минутку, что Лермонтов поступил в Петербургский университет, окончил его и стал степенным чиновником. Что же тогда?
Появился бы, например, рассказ «Тамань»? А «Бэла»? А «Герой нашего времени» в целом? Едва ли. Возможно, родилось бы нечто другое. Возможно. Но — «без бури»? Откуда бы ее взять в каком-нибудь департаменте, куда его наверняка пристроила бы бабушка? А впрочем, гений, наверное, нашел бы свою тему. И бурю… Везде… На то он и гений!..
Конечно, теперь можно строить различные догадки. Но ведь сценарий-то уже готов, все жизненные пути в нем заказаны. Надо примириться с велением судьбы. И должным образом воспринять решение Лермонтова. Его ждут гусарский ментик, конь и шпоры. Его будут величать «маленьким гусаром». Но скоро, скоро все поймут, каков этот гусар: никому спуску не даст — проучит любого, кто осмелится задеть его даже малозначительной дерзостью… На пирушках никому не уступит пальму первенства в веселье и винопитии. Он будет не столько маленьким гусаром, сколько веселым гусаром с виду.
А стихи? Как же все-таки быть с ними?
Он пишет Марии Лопухиной: «Не могу представить себе, какое действие произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для поприща литературного, принес столько жертв своему неблагодарному идолу, и вот теперь — я воин». Далее следуют полупророческие слова, и я объясню, почему именно «полу», а не пророческие. Он пишет: «Быть может тут есть особая воля Провидения; быть может этот путь всех короче, и если он не ведет к моей первой цели, может быть, по нем дойду до последней цели всего существующего: ведь лучше умереть с свинцом в груди, чем от медленного старческого истощения».
Пророческой оказалась вторая половина этой фразы: да, военная служба косвенно спасла его от «старческого истощения». Но неверно предположение в первой ее половине: все-таки путь этот привел на поприще литературное. Да как еще привел!
Саше Верещагиной Лермонтов написал следующее: «Теперь, конечно, вы уже знаете, что я поступил в школу гвардейских юнкеров… Если бы вы могли представить себе все горе, которое я испытываю, вы бы пожалели меня…»
Лермонтов знал, на что идет. Ему, несомненно, казалось, что расстается — притом навсегда — с литературой. И это решение о перемене, так сказать, карьеры далось ему совсем, совсем нелегко. Это говорит и о глубине его чувств, и об ответственном решении. О чем угодно, но только не о легкомысленном отношении к собственной судьбе. Ему наверняка не казалось, что школа ниже или много ниже университета. Не его вина, что реформа школы началась тотчас по поступлении в нее.
Ну как, будем ли мы жалеть Лермонтова и сочувствовать ему? Думаю, что нет.
Не может талант развиваться на чисто литературной или окололитературной почве, где значительно суживаются и опыт, и знание жизни.
И мы скоро увидим, что эта перемена не убила Музу Лермонтова. А может, даже закалила ее.
Гусар черноусый?
Я хочу вернуться к месту, где говорил о том, что стряслось бы с Лермонтовым, ежели б он поступил в Петербургский университет. Мне кажется, что у него была возможность избрать и третий путь. Я сейчас скажу какой. Мне эта мысль пришла в голову, когда я припомнил некоторых знакомых мне молодых поэтов. Едва такой поэт издаст сборничек или окончит Литературный институт — как тотчас объявляет себя профессионалом, а в один черный день выясняется, что вовсе он и не поэт. А он уже лыс, а он уже оброс семьей, а семью надо кормить…
В великолепных стихах «Баллада о цирке» Александр Межиров, как мне кажется, верно «ответил» на очень важный вопрос: можно ли «оторвать» жизнь, работу от поэзии? (Я нарочно огрубляю формулировку этой деликатной проблемы…)
А мысль стихотворения такова:
Если литературное дело не клеится — надо найти в себе мужество и вернуться к настоящему, полезному для тебя и других делу.
Литература — вещь серьезная, сложная. Трудно давать здесь рецепты. Но ясно одно: она не может существовать и развиваться вне жизни, вне ее течения. Сама литература есть изумительнейшее проявление этой жизни, одного из ее аспектов, граней ее. Человечество не может обойтись без нее. Эту мысль хорошо выразил Уильям Сароян. Я хочу привести его слова: «…Пишут кинофильмы, пишут пьесы, рассказы, стихи, романы, письма. Они садятся и пишут, и пишут, и так же, господа, поступаю я. Это чудовищно, это смешно.
И это моя профессия, самая замечательная из всех, но одновременно и смехотворная».
Итак, Лермонтов мог бы «профессионализироваться» в самые ранние годы, то есть перейти на бабушкино иждивение — и писать себе стихи. Ей-богу, бабушка была бы очень довольна! Но боюсь, что мир мог бы потерять при этом воистину великого поэта. Ходил бы этакий двадцатилетний Лермонтов по Москве и Петербургу, захаживал бы к Краевскому — что-нибудь напечатали бы. А не печатают — тоже не беда: бабушка под боком! Исправно посещал бы балы, маскарады, пил бы по ресторанам, слыл бы за славного малого. Одним словом, промышлял бы стишками по разному поводу. Согласитесь: ведь возможен был и такой вариант.
Но все сложилось так, как сложилось: Лермонтов прошел в жизни свой собственный путь. Жизненная колея Лермонтова прочно сработана провидением, как говаривали раньше, и нам остается только следовать по ней. Было бы очень хорошо, если бы те, кто находился недалеко от Лермонтова, или сам Лермонтов оставили бы нам чуть побольше фактов, по которым мы могли бы достовернее судить об отдельных жизненных перипетиях. Прав был Константин Симонов, когда писал: «В личности Лермонтова меня больше всего поражает то, как много он сказал о ней в своих стихах и прозе и как мало оставил следов вокруг».
«Бог нашей драмой коротает вечность…» Словом, что бы мы ни думали и как бы ни гадали — Михаил Лермонтов попал в школу. Военную. Самую настоящую. А не ту «идеальную», о которой так пристрастно говорит Висковатов. Путь избран: Лермонтов станет гусаром. Даже странно как-то писать об этом. Слово гусар не вяжется с обликом умного студента Московского университета. Не только умного, но весьма одаренного. Этот путь избран им самим. Самолично.
Приказ о зачислении Лермонтова в школу был издан 10 ноября 1832 года. Вот его звание: вольноопределяющийся унтер-офицер лейб-гвардии Гусарского полка. Лермонтов не хотел начинать с первого курса столичного университета. А с унтер-офицерского чина начинать было лучше? Нет, мы с вами, наверное, не уразумеем неожиданных действий Михаила. И не только мы с вами! Многие из его родных и друзей тоже разводили руками.
Саша Верещагина, умная и милая Саша, — вы сейчас еще раз убедитесь в этом, — сочла необходимым прочитать Лермонтову нотацию в письме, писанном по-французски. Вдумайтесь, пожалуйста, в ее слова. Можно ли сказать что-нибудь лучше и убедительнее? «Итак, милый мой, — пишет Саша или Сашенька, — сейчас для вас настал самый критический момент, ради Бога помните, насколько возможно, обещание, которое вы мне дали перед отъездом. Остерегайтесь сходиться слишком быстро с товарищами, сначала хорошо их узнайте. У вас добрый характер, и с вашим любящим сердцем вы тотчас увлечетесь. Особенно избегайте молодежь, которая изощряется во всякого рода выходках и ставит себе в заслугу глупые шалости. Умный человек должен стоять выше этих мелочей, это не делает чести, наоборот, это хорошо только для мелких умов, оставьте им это и идите своим путем». Это писано в Москве 13 октября 1832 года. Я прошу запомнить эти слова. Мы оставим за собою право процитировать их еще раз в своем месте. Настолько важными кажутся они нам.
Как Лермонтов отнесся к ним, к этим словам? Запомнил их? Принял ли всерьез? Или они тут же выветрились из его памяти. Нет, он поступал всегда вопреки им.
Верно ли сказано у Соломона: «хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет»? Если верно, то сколь радиво хранят люди заповеди? И легко ли их сохранять? Какие существуют правила для этого? И какая сила способна вразумить человека в минуты слабости его?
Гусар!
Знал ли Михаил Лермонтов, что сие значит? Да, знал. Первым делом — это блеск. Блеск ментика, пуговиц, золотого шитья. И, разумеется, — веселье. Это же почти синонимы: гусар и веселье! «Гусар! ты весел и беспечен, надев свой красный доломан…» Это, по-моему, очень понятно. А еще — «гусар» синоним «любви». Это почти одно и то же. А посему: «Гусар! ужель душа не слышит в тебе желания любви?» Разумеется, слышит. Это говорится в форме вопроса только ради кокетства. Что гусар без любви и что любовь без гусара?
Но… Но при всем этом — гусар есть гусар. Что бы ни говорили о ментике и шпорах, о доломане и коне горячем. «Крутя лениво ус задорный, ты вспоминаешь шум пиров; но берегися думы черной, — она черней твоих усов». Но мало этого! Дело гораздо хуже: «Тебя никто не любит, никто тобой не дорожит».
Гусар на то и гусар, чтобы положить жизнь во имя бога войны, когда это потребуется. И что же? Что думают о тебе, «когда ты вихрем на сраженье летишь, бесчувственный герой»? Ничего не думают. О тебе даже не помнят, ибо «ничье, ничье благословенье не улетает за тобой».
Вот вам краткое правдивое жизнеописание некоего гусара. Может быть, фамилия этого гусара и есть Лермонтов? Может быть. В этом нет ничего удивительного, ибо речь идет о любом гусаре, о типе его. Судьба его, как видно, не из лучших. Тогда, спрашивается, «зачем от жизни прежней ты разом сердце оторвал…»?
Справедливый вопрос. Но ведь задавали его в свое время самому Лермонтову. Чем же он ответил? Да ничем! Пошел себе в казарму, погрузился в шагистику. Он может теперь написать: «Я жить хочу! хочу печали, любви и счастию назло!»
Простите, где это «жить»? На ристалище? Под строгую команду унтеров? Фельдфебелей?
Благороднейший Висковатов тщился доказать, что «школа» почти равнялась университету. Она вроде бы только с виду военная. А на самом деле, мол, хорошая, что Лермонтов просто ошибся в ней, потому что так сложились обстоятельства — я говорил об этом, но хочу снова вернуться к сему важному, с моей точки зрения, предмету.
У нас имеются «документы», оставленные самим Лермонтовым. Мы скажем еще о них. Но давайте послушаем сначала его друзей.
«Школа была тогда… у Синего моста, — пишет Шан-Гирей. — Бабушка наняла квартиру в нескольких шагах от школы, на Мойке же, в доме Ланскова, и я почти каждый день ходил к Мишелю…» «Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал. В школе он носил прозванье Маёшки от «Mr. Mayeux», горбатого и остроумного героя давно забытого шутовского французского романа».
Михаил Лонгинов писал: «Маёшка — это прозвище, приданное Лермонтовым самому себе». (Заметим, что Алексею Столыпину Лермонтов дал название «Монго».)
Николай Мартынов сообщает: «По пятницам у нас учили фехтованию; класс этот был обязательным для всех юнкеров… Я гораздо охотнее дрался на саблях. В числе моих товарищей только двое умели и любили так же, как я, это занятие: то были… гусар Моллер и Лермонтов. В каждую пятницу мы сходились на ратоборство…»
Подумать только: всем этим всерьез занимался Лермонтов! По-моему, это больше приличествовало ему в детские годы, в тарханскую пору. Спустя полтора десятка лет Лермонтов снова вернулся к своим «детским» забавам. Ведь это же одно удовольствие «драться» на саблях или эспадронах с Моллером или Мартыновым!
Вот что представляла собою школа, по Висковатову.
1. С восшествием на престол императора Николая I она была отдана в ведение великого князя Михаила Павловича.
2. Великий князь обратил свое особенное внимание на фронтовые занятия, и обучение строю стало практиковаться чаще. Так, манежная езда производилась от десяти утра до часу пополудни, а лекции были перенесены на вечерние часы.
3. Было запрещено читать книги литературного содержания.
4. Полагалось стеснять умственное развитие молодых питомцев школы.
5. С 1830 года великий князь принял особое участие в преуспеянии школы и стал ее посещать чуть ли не каждый день. Эти посещения, свидетельствуют, всегда сопровождались грозою.
Можно привести еще кое-какие особенности этой школы, «соперничавшей» с университетом. Говорили, — и теперь уже, наверное, трудно судить, — что с уходом Деллингсгаузена и Годенна и с приходом генерал-майора барона Шлиппенбаха и Россильона школа будто бы в корне переменилась. Не знаю, не знаю! Школа с самого начала была создана не по образцу и подобию университета. Кто не знал в то время, что студент и юнкер все-таки вещи разные? Алексей Столыпин (Монго) это тоже знал наверняка, когда советовал Лермонтову (Маёшке) поступить именно в школу. Правда, здесь для недорослей была введена особая привилегия: они могли держать при себе прислугу из числа крепостных. Лермонтов, разумеется, этой привилегией воспользовался. Этой и некоторыми другими.
Товарищ Лермонтова по школе Александр Меринский напечатал в 1872 году свои воспоминания. Он пишет, что «хвалили же и восхищались теми, кто быстро выказывал «запал», то есть неустрашимость при товарищеских предприятиях, обмане начальства, выкидывании разных «смелых штук». В школе славился своею силою юнкер Евграф Карачинский. Он гнул шомпола или вязал из них узлы, как из веревок».
В то время для многих дворянских недорослей прямой путь в военные, в офицерство был, можно сказать, предопределен. Для тысячи и тысячи дворян. Но не обязательно же именно для Лермонтова! Может быть, если бы жив был Юрий Петрович и был бы он рядом с сыном, все сложилось бы иначе? Трудно сказать.
В восемнадцать лет Лермонтов был образованным молодым человеком, читал на трех иностранных языках, хорошо разбирался в отечественной литературе, обожал Пушкина, читал новинки, издававшиеся в Париже, Лондоне, Берлине. И этого молодого, талантливого человека обстоятельства принуждают ходить буквально вниз головою. Я хочу напомнить нотацию Сашеньки Верещагиной: как верно, как справедливо писала она ему!
«По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел: и месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой…»
Значит, почти настоящие или почти театральные драки на саблях и рапирах? Все сбегаются и глазеют, как Лермонтов, автор «Ангела», мастерски дерется с юнкером Моллером?..
«Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез…»
… Или еще приятнее хохотать, наблюдая за тем, как юнкер вяжет узлы из шомполов. Это чудесное зрелище! Можно и самому попробовать делать узлы. Силенок на это достанет в руках и плечах…
«И долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».
… А то можно выказать лихость и на манеже и вдруг получить удар. И от кого? От любимой лошади. И хорошо, что не в живот или в голову. Дело в этом случае закончилось бы весьма плачевно. А может, и не плачевно, ибо это «естественный конец без старческой немощи»…
Позвольте, тот ли это Лермонтов, который написал в «Измаил-Бее»: «Как я любил, Кавказ мой величавый, твоих сынов воинственные нравы, твоих небес прозрачную лазурь и чудный вой мгновенных, громких бурь…»
Все это не очень понятно…
Но непонятно на первый взгляд.
Сам Михаил все отлично понимал. Он знал, по какому пошел пути. А раз выбрал этот путь, надо и вести себя соответствующим образом. Гусар — это и ус черный, и лихость, и бравирование крайним самолюбием. А юнкер — это завтрашний гусар!
Надо отметить, к чести «недоросля» Лермонтова, что никаких иллюзий относительно школы он не строил. Все видел, все понимал. Напомним, что даже Петербург пришелся не по нутру молодому москвичу. Что касается самой школы, то сущность ее хорошо, я бы сказал исчерпывающе, выражена в знаменитой «Юнкерской молитве»: «Царю небесный! Спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в парадировки меня не ставь. Пускай в манеже Алёхин глас как можно реже тревожит нас…»
Ну как не вспомнить при всем этом милые университетские дни в Москве! Разве не кажутся они теперь священными? Можно ли забыть все споры о боге, о вселенной, о свободе? Разве конские зады на манеже не наводят на некие мысли? Раскаяния, правда, особенного не заметно, но та студенческая пора видится из Петербурга в ореоле ярком и величественном. Грустно, очень грустно, когда вспоминаешь Москву и университет в Москве, где было много всего — и счастья, и горестей…
Павел Щеголев в своей двухтомной «Книге о Лермонтове» собрал любопытные материалы и документы о поэте. Почти все, что осталось от тех далеких времен. Имеются свидетельства о внешности и характере юнкера Лермонтова. Они принадлежат большей частью его товарищам по школе. Я их приведу сейчас.
Очень любопытно высказывание поэтессы Евдокии Ростопчиной в письме к Александру Дюма. Она писала о Лермонтове-юнкере: «…Его жизнь и вкусы приняли другой характер. Насмешливый, едкий, ловкий — проказы, шалости, шутки всякого рода сделались его любимым занятием, — вместе с тем полный ума, самого блестящего в разговоре, богатый, независимый, он сделался душою общества молодых людей высшего круга; он был запевалой в беседах, в удовольствиях, в кутежах…»
Словом, лихой юнкер!
«Наружность его была весьма невзрачна, — писал Николай Мартынов (опять же тот самый!) — маленький ростом, кривоногий, с большой головой, с непомерно широким туловищем, но вместе с тем весьма ловкий в физических упражнениях и с сильно развитыми мышцами. Лицо его было довольно приятное… Волосы у него были темные, но довольно редкие, с светлой прядью немного повыше лба, виски и лоб весьма открытые, зубы превосходные — белые и ровные, как жемчуг…»
В. Боборыкин, один из воспитанников школы, писал: «Лермонтов, Лярский, Тизенгаузен, братья Череповы, как выпускные, с присоединением к ним проворного В. В. Энгельгардта, составляли по вечерам так называемый ими «Нумидийский эскадрон», в котором, плотно взявши друг друга за руки, быстро скользили по паркету легко-кавалерийской камеры, сбивая с ног попадавшихся им навстречу новичков…»
Что же «осталось» все-таки от того студента — молчаливого, читавшего «посторонние» книги? Послушаем:
Меринский: «Никто из нас тогда, конечно, не подозревал и не разгадывал великого таланта в Лермонтове… В то время Лермонтов писал не одни шаловливые стихотворения; но только немногим и немногое показывал из написанного».
Муравьев: «…Гусар Цейдлер приносит мне тетрадку стихов неизвестного поэта и, не называя его по имени, просит только сказать мое мнение о самих стихах. Это была первая поэма Лермонтова «Демон». Я был изумлен живостью рассказа и звучностью стихов и просил это передать неизвестному поэту».
Значит, были не одни только шалости. Были уже, между прочим, и стихи «Два великана». Это великолепное хрестоматийное произведение. Неужели в школе никто о нем ничего не знал? Я уж не говорю о «Парусе» и «Ангеле». Их тоже никто не знал? Разве Лермонтов так уж все законспирировал? Может быть, прав Меринский, когда пишет: «Да были ли тогда досуг и охота нам что-нибудь разгадывать, нам — юношам в семнадцать лет…»
Нет, не ведали они, кто живет рядом с ними!..
По-прежнему бабушка не спускает с внука своих пытливых глаз. Она делает все, чтобы Михаилу лучше жилось и лучше дружилось не только с науками, но и с наставниками. Сохранилось ее письмо к преподавателю военной топографии Онисифору Петухову. Вот оно: «Прошу вас принять моей работы портфель на память и в знак душевного к вам уважения надеюсь что вы меня не огорчите и не откажетесь иметь у себя работы шестидесятилетней старухи с моим почтением пребываю ваша покорная ко услугам Елизавета Арсеньева».
Бабушкина любовь неотступно сопровождает внука на манеж, в классы и на военные учения!..
«… Представьте себе палатку, которая имеет по 3 аршина в длину и ширину и 2½ аршина в вышину; в ней живут трое, и тут же вся поклажа и доспехи, как-то: сабли, карабины, и проч. и проч. Погода была ужасная: дождь лил без конца, так что часто дня два подряд нам не удавалось просушить платье. Тем не менее эта жизнь отчасти мне нравилась. Вы знаете, милый друг, что во мне всегда было явное влечение к дождю и грязи — и тут, по милости Божией, я насладился ими вдоволь…»
Вы угадали, конечно, кто это писал. Да, Михаил Лермонтов. В августе 1833 года…
«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом! Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?.. А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»
И это тоже Лермонтов. За год до этой самой грязи и этого самого дождя.
Нет, гусар только с виду…
Прав, конечно, Шан-Гирей: в школе Лермонтов писал мало. Тут и доказывать нечего, стоит перелистать любое полное собрание сочинений. Всего лишь несколько стихотворений. Мне кажется, что в Благородном пансионе Лермонтов как поэт был плодовитей.
Здесь, в школе гвардейских подпрапорщиков, Лермонтов словно решил вкусить от жизни всевозможных плодов: горьких и сладких.
Но бабушкин глаз неустанно следит за ним. К сожалению, Михаила домой не отпускают, как это было в пансионе. Но тем не менее… Аким Шан-Гирей, как об этом говорилось, таскает в школу различные пироги и сладости. Бабушка живет совсем поблизости. А когда юнкера переезжают в лагерь, — обычно в Петергоф, — бабушка тоже несется следом за внуком. Она снимает дом в таком месте, откуда по утрам или вечером видно марширующего или едущего на коне внука. Елизавета Алексеевна не щадит ни сил, ни денег — только бы быть где-нибудь возле него, только бы вовремя протянуть руку помощи бесшабашному юнкеру.
Понемногу «шалости» принимают несколько иной характер. Все чаще в них участвуют и некие девицы, которые отнюдь не вызывают в будущем поэте чрезмерно возвышенных чувств. Одно такое похождение описано в небольшой поэме «Монго». Случай, по-видимому, истинный. Участвуют в поэме (отрывке) известные нам молодые люди, по прозванию Монго и Маёшка. Вот они…
«…Монго — повеса и корнет, актрис коварных обожатель, был молод сердцем и душой, беспечно женским ласкам верил и на аршин предлинный свой людскую честь и совесть мерил…»
«…Маёшка был таких же правил: он лень в закон себе поставил, домой с дежурства уезжал, хотя и дома был без дела… Разгульной жизни отпечаток иные замечали в нем…»
Короче, Маёшка и Монго «сворачивают» к актрисе, которая на «попечении» у одного казанского богача. Но встреча испорчена: ее «вдруг… зловещим стуком прерывает на двор влетевший экипаж…» Молодым людям «остается лишь одно: перекрестясь, прыгнуть в окно…»
Вот в такого рода забавах проходят два школьных года. Целых два года! Это совсем не мало, если учесть, что Лермонтову было отпущено судьбою неполных двадцать семь лет…
Иногда я задаюсь вопросом: как все-таки считать — даром ли пропали эти два года? И велика ли беда, что Лермонтов в эти двадцать четыре месяца не написал еще полсотни стихов? Полсотни плохих — не надо! Но полсотни хороших — это благо! Главное в том, какого качества стихи были созданы в школе юнкеров?
Особенно сетовать по поводу того, что Маёшка мало водил пером, не следует. Поэт порою растет даже и тогда, когда вовсе не пишет. На мой взгляд, литератор всегда выигрывает от близкого соприкосновения с жизнью. «Стерильность» ее в данном случае не имеет значения. Подчас даже так называемая «не стерильная» среда вызывает больше мыслей и подсказывает сюжеты. Но это уж мое частное мнение. Многие литераторы придерживаются как раз обратного…
Думаю, что Лермонтов не проиграл, поступив в школу. Он просто хлебнул из другого источника. И это неплохо. Даже хорошо.
У нас имеются свидетельства того, что, несмотря на кажущееся перерождение, на самом деле этого не произошло. Лермонтов не вязал узлов из казенных шомполов. Это он пытался делать только в зале, среди товарищей. А возвращался в свою комнату самим собою. Просто Лермонтовым. Если другие этого не замечали — не его вина. Впрочем, кое-что и замечали…
Александр Муравьев писал: «Лермонтов просиживал у меня по целым вечерам; живая и остроумная его беседа была увлекательна, анекдоты сыпались…» Конечно же, все это очень и очень далеко и от «нумидийского эскадрона», и вязанья узлов из шомполов, и милых ночных похождений с Монго.
Как человек умный, Муравьев подметил и недостаток лермонтовских стихов. Он писал: «Часто читал мне молодой гусар свои стихи, в которых отзывались пылкие страсти юношеского возраста, и я говорил ему: «Отчего не изберет более высокого предмета для столь блистательного таланта?» (Я здесь не очень уверен: не был ли помянут «блистательный талант» ретроспективно, или Муравьев еще в школе учуял его талант?)
А вот как описывает свою встречу с Лермонтовым Екатерина Сушкова:
«Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:
— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.
Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более, как другу Лопухина… Я не видела Лермонтова с 30-го года, он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностью, нельзя было не смущаться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.
— Меня только на днях произвели в офицеры, — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами…»
Я думаю, нет ничего удивительного в его словах: в двадцать лет не так еще хвастают!
Лермонтов в школе написал несколько любопытных стихов, имеющих главным образом автобиографический характер, задумал новые поэмы, продолжал «очерки» своего «Демона».
Юнкера издавали рукописный журнал. Он выходил чуть ли не каждую неделю. (Об этом сохранились воспоминания Меринского.) Говорят, Лермонтов «обнародовал» в этом журнале некоторые свои стихотворения. Называют, например, «Уланшу» и «Праздник в Петергофе». «Уланша» была любимым стихотворением юнкеров», — говорит Меринский.
В эти же школьные годы писалась повесть «Горбач-Вадим» (название условное, не лермонтовское). Тем, кто изучает истоки его прозы, без этой неоконченной повести никак не обойтись. Сейчас она интересует читателя как прозаический фрагмент, принадлежащий молодому перу Михаила Лермонтова. Не более. Ибо большого, самостоятельного художественного значения этот отрывок, на мой взгляд, не имеет. По нему еще не скажешь с уверенностью, что перед тобою — будущий автор «Героя нашего времени». Хотя побеги лермонтовской прозы идут именно отсюда.
«Всякий раз, как я заходил в дом к Лермонтову, — продолжает Меринский, — почти всегда находил его с книгою в руках, и книга эта была — сочинения Байрона и иногда Вальтер Скотт на английском языке, — Лермонтов знал этот язык». Эти два года Лермонтов мало писал.
В молодом возрасте истинный художник подобен айсбергу — он виден всего лишь на одну девятую своей величины, а все остальное сокрыто от посторонних глаз. Этот «айсберг» особого рода: с годами он подымается, становится все виднее. (Я имею в виду истинный талант.) Сравнение не ново. Я повторяю литературный постулат, в котором совершенно убежден: механическое вождение пером по бумаге без особых, оригинальных мыслей — бесцельно. Это не надо понимать как призыв к безделью. Я хочу сказать, что литературный труд — впрочем, как всякий, — должен быть освящен самой высокой мыслью.
Совершенно уверен, что Лермонтов в эти два года занимался не только «шалостями». Тот самый удар копытом, который он получил на манеже, тоже чего-то стоит.
Юнкер Лермонтов — Марии Лопухиной:
«Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новых; гораздо лучше, подумал я, приучить себя обходиться без них. Я попробовал и походил в это время на пьяницу, который старается понемногу отвыкать от вина; труды мои не были бесполезны, и вскоре прошлое представилось мне просто перечнем незначительных, самых обыкновенных похождений…
Может быть, через год я навещу вас. Какие перемены я найду? Узнаете ли вы меня, и захотите ли узнать? И какую роль буду играть я?..»
Это было писано в Санкт-Петербурге, 4 августа 1833 года по-французски.
Двухлетнее обучение в юнкерской школе подходило к концу. Я не думаю, чтобы вы остались удовлетворенными нашим анализом этой поры жизни Лермонтова, особенно выводами. Но что, собственно говоря, анализировать? Упражнения способного к «умственным занятиям» юнкера? Его неоконченную повесть?
Лермонтов — без пяти минут гусар. Он уже там, в разгульной офицерской жизни… Но это только для посторонних глаз. Лермонтов оставался поэтом и в казармах. Он был гусаром только с виду…
А кто же в это время стоит рядом с Михаилом Лермонтовым? Из самых близких людей?
Елизавета Алексеевна, все та же, безгранично любящая внука. Она словно нитка: куда игла, туда и она.
А еще милый преданный Шан-Гирей, который живет у Елизаветы Алексеевны.
А еще Алексей Столыпин, по прозвищу Монго.
Но сердце Михаила, кажется, в Москве. Где живет Варенька Лопухина. Где Сашенька Верещагина. Где Алексей Лопухин. Где вообще — Москва. Любимый город. Где много страдал и где был счастлив.
Поэзия, залитая шампанским?
22 ноября 1834 года император, находившийся в это время в Риге, своим приказом произвел юнкера Лермонтова «по экзамену» в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Тем же приказом Мартынов стал корнетом лейб-гвардии Кирасирского полка. «За отсутствием военного министра подписал генерал-адъютант Адлерберг».
4 декабря командир школы генерал-майор барон Шлиппенбах объявляет сей высочайший приказ в школе. Таким образом исполняется «мечта» Лермонтова: он становится офицером. Причем самого блестящего, по определению Ростопчиной, полка. Чего же еще?
Лермонтов — Лопухиной, 4 августа 1833 года:
«… Одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! И тогда, тогда… Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским. Знаю, что вы возопиете; но увы! пора мечтаний для меня миновала; нет больше веры; мне нужны материальные наслаждения, счастие осязаемое, счастие, которое покупают на золото, носят в кармане, как табакерку, счастье, которое только обольщало бы мои чувства, оставляя в покое и бездействии душу!.. Вот что мне теперь необходимо…»
Какие возникают мысли лично у меня в связи с этими словами Лермонтова?
Первым делом вопрос: кому они принадлежат? Легкомысленному существу или серьезному молодому человеку? Наше положение довольно затруднительное, во всяком случае, не простое. Думая о Лермонтове, мы отказываемся признать в нем человека легкомысленного. Разве в этом можно заподозрить автора «Молитвы», «Завещания», или «Пророка», или «Ветки Палестины», или «Трех пальм», или «Героя нашего времени», или «Маскарада»? Нет, разумеется.
Утверждать, что это слова юного несмышленыша, — тоже невозможно. Уже написавший «Измаил-Бея» не может не знать, чем делится со своим московским другом.
Может быть, он, что называется, представлялся? Хотел казаться не тем, кем был на самом деле? И проделывал это сознательно? Или бессознательно?
Как бы то ни было, не следует впадать в крайности. Надо рассматривать личность в целом.
Мы имеем дело с весьма усложненной натурой: с одной стороны — модный франт, блистательный богатый офицер, с другой — человек горькой судьбы, тяжелой душевной доли.
Я понимаю, сколь уязвима эта сентенция с точки зрения людей цельного, как гранит, характера или просто заскорузлых мещан. Но в данном случае это — факт.
Я говорю о двойственности Лермонтова. А двойственность Пушкина? Его биограф Петр Бартенев справедливо заметил, что Пушкин и не стремился сделать свою жизнь однозначной с творчеством. Не о подобных ли «странных вещах» писал Борис Бурсов: «Это, в сущности, не что иное, как известный диссонанс в человеческой личности. Никому он не чужд». Возьмем, к примеру, такого «утонченного» лирика, как Фет, который был весьма деловитым помещиком. В то время как один Фет создает поэзию, в которой «звуки, намеки и ускользающие звуки», другой Фет — смеется над ним и знать его не хочет, толкуя «об урожае, о доходах, о плугах, о конном заводе и о мировых судьях». Так писал о Фете Д. Цертенев. И заключал: «Эта двойственность поражала всех…»
Не надо быть мудрецом, чтобы приметить, что Лермонтов-офицер не равнозначен Лермонтову-поэту.
Молодой человек живет очень сложной жизнью. Только подлецов отличает намеренность: ночью они крадут, а днем рассыпаются в благопристойной болтовне.
Тот, кого «усложнила» сама природа, «усложнила» по-настоящему, тот мучается: он не находит себе покоя. Он вроде бы живет, как все. Но стоит приглядеться к нему получше, и тогда станет ясно, что не так, как все. Но для этого надо именно приглядеться. Попристальней. Поглубже. То есть сделать то, что труднее всего на свете.
Значит, так: превыше всего — чудачества, «шалости». И, разумеется, поэзия, залитая шампанским. Позвольте, а где же «судьба Байрона», которая совсем еще недавно стояла высоким маяком перед глазами? Что общего между этим образом и «поэзией, залитой шампанским»? Где же серьезные литературные намерения, о которых мечталось еще года два-три тому назад? Все это исчезло? Нет, тут что-то не то! Мы еще убедимся, что так оно и есть: не то!
У нас две возможности: углубиться в умозрительные рассуждения или пойти дальше по лермонтовскому следу. Первое, возможно, дело весьма полезное и серьезное, да больно уж скучное. Например, для меня. Поэтому я предлагаю посмотреть на жизнь Лермонтова-офицера. Может быть, в ней мы найдем разгадку, найдем ответ на интересующий нас вопрос. «…Пора моих мечтаний миновала; нет больше веры; мне нужны чувственные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом…»
Примем это за действительное, как программу-максимум или минимум. Это все равно. И посмотрим, сколь старательно она выполнялась.
Еще один мимолетный взгляд на «школьные годы». Они уже позади. Прошли, как сон, эти два года. По сравнению с ними студенческие лета в Москве — почти рай. Хлебнув юнкерской жизни, Лермонтов, кажется, по-настоящему оценил университет. Он вспоминал: «Святое место!.. Помню я, как сон, твои кафедры, залы, коридоры, твоих сынов заносчивые споры о Боге, о вселенной…» Это все-таки кое-чем отличается от парадировки и «куртки тесной».
«Святое место»? Верно? Сладкий сон? Но давайте вспомним, что было говорено в стенах университета. Вот эти стихи: «Пора уснуть последним сном, довольно в мире пожил я; обманут жизнью был во всем и ненавидя и любя».
Что это?
Висковатов объясняет следующим образом: «С самой юности рассудок Лермонтова уклонялся от обычного пути людей. Он смотрел на землю иными, не их глазами… Их интересы и цели были чужды ему; иные были радости и печали».
Здесь есть элемент «демонизации» Лермонтова. Я, напротив, сказал бы, что Лермонтова обуревали именно человеческие чувства, что смотрел он на землю именно человеческими глазами. Все в нем было человечно. Только во много крат острее оно проявлялось. Он любил сильнее. И ненавидел сильнее. Страдал глубже других. Разве это значит — «уклонялся от обычного пути людей»?
Сомерсет Моэм считал людскую красоту, стройность явлением нормальным, а нарушение их — явлением ненормальным. Я думаю, что мир выиграл бы, если бы в большинстве своем был населен людьми, подобными Лермонтову. И при чем здесь «не их глазами»? Я этого не понимаю. «Странности» юного Лермонтова вполне объяснимы и закономерны. По-моему, до сих пор мы особенно «странного» в нем не замечали. Обостренность? Да. Повышенная чувствительность? Да. Горячность? Да. Но какое отношение к «странностям» имеет все это? Скорее, было бы странным, если бы все обстояло иначе. Представьте себе ребенка или юнца, который не реагирует на ссору отца с бабушкой. Который не чувствует красоту утра и зеленых дубрав. Который холоден к другу, который до двадцати лет ни разу не влюблялся. Вот это действительно странно!
Если бы мы владели некоей «высокоорганизованной» электронной «думающей» аппаратурой, которая бы регистрировала состояние психики обыкновенного среднего человека на протяжении всей его сознательной жизни, то мы получили бы весьма любопытную и весьма пеструю картину. Мы увидели бы такие взлеты горя и радостей, что наверняка отказались бы признать в данном субъекте человека нормального и заговорили бы о его «странностях». Лермонтов поверял бумаге почти все свои чувства. Он был максимально правдив перед собою и честен. Поэтому нам порою кажется он удивительным, необычным и даже непонятным. Зачем всех мерить на один аршин? Тем более что каждый из нас не настолько прост, как кажется со стороны.
Мне думается, что в юном Лермонтове более всего «странно» то, что он лишен какой бы то ни было рисовки, когда пишет, когда делится с другим своим горем или радостью или просто сообщает обыденные вещи. «Странность» его — в предельной откровенности, почти оголенности, что ли…
Да, Лермонтов не лгал бумаге. Многие вели и ведут себя почти так же. Я имею в виду высокоталантливых.
Говорили, что Лермонтов шутя советовал своему камердинеру подбирать бумаги со стихами, за которые «со временем большие будут деньги платить». Несомненно, он отдавал себе отчет, что значат его стихи. Или это тоже странность?
А если «отдавал отчет», если понимал, если страстно желал литературной известности, то где взялся этот путь к «куртке тесной», к парадировке? Влияние моды и Монго? И откуда вдруг нелепая мечта о «поэзии, залитой шампанским»?
Если мы кроме «странности» или «раздвоенности» не примем во внимание его возраста, то многого — даю вам слово! — мы в Лермонтове не поймем. Все, что до сих пор говорилось о Лермонтове и что говорил о себе самом Лермонтов, относится к молодому человеку, которому только-только исполнилось двадцать лет. И каким бы он ни был гением — двадцать лет есть двадцать лет. Ни меньше, ни больше!
Если к двадцатилетнему подходить с меркой сорокалетнего или тридцатилетнего — значит совершать грубейшую ошибку. Что бы ни писал в это время Лермонтов о жизни или смерти — это мысли все еще незрелого человека. Во многих отношениях незрелого: общественном, гражданском, не вполне устоявшегося еще человека. И если угодно, и в военном отношении, поскольку имеем дело с молоденьким офицером. И это обстоятельство еще более осложняет наше положение. Но давайте вернемся к тому месту, где он стал офицером и вышел «в жизнь».
Итак, Лермонтов-офицер поступил в Гвардейский гусарский полк. «Живость, ум и жажда удовольствий, — пишет Ростопчина, — поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью автора».
Похоже на то, что Михаил Лермонтов держал свое слово: поэзия, залитая шампанским! Образчики этого сочинительства легко можно отыскать в его книгах — стоит только обратиться к соответствующему году.
Служа в полку, этот офицер постоянно жил в Петербурге, у бабушки, разумеется. Вместе с ним, по свидетельству Шан-Гирея, служил и Алексей Столыпин — Монго. Ученья и дежурства удерживали Лермонтова в полку. Но как только они кончались — он торопился в Петербург. Похоже, что «блестящий офицер» предпочитает светскую, цивильную жизнь «боевой» жизни полка. А ближайшие начальники Лермонтова умели ценить «качества ума и души» в своем подчиненном и были снисходительны к нему.
Лермонтов был зачислен в седьмой эскадрон, которым командовал полковник Николай Бухаров. В 1835 году он уже в четвертом эскадроне под началом полковника Федора Ильина. Свидетельствуют, что на квартире, которую снимал Лермонтов в Царском Селе, вместе с ним жили Монго и Алексей Григорьевич Столыпин, штаб-ротмистр, командовавший третьим эскадроном. И что будто хозяйство у них было общее. И вел его, если не ошибаюсь, Андрей, из тарханских крепостных. Вел почти бесконтрольно. Михаил Лермонтов получал от бабушки в год до десяти тысяч рублей, которые шли на содержание отличных выездных лошадей, а также и верховых. Имя одной его лошади, купленной за полторы тысячи рублей, дошло до нас: звали ее «Парадёр». При Лермонтове в Царском Селе находились, по свидетельству Шан-Гирея, «повар, два кучера», экипажи. По тогдашним временам он считался человеком довольно богатым. О гонораре, следственно, о печатании своих стихов, мог особенно не беспокоиться.
Утверждают, что до прибытия Лермонтова в полк слава его как поэта шла впереди него. Если это так, то речь может идти о рукописях, которые он давал читать только самым близким друзьям. Напомним, что к этому времени ни одной строки Лермонтова не появлялось в печати. Я не совсем понимаю, какая это «слава стихотворца» могла «идти впереди» этого офицера? Нет ли тут бессознательной аберрации? Ведь это писали те, кто знал уже настоящего Лермонтова. Не юнкера, не поручика, но великого поэта.
Не думаю, что для посторонних Лермонтов был уже поэтом, да еще со славой. Проще представить себе, что служба этого офицера вне полка «ограничилась, по словам Мартьянова, караулом во дворце… да случайными какими-либо нарядами».
Теперь вы можете вообразить себе молодого гусара, который стоит на часах у великолепной дворцовой двери, а мимо идет самодержец всероссийский. Верно ли, если мы повторим вслед за Мартьяновым, что поэт Лермонтов стоял на карауле во дворце? Нет, на карауле стоял корнет Лермонтов, дворянин Лермонтов, блестящий гусар. Так будет точнее. Говорили, что очень часто службу в полку вместо Лермонтова нес его товарищ Годеин, «любивший его как брата». Может, он и стоял у царских опочивален вместо Лермонтова?
Совершенно очевидно одно: Лермонтов жил в это время воистину с гусарской удалью и беззаботностью.
Мартьянов передает, что «…в Гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герздорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других — тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие…» «Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган». О женщинах, приехавших из Петербурга, Лермонтов якобы говаривал: «Бедные, их нужда к нам загоняет».
Тут может быть и преувеличение, и неточность — все что угодно. Но общий фон гусарской жизни мы несомненно улавливаем.
Но вот Лермонтов пишет Сашеньке Верещагиной по поводу отъезда бабушки: «Не могу выразить, как меня опечалил отъезд бабушки. Перспектива в первый раз в жизни остаться одиноким меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною искренне интересовалось…» Это письмо писано в 1835 году.
Что же это получается?
Развеселый гусар — и одинок? В большом городе? А товарищи? А кутежи? А цыганские певицы, которых впервые привез в Петербург Илья Соколов (тот самый, у которого была «соколовская гитара»).
А бабушка тем временем шлет ему деньги и не нарадуется на своего внука. Она пишет ему 16 октября 1835 года (из Тархан в Петербург): «…Мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из твоего письма привязанность твою ко мне, я плакала от благодарности к богу, после двадцати пяти лет страдания любовию своею и хорошим поведением ты заживляешь раны моего сердца». И тут же радует любимого внука: «…лошадей тройку тебе купила и говорят, как птицы летят».
Лермонтов, я уверен, не принимал наше земное существование за спектакль. Если нечто подобное и вкладывал он в уста своих героев или ронял мимоходом, то это еще ровным счетом ни о чем не говорит. Он оставался до конца искренним во всех своих поступках. Просто таков был строй его души, просто он не мог жить иначе, иной жизнью, в этом и была его цельность.
Когда я говорю — «особая усложненность личности», меня это смущает. По инерции. Утверждение все еще слишком мистично для того, кто отрешился от загадок и почти все «поверяет алгеброй». Произнося эти слова, я просто задаю себе омархайямовский вопрос: «Что там за хрупкой занавеской тьмы? В гаданиях расстроились умы…» Говорю это безо всякой рисовки: я расстраиваюсь в гаданиях. Тем более что трудно проникнуть в область незнаемого и сложного, подобно тому, как проникает человек на поверхность Луны. Последнее сегодня кажется доступней. Во всяком случае, для постижения.
Таким образом, «шалости» и чудачества новообращенного гусара я склонен считать ипостасью, причем органической ипостасью единой, если угодно, по-своему монолитной натуры Лермонтова. Помните, у Омара Хайяма: «От правды к кривде — легкий миг один»?.. Может быть, и от ухарских возлияний до печали — тоже «легкий миг один»? Тут я прошу не придираться ко мне, не присматриваться к угловатости или некоторой прямолинейности суждений. Если бы я в точности знал, что есть раздвоение личности, я бы написал кандидатскую диссертацию. И в этом был бы реальный толк. Во всяком случае, мои оппоненты не позволили бы в чем-либо грубо ошибиться. У них всегда имеется набор гибких формулировок.
Как бы Лермонтов ни «погружался» в забавы, он не мог не следить за литературной жизнью России. Она сосредоточивалась в столице и в Москве.
Литературная жизнь России лермонтовской поры была довольно пестра.
Медленно, но верно поднималась звезда Нестора Кукольника. Пройдет какое-нибудь десятилетие, и Кукольник покажется иным «ценителям» прекрасного чуть ли не великим литератором. Он будет осыпан официальными почестями. Но если бы только официальное признание и официальные почести могли из ничтожества «лепить» великого деятеля литературы, то все бы в жизни обстояло значительно проще. И творчество Кукольника и его литературная жизнь — тому свидетельство. Был не только Кукольник. Но и Греч, чья литературная слава едва пережила его. И Фаддей Булгарин, о котором кратко, но выразительно сказано в словаре Павленкова: «Соч. ром.: «Иван Выжигин», «Дмитрий самозванец» и множ. доносов на враждебных ему писателей. Имя его сделалось синонимом грязного пасквилянта и доносчика». Скажем прямо, неплохо это сказано в 1910 году!..
Кумиром Лермонтова был Пушкин. Неизвестно, видел ли он Александра Сергеевича. Подобно тому, как видел Мочалова у входа в Малый театр. По крайней мере, сам Лермонтов об этом ничего не пишет.
Пушкин в 1834 и 1835 годах уже был Пушкиным. Блистательным, великим, неповторимым поэтом и многогранным деятелем русской литературы. Гений Пушкина влиял самым непреоборимым образом на молодые умы. Возле Пушкина, разумеется, стояли Жуковский, Крылов и Гоголь. Это все звезды первой величины. И не мог Лермонтов обойтись именно без их света. Было бы удивительно думать, что влияние литературы, такой литературы, вдруг обошло Лермонтова, будь он даже трижды корнетом. Это обстоятельство надо нам постоянно, как говорят математики, держать в уме.
На первых порах новой, офицерской жизни Лермонтов все еще мало пишет. Точнее сказать — ничего особенного не пишет. Дело, в конце концов, не в количестве. Мы с вами это хорошо понимаем. За Грибоедовым, например, «числится» один шедевр.
К великой чести Лермонтова, должны сказать, что он не торопился с публикацией своих стихов. У него был великий пример Пушкина. Живого Пушкина!
И тем не менее можно было бы смело напечатать почти все кавказские поэмы. Во всяком случае, «Измаил-Бей», «Черкесы», «Каллы» и целый ряд стихотворений. Уверен, что никто не осудил бы молодого поэта.
Но — хотим мы этого или не хотим — нам придется смириться перед силою факта: Михаил Лермонтов не видел еще возможности для публикации своих произведений.
Все-таки этот странный гусар был прав.
Его первое печатное слово
Корнет Лермонтов служил исправно. Правда, перепадало порою ему и его друзьям от начальства за их срывы. Да в том ли беда?
Служба сама кажется им веселою. «Идет наш шумный эскадрон, гремящей, пестрою толпою; повес усталых клонит сон… повесы ропщут: «эдак нас прогонит через всю Европу!» — Ужель Ижорки не видать!..» Мало пишется и в эти лета. Однако товарищи Лермонтова «подозревают» в нем поэта. Часто просят его прочитать «чего-нибудь». Лермонтов идет на это без особой охоты. Нет у него, дескать, ничего особенного. Он признается Марии Лопухиной: «…Моя будущность, блистательная на вид, в сущности, пошла и пуста. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет; со всеми моими прекрасными мечтаниями и ложными шагами на жизненном пути…» Это писано 23 декабря 1834 года.
Е. Розен сообщал сестре: «Вместе с князем приехал его родственник, молодой офицер, лейб-гусар… Его я знаю лично, его зовут — Лермонтов. Умная голова! Поэт, красноречив. Нехорош собою, какое-то азиатское лицо; но южные, пламенные глаза, и ловок, как бес».
Друзья и близкие интересуются «литературными» занятиями Лермонтова. Да и не только литературными. А рисование? А музыка? Будет правильно, если скажем, что Михаил Лермонтов был офицером разностороннего дарования. Он, вероятно, мог бы стать и музыкантом. И наверняка — художником. Сашенька Верещагина спрашивает: «Вы мне ничего не говорите о ваших сочинениях. Надеюсь, что вы продолжаете писать, я думаю, что у вас есть друзья, которые их читают и умеют лучше судить, но я уверена, что вы не найдете таких, которые бы их читали с большим удовольствием. Надеюсь, что после такого поощрения вы мне напишете четверостишие ко дню моего рождения. Что касается вашего рисования, говорят, что вы делаете поразительные успехи, и я этому верю. Пожалуйста, Мишель, не забрасывайте этот талант… А ваша музыка? По-прежнему ли вы играете… поете ли… как раньше, во весь голос и до потери дыхания?»
Увы, мы никогда не услышим голоса Лермонтова, как слышим мы голос Толстого, Блока, Есенина. Но мы знаем живописные работы поэта. И есть среди них картины, писанные на Кавказе, в которых чувствуется живое дыхание природы и несомненно присутствует талант.
Если бы человеку, не знающему Лермонтова, прочитали бы стихи 1833–1834 гг. и показали его рисунки примерно тех же лет, то мы бы, наверное, услышали: да, этот неизвестный человек имеет большие шансы стать настоящим художником. Пожалуй, и хорошим поэтом…
Первые два года службы в качестве офицера Гусарского полка не дают основания считать, что полностью осуществилось авторское предсказание Лермонтова насчет поэзии, «залитой шампанским».
Я говорил и повторяю еще раз, что не придаю большого значения перерыву в творчестве любого молодого поэта, его молчанию, так сказать. Молчание может быть и весьма полезным. Все зависит от того, что преподнесет нам поэт после него.
Утверждают, что Михаил Лермонтов в офицерские годы очень увлекался женщинами. Мы можем назвать имена девушек, с которыми в это время он поддерживал дружеские отношения. Это — Мария, Варя и Лиза Лопухины, Сашенька Верещагина, Екатерина Сушкова и… Пожалуй, все. Позже Лермонтов подружился с Евдокией (Додо) Ростопчиной, Марией Щербатовой, Екатериной Быховец, с сестрами Верзилиными. Почти все они так или иначе помянуты добрым словом в письмах или стихах Лермонтова. Можно, конечно, при желании выискать еще несколько имен.
Екатерина Сушкова (по мужу Хвостова) оставила весьма любопытные для чтения записки, изданные в прошлом веке. В них немало страниц, посвященных Михаилу Лермонтову. Ее сестра, Ладыженская, после опубликования «Записок», внесла свои коррективы. Для исследователей замечания Ладыженской тоже представляют немалый интерес, хотя и касаются частностей.
Висковатов пишет о большом влиянии умных женщин на поэтов. Лично я не выделял бы этого в «особую графу». Не меньшее влияние имеют на поэтов и умные мужчины. Должен с горечью заметить, что советы Сашеньки Верещагиной не пошли впрок Лермонтову. Создается впечатление, что он их просто игнорировал или же не мог «принять к исполнению» по причине особого склада своего характера: он шел своим путем. Притом неуклонно.
Так называемая светская жизнь, которую вел Лермонтов, естественно, была чревата «взрывами» малых и больших интриг. Висковатов наивно пишет: «При пылкости характера поэтов и их врожденной впечатлительности, являются как бы естественными те бурные увлечения, которым предаются они при вступлении в жизнь». Давайте разберемся, в чем дело. Можем ли мы сказать, что Лермонтов был в свое время единственным офицером, который увлекался женщинами и заводил на балах «случайные интрижки»? Думаю, что нет… Разве не было настоящих акул светской жизни, настоящих сердцеедов, тузов, завсегдатаев балов и маскарадов, которые, как говорят заядлые биллиардисты, могли дать фору Михаилу Лермонтову? Разумеется, были. Если история не сохранила их имен, то не потому, что они были не очень ловкими ловеласами, но потому, что не представляли и не представляют особого общественного интереса. Поэтому-то и коротка наша память о них. А в Лермонтове нас интересует все, буквально все. Каждый штрих, каждое имя, связанное с ним.
Висковатов не делает из Лермонтова стопроцентного ловеласа, завсегдатая великосветских гостиных. Он пишет: «Кроме посещения светских гостиных и кутежа в товарищеских кружках и салопах полусвета, поэт искал общества людей с серьезными интересами или примыкавших к литературному кругу». Слава богу! Но я бы сформулировал эту же мысль иначе. А именно: кроме стремления к обществу людей с серьезными интересами или примыкавших к литературному кругу поэт искал также общения с людьми светских кругов и посетителями салонов полусвета с их кутежами… и так далее. Ибо невозможно было заниматься между прочим «серьезными делами и литературой» молодому человеку, который в неполные двадцать семь лет оставил огромное литературное наследие.
Вареньку Лопухину Лермонтов любил с отроческих лет. Это та самая чистейшая, платоническая любовь, которая вызывает ухмылку у иных скептиков, потерявших веру в «чистую любовь». Варенька, которую довольно долго отделяли от Лермонтова семьсот верст, вышла замуж. Шан-Гирей пишет о том, какое впечатление произвело на Лермонтова ее замужество: «Я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо; Мишель начал его читать, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: «вот новость — прочти», и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной».
На мой взгляд, ничего сверхъестественного в этом не было. Ни демонизма. Ни светского равнодушия. Просто нормальное человеческое отношение к малоприятному известию.
Да, Варенька вышла замуж, но осталась в его душе прежней Варенькой.
В 1833–1834 годах Лермонтов написал «Хаджи[1] Абрека». Говорили, осенью 1834 года дальний родственник и товарищ Лермонтова юнкер Николай Юрьев познакомился с поэмой. И принялся уговаривать Лермонтова напечатать ее. Но автор был непреклонен и не соглашался отдавать ее издателям. Я полагаю, что автор был прав, но тем не менее поэма эта имела, как говорится, право на существование. Тем более как первый опыт публикации. Меринский писал, что «Юрьев, тайком от Лермонтова, отнес эту повесть к Смирдину, в журнал «Библиотеку для чтения», где она и была помещена в следующем, 1835 году». Это, если не ошибаюсь, было первое появившееся в печати стихотворение Лермонтова, по крайней мере с подписью его имени». Да, «Хаджи Абрек» был первым печатным произведением Михаила Юрьевича Лермонтова. Смирдин был издателем, а редактировал журнал Осип Сенковский. Шан-Гирей пишет, что произведение попало именно к Сенковскому (что вероятнее всего). «Лермонтов, — продолжает Шан-Гирей, — был взбешен, по счастью, поэму никто не разбранил, напротив, она имела некоторый успех, и он стал продолжать писать, но все еще не печатать». Поскольку это была первая печатная вещь Лермонтова — укажем точно номер журнала: 11-й за 1835 год.
«Хаджи Абрек» — небольшая поэма, датирована она 1833–1834 годами. Содержание ее непритязательно: обычная романтическая и романическая история в духе «восточных поэм» Байрона. Что же в ней привлекательного? Чем она примечательна, на мой взгляд? В годины, когда царь вел планомерное наступление на кавказских горцев, когда «необъявленная» война уносила тысячи жизней, когда, казалось, следовало бы возбудить ярость народа против кавказцев, Лермонтов как бы «изнутри» рисует быт и нравы «врага». Герои Лермонтова храбры, честны, благородны (в большинстве своем). Они тщетно борются за свободу родных аулов. Они — в обороне, они обуреваемы жаждой мщения, ненавидят завоевателей. То есть, с точки зрения горцев, ведут справедливую войну, навязанную им. Они защищают свой кров, свои поля, свои горы. Симпатии Лермонтова ясны, недвусмысленны: он сочувствует горцам, терпящим жестокие притеснения со стороны царских войск. Горцы Лермонтова — люди гордые, свободолюбивые, они высоко чтут честь и дружбу, они ненавидят притеснителей, не прощают обиды кому бы то ни было. Их непритязательный, суровый быт передается верно. А уж природа Кавказа предстает во всем великолепии.
Кавказские поэмы Лермонтова могли возбудить в русском читателе только интерес к Кавказу, любовь и уважение к его народам. Любовь и уважение к обычаям их, к быту. Словом, ко всему кавказскому.
Кавказ и горцы изображены в первых поэмах Лермонтова в несколько приподнятых, романтических тонах. Они и любят и ненавидят почти безгранично. Это красивые люди среди красивой природы. Даже красивой бывает и сама их смерть.
Итак, Лермонтов «начался» с Кавказа. Мы знаем, что и «кончился» он Кавказом. Страною, которую любил так же страстно, как любили все доброе и великое его герои. Белинский писал: «Кавказ — эта колыбель поэзии Пушкина — сделался потом и колыбелью поэзии Лермонтова…»
Русская интеллигенция (лучшая ее часть) уже в те времена стояла на стороне притесняемых. И чаще — с полным сознанием исполняемого во имя справедливости своего долга.
Стало быть, свершилось: хотел того автор или не хотел — его напечатали. «Хаджи Абрек» стал достоянием русской читающей публики.
«Стихи твои я больше десяти раз читала…» — пишет бабушка Мише.
Говорят, что преподаватель словесности в школе подпрапорщиков, прочитав «Хаджи Абрека» в рукописи, заявил с кафедры: «Приветствую будущего поэта России». Если это действительно было так — можно лишь позавидовать такому чутью. Но не знаю, читали ли его товарищи по полку, например, «Хаджи Абрека» и придавали ли они какое-либо значение этой первой публикации? Если и сейчас, при наших воистину гигантских тиражах, не всякая книга может считаться достоянием широких читательских кругов, то что можно сказать о книгах или журналах той поры? Я даже не уверен, что такие близкие люди, как Монго или Аким, читали «всего» Лермонтова. А ежели и читали, то понимали ли они его, знали ли, с кем имеют дело? Думаю, что все-таки не знали. Они любили его. Это несомненно. Они с уважением относились к нему. Это так. Однако думали ли они при жизни Лермонтова, что он национальное достояние, что надо оберегать его? Наверное, нет.
Но, видимо, во многом была «повинна» и сама натура Михаила Лермонтова.
По существу, Лермонтов был человеком все-таки замкнутым, редко кому открывал свою душу. Проще было увидеть и понять того, другого Лермонтова — танцора, повесу, блестящего офицерика, чем этого — полного дум человека, скорбящего по прекрасным душам и по справедливости, ненавидящего порок и всяческую мразь. Это была настоящая, вполне «кондиционная» раздвоенность. И сетовать нам по этому поводу нечего.
Но есть одно обстоятельство, которое действительно может смущать: я думаю о Лермонтове, который знал, например, что крепостных бабушка продает, как товар, а деньги шлет ему, чтобы внук ее мог бы «недорого», за 1580 рублей, купить у генерала славную лошадь… Правда, Лермонтов еще в детстве негодовал на бабушку за порку крепостных, вспоминается, даже бросался на нее с кулаками. Его неприятие помещиков-крепостников хорошо выражено в пьесе «Странный человек». Вполне возможно, что поэт отпустил бы на волю всех тарханских крепостных, если бы они принадлежали ему, а не бабушке…
Словом, немало «странного» было в этом офицере И самое «странное», пожалуй, это его стихи, которые выливались из его сердца, как вода из святого колодца.
Мартьянов рассказывает со слов А. Васильева: «…Некоторые гусары были против занятий Лермонтова поэзией. Они находили это несовместимым с достоинством гвардейского офицера. — Брось ты свои стихи, — сказал однажды Лермонтову любивший его более других полковник Ломоносов, — государь узнает, и наживешь ты себе беды!» Вот вам характеристика той среды, в которой выращивался Лермонтов-офицер. Какого же понимания поэтического таланта Лермонтова можно было ожидать с ее стороны? Правда, гусары в интеллектуальном отношении не были сплошной однородной массой. Но все-таки…
«Лучшие из офицеров, — пишет Александр Васильчиков, — старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров».
Наверное, пора уже в двух словах рассказать о человеке, который был близок Лермонтову по крови и во многом — по духу; о человеке, который принимал участие в двух его дуэлях; который, как говорится, закрыл глаза сраженному поэту. В конце концов, круг близких поэту людей не так уж велик. Пожалуй, самых главных мы уже знаем: это мать, отец, бабушка, Лопухина, Ростопчина, Верещагина, Шан-Гирей. Столыпин-Монго, несомненно, имел большое влияние на Лермонтова. Я полагаю, что пожелай он, Монго, предотвратить дуэли Лермонтова — все было бы в порядке, то есть дуэли не состоялись бы. Возможно, я заблуждаюсь. Но представляете себе, какую заслужил бы он благодарность потомков?! Елизавета Алексеевна полагала, что в поездках на Кавказ Монго будет служить Михаилу как бы щитом от всех нежелательных испытаний. Она рассчитывала на это. Не ее вина, если судьба распорядилась иначе…
Алексей Аркадьевич Столыпин родился в 1816 году. По роду своему был выше Лермонтова: ведь он из Столыпиных!
Алексей Аркадьевич — сын Аркадия Столыпина, родного брата Елизаветы Алексеевны. Стало быть, он доводился Лермонтову двоюродным дядей. Но обычно их называли двоюродными братьями. У Монго было два брата, один из которых, Дмитрий, снабжал Висковатова «обязательными сообщениями».
Монго слыл красавцем. Современники утверждали, что внешний облик Монго вполне соответствовал его душевным качествам. Основная черта характера — благородство, верность слову, безукоризненная воспитанность. Монго всегда выше всяких подозрений, он просто не мог поступать плохо, не мог допустить ничего худого. Словом, это был блестящий офицер, и ему одинаково хорошо шла как военная, так и гражданская одежда. Женщины, разумеется, с ума по нем сходили. Говорили, это был человек великодушный и честный. Все единодушны в этом, кроме самого близкого ему человека — Лермонтова. Михаил ни словом не обмолвился о Монго, если не говорить о небольшой шутливой поэме «Монго». Возможно, к нам не дошло мнение Лермонтова о Монго, затерялось, так же как некоторые стихи и письма поэта. В 1843 году, выйдя в отставку, Монго перевел на французский язык «Героя нашего времени», и перевод его был напечатан в газете «Démocratie pacifique». Это, стало быть, два года спустя после смерти поэта. Факт этот говорит о том, что Монго оценил творчество Лермонтова, по крайней мере, после смерти его. А до этого? Знал ли Монго, в кого целился Мартынов? Знал ли, спрашивается? Или не знал? Или по-настоящему узнал Михаила два года спустя, после того как закрыл ему глаза?
Монго принимал участие в Севастопольской обороне, встречался здесь со Львом Толстым. Говорят, что проявил себя храбрым офицером. В рядах Белорусского гусарского полка. Все это мы знаем со слов его брата Дмитрия Столыпина. И нет основания не верить этому.
Монго скончался в 1858 году во Флоренции. Там же был похоронен. Но через год его прах был перевезен в Петербург, в Александро-Невскую лавру.
Оставил ли Монго какие-либо воспоминания о своем друге? Нет, не оставил. Немного странно. Во всяком случае, с моей точки зрения. Неужели не было душевной потребности в этом? Ведь Монго знал больше, чем кто бы то ни было другой. С ним может соперничать только Аким Шан-Гирей. И то не во всем.
Что касается Шан-Гирея — он сделал все что мог: сохранил некоторые рукописи и вещи Лермонтова, но самое главное — оставил свои воспоминания. И написаны они безо всякой рисовки и «без учета» посмертной славы поэта. То есть они искренни, автор их не пытается быть умнее самого себя, прозорливее Шан-Гирея 30-х годов. Это очень важно, и это к чести его…
Шан-Гирей родился в 1819 году и умер в 1883-м. Он был другом Лермонтова. Он хорошо знал Елизавету Алексеевну. Михаил Лермонтов в своих письмах (которые дошли до нас) проявлял теплое внимание к Акиму. И мы но должны забывать об этом.
Другой вопрос: достаточно ли берегли и Монго, и Аким своего друга? Боюсь, что нет. Боюсь, что он был и для них всего-навсего блистательным гусаром. А гусар на то и гусар, чтобы подставлять грудь ударам молний!
Я понимаю: невозможно изменить бытие одним добрым хотением. Легко винить задним числом и Монго, и Акима. Я это хорошо понимаю. Но надо понять и нас: нам очень больно за Лермонтова.
Михаил Лермонтов оставил очень мало свидетельств, по которым мы могли бы судить о Монго и Акиме. Мишель, будучи отроком, писал своей тете Марье Акимовне Шан-Гирей: «Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры…» В другом, уже цитированном, письме к ней же он пишет: «Бабушка, я и Еким — все, слава богу, здоровы…» И еще в письме к бабушке (май 1841 года): «Скажите Екиму Шан-Гирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ…» Вот почти все, что осталось нам от Лермонтова о его близком друге. Возможно, было и еще что-нибудь, да затерялось.
И о Монго Лермонтов написал не больше. В письме к бабушке из Москвы он сообщает (апрель — май 1841 года): «Алексей Аркадьич здесь еще; и едет послезавтра». Из Ставрополя, в мае 1841 года: «…ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная». А вот характеристика молодого гусара Монго в отрывке «Монго»: «…Флегматик с бурыми усами, собак и портер он любил, не занимался он чинами, ходил немытый целый день, носил фуражку набекрень; имел он гадкую посадку: неловко гнулся наперед и не тянул ноги он в пятку, как должен каждый патриот…» И так далее.
Вот почти все о Монго, что узнаем мы из дорогого нам источника. Скажем прямо — маловато. Но можно понять Михаила Лермонтова — ужасно тяжело писать письма. Особенно для потомства…
Любовь? Увлечение? Игра?
Став офицером, Лермонтов окунулся в «светские утехи». Ростопчина пишет: «Веселая холостая жизнь не препятствовала ему посещать и общество, где он забавлялся тем, что сводил с ума женщин, с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании; другая его забава была расстройство партий, находящихся в зачатке, и для того он представлял из себя влюбленного в продолжение нескольких дней; всем этим, как казалось, он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность… Помню, один раз он, забавы ради, решился заместить богатого жениха…»
Ростопчина хорошо знала Лермонтова. Даже слишком хорошо. Она была старше его, опытнее его. Поэтому особенно важно ее свидетельство. Давайте остановимся на этом самом случае, когда он «забавы ради, решился заместить богатого жениха».
Первое, что бы хотелось зафиксировать, — это возраст Лермонтова, когда произошла эта, окрашенная адюльтером история. Михаилу был двадцать один год.
Так что же произошло?
(Этот случай подробно описан в записках Сушковой, подвергнут некоторой критике со стороны ее сестры Ладыженской и коротко описан в одном из писем самого Михаила Лермонтова. Так что мы можем судить обо всем этом довольно объективно.)
Вот участники этой «истории»: Екатерина Сушкова, Алексей Лопухин и Михаил Лермонтов. Заметим, все они почти одних лет. А Лопухин и Лермонтов — закадычные друзья детства. Дело происходит в Петербурге, куда приезжает Лопухин из Москвы. Он, по-видимому, любит Сушкову, считается ее женихом. Но, кажется, и Лермонтов неравнодушен к Сушковой. Был, во всяком случае. Еще там, в Середникове… Вот вам типичный любовный треугольник! Самый банальный: он, она, он!
Сушкова говорит:
«Вечером приехал к нам Мишель, расстроенный, бледный».
На самом ли доле расстроенный и бледный? Или так показалось Сушковой?
Что же взволновало Лермонтова?
Оказывается, приезд Алексея Лопухина. Именно он был повинен в расстройстве Лермонтова. И никто иной! А почему? Да потому, что Лермонтов влюблен в Сушкову. Так она утверждает. И Сушкова говорит Лермонтову:
«Я всё та же, и всё люблю и уважаю его».
Вопрос ясен: она любит его, а Лермонтов любит ее. Ситуация не нова, но довольно драматична. Ибо Лермонтов недвусмысленно заявляет:
«Нам с Лопухиным тесно вдвоем на земле!»
Оказывается, Лопухин догадывается об ухаживаниях Лермонтова за Сушковой. И он, Лопухин, «не прочь и от дуэли, даже и с родным братом, если бы тот задумал быть его соперником». Вот как обстоит дело, стало быть, мужчины непримиримы! А Сушкова? Пока что верна Лопухину. И, разумеется, верит всему этому. Еще бы! Лермонтов бледен, ему тесно на земле с Лопухиным, а Лопухин готов драться на дуэли. Чего же еще!
Однако Лермонтов, как всегда, откровенен с Верещагиной. Он признается ей: «Вначале это было просто развлечением, а затем… расчетом». Расчет простой. И Лермонтов, можно сказать, морально оголяется. Он говорит: «Я увидел, что если мне удастся занять собою одно лицо, другие тоже незаметно займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества».
Ясно?
«Одно лицо» — это в данном случае Сушкова. А «другие» — это другие, может быть, целый свет, точнее, женская половина света.
Лично я верю Лермонтову.
Если судить по воспоминаниям Сушковой, дело шло к трагедии: ни Лопухин, ни Лермонтов не желают поступиться своими чувствами, оба они претендуют на любовь Сушковой. На горячую любовь. Искреннюю. Великую. (Так кажется Сушковой.)
А по Лермонтову, получается водевиль. Явный водевиль: один ее дурачит, другой любит искренне, она же всерьез думает, что находится меж двух огней. В итоге ни тот, ни другой на ней не женится. Ну, чем плох сюжет?..
Между прочим, происходит такое объяснение между Сушковой и Лопухиным:
«Мы уселись, он спросил меня, как я окончила вчерашний вечер.
— Скучно!
— Кто был у вас?
— Никого, кроме Лермонтова.
— Лермонтов был! Невозможно!
— Что же тут невозможного? Он и третьего дня был!
— Как! В день моего приезда?
— Да!
— Нет, тысячу раз нет.
— Да, и тысячу раз да, — отвечала я, обидевшись, что он мне не верит.
Мы оба надулись и прохаживались по комнате.
Тут я уже ничего не понимала, отчего так убежден Лопухин в невозможности посещений Мишеля. Я предчувствовала какие-то козни, но я не пыталась отгадывать и даже боялась отгадать, кто их устраивает: я чувствовала себя опутанной, связанной по рукам и по ногам, но кем?..»
По-моему, действие развивается по всем водевильным правилам. Хотя Сушкова клонит явно к драме, но драматическим здесь и не пахнет. Впрочем, сама Сушкова уверена, что все катится само собою даже не к драме, а к трагедии. Давайте послушаем еще раз. Итак:
«— Что Лопухин? — спросил он.
— Ждет! — отвечала я. — Но скажите, monsieur Michel, что мне делать? Я в таком запутанном положении: ваши угрозы смутили меня, я не могу быть откровенна с Лопухиным, все боюсь не досказать или высказаться, я беспрестанно противоречу себе, своим убеждениям. Признайтесь, его ревность, его намерение стреляться с вами, все это было в вашем только воображении?»
Лермонтов обижен. Лермонтов досадует на Сушкову. Он становится в позу.
«— Ну что же, выходите за него: он богат, он глуп, вы будете водить его за нос. Что вам до меня, что вам любовь моя?»
Это говорит Лермонтов, и Сушкова верит ему. Но у него на уме совсем другое: «Я публично обращался с нею, как если бы она была мне близка, давал ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня. Когда я заметил, что мне это удалось, но что дальнейший шаг меня погубит, я прибегнул к маневру…»
Все предельно откровенно.
Напоминаю: мы имеем дело с молодым человеком, которому двадцать один год. В эту пору случается и не такое.
Сушкова, по-видимому, искренне передает эпизод с Лермонтовым. Ладыженская сообщает, что Сушковой «внушили изъявить презрение дерзкому шалуну, танцевать же с ним положительно запретили. Она была заметно расстроена и все искала случая перемолвиться с Лермонтовым, державшим себя как ни в чем не бывало. Он и поклонился развязно и подсел к ней с величайшей непринужденностью…»
Одним словом, Лермонтов предстает перед нами чуть ли не великосветским сердцеедом. Но зачем все это ему? Во имя чего? Я не склонен делать из этого факта далеко идущие выводы и полагать, что в этом и проявился истинный характер великого поэта, гения литературы. Правда, что-то есть у Печорина от этого Лермонтова, но это еще не значит, что Печорин есть копия Лермонтова. Думаю, что не один гусар и до и после Лермонтова вел себя подобным же образом. Да мало ли что происходило в светских салонах!
«Через неделю с небольшим Михаил Юрьевич почти перестал и кланяться сестре… С наступлением великого поста он чуть ли не совсем исчез с нашего горизонта».
Лермонтов полагал, что надо кончать комедию. Он пишет письмо, разумеется анонимное, в котором Лермонтов поносит Лермонтова. Он пишет Сушковой: «Поверьте, он не достоин вас. Для него нет ничего святого, он никого не любит… Он не женится на вас, поверьте мне, покажите ему это письмо, он прикинется невинным, обиженным» и так далее…
Почти как в «Герое нашего времени».
К счастью, здесь не было смерти. Дело обошлось тем, что все три участника «любовной истории» пошли своей дорогой. Лопухин женился на другой, Сушкова стала Хвостовой, а Лермонтов…
Всему этому сто сорок лет тому назад придавалось чрезвычайное значение. Вокруг разгорались страсти. Вмешивались дядюшки, тетушки и прочие покровители. Но прошло время, и, как сказано у Омара Хайяма, «угасло всё. Всё тихо. Всё молчит!»
Трудно удержаться от улыбки, вникая во все эти мелкие салонные истории, во все эти приглашения на мазурку, отказы в танце. Но тем не менее это была жизнь. И касалась она Михаила Лермонтова. Так или иначе…
Любил ли Лермонтов Сушкову? Вероятно, нет. Увлекался ли ею? Наверное, увлекался. Было ли что-нибудь демоническое в этом увлечении? Думаю, что нет. Разве меж молодыми людьми не бывают истории более поразительные?
Я отвергаю мысль о том, что внешность Лермонтова вызывала в нем такую досаду, что он поклялся отомстить всему легкомысленному женскому роду, отвергающему поэта. Как мы знаем, Лермонтов в пору возмужалости, точнее, известности производил прекрасное впечатление на женский пол. Им тоже увлекались, ему отвечали взаимностью. Далеко за примерами ходить не приходится. Один из них мы только что мельком проанализировали. Неверно из Лермонтова делать человека, отверженного женщинами. У него были верные друзья, верные наперсницы среди женщин. «Моей единственной отрадой была мысль о любви Мишеля, она поддерживала меня». Это пишет не кто иной, как оскорбленная Сушкова.
С годами Лермонтов будет желанным гостем и кавалером во многих салонах Петербурга. Нет, и по части любви — этого, как говорят, дара богов — Лермонтов тоже не был обижен. И стихи «Выхожу один я на дорогу» не были укором прекрасному полу, как это предполагал Маяковский.
Парадировки и маршировки продолжаются
Напрасно молился Михаил Лермонтов: «Царю небесный! Спаси меня от куртки тесной, как от огня. От маршировки меня избавь, в парадировки меня не ставь». Господь не внял молитве: «тесная куртка», пусть даже сшитая на гвардейского офицера, цепко облегала стан молодого гусара.
1834, 35 и 36-й годы… Все это время Лермонтов исправно служит. Разумеется, дело не обходится и без гауптвахты. Посидеть в ней десять — пятнадцать суток — сущие пустяки. Сюда заходят товарищи, здесь ведутся веселые беседы, даже с вином и приятной закуской. За «шалости» начальство карало, но не очень. Так что служба гусарская шла своим чередом. Бабушка все чаще проводила время в Тарханах, — гусару нужны были деньги, а Лермонтов все реже бывал там.
Он писал Верещагиной: «Теперь я не пишу романов, — я их делаю». Я не знаю, насколько это точно. Но мы привыкли верить Лермонтову — значит, он действительно не писал «романов». Но в эти годы написаны им «Маскарад», начат роман «Княгиня Лиговская», написана пьеса «Два брата» и еще кое-что. За исключением «Маскарада», в названных вещах не везде легко угадывается великое перо самого Михаила Юрьевича. Правда, утверждают, что замысел «Княгини Лиговской» послужил хорошим материалом для «Героя нашего времени» и что само по себе это отличное произведение. Возможно, что это и так. Однако мне кажется, что если не забыты, например, «Два брата» или «Княгиня Лиговская», то только потому, что их некогда писал сам Михаил Юрьевич Лермонтов. Они служат хорошим пособием для диссертантов, пишущих о Лермонтове. Не дай бог, погибни Лермонтов в 1836 году — мы непременно лишились бы Михаила Юрьевича, а в 1841 году — даже после невозвратимой потери — мы все-таки его не лишились. Замечание Лермонтова о том, что он «не пишет романов», на мой взгляд, совершенно справедливо. Справедливо при его жесткой самооценке, при его необычайной, огромной требовательности к себе.
«Маскарад» велик не своей фабулой — подобных или почти подобных пьес немало в мировой драматургии. Он пленяет страстями своих персонажей и воистину необузданной любовью Арбенина к Нине. Эта пьеса, написанная в «молодые годы» Лермонтовым, ценна характерами персонажей, списанных с жизни и окрашенных чисто лермонтовскими красками. Огненные страсти привлекают нас и в «Отелло». Сама же кульминация — сцена с платком — слишком «театральная», на мой взгляд. Не избегнул подобной же театральности и Лермонтов. Возможно, что все это не так и я просто ошибаюсь. Но хочется быть предельно откровенным. Я понимаю всю ситуацию в «Маскараде», понимаю и приемлю ее, учитывая характер Арбенина. И тем не менее не могу «серьезно» отнестись к аргументам, доказывающим виновность Нины. (Так же, как в отношении «виновности» Дездемоны.)
Мне кажется, наиболее значительное в этот период написано Лермонтовым в лирике. Это — «Умирающий гладиатор». Это — «Русалка», «Еврейская мелодия». Не так уж много, но зато хорошо. Вот по этим небольшим стихотворениям можно судить о поэтическом таланте «молодого» Лермонтова.
Но вспомним, что к концу 1836 года мы имеем Михаила Лермонтова — автора одной публикации (всего-навсего одной!). Лермонтов все еще остерегался печататься и числить себя в поэтической когорте, которую в то время возглавлял Александр Пушкин.
Поэтическая активность Лермонтова в эти годы — 1835–1836 — продолжается. В это время были написаны, например, «Боярин Орша», «Сашка» — поэмы, значительные по объему и глубокие по мысли.
Говорили ли теперь Лермонтову его друзья о его поэтическом таланте? Несомненно. Некоторые во всяком случае, имеется совершенно четкое письменное свидетельство. Вот оно: «Дорогой Мишель, я спокойна за ваше будущее — вы будете великим человеком». Это сказано 18 августа 1835 года. И сказано вещей Сашенькой Верещагиной.
Особо следует сказать о Святославе Раевском, в этот период имевшем огромное влияние на Лермонтова. Это был человек большого ума и эрудиции. Он хорошо знал своего друга и несомненно оценил его талант. Мы еще встретимся с Раевским в самый ответственный для поэтической жизни Лермонтова момент.
Да и сам Лермонтов прекрасно знал цену своему таланту.
Но — Лермонтов продолжает служить исправно.
Прекрасные лошади, отличные экипажи, кутежи в Петербурге — чего же еще надо? А еще жалуется, что беден! Притвора? Да нет, просто беден относительно. Возможно, беднее Лопухина. Но ведь Лопухин очень и очень богат был… Бабушка из кожи лезла вон, чтобы своего любимца внука поддержать в его блестящем офицерском житье-бытье. Сам Лермонтов платил ей вниманием, любовью. Висковатов из многочисленных бесед со здравствовавшими в то время друзьями и знакомыми поэта заключил, «что Лермонтов был очень внимателен к бабушке… На слово его старушка всегда могла положиться». Он жил в Царском Селе, но фактически — в Петербурге, и только раз ездил в Тарханы. В отпуск. Разумеется, через Москву.
Художник Медиков, которого мы уже цитировали, пишет: «Живо помню, как, отдохнув в одной из беседок сада и отыскивая новую точку для наброска, я вышел из беседки и встретился лицом к лицу с Лермонтовым после десятилетней разлуки. Он был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо, с душевной теплотой… Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь…»
Но только не в творчестве.
Когда подготовляют к запуску тяжелую ракету — наступает момент так называемого отсчета времени. Все наготове и все готово к старту. Начинается отсчет, в конце которого включается зажигание: это значит, что заработали главные двигатели. После этого ракета взмывает высоко в небо…
Боюсь, что сравнение покажется несколько банальным, но Лермонтов в конце 1836 года походил именно на ракету, готовую к полету. Отсчет поэтического времени фактически уже начался. Когда же будет включено зажигание? На ракетодроме это делается нажатием кнопки. А в поэзии, являющейся, можно сказать, производной сложных общественно-политических и эстетических переплетений, зажигание «включается» не так-то просто. Оно зависит от большого числа факторов, главенствующую роль в которых играет история, ее развитие.
Я уже говорил и хочу повторить, что автор «Умирающего гладиатора», «Русалки» и «Маскарада» профессионально был готов к самым дальним «полетам» в сферу поэзии. Любопытно, что из всех ранних произведений Лермонтов включил в свой первый поэтический сборник всего несколько стихотворений, написанных в 1836 году, в том числе «Русалку». Но ни «Парус», ни «Ангел», как это ни странно, не включил. По-видимому, 1831 и 1832 годы казались ему уж слишком «ранним периодом». Между тем мы восторгаемся этими стихами. И не без основания. Это лишний раз говорит о том, сколь требовательным, сколь бесконечно требовательным был к себе Михаил Юрьевич.
К слову сказать, он не включил в свой сборник такое, казалось бы, «патриотическое» стихотворение, как «Опять, народные витии», написанное в 1835 году. Это в нем сказаны такие слова: «Веленьям власти благотворной мы повинуемся покорно и верим нашему царю! И будем все стоять упорно за честь его как за свою». (Правда, эти строки кем-то неизвестно когда вычеркнуты из чернового автографа.)
Да, это Лермонтов. Как видно, бывают в жизни минуты, когда напишется и такое. Мы не ставим эти стихи в строку как нечто сакраментальное.
Но случай этот показывает, сколь живуч, сколь неотвратим порою конформизм. Он словно носится в воздухе. Он прилипает наподобие «капельной инфекции». Даже к таким, как Лермонтов. И даже к таким, как Пушкин.
Неумолимо грядет январь 1837 года, на подступах черный день России: погибнет гений России — Пушкин.
Но русский поэтический трон не останется пустым ни единой минуты. Эстафету примет Лермонтов. Сам Пушкин не покривив душою смог бы повторить слова, услышанные Иоанном Крестителем: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
Поэт погиб. Да здравствует Поэт!
День смерти Поэта — День рождения Поэта
27 января 1837 года в Петербурге, за Черной речкой, был смертельно ранен Александр Сергеевич Пушкин.
Закатилось солнце русской поэзии…
Это слова из сообщения-некролога. Именно они пришлись не по душе камарилье, окружавшей царский трон.
У царя достало ума сделать широкий жест: он погасил все долги Пушкина, распорядился об обеспечении семьи поэта. Двое суток, можно сказать, не отходил от постели умирающего поэта лейб-медик Николай Арендт. Это был очень крупный врач. Его опыт зиждился на последних медицинских познаниях Европы. Лечил он умирающего Пушкина правильно. Но рана оказалась слишком страшной, брюшная полость воспалилась почти мгновенно. Это мы теперь называем перитонитом.
Как-то я спросил известного профессора-хирурга Александра Вишневского: так ли, как надо, Арендт лечил Пушкина? Не было ли упущено что-либо? Профессор ответил, что если бы сам он чудом перенесся в то время и его пригласили бы к одру умирающего поэта, он, Вишневский, не смог бы предложить что-либо лучшее, чем Арендт (с учетом, разумеется, состояния медицины той поры). Совершенно очевидно, что Пушкина Арендт не мог спасти.
Пушкина можно было спасти до дуэли.
Смерть поэта всколыхнула страну.
Общество так или иначе было глубоко задето смертью поэта. Известно, что у дома Пушкина на Мойке толпился народ во все предсмертные дни поэта. Василий Жуковский вывешивал бюллетени о состоянии здоровья больного. Он же первый сообщил народу о том, что Пушкин скончался. И тут же составил план квартиры поэта. Этот документ висит в доме на Мойке и сейчас. Жуковский словно предвидел, что квартира перейдет к другим, что комнаты ее перестроят. И правильно предвидел: все случилось так, как и полагал Жуковский.
Лермонтов в это время лежал больной, но к нему дошла весть о гибели Пушкина, его любимейшего поэта.
Происшедшее пересказывали больному Лермонтову на разные лады.
Одни тотчас же всю вину свалили на Пушкина. Дескать, доигрался, дескать, Дантес прав во всем, дескать, он дрался за свою честь. А Пушкин? Уж слишком возгордился он… Да и Наталья Николаевна не без греха, кокетлива, мол, сверх меры, сама сохла по Жоржу Дантесу. Короче: это Пушкины «сгубили» бедненького Дантеса.
Кто так говорил? Да Николай Столыпин, крупный чиновник, служивший под началом министра иностранных дел Нессельроде. Брат Монго, следовательно, тоже родственник Лермонтова.
Каково было Лермонтову выслушивать эту великосветскую мерзость!
Иное он слышал от Святослава Раевского. Сказывают, во всем виноват царь, сообщал Раевский. Царь и его приближенные. Они не только не пресекали злопыхателей, но поощряли тех, кто поносил и травил поэта. А ведь Дантес-то — негодяй! Наглец, подстрекаемый великосветскими интригами. До русской ли им всем поэзии и ее славы!
Пушкин, рассказывал Раевский, был оскорблен. Не мог он действовать иначе. Честь есть честь. Однако имел ли он право рисковать своей жизнью? Имел ли он право связываться с неким Дантесом? Нет, не имел! Не должен был ставить русскую поэзию под расстреляние случайных людей, проходимцев без роду и племени.
Столыпин говорил одно, Раевский иное. Но Лермонтов прекрасно знает, от чьего лица выступает и тот и другой.
А ему передают все новые подробности. Рассказывают о милости царя, о том, что Пушкин дрался будто бы вопреки его запрету, что Пушкина отпевали, и при этом присутствовал весь дипломатический корпус, что Пушкина увезли ночью, чуть ли не тайком, в далекий и последний путь по замерзшей реке Великой в Святогорский монастырь, что рядом с сельцом Михайловским. Здесь, в монастыре, в свое время Пушкин купил себе землю для могилы. И место это стало знаменито на весь мир.
Многое о Пушкине было известно Лермонтову. Он знал, что Наталья Пушкина, урожденная Гончарова, красива. Знал, что почти все годы замужества она проходила на сносях, что родила четырех и воспитала их с пеленок.
Лермонтов, я уверен, знал о ней больше нас. А мы кое-что узнали о Наталье Пушкиной из ее писем, найденных совсем недавно. Она была не только матерью четырех младенцев, но, как видно, и заботливой женой. И тем не менее Лермонтов не искал с нею встреч, держался в отдалении. Увидел ее только один-единственный раз. Но об этом в своем месте.
Нам придется еще раз подтвердить один непреложный факт: в скорбные дни ухода из жизни поэта Пушкина Аполлон потребовал «к священной жертве» поэта Лермонтова. Блок сказал: «Отлетевший дух Пушкина как бы снизошел на Лермонтова».
«И был вечер, и было утро: день один… И стал свет…»
Так, почти с библейской торжественностью, в один день родился истинный поэт — и стал свет! Его породило горе. Но жил он, по существу, для того, чтобы противостоять горю, говоря о нем. Говоря для людей.
И свершилось реченное поэтом: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей…»
И вот почти двадцатитрехлетний поэт снова берется за перо. Может быть, это было 28 января, на другой день после дуэли Пушкина, как указывается под стихами, а может, 30 января, после смерти Пушкина.
И здесь наступает полное испытание для поэта.
Александр Кривицкий пишет: «Михаил Юрьевич Лермонтов — гениальное дитя декабрьского восстания. Вы мысленно листаете страницы его сочинений и думаете о поэзии, судьбе России, жизни и смерти».
Я хочу обратить ваше внимание на первую фразу. Она подчеркивает связь живой мысли поэта с наиболее значительным общественным явлением того времени. Все зависит от ответного резонанса. Будет ли эхо, или звук погаснет в душевной пустоте?
Но эхо состоялось.
Да какое еще!
«В короткой жизни Лермонтова, — пишет Сергей Наровчатов, — есть одно мгновение, переоценить которое невозможно. Неизвестно, как сложился бы его дальнейший путь, если бы не страшный выстрел, прогремевший на всю Россию».
По силе мысли, по сжатости и точности стихотворение «Смерть Поэта» я назвал бы поэтической прокламацией. В нем вскрыта истинная подоплека трагедии, сотканной грязными руками великосветского общества, до конца обнажена общественная, политическая и государственная сторона преступления на Черной речке. Все это сделано с предельным накалом страсти и гражданским бесстрашием.
Стихи эти «вышли» за пределы одного случая.
Стихотворение «Смерть Поэта» не могло быть опубликовано в то время. Оно и не публиковалось. Довести его до сведения общественности добровольно взялся Святослав Раевский, который был старше Лермонтова года на три. Он лично переписал стихи. И передал дальше в надежные руки. И неопубликованные стихи стали большим общественным явлением. В один день и Лермонтов предстал в новом поэтическом качестве.
Есть некая магия в высокой поэзии: она гармонично сочетает ясный смысл с прекрасной формой. Малейшее нарушение этой гармонии ведет к разрушению поэтического начала. Перевес «логики» приводит к сухости. Крен в сторону форм за счет «логики» снижает общественное значение поэзии, грозит пустозвонством. Никакое алгебраическое уравнение не способно выразить хотя бы в некоем приближении эту гармонию. На этом основании иные эрудиты относят литературу и литературоведение к «оккультной науке». Разумеется, до точных наук здесь далековато. Но это не значит, что литература не поддается научному познанию, хотя бы в такой же степени, как психика.
Особая магия заключена в стихах «Смерть Поэта». Они написаны залпом, единым духом. Кажется, перо ни разу не отрывалось от бумаги. И сколько потом ни появлялось исследований о дуэли Пушкина — ничего существенного к тому, что высказал Лермонтов, прибавлено не было. Любой, кто не согласится со мной, пусть перечитает эти стихи.
«Погиб Поэт! — невольник чести — пал, оклеветанный молвой… Не вынесла душа Поэта позора мелочных обид…»
Я не собираюсь детально анализировать эти стихи. Это делают в школе. Наверное, не лучшим образом. Порою расчленяя стихотворение, как тушу. Расчленяя то, что живет только как единое целое. Я только попрошу перечитать «Смерть Поэта». Моя задача в этом случае будет сильно упрощена…
«Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей?..»
Алексей Хомяков писал Николаю Языкову о Пушкине (оба в то время — известные литераторы): «Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые приняли его из милости». По-видимому, разговоров на эту тему велось немало… Но мог ли камер-юнкер Пушкин плюнуть на царский двор в угоду великому поэту Пушкину? Мы с вами ответим: мог! И не учтем, что в то время общественное, государственное, так сказать, положение писателя кое-что да значило. Даже камер-юнкер — это дело.
Я хочу обратить ваше внимание на похоронную карточку, которую разослала в скорбные дни Наталья Пушкина. О чьей кончине она извещала? О смерти великого русского поэта? И не бывало! В карточке было сказано: «Наталья Николаевна Пушкина, с душевным прискорбием извещая о кончине супруга ее, Двора Е. И. В. Камер-Юнкера Александра Сергеевича Пушкина…» и так далее… Обидно читать эти строки! Камер-юнкер… Не существовало чина ниже этого при дворе Е. И. В. Неужели же великий поэт стоял еще ниже камер-юнкера?! По своему общественному, государственному положению. По-видимому, да. Стало быть, к званию поэта и профессии поэта, которая кормила всю семью Пушкина, требовался еще и чин камер-юнкера, этот мальчишеский дворцовый чин! А ведь Наталья Николаевна отлично сознавала, кто муж ее, когда писала своему брату Дмитрию: «…Для того, чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна». И тем не менее — извещает о кончине «Двора Е. И. В. Камер-Юнкера»…
А поэт? Что такое поэт в глазах «света»? Правда, это представление начал разрушать не кто иной, как сам Пушкин, своим примером утвердивший писателя нового типа, писателя-профессионала, живущего на заработки от литературного труда. Писатель-вельможа, типа Державина, постепенно отходил в прошлое. Постепенно, очень постепенно, разумеется.
Сильнейший удар по самодержавию наносит Михаил Лермонтов в шестнадцати заключительных строках, дописанных, как иные считают, позже (спустя несколько дней). Раевскому вскоре довелось распространять стихотворение в том виде, в каком оно дошло до нас. Это было, вероятно, в первых числах февраля.
Здесь, в конце стихотворения, прокламационный накал достигает кульминации.
«А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскою поправшие обломки игрою счастия обиженных родов!..» Можно ли точнее назвать адрес? Можно ли сказать еще яснее? Ведь без обиняков все, без вуалей, без «таинственного» флёра «изысканной поэзии»! Что можно добавить к этим словам? И что можно убавить?
«Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!..»
Поэтическая лира звучит громоподобно. И звуки ее слышит весь мир.
Нет, никто не достигал до Лермонтова подобной слитности поэтического и политического обличения. И сам поэт мог сказать словами пророка: «Есть зло, которое видел я под солнцем…»
«И вы не смоете всей вашей черной кровью Поэта праведную кровь!»
Так сказал Лермонтов, когда ему не было еще и двадцати трех лет. Может быть, он взял на себя больше, чем следовало бы? Может быть, слишком был молод, чтобы произносить столь суровый приговор тому обществу, чьим сыном он был?
А может быть, это просто-напросто измена Лермонтова тому, кто вскормил его? Просто черная неблагодарность?
Чтобы ответить на эти вопросы, надо оглянуться назад. Оглянуться и вспомнить еще раз порку крестьян в Тарханах, их слезы и горе, которые наблюдал юный Мишель, и всю ту несправедливость, которая господствовала рядом с ним.
Лермонтов видел и слышал лучше многих из своих друзей. В этом одна из удивительных сторон его поэтического таланта. Немыслим талант без глаза острого и чутких ушей. И добавим еще: без доброго сердца…
Лермонтов лежал в постели, потрясенный трагедией, постигшей Россию. Да, солнце русской поэзии закатилось…
А Святослав Раевский энергично распространял стихи «Смерть Поэта». И стихи ходили по рукам. Их читали. Они задевали за живое! Они раскрывали глаза тем, кто еще не все видел. Раевский рисковал многим. Он это знал, но ведь и он, подобно Лермонтову, тоже был детищем декабрьского восстания.
Поэт лежал на Садовой. Но слава его и возмездие ему шагали уже рядом. На балу у графини Ферзен будто бы Хитрово сказала несколько слов о стихах Лермонтова Бенкендорфу… Бенкендорф что-то заметил Дубельту… Дубельт приказал Веймарну… Клейнмихель доложил его величеству… Одним словом, колесо государственной машины завертелось, грозя подмять гусарского офицера, отныне уже известного поэта…
Поэзия под судом
«А тут и ложь на волоске от правды, и жизнь твоя — сама на волоске»… Да, это он, Омар Хайям. Этой цитатой закономерно начать рассказ о том, что было на второй день — в буквальном и переносном смысле — с Михаилом Лермонтовым. Над головою поэта нависли грозовые тучи. И над головою Святослава Раевского, разумеется. Стихи были доведены до сведения самого царя. И по надо было быть ни графом, ни Бенкендорфом к тому же, чтобы понять смысл лермонтовской поэтической акции. «Прокламация таила в себе огромную взрывную силу. Она была и констатацией непреложных фактов, и разоблачением существующего строя — разоблачением убедительнейшим, и призывом — это уже в подтексте, как следствие, — к изменениям, может быть даже революционным.
Понимал ли Лермонтов, на что он идет? Каков риск? Какова сила этих стихов? Разумеется. О каком бы «вдохновении свыше» ни говорили, какими бы магическими свойствами ни наделяли поэзию, она все-таки рождается не в сомнамбулическом сне, но в полном сознании автора, достигающего подлинного озарения. Поэт мыслит в эти минуты четко, логически ясно, и цель — перед глазами его. То есть он знает, куда идет, что творит, во имя чего творит. Только человек, который в полный рост увидел свою цель, только тот, кто умом мыслителя объял всю действительность и увидел ее язвы, мог создать «Смерть Поэта». Пусть никто не говорит о том, что логически четкое мышление чуждо поэзии. Это неверно! Даже Велемир Хлебников, берясь за свою «заумь», мыслил логически, предельно четко. Он знал, чего хочет, знал, что «разрушает» мысль общепринятую во имя мысли хлебниковской, архисубъективной. Чем это не логика? Что в этом сумбурно-поэтического, неосознанного, сверхъестественного? Разве в этом хлебниковском устремлении не заложена «банальная» логика, цели которой в общем-то ясны?
Нет, Лермонтов прекрасно знал, что́ написал.
А вот понял ли Лермонтов, кто есть он теперь? Да безусловно: настоящий поэт-гражданин!
«Трагическая смерть Пушкина пробудила Петербург от апатии, — пишет Панаев. — Весь Петербург всполошился. В городе сделалось необыкновенное движение». Можно предположить, что еще большую силу этому «движению» придал своим стихотворением Михаил Лермонтов. Шан-Гирей свидетельствует: «…в один присест написал несколько строф, разнесшихся в два дня по всему городу. С тех пор всем, кому дорого русское слово, стало известно имя Лермонтова».
«Стихи Лермонтова прекрасные…» — писал Александр Тургенев, сопровождавший гроб Пушкина в Святогорский монастырь. А вот свидетельство Владимира Стасова: «Навряд ли когда-нибудь в России стихи производили такое громадное и повсеместное впечатление».
Разумеется, стихи произвели впечатление и на власти. И под этим «впечатлением» они посадили поэта под арест. В одну из комнат верхнего этажа главного штаба, как сообщает Шан-Гирей. А Раевский был арестован по распоряжению графа Клейнмихеля 21 февраля 1837 года. И в тот же день с него сняли допрос.
Раевский беспокоился о том, чтобы его показания не расходились с показаниями Лермонтова. К поэту пускали только его камердинера Андрея Иванова, крепостного из Тархан. Ему-то и адресовал свое письмо Раевский: «Передай тихонько эту записку и бумаги Мишелю. Я подал эту записку Министру».
В своем объяснении Раевский пытался представить дело в наиболее «выгодном» для Лермонтова свете, чтобы смягчить возможное наказание. «Политических мыслей, — писал Раевский, — а тем более противных порядку, установленному вековыми законами, у нас не было и быть не могло». Вот оно как! Умный Раевский понимал, чем дело может обернуться, особенно против Лермонтова. И он, елико возможно, тщится выгородить своего друга. «Лермонтову, — продолжал Раевский, — по его состоянию, образованию и общей любви, ничего не остается желать, разве кроме славы… Сверх того оба мы русские душою и еще более верноподданные…» Надо во что бы то ни стало отвести удар от Лермонтова, надо спасти его! Раевский напоминает о стихах «Опять народные витии»… О них я как-то мельком говорил. Помните? — и удивленно спрашивал: неужели их написал Лермонтов? Раевский учуял, что надо процитировать из Лермонтова именно это, чтобы убедить власти в его верноподданности.
По-видимому, не раз бывал советником Лермонтова милый Раевский. Шан-Гирей подтверждает это, говоря: «Раевский имел верный критический взгляд, его замечания и советы были не без пользы для Мишеля». Если припомните, Раевский был старше Лермонтова на шесть лет. А в молодом возрасте такая разница в летах особенно ощутима.
К сожалению, записка Раевского была перехвачена: она не дошла до Лермонтова. Положение арестованных — и одного, и другого, — еще больше усугубилось. И это все при том, что Елизавета Алексеевна имела немало друзей и знакомых, с уважением относившихся к ней.
Одним словом, создали дело о «непозволительных стихах» Михаила Лермонтова. Висковатов нашел в деле «Объяснение корнета лейб-гвардии Гусарского полка Лермонтова» и опубликовал его в «Вестнике Европы» в 1887 году.
Что мог сделать Лермонтов?
Первое: заявить так же бесстрашно, как и в своих стихах, что имеет дело с надменными потомками, с палачами Гения и Свободы. То есть повторить, точнее, подтвердить свою позицию, обнародованную в стихах «Смерть Поэта». Иными словами, еще раз совершить бесстрашный поступок. С тем, разумеется, что за это ему будет соответствующее наказание.
Второе: признать, что невольно была совершена ошибка, что совсем не то имелось в виду, все свести к чистой эмоции безо всякой политической подоплеки. Короче говоря, повиниться, памятуя, что повинную голову меч не сечет. Проявить малодушие? — спросите вы. Да, именно об этом идет речь. Ведь два же выхода: или — или!
Вот сейчас, когда над поэтом нависла серьезная угроза, когда он очутился лицом к лицу с безжалостной государственной машиной, причем безо всякого опыта, Лермонтову пришлось выбирать второе: то есть повиниться во всем. Он скажет, почему поступил так, а не иначе. Наше дело понять его или осудить. Но изменить мы ничего не можем.
Лермонтов начал свое объяснение с того, что нам уже известно: со своей болезни, со слухов, дошедших до него. Далее он пишет: «Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого; и врожденное чувство в душе неопытной — защищать всякого невинно-осужденного — зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов».
Лермонтов решил отвести от себя удар, по крайней мере, смягчить его. Но человеческая драма уже разыграна, судьба сделала свое, и нам остается только следовать по заданной канве. Ничего не прибавляя от себя…
Лермонтов продолжает свои объяснения: «Пушкин умер, и вместе с этим известием пришло другое — утешительное для сердца русского: государь император, несмотря на его прежние заблуждения, подал великодушно руку помощи несчастной жене и малым сиротам… Я был твердо уверен, что сановники государственные разделяли благородные и милостивые чувства императора, богом данного защитника всем угнетенным…»
Течение мыслей молодого офицера и поэта, по-моему, совершенно ясно. Оно не требует комментариев. Особенно такое вот место: «Тогда, вследствие необдуманного порыва, я излил горечь сердечную на бумагу, преувеличенными, неправильными словами выразил нестройное столкновение мыслей, не полагая, что написал нечто предосудительное…» И тут же заметил, что «один… хороший приятель, Раевский… просил… их списать…» Правда, Лермонтов пытается, елико возможно, защитить своего друга, заявив, что тот «по необдуманности, не видя в стихах… противного законом, просил… списать…».
Честнейший и искреннейший Михаил Лермонтов ничего не утаил. Он написал Раевскому: «…Меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты… Я вспомнил бабушку… и не смог. Я тебя принес в жертву ей… Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать».
Ничего особенного Лермонтов не приписывал своему другу. Ничего такого, что бы не было уже известно властям. И напрасно думал он, что показания его как-то повлияли на судьбу Раевского. Сам Раевский много лет спустя — 8 мая 1860 года — напишет Шан-Гирею: «…Я всегда был убежден, что Мишель напрасно исключительно себе приписывает маленькую мою катастрофу в Петербурге в 1837 году».
25 февраля 1837 года военный министр граф Чернышев и дежурный генерал Клейнмихель направили шефу жандармов, командующему императорскою главною квартирою секретную бумагу. В этой бумаге излагалось «высочайшее повеление»: корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, а губернского секретаря Раевского — выдержать под арестом в течение одного месяца, а потом отправить в Олонецкую губернию.
Итак, перед Михаилом Лермонтовым — дальняя, неминуемая дорога — на Кавказ. На Кавказ, где идут военные действия. Там можно выжить, но можно и погибнуть. Дело ведь случая: война есть война. Прав Омар Хайям: «И жизнь твоя — сама на волоске». Собственно говоря, с этих-то слов мы и начали эту главу.
Снова на Кавказ
Внук арестован…
Ссылается на Кавказ…
А где же его верная и первая защитница? Неужели она примирилась с этим и только хлопочет по хозяйству в Тарханах? Как бы не так!
Елизавета Алексеевна поторопилась в Петербург. И это в феврале! Можете вообразить себе путешествие из Тархан через Москву в Петербург. И не молодая ведь! Впрочем, мы можем определить, сколько ей было лет в эту пору, то есть в 1837 году, если родилась она в 1773 году — 64! Разумеется, она поспешила в столицу при первом же тревожном сигнале.
В Петербурге она пошла на поклон ко всем своим знакомым, которые могли хоть чем-нибудь помочь провинившемуся гусарскому офицеру. Лермонтов пишет в марте 1837 года Раевскому: «Бабушка хлопочет у Дубельта… Что до меня касается, то я заказал обмундировку и скоро еду…» По всему видно, что внук не очень-то надеялся на успех бабушкиных хлопот. Однако офицер не падает духом. Он припоминает изречение Наполеона: «Великие имена делаются на Востоке». И немножко пошучивает по этому поводу. Да, Лермонтов едет на Кавказ! И Елизавета Алексеевна вынуждена смириться: добиться отмены царского приказа ей не удается.
Мартьянов вспоминает: «…Офицеры лейб-гвардии Гусарского полка хотели дать ему прощальный обед по подписке, но полковой командир не разрешил, находя, что подобные проводы могут быть истолкованы как протест против выписки поэта из полка».
Итак, «с милого севера в сторону южную»…
Говорят, нет худа без добра. Может, и действительно не лишне было освежить свои кавказские впечатления. Но уже не мальчиком, а в качестве офицера-драгуна, на двадцать третьем году от роду. И не следует упускать из виду еще одно обстоятельство: ехал на Кавказ не просто опальный офицер, но известный опальный поэт. Поэтому поездка на Кавказ в 1837 году очень и очень отличалась от предыдущих посещений этого чудного края земли.
Проницательная Ростопчина точно оценила эту вынужденную поездку на Кавказ с точки зрения литературных и житейских интересов Лермонтова. «Эта катастрофа, — писала она Александру Дюма, — столь оплакиваемая друзьями Лермонтова, обратилась в значительной степени в его пользу: оторванный от пустоты петербургской жизни, поставленный в присутствие строгих обязанностей и постоянной опасности, перенесенный на театр постоянной войны, в незнакомую страну, прекрасную до великолепия, вынужденный, наконец, сосредоточиться в самом себе, поэт мгновенно вырос, и талант его мощно развернулся…»
Все это правда. Но при всем этом — пусть растут поэты сами по себе. Настоящий талант найдет свою дорогу, не пропадет, не зачахнет. А ежели пропадет, а ежели зачахнет — значит, туда ему и дорога, значит, был он вовсе не настоящим.
Мы не знаем, как провожали Лермонтова. Поехала ли бабушка с ним до Москвы или осталась в Петербурге продолжать хлопоты?.. Пусть это нарисует в своем воображении каждый, кто любит Лермонтова и его поэзию.
Во всяком случае, он не очень торопился с отъездом. Это факт. А приехав в любимую Москву — не спешил покинуть ее. Николай Мартынов (тот самый!) писал: «…Проезжал через Москву Лермонтов… Мы встречались с ним почти всякий день, часто завтракали вместе у Яра; но в свет он мало показывался. В конце апреля я выехал в Ставрополь».
А Лермонтов все еще оставался в Москве. Мартынову пишет письмо на Кавказ его мать. «Мы еще в городе, — сообщает она. — Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю: у него слишком злой язык…»
Верно, мало кто любит злой язык. Его не прощают даже людям весьма талантливым. Что же можно сказать по этому поводу? Талантливому человеку требуются друзья по плечу. А это бывает редко. Обычно вертится вокруг какая-нибудь напыщенная «мелочь», которая никогда никому ничего «не прощает», и злого языка в том числе. Отсюда и всякие недоразумения. К великому огорчению, они идут во вред таланту. Как правило. И не вредят «мелочи». Как правило. Вот поди и разберись с этим самым «злым языком»!
Сестра Мартынова, Наталья Соломоновна, говорят, была очень красивая. Не она ли привлекала Лермонтова «каждый день»? И не из-за нее ли не очень-то торопился «на войну» драгунский офицер? Есть указания на то, что это вполне возможно. Поговаривали, что Лермонтов ухаживал за Натальей. Даже очень рьяно. Но закончилась эта история, в конце концов, в печоринском стиле, как и в случае с Сушковой. Вот отрывок из воспоминаний Дмитрия Оболенского: «Никому небезызвестно, что у Лермонтова в сущности был пренесносный характер, неуживчивый, задорный, а между тем его талант привлекал к нему поклонников и поклонниц. Неравнодушна к Лермонтову была и сестра И. С. Мартынова, Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за нею, а может быть, и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся. Громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую».
Нет ли тут какого-то преувеличения? Наверное, был «разрыв», но едва ли в этой странной форме. В случае с Сушковой была «месть», а здесь?..
Лермонтову пришлось проститься с родимой Москвой, с москвичами и трогаться в путь. Туда, где «вечная война», по выражению Ростопчиной.
Следом за стихотворением «Смерть Поэта» появились великолепные стихи, которые известны нам с детских лет. Их не так много, как в «пансионские годы», но это уже настоящие стихи. Поэт словно бы следовал поговорке: «Лучше меньше, да лучше». Писать ежедневно, и писать к тому же великолепные стихи, — очень трудно. Особенно когда за спиной стоят и незримо наблюдают, словно живые, гиганты мировой поэзии от Гомера до Пушкина.
Лермонтов писал упорно, но с печатанием по-прежнему не торопился. В 1837 году были сочинены «Узник», «Сосед», «Когда волнуется желтеющая нива», «Кинжал», «Гляжу на будущность с боязнью» и неподражаемая «Молитва странника». Разве мало этого?
Лермонтову было недосуг творить в тиши кабинета. Он сочинял в дороге, на станции, где меняли лошадей, перед завтраком в трактире, стоя, сидя, лежа, трясясь на возке. Сначала все у него складывалось в голове, потом быстро он заносил все на бумагу, а уж после — перебеливал. Вот вся немудрящая «творческая обстановка» Михаила Юрьевича Лермонтова.
Зрелость, зрелость подступает к двадцатитрехлетнему молодому поэту. Он заглядывает себе в душу, в самую глубину ее. Он глядит взглядом философа, человека, умудренного опытом. Опыт недолгих лет откладывался в нем необычайно отчетливо, необычайно ярко. Образы в душе его сохранялись долго, чтобы ожить потом под кончиком его пера.
Поэт думает, думает, думает… «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской и, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной…» Он говорит это о себе. Но разве только о себе? Не все ли человечество глаголет его устами? Не со всего ли света тревога стекается к нему, чтобы потом излиться великими стихами?
Если вдруг — по недоразумению или незнанию, вольно или невольно — мы пожелаем связать каждое стихотворение Лермонтова с конкретным происшествием и не обратим внимания на широкое обобщение в его произведениях, то мы совершим большую, непростительную ошибку. Верно, «Узник» написан в связи с арестом. В этом проявляется поэтическая «конкретность» стихотворения. Но простое, казалось бы, явление реальной жизни стало явлением высокого поэтического взлета, и время над стихами перестало властвовать. Тема вобрала ту «вечность», которой помечены самые высокие творения человеческого духа…
А теперь такой вопрос: что лучшее в русской прозе о войне 1812 года? Вы скажете: «Война и мир» Толстого. Верно. А в поэзии? Так же не задумываясь вы скажете: «Бородино» Лермонтова. И это будет очень точно!
Я уже говорил в начале этой книги, что в детстве Лермонтов наслышался рассказов о войне, о пожаре Москвы, о бегстве Наполеона. Представление о войне получилось у него как бы объемным: с одной стороны — рассказы Жана Капэ, а с другой — русских ветеранов. Спустя много-много лет эти рассказы будут «сверены» с действительно народным, действительно историческим представлением о войне и выльются в поэтический рассказ — монолитный, непогрешимый во всех отношениях. Все здесь: и знание истории, и понимание души народной, и высочайшее поэтическое мастерство.
В том же 37-м году написалось и одно из лучших лирических стихотворений русской поэзии — «Молитва». Это в нем такие строки: «Окружи счастием душу достойную; дай ей сопутников, полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования…» Это говорит муж, созерцающий мир и человеческую душу внимательным оком философа. Это говорит тот, кто познал труднее всего познаваемое в жизни — человеческое сердце.
Цепная реакция после январского поэтического взрыва продолжалась: рождалось одно стихотворение краше другого. Взор поэта все более углублялся в душу человека. Он задевал в ней все новые струны. Порою даже казалось, что все кончено здесь, на земле. И делать «больше нечего». «Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и зла. Начать готов я жизнь другую, молчу и жду: пора пришла…» И далее уж совершенно пророческое: «Я в мире не оставлю брата». Неужели и в самом деле пришла пора? И это в двадцать три года? Серьезно ли все это? Да, вполне. Такие стихи не пишут в запальчивости, в минуту неожиданного уныния. Все здесь продумано. Двух толкований быть не может: плод созрел так быстро, что, кажется, перезрел и вот-вот упадет на землю. Десяток стихотворений, написанных в 1837 году, стоят иного толстого сборника стихов. Все в них выверено глазом большого мастера. Слова предельно взвешены. Мысли отточены. Они «отлиты» в прекрасную форму.
Мировая литература прошла сложный путь от первых клинописных повестей Шумерского царства до наших дней. И во все эти века «соперничали» меж собою форма и мысль (содержание). Готье, Флобер и другие крайне обострили эту «борьбу», провозгласив власть формы. Готье писал: «Блестящие слова, слова светлые… с ритмом и музыкой, вот где поэзия». Флобер выражается еще определеннее: «Больше всего я люблю форму, достаточно, если она красива, и ничего более…» И тем не менее итог неутешителен для «формы»: она оказывается в «подчинении». И поэзия двадцатитрехлетнего Лермонтова блестящее тому доказательство — каждый стих, каждое слово!
«Стих Лермонтова, — замечает Блок, — который сам он назвал «железным», очень сложен и разнообразен». Неразрывность стиха, слова с мыслью-чувством хорошо подметил у Лермонтова болгарский ученый Михаил Арнаудов. Он пишет: «Лермонтов — русский Байрон, исповедует: «Мои слова печальны, знаю: но смысла их вам не понять. Я их от сердца отрываю, чтоб муки с ними оторвать!»
Лермонтова направили на правый фланг «Кавказской линии» — на берег Черного моря, в район Геленджика. Здесь должны были начаться активные военные действия против горцев. Жили здесь адыги, которых называли одним общим словом для горцев запада Северного Кавказа — черкесы. Дело в том, что адыги, кабардинцы и черкесы говорят на одном и том же языке, а может быть, для бо́льшей точности следует сказать — почти на одном. Во всяком случае, учебники нынче у них совершенно одинаковые: печатаются они в Майкопе или Нальчике. Язык их относится к одной из древнейших ветвей кавказских языков — абхазо-адыгской группе. К этой же группе примыкал и язык убыхов, полностью исчезнувших в результате карательных экспедиций бравых царских генералов.
Надо сказать, что направили Лермонтова в самое пекло. Сюда многие стремились, чтобы скорее заслужить прощение. Для лейб-гвардейцев это было не так уж и трудно.
Лермонтов болел и попал в Тамань только в сентябре. И здесь родилось великолепное прозаическое произведение, уместившееся на нескольких печатных страницах. Висковатов пишет, что здесь, в Тамани, Лермонтов столкнулся с некой казачкой, по прозванию Царициха. Это она приняла офицера, ожидавшего почтового судна в Геленджик, за соглядатая. Царициха имела все основания опасаться своей связи с контрабандистами. В 1879 году еще стояла хата, описанная Лермонтовым. Ее снимок привезли Висковатову в Тифлис, где он участвовал в работах археологического съезда 1891 года. Следовательно, Лермонтов не из головы выдумал сюжет «Тамани». Не так уж и много во всей мировой литературе таких шедевров, как «Тамань», где всего на нескольких страницах с такой полнотой и яркостью раскрывались бы человеческие характеры, где бы так живо и так верно кипели истинная жизнь и истинная страсть. Наверное, поездка на «правый фланг» и риск в районе Геленджика стоили рассказа «Тамань». И тут мы еще раз подчеркнем вечно верную мысль о том, как трудно «добывается» настоящий «материал» для литературы и сколь это сложное дело.
Экспедиция, которую возглавлял генерал Вельяминов, была в какой-то степени традиционной: вот уж несколько лет предпринимались усилия, чтобы укрепить «Черноморскую линию». Ее крайней точкой в 1837 году был городок Геленджик. Отсюда войска направлялись в горы, в глубь страны адыгов, чтобы жечь аулы, урожаи на полях, уничтожать фруктовые сады, рубить лес и, разумеется, убивать горцев. Это была «грязная война», отвратительная во всех своих ипостасях. В ней гибли курские, орловские, рязанские мужики, платили за «победы» своей жизнью многие ссыльные, в частности декабристы, умирали ни в чем не повинные горцы.
В то время адыги были одним из крупных народов на Кавказе. Их насчитывалось, по крайней мере, несколько сот тысяч. Сильные, ловкие, свободолюбивые, они не жалели своей жизни ради защиты родного очага. С каждым годом война принимала все новые свирепые формы.
Горцы в лице своих многочисленных делегаций требовали только одного: чтобы оставили их в покое непрошеные генералы и увели свои войска за реку Кубань.
А что им на это отвечали? Генерал Вельяминов, например, заявил однажды горской делегации, что он выполняет приказ «белого царя» и непременно усмирит горцев, ибо они переданы царю султаном по Адрианопольскому трактату, или договору. Горцы терпеливо разъясняли генералам, что турецкие султаны никогда не имели законной власти над горцами, что султанов горцы знать не хотят и поэтому просят генералов уйти за Кубань.
Стыдно читать официальные дневники с описаниями военных действий против горцев: отряд такой-то вошел в горы, сжег такой-то аул, рассеял шрапнелью толпу, уничтожены посевы, убито столько-то… И тому подобное. За победные реляции генералов расплачивались мужики в солдатских формах.
Что думал Михаил Лермонтов об этой войне? Не думать он не мог. Ведь против него могли стоять Хаджи Абреки, Измаил-Бей и другие любимые герои его произведений. Или они должны были убить его, или же он должен был опередить их в сем кровавом деле. Такова логика войны. Так что же все-таки думал Лермонтов по этому поводу? Все, что написал Лермонтов о горцах, в высшей степени дружелюбно, человеколюбиво, гуманно по отношению к ним. Взять хотя бы «Валерик», где нет чувства враждебности к горцам. А скорее — сочувствие. Но разговор о «Валерике» впереди…
Здесь нам важно констатировать факт: Лермонтов был направлен в район активных военных действий, туда, где непрестанно свистели пули. Погибнуть в таком «деле» было совсем не мудрено. И люди гибли сотнями, тысячами. Да кто их считал?!
Не менее опасной, чем пули убыхов или адыгов, была черноморская малярия. Она вершила свои страшные дела не хуже войны. Это она свела в могилу друга Лермонтова, славного Александра Одоевского. Он «умер, как и многие — без шума, но с твердостью» там, где «…море Черное шумит не умолкая».
Смерти Одоевского Лермонтов посвятил великолепное стихотворение. Но это стихи не только памяти друга. Это, я бы сказал, реквием декабристу, который до конца сохранил «веру гордую в людей, и жизнь иную». Это стихи о человеке, ненавидевшем общество, которому, по словам Лермонтова, было чуждо существование самого Одоевского. В этих стихах Михаил Лермонтов с предельной поэтической точностью не только нарисовал образ Одоевского-декабриста, но и четко, недвусмысленно выразил свое отношение к человеку совершенно определенных политических убеждений. Лермонтов сделал еще один поэтический выстрел огромной силы в ту правящую верхушку, которую презирал и ненавидел.
Мы ничего не знаем со слов самого Лермонтова о «черноморском периоде». Письма к бабушке и друзьям, посланные с «правого фланга», наверное, затерялись. К слову сказать, Лермонтов не раз жалуется на то, что письма не доходят: ни к нему и ни от него к друзьям. Дело, вероятно, не обходилось без перлюстрации. А то и просто терялись по почтовой безалаберности и неспокойной жизни «странствующего офицера, да еще с подорожной по казенной надобности»…
Первое дошедшее до нас письмо Лермонтова с Кавказа датировано 31 мая, и написано оно в Пятигорске, адресовано Марии Лопухиной. Поэт сообщает: «…У меня здесь очень хорошая квартира; по утрам вижу из окна всю цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за этим письмом, я иногда кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны… Ежедневно брожу по горам и уж от этого одного укрепил себе ноги; хожу постоянно: ни жара, ни дождь меня не останавливают…» Из того же письма мы узнаем милую подробность: Лермонтов послал Марии и ее сестре шесть пар черкесских туфелек. «В точности держу слово, — пишет он, — поделить их вы легко можете без ссоры».
По этому письму мы можем заключить, что Лермонтов не был еще на «правом фланге». Думаю, что резня была не по нутру ему. Во всяком случае, при каждом удобном случае он покидал скверну грязной войны.
18 июля поэт сообщает бабушке, что «здоров как нельзя лучше», просит прислать денег, ибо собирается в Анапу, куда с трудом доходят и письма и деньги, а «депеши с нарочным отправляют».
Был ли Лермонтов в отряде Вельяминова до конца экспедиции, сказать трудно. Скорее всего — нет. Послужному списку, как полагает Висковатов, верить в данном случае нельзя — Лермонтов часто отлучался из отряда. Едва ли поэт побывал и в Геленджике, когда туда прибыл царь с цесаревичем и свитой, в которой находился и Бенкендорф. Говорят, Бенкендорф вспомнил о Лермонтове (но не только о нем), вернее, о просьбе его бабушки, и ходатайствовал, в частности, перед царем о переводе Лермонтова в Россию. Приказом царя, данным уже в Тифлисе 11 октября 1837 года, Лермонтов переводится в лейб-гвардии Гродненский полк. А полк этот стоял в Новгороде. Таким образом ссылка поэта Лермонтова на Кавказ кончилась. Он провел здесь, по существу, лето и раннюю осень.
Однако поэт до обнародования царского приказа поездил-таки по Кавказу: побывал на другом конце Северного Кавказа — в Шелкозаводске, у Хастатовой, затем поехал за хребет — в Грузию и Азербайджан. (А на «правом фланге» поэт, по существу, и не был.)
18 июля 1837 года Лермонтов пишет бабушке из Пятигорска, должно быть: «…Я с вод не поеду в Грузию». А заключается письмо следующими словами: «…Остаюсь ваш вечно привязанный к вам и покорный внук Михаил». И приписка: «Пуще всего не беспокойтесь обо мне; бог даст, мы скоро увидимся».
А пока что судьба влекла его в иные края, где дано было ему увидеть и пережить нечто новое.
За хребтом Кавказа
Из укрепления Ольгинского Лермонтов отправляется в Грузию, где был расквартирован Нижегородский полк. По-видимому, он выехал в начало октября, а в середине месяца уже любовался пейзажем по ту сторону хребта. В отряде, находившемся в Ольгинском, Лермонтов пробыл недолго и почти никакого участия в военных походах не принимал. В наше время путешествие по Военно-Грузинской дороге особых трудностей не представляет. Автобус, отправившись из Северной Осетии утром, к вечеру прибывает в Тбилиси. Легковые машины катят по асфальтированному шоссе еще быстрее.
Примерно нынешним маршрутом путешествовал и Лермонтов. Я говорю «примерно», потому что со временем, особенно с развитием автомобильного транспорта, трасса Военно-Грузинской дороги несколько изменилась. Да и не могла не измениться. Но все величие и красота Кавказского хребта сохранились со времен библейских, когда после потопа корабль с «чистыми» и «нечистыми» врезался в Арарат, благополучно избежав столкновения с Эльбрусом и Казбеком.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге точно описано в «Герое нашего времени». Печорин следовал за Лермонтовым.
Это был и тот и не тот Кавказ, который уже знал Лермонтов по воспоминаниям детства. Это был Кавказ настоящий, седовласый, суровый на вид. Кавказ вдохновляющий. И поэт чувствовал себя свободно, глаза его наслаждались, грудь дышала легко.
Горы и люди навевали легенды. Поэт и сам начинал слагать их. Он мог еще и еще раз подтвердить свою сыновнюю приверженность горам, которая выразилась еще в юношеских стихах: «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ».
Верно, взбираясь все выше и выше в горы, поэт еще сильнее привязывался к Кавказу. Этот край давал богатую пищу фантазии. Но, как это ни странно, не уводил в заоблачные сферы. А «приземлял» ее. Романтика здесь получала особенную окрыленность. Она возносила поэта ввысь, но не для того, чтобы оторвать его от земли. Нет! Чтобы сверху мог он лучше и шире обозреть земную жизнь во всем ее многообразии. Отсюда он видел больше, чем из любого, даже самого фешенебельного, салона Петербурга. На пути своем — горном, порою опасном для жизни, — встречал он — и не раз! — грушницких, максим максимычей, мейеров и вуличей. Он видел и казбичей и прелестных бэл. Видел джигитов и абреков, встречал наивных горцев и пророков истинных меж них.
«Я счастлив был с вами, ущелия гор», — писал поэт семь лет тому назад. С еще большим основанием он мог повторить эти слова, продвигаясь верста за верстою по Военно-Грузинской дороге на юг.
Сохранилось одно-единственное письмо Лермонтова, в котором он сообщает Раевскому о своих путешествиях по Кавказу. К сожалению, только одно, писанное в конце 1837 года, Это не значит, что поэт не посылал больше писем. Напротив, он поддерживал связи и с друзьями и с бабушкой. Он жалуется, что два письма «пропали на почте, либо… не дошли». Говорят, немало стихов Лермонтова таким же образом потерялись «на почте». К тому же, кажется, не очень-то берег он и свои произведения. Конечно, трудно было возить в офицерском сундучке стихи и, тем более, хранить их в беспрерывных странствиях. Однако вернемся к письму.
Лермонтов пишет: «С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом… лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке… так сидел бы да смотрел целую жизнь…»
Да, мы не имеем лермонтовских дневников или иных записей того времени, не знаем доподлинно, с кем он встречался на Военно-Грузинской дороге и что ощущал. Поэт мало заботился о том, чтобы оставлять потомкам свои путевые или иные записки. Тетрадки со стихами он хранил у бабушки, или у Краевского, или еще где придется.
Если мы не можем порою начертить точный маршрут лермонтовских поездок, если не ведаем, с кем и когда он встречался и о чем говорил, то мы осведомлены, притом хорошо, о другом, более важном. И это важное поэт оставил нам, своим читателям. Я имею в виду произведения его, написанные после ссылки на Кавказ. Точнее, после первой ссылки, ибо была еще одна ссылка — вторая, и последняя.
Здесь, в горах Кавказа, может быть на горе Крестовой или в Кахетии, созрел окончательно, или почти окончательно, тот вариант, или, как говорили прежде, очерк «Демона», который лег в основу главного очерка поэмы и дошел до нас и которым мы наслаждаемся.
Даже школьники знают, что «Демон» писался чуть ли не десять лет. Поэма создавалась и тут же переделывалась. По рукам ходило несколько очерков. Сначала действие ее происходило в Испании. В стране, где никогда не был поэт. Демон летал над Испанией, говорил с испанской монахиней. Но Кавказ, но легенды Кавказа навеяли нечто новое — романтическое и, я бы сказал, реальное.
Действие поэмы окончательно переносится на Кавказ. Демон парит над хребтом Кавказа. Тамара — грузинка. Гудал — грузин. Поэт перерабатывает для поэмы некоторые грузинские легенды. Если можно так выразиться, поэма становится на твердую почву кавказской действительности. Пейзажи в «Демоне» — не выдуманные. Все видено лично поэтом. «И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал: под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и, глубоко внизу чернея, как трещина, жилище змея, вился излучистый Дарьял, и Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на хребте, ревел… Роскошной Грузии долины ковром раскинулись вдали… Покрыта белою чадрой, княжна Тамара молодая к Арагве ходит за водой». Сказано точно. Кавказ здесь не спутаешь с каким-нибудь другим краем.
Поэма «Демон» и стихотворения, написанные после странствий по Кавказу, — замечательный итог, прекрасный клад, «вывезенный» поэтом из любимой страны гор.
Стоило ли ради всего этого терпеть дорожные лишения? Да, стоило. После поездки на Кавказ были написаны также «Поэт» и «Дума» — воистину перлы русской и мировой поэзии.
Военно-Грузинская дорога прямехонько ведет в Тифлис. Мимо того места, где сливаются «струи Арагвы и Куры», мимо того монастыря, где вскоре развернется действие чудесной поэмы «Мцыри».
Недолго пробыл наш поэт в Тифлисе, где «есть люди очень порядочные». Но не знаем имен, не знаем, кого конкретно имел в виду поэт. К великому сожалению, никто не оставил нам своих свидетельств о встречах с Лермонтовым в Закавказье. Прав Ираклий Андроников, когда замечает: «Между тем о пребывании Лермонтова в 1837 году на Кавказе — и особенно в Грузии — почти ничего не известно».
Мы знаем, что Лермонтову, как и Пушкину, понравились «татарские бани». Но был ли он на могиле Грибоедова, поклонился ли ей, и с кем из грузинских интеллигентов встречался? Ничего не известно! О своей жизни Лермонтов пишет: «Здесь, кроме войны, службы нету…» За короткое время поэт, можно сказать, изъездил чуть ли не весь Кавказ. Он пишет: «Изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже». Сказано очень коротко, но можно себе вообразить, что́ стоит за всем этим, — достаточно взглянуть на карту!
Крайняя восточная точка в Закавказье, где побывал Лермонтов, — Куба́. Это очень близко от Дагестана. И поэт сообщал Раевскому все в том же письме, что пришлось ему отстреливаться от «шайки лезгин». Но все обошлось благополучно.
Я помню чудесное летнее утро в Кубе́. Мы с друзьями сидели перед чайханою на высоком холме. Вокруг простирались сады. Было тихо, прозрачно и пряно от аромата зреющих фруктов. Я никогда не забуду вкуса чая, который заварил гостеприимный азербайджанец. Это был какой-то особенный чай, особенной заварки. «Чай по-кубински», — сказал чайханщик. Я смотрел с высоты и думал о Лермонтове: каково было здесь молодому поэту? Где-то он скакал, где-то отстреливался, где-то ночевал прямо на земле, по-горски закутавшись в бурку.
А в это время бабушка ночами все думала о нем. Она была стара в ту пору и не могла поехать за милым Мишелем. И это было невыносимо для нее…
А Михаил Лермонтов, одетый по-черкесски, все скакал на юг, в Шемаху, чтобы повидать еще что-нибудь. Может быть, даже, как он пишет, доскакал он и до Шуши, находящейся на юге Азербайджана. Все может быть.
Что он писал? Что поверял бумаге в этих скитаниях? И где эти бесценные клочки, так расточительно развеянные поэтом на своем коротком пути?
Исполнилось ему в это время двадцать три года, только-только пошел двадцать четвертый. Скажем прямо — не много…
И вот Лермонтов снова в Кахетии, в штабе полка, снова в Тифлисе, где, по его словам, приключилось некое происшествие. Оно описано им самим. Несомненно, загадочное. Скорее напоминает сюжет какого-то задуманного рассказа. И в то же время похоже и на правду, на истинное событие.
Вот несколько строк:
«Я в Тифлисе у Петр. Г. — ученый татар<ин> Али и Ахмет; иду за груз<инкой> в бани; она делает знак; но мы не входим, ибо суббота…» «Надо вынести труп. Я выношу и бросаю в Куру. Мне делается дурно…» «После ночью оба (двое) на меня напали на мосту… хотел меня сбросить, но я его предупредил и сбросил».
Не правда ли, странная запись? Она сделана рукою Лермонтова. Вообще-то говоря, нечто подобное могло иметь место: чем черт не шутит! Истинное происшествие дает основу для рассказа. Правда это или неправда? — в конце концов не суть важно. Но мы можем представить себе те маленькие и большие приключения, участником которых был Лермонтов — вольно или невольно. Проехать верхом от Кизляра до Геленджика, то есть всю «Кавказскую линию» — чего-нибудь да стоит! Если даже в тебя не стреляют. Надо полагать, что Лермонтову приходилось бывать и в небольших военных переделках. В районе Геленджика, например, он слышал всего «два, три выстрела». И слава богу! Черкесские пули обошли его. Особенно благотворно действовали на поэта горы. Он их любил беззаветно. Они были сродни его вольнолюбивому духу. Лермонтов писал: «…Для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту…»
Ему хотелось выучиться татарскому, который «в Азии необходим, как французский в Европе». Он строит планы: ехать в Мекку, ехать в Персию. А может быть, в Хиву с экспедицией? И признается другу: «Я сделался ужасным бродягой». Немало «побродяжничав» по Кавказу в качестве военного с подорожной по казенному делу, Лермонтову захотелось штатской жизни. Он искренне признается: «Скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку». И его не раз посетит мечта — «выйти в отставку»!..
Эта первая ссылка была недолгой, и Лермонтов в начале зимы уже возвращался в Россию. Он вез с собою собственные картины, «снятые с натуры» в горах Кавказа и в Грузии. Часть их дошла до нас. Большинство — подаренные друзьям и знакомым — потеряны.
Итак, в конце 1837 года завершился кратковременный период ссылки на Кавказ. Если говорить о стихах — поэт вез их не так уж много. По крайней мере, дошло до нас немного. Было среди них замечательное творение лермонтовской музы. Его мы знаем наизусть со школьной скамьи: «Гляжу на будущность с боязнью, гляжу на прошлое с тоской и, как преступник перед казнью, ищу кругом души родной…» По мнению поэта, он закончил свое земное предначертание: «Земле я отдал дань земную любви, надежд, добра и зла…»
На родину возвращался умудренный опытом, томимый мучительными раздумьями «пожилой» мужчина, вступивший в двадцать четвертый год своего существования. Он по-прежнему мало еще печатается. Поэт не торопится. Он даже слишком нетороплив в этом отношении.
Поэтическим итогом поездок по Кавказу явился также новый очерк «Демона». По-видимому, весь он был продуман на Кавказе. «Окончательно» созрели образы этой «восточной повести». Заоблачно-романтическая испанская поэма была «приземлена» на Кавказе со всеми вытекающими из этого последствиями. Но это не все — задуман цикл рассказов, который будет объединен одним заглавием: «Герой нашего времени». Первый рассказ — «Тамань» — уже, по существу, написан — он весь в голове. Остается только изложить его на бумаге. Поэту с большой буквы, артисту, чей талант был на пути к полному расцвету. Но стоило поэту вернуться к обыденной жизни, как он снова менялся, будто по мановению волшебной палочки: снова перед всеми представал беззаботный кутила, веселый и дерзкий гусар.
О послекавказском периоде Лермонтова Шан-Гирей вспоминает: «Литературная деятельность его увеличилась. Он писал много мелких лирических стихотворений… Начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении». И еще: «У него не было чрезмерного авторского самолюбия; он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся».
Михаил Лермонтов ехал на север.
Наступил новый, 1838 год.
На милом севере
«Лермонтов был возвращен с Кавказа и, преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было, действительно, где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить всякого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов…» Так писал Андрей Муравьев.
Да, поэта действительно хорошо принимают в столице. Многие стремятся залучить его в свои гостиные. Лермонтова знают не только по стихам «Смерть Поэта». Уже опубликованы его «Песня про купца…» и «Бородино». Сам Василий Жуковский желает познакомиться с поэтом. Встречает его радушно, дарит ему свою книгу, интересуется творчеством своего молодого собрата.
Лермонтов пишет Марии Лопухиной в Москву: «Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты…» С одной стороны — это льстит молодому человеку, слава, можно сказать, пришла. Но с другой — это его уже тяготит. Чувствуется, что поэт немножко поотвык от столичного общества. Он повидал уже немало, кажется, узнал цену жизни. В это время он все чаще подумывает о том, чтобы бросить военную службу, но его будто отговаривают родственники. К тому же надо ехать в Гродненский полк, расквартированный под Новгородом.
Бабушка, разумеется, в Петербурге. Ее ненаглядный Мишенька еще не прощен полностью. Надо бы вернуть его в прежний лейб-гвардии Гусарский полк. Неужели она не может, не в силах добиться этого? Елизавета Алексеевна неутомима, когда дело касается ее питомца. Она навещает то одного, то другого вельможу. Просит о полном прощении внука. Надо во что бы то ни стало вызволить молодого человека из Гродненского полка. Уж лучше в Царское Село, поближе к Петербургу!
Михаил Лермонтов наносит прощальные визиты друзьям. Часто бывает у Краевского. Оставляет ему свои рукописи: одни — для печати, другие — на хранение. Дарит ему картины, писанные на Кавказе. И вот в конце февраля появляется в полку. Представляется князю Багратиону и приступает к службе. Однако длилась сия служба не более полутора месяцев.
В первый же день поэт приглашен на обед братьями Безобразовыми. И полковая жизнь потекла по руслу, к которому гусарам было не привыкать.
Однако и время берет свое; и это уже не то беззаботное, мальчишеское времяпрепровождение, которым славился Лермонтов еще год назад. Что-то новое, доселе не бывшее, проступило на его челе, и тайная забота в сердце его.
«В обществе наших полковых дам Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу Сталь фон Гольштейн, обыкновенно садился в угол и молча прислушивался к пению и шуткам собравшегося общества». Так свидетельствовали очевидцы. Здесь удивляться нечему. Я бы только спросил: а прислушивался ли Лермонтов вообще к пению и шуткам? Не был ли он мысленно далеко отсюда? Где-нибудь в Шелкозаводске, где встречал девушку, похожую на Бэлу, или юношу Азамата? Или в Кубе́, где подымал восстание сторонник Шамиля Иса-бек? Или на Военно-Грузинской дороге, где беседовал с будущими Печориным или Грушницким? И он с полным правом мог сказать ныне то, что скажет четыре года спустя: «Когда порой я на тебя смотрю, в твои глаза вникая долгим взором: таинственным я занят разговором, но не с тобой я сердцем говорю…»
Процесс творчества — сложнейший процесс. Он начинается задолго до того, как поэт садится за стол. Никто не проник еще в тайну его, подобно тому хотя бы, как проникли в тайну атома. След расщепляющегося ядра можно сфотографировать даже. А след мысли? А извивы ее? А напряжение ума?
Если прежде знакомые поэта говорили, что не всегда и не совсем понимают его, то теперь они еще чаще будут теряться в догадках.
«В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием…» Эти слова принадлежат Шан-Гирею и заслуживают полного доверия. Мы знаем, что в кругу друзей Лермонтов был «другим» человеком. А в часы творческой работы — и вовсе иной. Я думаю, что работа над романом «Герой нашего времени» отнимала у него много душевных сил.
Лермонтов вкладывал в свою прозу весь свой кавказский опыт и кавказские впечатления. Проза его скупа по объему и могуча образами и характерами действующих лиц. Много в ней автобиографического. Если угодно, сам Печорин во многом похож на Лермонтова. Этому вопросу в литературоведении посвящена не одна статья. Юлий Айхенвальд, например, считал, что «в Печорине много Лермонтова, много автобиографии». Это на самом деле так. Литератор очень часто придает своему герою черты своего собственного характера. Но это не значит, что герой аутентичен автору. Сам Лермонтов подчеркивал в предисловии к «Герою», говоря о Печорине, что «это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Писатель, разумеется, отдает частицу своей души своему герою. Но полностью отождествлять литературного героя и автора, как правило, нельзя…
Как-то в 1936 году я встретил в Сухуми Александра Фадеева. Я спросил: «Отдыхаете?» Он ответил: «Вроде бы. Но разве уважающий себя литератор выключается от работы, даже на отдыхе? Голова забита, — заключил он, смеясь, — различными литературными делами и мыслями».
Если это верно применительно к серьезному писателю, то трижды — к Лермонтову.
25 марта 1838 года граф Бенкендорф ходатайствовал перед царем «о прощении корнета Лермонтова». Главная ссылка в этом письме делается на бабушку поэта, которая «в глубокой старости» и которая могла бы «спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни, и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданности Монарху, за оказанное ему благодеяние». Бенкендорф в заключение просит вернуть Лермонтова в прежний лейб-гвардии Гусарский полк.
На соответствующий запрос генерал-фельдцейхмейстер Михаил ответил, что «с своей стороны совершенно согласен».
В результате появился приказ от 9 апреля 1838 года, в котором сказано, что переводится лейб-гвардии Гусарского полка корнет Лермонтов, лейб-гвардии в Гусарский полк». То есть снова в Царское Село.
Скажем прямо, «ветер жизни», о котором говорил некогда Омар Хайям, подул не худшим образом.
Но жизнь есть жизнь, и одно дуновение ветра не все решает. Сложность жизни надо помножить на сложность характера Михаила Лермонтова и только тогда посмотреть и решить, что же получилось… Все ли теперь вернулось на круги своя? Ведь началось все с Царского Села. И вернулось в Царское Село же.
Чтобы «вернулось все» — и действительно вернулось, — должна была остановиться сама жизнь. Но поскольку она течет подобно реке и меняется не то чтобы каждый день, но и каждый час — стало быть, ничего не могло снова вернуться на круги своя. Ибо так никогда не бывает.
Но внешне, но только для глаз — все стало так, как было до февраля 1837 года.
Мы скоро увидим, что сталось с той самой нитью жизни, которую неустанно прядут греческие богини. Сколь долговечна она, сколь постоянна и прочна.
«Когда огонь кипит в крови…»
Михаил Лермонтов прибыл в свой прежний полк — лейб-гвардии Гусарский — 14 мая 1838 года. До этого он, если верить рапорту, — болел. Во всяком случае весною его видели — и довольно часто — в Петербурге. Муравьев пишет: «Песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары».
Михаил Лонгинов не очень-то высокого мнения о Лермонтове-служаке. С некоторым злорадством пишет он о нерадивости Лермонтова-офицера. Стоит здесь привести несколько строк воспоминаний Лонгинова, хорошо знавшего Лермонтова. «Лермонтов был очень плохой служака, — пишет он, — в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обмундировании и исполнений обязанностей тогдашнего гвардейского офицера». Оказывается, Лермонтов частенько сиживал в Царском Селе на гауптвахте. «Такая нерадивость… — продолжает вполне серьезно Лонгинов, — не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему…»
Но дело, по-видимому, коренилось не только в «нерадивости». Следует отметить, что у Лермонтова и Столыпина в Царском Селе собирались молодые офицеры, на которых поэт и его родственник «имели большое влияние». «Влияние их действительно нельзя было отрицать, — продолжает Лонгинов, — очевидно, что молодежь не могла не уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо, как оракул». Оказывается, великий князь Михаил грозился, что «разорит это гнездо», то есть уничтожит эти «сходки в доме», где жили поэт и Столыпин. Можно представить себе эти «сходки», на которых верховодил Лермонтов, автор «Смерти Поэта», поклонник Пушкина и Байрона! Разумеется, на этих «сходках» говорили не только о гусарской службе и радении на парадировках.
Прошу обратить внимание на следующее: Лермонтов почти неразлучен со Столыпиным-Монго. Монго дважды был секундантом на дуэлях поэта. Следовательно, дважды ничего не сделал для того, чтобы удержать любимого друга от смертельной опасности.
Вы, конечно, знаете о пылкой юношеской любви Лермонтова к Вареньке Лопухиной. Он очень любил ее.
Летом 1838 года она с мужем выехала за границу. И была проездом в Петербурге. Варенька дала знать о себе Шан-Гирею, который тотчас же известил об этом Лермонтова. На сей раз поэт оказался именно в Царском Селе. Как нарочно!
Сам Шан-Гирей поскакал к Вареньке и описал встречу с нею: «Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки!..»
Итак, Беатриче прибыла в Петербург. Гонец скачет в Царское Село за поэтом. Шан-Гирей ведет с нею ничего не значащую беседу. И ждет Лермонтова.
Но где же поэт? Почему не мчится он сюда на своей великолепной лошади? Почему мешкает? Кто сможет ответить на эти вопросы? Может быть, его не смогли отыскать? Не отпустило начальство? Или был сердит на нее, на милую Вареньку, вышедшую замуж за другого? Непонятно. Свидание, как видно, не состоялось. Но спустя два года он посвятит ей свое знаменитое произведение «Валерик».
Шан-Гирей с горечью пишет: «Это была наша последняя встреча; ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго, и скончалась, говорят, покойно, лет десять тому назад» (Висковатов установил дату кончины Вареньки — 1851 год).
Она уехала за границу. Но что теперь могла дать одна встреча с Бахметевой, урожденной Лопухиной? Радость? Разочарование? Для чего? Во имя чего? В «Валерике» поэт не может скрыть своей обиды. Но на кого обида? Он говорит: «Я к вам пишу случайно: право, не знаю как и для чего».
Наверное, не знал он и в тот весенний петербургский день, «для чего» нужна эта встреча с Варенькой. Не знал. Потому и не приехал…
А может, он все-таки увидел ее? Кто знает…
Менее драматично завершилось его «светское» увлечение Екатериной Сушковой. Она выходила замуж, и Лермонтов решил присутствовать на ее свадьбе, хотя, кажется, и не был приглашен. Историк Михаил Семевский передает со слов Сушковой (в замужестве Хвостовой), что Лермонтов в церкви плакал. Как ей казалось, от досады. Но вот Шан-Гирей, который тоже присутствовал в церкви, утверждает, что он был «напротив, в весьма веселом настроении». А в доме жениха, говорят, поэт рассыпал соль из солонки на пол и сказал: «Пусть новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь». Разумеется, это была всего лишь веселая «шалость».
С этого дня Лермонтов был совершенно «свободен».
Всего под несколькими стихотворениями Лермонтова стоит дата «1838». Правда, среди них такие, как «Поэт» и «Дума». Помните? «Отделкой золотой блистает мой кинжал: клинок надежный, без порока; булат его хранит таинственный закал — наследье бранного востока…» А это? «Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее — иль пусто иль темно…»
В следующем году написал он «Беглец» (Горская легенда). Легенд на Кавказе — множество. Так какую же легенду выбрал Михаил Лермонтов?
«Гарун бежал быстрее лани, быстрей, чем заяц от орла». Гарун оставил поле битвы. Он трусливо бежал, а отец его и братья пали в бою, как герои. «Я твой Гарун! твой младший сын; сквозь пули русские безвредно пришел к тебе…» — так говорит Гарун матери. Но труса мать не пускает домой: «Ты раб и трус — и мне не сын!..» Тот, кто изменил своему долгу, — не достоин ни жалости, ни тем более — любви. Даже материнской. И Гарун погиб. Он кончил свою жизнь ударом кинжала под окнами отчего дома. «И тень его в горах востока поныне бродит в тёмну ночь…»
В этой мужественной и высокой кавказской поэме с большой силой раскрыта нравственная сила горской души. Так живописал Лермонтов тех, против кого восстанавливала его царская власть. Нет, поэт знал, что писал!
Но это была всего лишь зримая часть работы поэта. Он думал над своим романом, над произведением, которому было суждено открыть новую эру в русской прозе. «Героя нашего времени» писать было и легко, и неимоверно трудно. Легко, потому что он как бы видел перед собой жизнь, которую собирался описать. Он прекрасно «знал» Бэлу, Казбича, Азамата, Максима Максимыча, Вулича, таманских контрабандистов, Веру, Мэри и, наконец, самого Печорина. Он гулял с ними на водах, встречался на станциях в предгорьях и горах Кавказа, пил воду вместе с ними в Пятигорске, Кисловодске и Железноводске. Знал всю их подноготную. Однако историческая задача, которую поставила перед ним сама жизнь, требовала особой прозы, особой психологической глубины. Лермонтову уже нельзя было писать даже так, как Пушкину. Где же в противном случае оказалась бы художественная самостоятельность? Нельзя было еще и по той причине, что Печорин рисовался слишком сложным человеком. Кто бы смог описать его знакомым слогом романов начала девятнадцатого века, когда еще не были изжиты литературные традиции прошлого столетия? Прав был Борис Эйхенбаум, когда писал, что «после «Героя нашего времени» становится возможным русский психологический роман…» И еще: «Нужно было подвести итог классическому периоду русской поэзии и подготовить переход к созданию новой прозы. Этого требовала история — и это было сделано Лермонтовым».
Лермонтов работал в 1838 году очень много. И не мог не работать. Наивно думать, что такое произведение, которым будут зачитываться даже спустя полтора века, писалось просто так, между делом и от нечего делать. И мог ли человек, создавший этот роман, оставаться ровным, спокойным и не гореть? Нет, разумеется. Отсюда и те «странности» характера, которые отмечают многие его друзья. Попробуйте не быть странным, оставаться всегда «самим собою» и писать «Героя нашего времени»…
Но не только «Герой нашего времени». Одновременно Лермонтов переделывал (уже в который раз!) своего «Демона». Это, несомненно, было его любимое детище. Вот уже восемь лет не давало оно ему покоя. Поэт хотел, чтобы поэма зажила полной жизнью. Требовалось вдохнуть в нее именно жизнь. Что поэт и делал с величайшей настойчивостью и беспримерным мастерством. Он сближал небо с землею. И это сближение должно было быть убедительным, зримым и прекрасным.
Лермонтов уверенно шел к литературной вершине. Преодолевая трудности, словно в горах при восхождении. Буйно кипела молодая кровь, а на лбу уже обозначились морщины много пожившего и много передумавшего человека.
И Лермонтов продолжал много трудиться над своими произведениями, он живет полной жизнью. Может быть, слишком полной. Но что делать? Уж таков он был, и едва ли кто-либо смог изменить его.
И все это время Лермонтова тревожит судьба опального Раевского. Лермонтов уже дома, в Петербурге, а Святослав все еще в ссылке! «Я слышал здесь, — пишет Лермонтов своему другу, — что ты просился к водам, и что просьба препровождена к военному министру, но резолюции не знаю…» Лермонтов просто не знал, что примерно за неделю до его письма Раевскому разрешили приехать в Петербург, чтобы мог он направиться затем «к водам морским в Эстляндии».
Лермонтов сообщает Раевскому, что роман, который они вместе начали писать — «Княгиня Лиговская», — затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства… переменились… «Писать не пишу, — заявляет он, — печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». «Ученье и манёвры производят только усталость…»
Действительно, Лермонтов все еще мало печатается. Все еще не торопится. Что значит — «хлопотно»? Завезти рукопись к Краевскому — хлопотно? Признаться, не совсем ясен смысл этого заявления.
Михаил Лермонтов посещает литературные салоны, бывает на вечерах, где собираются любители русской словесности. И, разумеется, вовсе не чурается «большого света». Он не упускает ни малейшей возможности, чтобы побывать на светских приемах. И чем значительней он, прием этот, тем охотнее появляется на нем Лермонтов. Хотя прекрасно знает цену «большому свету», хотя настроен он весьма критически ко всей этой чванливой публике.
Я хочу еще раз привести описание наружности поэта, относящееся к этому периоду. Сделано оно Иваном Панаевым: «Наружность Лермонтова была очень замечательна. Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго».
Я буду и дальше приводить воспоминания современников поэта. Их можно было бы избежать, если бы достались нам хотя бы не очень четкие дагерротипы. К сожалению, фотография в то время только-только зарождалась и, кажется, не шла далее отдельных, хотя и удачных, опытов.
Панаев приводит в своих воспоминаниях такой случай: «Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда».
О глазах, о тяжелом взгляде поэта писали многие. Не думаю, чтобы приятель Панаева М. А. Языков (не путать с поэтом Н. М. Языковым) очень уж заинтересовал Лермонтова, притом настолько, что последний буквально не спускал с того глаз. Не вернее ли предположить, что поэт думал о своем и что «на пути его взгляда» случайно оказался Языков? Мне кажется, что от человека, который задумывал «Героя нашего времени», можно ожидать и не таких еще «странностей». Правда, я не считаю, что великие писатели должны непременно проявлять какую-либо «странность». Но разве углубиться в самого себя, в свои мысли даже на людях — такая уж это странность? Очень хорошо сказал о людях гениальных Сомерсет Моэм. Их он считал вполне нормальными, а всех прочих — отклонением от нормы.
Лермонтов писал Марии Лопухиной: «Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга… Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом».
Поэт, казалось бы, на вершине славы. Он желанный гость даже там, куда его прежде не пускали. Тщеславие и самолюбие вполне удовлетворены. Лермонтов пишет совершенно откровенно об этом: «…Потому что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы». Что же дальше? Может быть, так и плыть по этому «большому» течению светской жизни? К счастью, поэт этого не думает. Он недвусмысленно признается: «Я начинаю находить все это несносным». Ему снова хочется на Кавказ. Но на Кавказ, говорит поэт, не разрешили. «Не хотят даже, чтобы меня убили».
Как бы тесно ни был связан Лермонтов со «светским» обществом, с дворянством, которое в общем верховодило в этом обществе, поэт чувствует свое отчуждение. Он все-таки воитель, он все-таки непримирим с «жадною толпой, стоящею у трона». Как бы тесно ни связывала их общая пуповина — поэт не может найти общего языка с этими людьми, заполняющими великосветские салоны. Он угрюм, он нелюдим, у него дурной характер, он несносен… Но все это имеет прямое отношение только к его врагам, с которыми нет у него общих идеалов. И, наверное, никогда не будет, ибо чем дальше, тем «несноснее» становился характер поэта.
Краевский редактировал «Отечественные записки». С ним очень хорошо был знаком Михаил Лермонтов. Краевский первым напечатал поэта, сохранил многие его рукописи, рисунки и даже некоторые вещи, подаренные ему поэтом. (Я мельком уже говорил об этом.) Он достоин того, чтобы сказать о нем доброе слово, памятуя, что без хорошего, умного издателя писатель едва ли многого стоит. Особенно в наше время. Может быть, это сказано слишком сильно, но надеюсь, мои коллеги поймут меня.
Лермонтов — частый гость в кабинете Краевского. Он привозит сюда новые стихи. Он увозит отсюда новые, только что вышедшие книжки «Отечественных записок». В этом журнале принимали деятельное участие сам Белинский и многие видные литераторы того времени.
Панаев оставил нам описание одного случая. Случай этот очень любопытен. С одной стороны, он свидетельствует о творческой силе поэта, с другой — о мудрости его редактора. Я понимаю, что и то и другое имеет свои границы, но тем не менее…
Однажды утром заехал Лермонтов к Краевскому и привез ему новое стихотворение, которое начинается словами: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно…» Я думаю, что многие знают наизусть это удивительнейшее произведение русской поэзии. Оно свидетельствует о гениальности его автора, а также о величайших возможностях русского языка. Это стихотворение нельзя постигнуть только разумом. Восприятие его должно идти и через сердце. Оно входит через вашу душу. И, не осознав еще полностью его великолепия и глубины, вы уже пьяны им и оно уже навсегда с вами. Таковы эти удивительные стихи.
Лермонтов прочел стихотворение Краевскому. Оно слишком лаконично, чтобы не привести его полностью. «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно. Как полны их звуки безумством желанья! В них слезы разлуки, в них трепет свиданья. Не встретит ответа средь шума мирского из пламя и света рожденное слово; но в храме, средь боя и где я ни буду, услышав, его я узнаю повсюду. Не кончив молитвы, на звук тот отвечу, и брошусь из битвы ему я навстречу». Вот и все!
Лермонтов будто бы прочитал и ждал, что же скажет Краевский. И спросил нетерпеливо:
— Ну что, годится?..
— Еще бы! Дивная вещь.
Так ответил Краевский. Но у него было замечание. Всего одно: почему «из пламя и света», когда надо бы из «пламени и света»? Согласно грамматике.
Лермонтов задумался. Сел в сторонке. Взял перо. Но так ничего и не придумал. И сказал:
— Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…
И Краевский напечатал. И представьте себе; сошло-таки с рук!
Лермонтов в редакции «Отечественных записок» встречается с Белинским. И не раз. А познакомились они еще на Кавказе, в Пятигорске, у Н. М. Сатина. Это было в 1837 году.
Однако Виссарион Григорьевич так и не раскусил тогда Лермонтова. И это просто удивительно. Не потому не раскусил, что плохо разбирался в людях, а потому, что Лермонтов претерпевал удивительные метаморфозы на пути от письменного стола к собеседнику.
Панаев пишет, что «Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило…»
Белинский становился в тупик.
— Он, кажется, нарочно щеголяет светскою пустотою, — говорил великий критик.
О Лермонтове не только судачат в петербургских салонах. Его хорошо знают литераторы. Его рукописные стихи читают студенты и разночинцы. Слава поэта идет по столице и выходит далеко за ее пределы. Разносят ее умные и просвещенные люди.
Василий Жуковский едет по железной дороге из Царского Села в Петербург с Виельгорским и читает по дороге «Демона» (еще неизданного). Записывает в своем дневнике: «5 ноября 1839, воскресенье. Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов». Панаев замечает: «Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями».
Да, верно, принадлежал к высшему обществу.
И не принадлежал.
«…Великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царскосельской китайской деревни царскосельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков (лейб-гусарского и кирасирского), в отплату за праздники, которые эти кавалеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался».
Так пишет уже знакомый нам Лонгинов. И этот холодный, «беспристрастный» тон в его словах мне вполне понятен, если учесть, что именно Лонгинову принадлежит фраза: «Лермонтов был очень плохой служака». (Мы ее уже приводили.)
Но вот в декабре 1839 года его императорское величество отдает такой приказ: из корнетов — в поручики Лермонтова. И это за «ревность и прилежание» в службе.
Так кто же все-таки прав: Николай I или Лонгинов? Во всяком случае, ясно одно: первый живой поэт России Михаил Юрьевич Лермонтов наконец-то удостоен чина поручика.
А великий поэтический «чин»? Как же быть с ним? Это ему просто припомнят, когда снова сошлют в ссылку. Еще раз на Кавказ. В самую войну. Где черкесская пуля грозила сразить в зарослях кавказского предгорья…
Иван Сергеевич Тургенев знал Лермонтова. Сохранилось описание внешности поэта, принадлежащее его перу. Его нельзя не привести — столь оно выразительно и относится к тому периоду в жизни поэта, который мы сейчас рассматриваем. Вот оно, это описание:
«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий… Внутренно Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза…»
Все это понятно, ибо речь идет не просто о гусарском офицере, но о поэте знаменитом. Это ему, поэту, не давали покоя пискливые маски.
Тургенев предположил, что, видимо, именно в эту минуту поэт задумывал свои поэтические произведения. В то время, когда ему не давали покоя. Когда казалось, что он особенно нелюдим и угрюм.
Евгений Баратынский расценил эти черты характера по-своему. «Что-то нерадушное, московское», — отметил он. «Человек без сомнения с большим талантом». Эти слова тоже принадлежат Баратынскому, поэту, другу Пушкина.
Лермонтов влюбляется в княгиню Марию Алексеевну Щербатову, урожденную Штерич. И не мудрено: красивая украинка могла пленить хоть кого. Об этом увлечении поэта по столице ходили даже анекдоты. Не удивительно: и Лермонтов и Щербатова слишком были на виду.
Поэт посвятил ей одно из своих замечательных стихотворений. Оно начинается так: «На светские цепи, на блеск утомительный бала цветущие степи Украйны она променяла…»
Насколько мне известно, Щербатова была последней любовью Лермонтова на милом севере. А может быть, по силе чувства — последней вообще.
Будучи на Кавказе, Лермонтов прислал свои стихи Краевскому. В 1837 году было напечатано стихотворение «Бородино». В 1838 году в условиях беспрерывных странствий по горам и долам Лермонтов окончательно обработал «Песню о купце…», которая была напечатана только после вмешательства Жуковского за подписью «— въ». Висковатов пишет по этому поводу: «Гр. Уваров, гонитель Пушкина, оказался на этот раз добрее к преемнику его таланта и славы… Все-таки разрешил печатание».
Когда же Краевский стал редактировать «Отечественные записки», выход которых возобновился 1 января 1839 года, Лермонтов сделался одним из активных авторов. В них он напечатал все свои основные прозаические произведения. Во второй и четвертой книжках появились «Бэла» и «Фаталист». Печатая «Фаталиста», «Отечественные записки» сообщали от себя: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе».
Вскоре к великим прозаическим творениям Гоголя и Пушкина присоединился «Герой нашего времени». Русская проза решительно продвинулась вперед, обретя большую психологическую глубину и утонченность.
Лермонтов столь же велик в прозе, сколь и в поэзии. Юрий Барабаш пишет: «Именно с Лермонтовым связано зарождение в русской литературе того направления, того течения, которое я условно назвал бы «неэвклидовым» и которое представлено Гоголем и Достоевским, я имею в виду лермонтовский напряженнейший драматизм, трагические противоречия, если угодно — даже изломы души, его огромную тягу к гармонии, цельности, чистоте (вспомните «Когда волнуется желтеющая нива…») и, вместе с тем, несомненную дисгармоничность его художественного и нравственного мира…»
Наряду с прозой, точнее, вместе с прозой, Лермонтов публиковал и стихи. Почти регулярно. О «Думе», написанной в это время, Белинский сказал следующее: «И кто же из людей нового поколения не найдет в нем разгадки собственного уныния, душевной апатии, пустоты внутренней и не откликнется на него своим воплем, своим стоном?» Это замечательная оценка! Есть еще одна оценка лермонтовской поэзии, данная Фридрихом Боденштедтом. Трудно пройти мимо нее, и я хочу привести ее здесь, хотя к автору ее мы еще вернемся. Вот она: «…Неопределенные теории и мечтания были ему совершенно чужды; куда ни обращал он взор(а), к небу ли, или к аду, он всегда отыскивал прежде твердую точку опоры на земле…» Боденштедт знал Лермонтова при жизни, хорошо понимал его поэзию и его поэтическую натуру.
Если до 1838–1839 годов Лермонтова сравнительно мало еще знала читающая публика, то после этих двух лет она близко познакомилась с ним по журнальным публикациям в пушкинском «Современнике» и «Отечественных записках».
Великолепным посредником в этом благородном деле был Краевский.
Стихи и проза поэта уже попадали в руки читателя. Конечно, мы должны ясно представить себе масштабы тех времен, когда тираж в несколько тысяч экземпляров считался вполне приличным, и тем не менее в России очень был велик интерес к поэзии. И самыми различными каналами, — среди которых важной была изустная информация, — сведения о поэтах и их произведениях проникали к широким слоям «читающей публики».
Я полагаю, что при всем критическом самоанализе Лермонтов хорошо понимал, кто он в русской поэзии. Он не мог не понимать. Отношение к нему Гоголя, Жуковского, Белинского и многих других корифеев русской литературы не должно было оставить в душе поэта никакого сомнения. Мне кажется, такие слова, как «преемник славы Пушкина», Лермонтов мог слышать не раз.
Стало быть, говоря по-нынешнему, ответственность его перед самим собой, перед собственным творчеством должна была повыситься. Я это в том смысле, что такой человек чуточку, — хотя бы чуточку, — должен поберечь себя ради любимого дела, ради родной литературы. Однако Лермонтов был слишком самим собой, чтобы беречь себя. Чего не было — того не было! Мы с вами сию минуту явимся свидетелями того, как слава поэтическая ничуть не сдержала взрывчатый характер и поведение поэта. Все осталось по-прежнему.
Муза в ответственные минуты «бытовых» перипетий слишком удалялась от Лермонтова.
Первая дуэль
Что такое дуэль?
Двое недовольных друг другом мужчин берут в руки кухенрейтеры и становятся у «барьеров». «Барьеры» могут быть на расстоянии десяти или пятнадцати шагов. По команде секундантов целят друг в друга и — стреляют. «Когда рассеется дым» — будет виден результат дуэли: кто убит, кто ранен или промахнулись оба… Особо жесткие условия дуэли описаны в «Герое нашего времени». Я напомню о них. Печорин говорит Грушницкому и его секундантам: «Каждый из нас станет на самом краю площадки; таким образом даже легкая рана будет смертельна: это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили шесть шагов». Итак, даже не десять, а шесть шагов! Расстояние, по-видимому, зависело от ожесточения противников.
Но дрались не только «на пистолетах». А шпаги? А сабли? Они тоже были в ходу. И достались они в наследство от времен д'артаньяновских. Если не ошибаюсь, именно от удара шпаги погиб на дуэли знаменитый французский математик Эварист Галуа. Это случилось с ним в двадцать один год. Все основные свои открытия он успел сформулировать в письме к другу за несколько часов до гибели…
В то время, которого касается наш рассказ, дуэли в России официально были запрещены. И тем не менее неугомонные и горячие головы продолжали стреляться и колоться. Приятно смотреть на подобное зрелище в кинотеатрах или читать у Дюма, но в жизни это, несомненно, было одной из форм изуверства и «законного» убийства. Мне грустно оттого, что приходится рассказывать о дуэли, в которой принял участие великий Лермонтов.
Дело обстояло так.
16 февраля 1840 года на балу у графини Лаваль произошло объяснение между Лермонтовым и сыном французского посланника в Петербурге Эрнестом де Барантом. Будто бы они оба ухаживали за графиней Щербатовой, причем счастье, кажется, повернулось лицом к Лермонтову. Молодая вдова благоволила к поэту. Особенно на балу у графини Лаваль. И это взорвало Баранта. Шан-Гирей пишет об этом так: «…Он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена».
Лермонтов не раздумывая отвечает французу (по словам Шан-Гирея):
— Это ничего не значит, я весь к вашим услугам.
Сам Лермонтов объясняет ссору в письме генерал-майору Плаутину таким образом: «…Господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такою же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались».
Лермонтов, несомненно, понимал истинную подоплеку дуэли. Он знал, что отец этого Баранта (обратите внимание — тоже посол!) выяснял в свое время, кого имел в виду Лермонтов в стихотворении на «Смерть Поэта» — одного ли Дантеса или «французов вообще». Лермонтов все это понимал и горячо выступил в защиту русской национальной чести. Он и не мог тут отступать.
Это случилось в среду. В четверг встретились секунданты. А в воскресенье дрались за Черной речкой.
Имеются материалы военно-судного дела, показания Лермонтова и Столыпина. Столыпин-Монго сообщал графу Бенкендорфу: «Несколько времени перед сим, л. г. гусарского полка поручик Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему, он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль кончилась без всяких последствий».
Существует версия, что будто бы были приняты все меры для примирения дуэлянтов, но безрезультатно.
Какие же это меры? Кто принимал? Все это глухо доносится из мглы полутора столетий.
Что же касается «последствий» дуэли — они все-таки были: именно после дуэли Лермонтов снова оказался на Кавказе. Он уехал туда в ссылку, навстречу своей смерти.
Лермонтов прямо с Черной речки приехал к Краевскому. В воскресенье 18 февраля. Показал царапину. Панаев вспоминает: «Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский».
А что было за Черной речкой?
Лермонтова и Столыпина-Монго встретили Барант с его секундантом графом Раулем д'Англес. Положили драться на рапирах. «Дело» шло вяло. Наконец француз оцарапал Лермонтова ниже локтя. «Монго продрог и бесился». Стояли по колено в мокром снегу. Лермонтов попал острием в рукоятку рапиры Баранта, и рапира сломалась. Тогда принялись за пистолеты, поскольку один из дуэлянтов оказался безоружным. «Тот выстрелил и дал промах, — весело рассказывал Лермонтов Шан-Гирею, — я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались, вот и всё».
А если бы «не дал промаха»? Ведь бывало же и так? Например, 15 июля 1841 года…
Словом, Лермонтова арестовали. Содержался он в ордонанс-гаузе на Садовой улице. Кстати, это было недалеко от его квартиры.
18 апреля Александра Смирнова пишет Жуковскому: «Знаете ли вы, что Лермонтов сидит под арестом за свою дурацкую болтовню и неосторожность?.. до сих пор, еще дела его плохи… Софья Николаевна за него горой и до слез, разумеется». (Софья Николаевна Карамзина, дочь известного историка.)
Бабушка на ту пору была больна. Своим поступком Лермонтов явно не содействовал ее поправке.
В ордонанс-гауз никого не пускали — тюрьма все-таки. Но Елизавета Алексеевна добилась, чтобы разрешили Шан-Гирею навещать ее внука. Арестант не падал духом, читал стихи — например Шенье, Гейне и других, — играл в шахматы. Писал и сам стихи. Шан-Гирей указывает, что «Соседка» верно передает тюремную обстановку. На самом деле была соседка — дочь, притом хорошенькая, унтер-офицера. Лермонтов переговаривался с нею через решетку.
Именно в ордонанс-гаузе на Садовой произошла встреча с Белинским. Знаменитый критик навестил любимого поэта. Из сердца его до сих пор не испарился неприятный осадок от первой встречи с Лермонтовым в Пятигорске.
Чего ждал от этой встречи Белинский? Была ли это с его стороны простая вежливость? Или не мог он не повидать человека в беде, человека, чей талант был нужен русской литературе?
Опасался ли Белинский, что и на этот раз испытает чувство неудовлетворенности от встречи с Лермонтовым? Трудно сказать. Скорее всего, что да. Но не пойти он не мог, ибо Лермонтов был надеждой — великой надеждой — русской литературы!
Словом, Белинский проник к Лермонтову. Вернувшись, он рассказывал Панаеву:
— Думаю себе: ну, зачем меня принесла к нему нелегкая?.. Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтере Скотте… Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою… В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера Скотта к Куперу… Боже мой! Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему…
Вот вам не какое-нибудь там царское или генеральское мнение о Лермонтове, но мнение самого Белинского. Можно ли сказать о человеке лучше и тоньше! Надо ли приводить еще какие-либо свидетельства о Лермонтове-человеке?!
Лермонтову в это время шел двадцать шестой год, а Белинскому было всего тридцать!
Лермонтов все еще сидел в ордонанс-гаузе. Бабушка болела, и болезнь ее усугубилась тревогою за судьбу внука. Шан-Гирей по-прежнему навещал Лермонтова, шахматные игры продолжались. Хотя бабушка и лежала, но тем не менее через своих знакомых делала все возможное для Михаила.
Военно-судное дело к весне закончилось и воспоследовало высочайшее решение: поручика Лермонтова сослать на Кавказ с переводом в армейский полк.
Что это значило? Изгнание — раз, тяготы армейской жизни плюс фронтовая обстановка плюс горские пули — два. Довольно суровое наказание для первого живого поэта России, только недавно вернувшегося из ссылки. А ведь современники писали: «Дуэль не имела дурных последствий». Может быть, эту главу можно было бы назвать так: «Первая и последняя дуэль»? Но мы-то знаем, что была и вторая. Последняя. И умер Лермонтов вовсе не от «черкесской пули», как ему многие пророчили. Смертоносная рука оказалась ближе — в собственном стане!
Жизнь поэта текла своим чередом, и слава его неслась и жила — своим. В этом одна замечательная особенность настоящей поэзии: человек умирает, но песни его остаются и живут.
Весною сорокового года в печати появились новые стихи Михаила Лермонтова, а главное — вышли первым изданием его «Повести». Они имели огромный успех: Лермонтов вознесся на самую высокую вершину литературного признания.
Как всегда, немедленно откликнулся Белинский. Он писал своему другу Василию Боткину: «Вышли повести Лермонтова. Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь… О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит «Онегина».
В другом месте Белинский пишет о Лермонтове тому же Боткину: «Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати, дуэль его — просто вздор. Барант (салонный Хлестаков) слегка царапнул его по руке… Хочет проситься на Кавказ… Эта русская разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его…»
Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени» было дано 19 февраля 1840 года. А поступила книга (первое издание) в продажу 3 мая. По еще до отъезда в Москву Лермонтов разослал своим друзьям свою книгу с надписями. Эти экземпляры, как видно, были авторские. А иначе он их не мог послать до 3 мая.
Белинский немедленно откликнулся на выход романа в свет. Он не мог не откликнуться. Не мог помедлить: не тот характер! И со всей страстью, всем пылом своей души великий критик выносит для всеобщего сведения свое суждение, которое навсегда останется образцом пристрастной объективности, образцом истины, если вообще можно говорить об истинах в литературе. «Наконец, среди бледных и эфемерных произведений русской литературы нынешнего года, — пишет Белинский, — произведений, из которых только разве некоторые имеют относительное достоинство, и только некоторые примечательные в отрицательном смысле, — наконец явилось поэтическое создание, дышащее свежею, юною, роскошною жизнью сильного и самобытного творческого таланта». Сказано точно и, несомненно, с учетом перспективы развития русской прозы. Далекой перспективы. Насколько хватал человеческий глаз. Это было сказано в «Отечественных записках». В 1840 году. И критик, полагая, что речь только-только началась о «Герое нашего времени», обещает читателю: «в отделении «критики» одной из следующих книжек «Отечественных записок» читатели найдут подробный разбор поэтического создания г. Лермонтова». Критик сдержал свое слово, и теперь мы не мыслим исследования творчества Лермонтова без статей Белинского. Воистину великая критика, достойная великого поэта!
Творчество Лермонтова — по форме, по сути самой, по подходу к явлениям общественной жизни — очень близко нам, людям второй половины двадцатого века. Леонид Мартынов в беседе со мной высказал любопытную мысль, которую я сейчас приведу. Он сказал: «Я Лермонтова, как это ни странно, постиг через современную поэзию, через Маяковского конкретно. В школе, как это бывает обычно, во мне росла неприязнь к классикам, которых приходилось учить наизусть. Приобщившись к годам четырнадцати к поэзии Маяковского, я вдруг «обнаружил» Лермонтова. Обнаружив, я полюбил его и его поэзию. Она стала мне близкой, как современная мне поэзия в ее лучших образцах».
Сергей Наровчатов пишет: «Иллюзия смыкается с действительностью, и Лермонтов живет среди нас… Сам я, когда писал эти заметки, почти физически ощущал, что Лермонтов жив и я живу рядом с ним».
Итак, Лермонтов уезжает на Кавказ. Он прощается со своими друзьями. И в первую очередь, разумеется, с Андреем Краевским. А. Панаева вспоминает: «У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз». Но не только. Далее мы читаем: «Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью и веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась».
Примерно в это же время Лермонтов говорит графу Владимиру Сологубу на балу у графа Ивана Воронцова-Дашкова: «Послушай, скажи мне правду, слышишь — правду. Как добрый товарищ, как честный человек… Есть у меня талант или нет?.. говори правду».
Как всякому артисту в высоком смысле этого слова — даже Лермонтову, — нужно было признание, нужна была похвала. Требовалось ему дружеское слово, хотя и сам все прекрасно понимал. Да, и Лермонтов не мог обойтись без такого слова!
Перед своим отъездом из Петербурга поэт заехал проститься к Софье Карамзиной. Здесь были его друзья. Именно здесь, в этом доме, написал он стихи «Тучи». Написал стоя у окна, глядя на тучи. «Тучки небесные, вечные странники! Степью лазурною, цепью жемчужною мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную».
Висковатов, беседовавший с некоторыми участниками этого прощания, пишет: «Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажны от слез… Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома».
Так началась вторая ссылка Лермонтова на Кавказ. Апрельской порою 1840 года.
В Москве проездом на Кавказ
Опять, значит, по «прямой, как палка, дороге». Едет, едет, едет Лермонтов. Не шибко и не медленно. Особенно торопиться некуда. Да и незачем. Лето с каждым днем вступает в свои права. А точнее сказать — весна в полном разгаре, ведь уже конец мая… Тосно, Чудово, Валдай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Клин… Версты идут за верстами… День, ночь, день, ночь… Вот уж показалась Всехсвятская церковь… Скоро Москва…
Ехал по столбовой дороге провинившийся поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. О чем думал он всю дорогу? Какие мысли посещали его? Чему улыбался в полудреме? Об этом мы можем только догадываться. Дневников он не вел. Ни для себя, а тем более — для потомства. Лермонтов жил, чтобы жить. По своему разумению. А не для того, чтобы оставлять «следы» для примечаний и комментариев академических сочинений.
Да, мы не знаем, о чем думал Лермонтов в эти дни. Но есть свидетельство Филиппа Вигеля. Он написал в Симбирск, что видел в Москве Лермонтова. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда». Так якобы сказал поэт Вигелю. Мне кажется, что это близко к истине. А почему бы действительно не поселиться здесь Лермонтову, где он «родился, так много страдал, и там же был слишком счастлив».
Что же делает поэт в Москве?
Навещает родственников, друзей и просто знакомых. Его видят в великосветских салонах, в салонах литературных и просто салонах. И в ресторанах. В Яре, например. Я думаю, что в этом нет ничего особенного для молодого человека, обладающего достатком и вскоре готовящегося покинуть Москву. Покинуть, чтобы оказаться на «диком» Кавказе, где бог знает что может произойти с каждым. Тем более что идет война — нескончаемая, кровавая.
А. Мещерский вспоминает: «Лермонтов преприятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты».
«Вообще в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, прерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами…»
Кто бы ни вспоминал Лермонтова, — в ком живо чувство юмора, — никто не говорит об оскорбительном тоне его речей. Только два-три человека в какой-то мере отмечают его язвительность. Да и те оговариваются, что Лермонтов тут же прекращал колкости и мигом извинялся, если замечал хотя бы подобие обиды на лице своего собеседника. Я хочу обратить особенное внимание именно на эту сторону его характера, ибо события двух-трех последних дней жизни поэта будут связаны с этой его чертой — действительной или выдуманной.
Можете вы представить себе Михаила Лермонтова оскорбляющим честь или достоинство своих друзей или просто собеседников? Того самого Лермонтова — автора «Маскарада», «Думы», «Смерти Поэта», «Героя нашего времени» и так далее, и так далее?
Думаю, что нет…
В Москве Лермонтов присутствовал на именинах Гоголя. Это любопытный момент. Гоголь счел нужным пригласить на обед молодого Лермонтова. Сергей Аксаков пишет в «Истории моего знакомства с Гоголем»: «Приблизился день именин Гоголя, 9-ое мая, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина… На этом обеде… были: И. С. Тургенев, князь П. А. Вяземский, Лермонтов, М. Ф. Орлов, М. А. Дмитриев, Загоскин, профессора Арамфельд и Редкин и многие другие… Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри», и читал, говорят, прекрасно…»
А вот еще одно свидетельство, касающееся тех же именин. Оно принадлежит Юрию Самарину: «Я увидел его… на обеде у Гоголя… Это было после его дуэли с Барантом… Он узнал меня, обрадовался… Тут он читал свои стихи… Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление…»
Вот каким воспринимали его умные и проницательные люди. Это очень важное для нас обстоятельство. Его мы должны будем принять во внимание, когда вплотную подойдем к самому страшному событию в жизни поэта…
Гоголь, как это видно из вышеприведенных свидетельств, не только читал Лермонтова, но и знал его лично. Говорят, что и Пушкин читал Лермонтова, но в глаза не видел. Так же как Лермонтов Пушкина. Висковатов приводит высказывание Владимира Глинки о том, что якобы, прочитав некоторые стихи Лермонтова, Пушкин признал их «блестящими признаками высокого таланта». Белинский вскользь замечает, что Пушкин застал и якобы оценил талант Лермонтова. Все это, может быть, правда, по мы предпочли бы иметь на руках какое-либо письмо Александра Пушкина, адресованное, например, Краевскому.
Бывал в эти дни поэт и в доме Мартыновых в Москве. Имеются воспоминания князя Мещерского, в которых он описывает свою встречу с Лермонтовым в семье Мартыновых. (В это время сам Мартынов был на Кавказе.) Говорят, Мартынов перешел из гвардии в драгуны главным образом из-за великолепной кавалерийской формы. «Я видел Мартынова в этой форме, — пишет князь Мещерский, — она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой…» Это любопытное замечание: «был занят своей красотой…» И это о мужчине, об офицере! И заметьте — ни слова об уме, о духовных способностях. И такое не только у князя Мещерского, но и во всех других воспоминаниях о Мартынове.
Однажды, войдя в гостиную Мартыновых, Мещерский «заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, в весьма нещегольской армейской форме, с красным воротником без всякого шитья». Мещерский признается, что не обратил внимания на «бедненького офицера». Офицер, решил он, попал сюда, в «чуждое ему общество», совершенно случайно… Вечер шел своим чередом. «Я уже было совсем забыл о существовании этого маленького офицера, — продолжает князь Мещерский, — когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был не кто иной, как поэт Лермонтов». Надо отдать должное князю: он умел подмечать самое главное в человеке. И он точно уловил разницу в характере и поведении Лермонтова и Мартынова.
Поскольку о пребывании поэта в Москве весною 1840 года не так уж много свидетельств, остановимся еще на письме публициста Самарина и записи В. В. Боборыкина.
19 июня 1840 года Самарин пишет, что «часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве». Вот его характеристика: «Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и неподдающаяся никакому внешнему влиянию индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, он уже вас насквозь раскусил; он все замечает, его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно».
Это очень важное свидетельство, важное — в смысле своей документальности. Оно сделано не задним числом, не десять или двадцать лет спустя, когда Лермонтов вполне сделался тем, чем останется он в веках. Это впечатление человека моментальное и написанное по горячим следам (19 июня 1840 года).
Трудно удержаться, чтобы не привести еще один отрывок из Самарина. Он пишет: «Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни».
В «Трех встречах с Лермонтовым» Боборыкин говорит: «Не скрою, что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем». А «прошедшее» — это мотовство, «беспутное прожигание жизни», поездки к цыганам и загородные гулянья. «В ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой», — признается Боборыкин.
Даже из этих отрывочных свидетельств о поэте вырисовывается умный человек. Таким его запомнили те, кто встречался с ним в Москве весною 1840 года.
Лермонтов выехал из города очень грустный и, может быть, со смутными предчувствиями надвигающейся беды. Впрочем, предчувствия эти никогда не оставляли поэта. Он побывает еще в любимой Москве. А покамест — на Кавказ.
Мне хочется привести одно примечательное место из «Бэлы». Я имею в виду тот отрывок, где Печорин говорит о своем переводе на Кавказ. Вот он: «…Вскоре перевели меня на Кавказ: это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями, — напрасно: через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что, право, обращал больше внимания на комаров, — и мне стало скучнее прежнего…» Эти строки почти целиком можно отнести к самому Лермонтову.
Поэт прямой дорогой отправился под чеченские пули. Он не заезжал в Тарханы — бабушка оставалась до поры до времени в Петербурге. А что без бабушки Тарханы? 10 июня 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь. Его назначили в Тенгинский полк. Товарищи полагали, что он появится в Анапе. Но дело решилось несколько иначе. М. Федоров пишет в «Походных записках на Кавказе» о Лермонтове: «К нам в полк не явился, а отправился в Чечню, для участия в экспедиции». Так на самом деле и было.
В Ставрополе поэта видел декабрист Николай Лорер. Лермонтов доставил ему из Петербурга письмо и книжку. Любопытно, что даже образованный Лорер мало что знал про Лермонтова. «…Он в то время, — пишет Лорер, — не печатал, кажется, ничего замечательного, и «Герой нашего времени», как и другие его сочинения, вышли позже». Сказать по правде, Лермонтов уже печатал некоторые свои вещи в «Современнике» и «Отечественных записках».
«Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая, и едва ли к середине июня «добрался» он до Ставрополя. А первый сборник стихов Лермонтова вышел только осенью. Поэтому неосведомленность ссыльного декабриста не кажется мне особенно предосудительной. «Из разговора с Лермонтовым, — вспоминает Лорер, — он показался мне холодным, желчным, раздражительным и ненавистником человеческого рода вообще…»
Что, собственно, странного в том, что «казалось» Лореру? Ведь это Лермонтов писал около того времени свою «Благодарность», обращенную к всевышнему: «За все, за все тебя благодарю я: за тайные мучения страстей, за горечь слез, отраву поцелуя, за месть врагов и клевету друзей; за жар души, растраченный в пустыне, за все, чем я обманут в жизни был… Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил». Это он, размышляя о жизни и смерти, писал в «Любви мертвеца»: «Что мне сиянье божьей власти и рай святой? Я перенес земные страсти туда с собой!..» Это он говорил: «И скучно и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды…»
Его мысль залетала слишком высоко. Она парила вместе с Демоном над Кавказским хребтом. Страсти поэта накалялись и обжигали любого, кто прикасался к ним. Но бывало это все-таки в минуты особенные, редкие, я бы сказал. Он невольно продолжал играть ту, другую свою роль. Мало кто видел его в минуты вдохновения, когда он действительно был самим собой, то есть Поэтом. Лорер не был исключением. Не он первый, не он последний…
17 июня 1840 года Лермонтов подает первую весточку о себе с Кавказа. (Первую из дошедших до нас.) В Ставрополе стоит жара. Поэту невмоготу. И он обрывает свое письмо выразительным: «Ужасно устал… Жарко… Уф!»
Письмо адресовано Лопухину. Информация, содержащаяся в этом письме, очень любопытна: «Завтра я еду в действующий отряд, на левый фланг, в Чечню брать пророка Шамиля…» И далее шутливо: «…Надеюсь не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать к тебе по пересылке. Такая каналья этот пророк!» Выясняется, что по дороге в Ставрополь поэт останавливался в Черкасске у генерала Михаила Хомутова, прожил у него три дня и побывал в театре.
«Что за феатр! — восклицает Лермонтов. — Об этом стоит рассказать: смотришь на сцену — и ничего не видишь, ибо перед твоим носом стоят сальные свечи, от которых глаза лопаются; смотришь назад — ничего не видишь, потому что темно; смотришь направо — ничего не видишь, потому что ничего нет; смотришь налево — и видишь в ложе полицмейстера…» В пятнадцати — двадцати строках дана великолепная картина затхлого провинциального театра: ничего лишнего, все точно, все определенно, сжато до предела, очень колоритно. Я бы на примере этого письма учил молодых людей тому, что есть художественная литература и что «краткость — сестра таланта». Лучшего образчика прекрасной прозы и сыскать невозможно!
Итак, Лермонтов отправился под чеченские пули.
Отряд под командованием генерала Аполлона Галафеева вышел из крепости Грозной и направился в Чечню. «Журнал военных действий», который якобы вел Лермонтов, дает некоторое представление об отряде и самом «деле».
Сначала об отряде. Он состоял из «двух батальонов пехотного его светлости, одного батальона Мингрельского и трех батальонов Куринского егерского полков, двух рот сапер, при 8-ми легких и 6-ти горных орудиях, двух полков Донских казаков, № 37 и 39-го и сотни Моздокского линейного казачьего полка…» В общем, для действий в горах — сила немалая.
На рассвете 6 июля отряд переправился через реку Сушку и вскоре вошел в ущелье Хан-Кала. Ближайшей целью его был аул Большой Чечен.
Отряд должен был вести действия истребительного характера: жечь посевы, разрушать аулы, уничтожать сады, убивать горцев. Весьма поощрялось «предание брошенных аулов пламени». Судя по победным реляциям, поставленные задачи выполнялись успешно: повсюду кровь, пепел, запустение. За собою отряд оставлял кладбищенскую тишину и мертвенность.
Вот, например, запись 7 июля: «Отряд, сжегши деревню Дуду-Юрт, следовал далее через деревню Большую Атагу к деревне Чах-Гери… Желая дать отдых кавалерии, которая… в этот день была занята истреблением засеянных полей до самого Аргунского ущелья… я решился переночевать в Чах-Гери». (Рассказ идет от лица генерала Галафеева.)
Деревня «Ашпатой-Гойта… мгновенно была занята и неприятель выбит из оной штыками… Деревня при уходе войск была сожжена…»
В этих боях отличились полковник барон Врангель, полковник Фрейтаг, лейб-гвардии поручик граф Штакельберг. И, разумеется, сам генерал-лейтенант Галафеев.
«9 июля. Войска дневали в лагере при Урус-Мартани. Чтобы воспользоваться этой дневкой, я утром послал восемь сотен донских казаков при двух конно-казачьих орудиях для истребления полей и сожжения деревни Таиб…»
«10 июля. Во время следования малые неприятельские партии вытеснены были из деревень Чурик-Рошни, Пешхой-Рошни, Хажи-Рошни и деревни эти сожжены, а принадлежащие им посевы истреблены совершенно…»
И так далее, и тому подобное…
И вот, наконец, 11 июля 1840 года. В «Журнале» читаем: «Впереди виднелся лес, двумя клиньями подходящий с обеих сторон к дороге. Речка Валерик, протекая по самой опушке леса, в глубоких, совершенно отвесных берегах, пересекала дорогу в перпендикулярном направлении, делая входящий угол к стороне Ачхой…»
Это и есть та самая река Валерик, которую сделал знаменитой на всю Россию Михаил Лермонтов. На берегах речки и разгорелся бой с чеченцами. Лермонтов принимал в нем непосредственное участие. Рискуя головой. Как храбрый и исполнительный офицер. Но рядом с офицером шел в бой и сам поэт. И нам приятно узнать, о чем он думал в эти часы.
«Я жизнь постиг, — говорит Лермонтов в «Валерике». — Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен… Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили…»
Так писал он, можно сказать, прямо на поле боя. В своем замечательном «поэтическом репортаже» с фронта боевых действий. Лермонтов, как и во всю свою жизнь, остался правдивым и здесь, на Валерике. В этой своей небольшой поэме он выступает как судья надо всем тем, что происходит под небом, «где места много всем». Вот что думает поэт, с грустью оглядывая поле боя: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?»
Вот именно — зачем? И вопрос этот равно обращен к обеим сторонам. У Лермонтова нет к горцам никакой вражды. Нет желания победить во что бы то ни стало. Поэт размышляет, он судит человека, судит за то, что тот «один враждует».
А ведь жаль, очень жаль человека. Смотрите, как умирает он вдали от родных: «…Он умирал; в груди его едва чернели две ранки; кровь его чуть-чуть сочилась. Но высоко грудь и трудно подымалась, взоры бродили страшно, он шептал… «Спасите, братцы. Тащат в горы»… Долго он стонал, но все слабей, и понемногу затих — и душу отдал Богу…»
Вот картина, списанная с натуры, — набросок точный и страшный своей точностью: «Вон кинжалы, в приклады!» — и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна…»
Самое главное в «Валерике» — это правда, жестокая, но истинная правда. Поэт разглядел в этом военном эпизоде нечто большее, чем просто страшный эпизод. Как неподкупный судья, как поэт человеколюбивый в высоком смысле слова — он в заключение предоставляет слово не кому-нибудь, но чеченцу, чьи сородичи стоят по ту сторону Валерика: «…Галуб прервал мое мечтанье, ударив по плечу; он был кунак мой; я его спросил, как месту этому названье? Он отвечал мне: «Валерик, а перевесть на ваш язык, так будет речка смерти»… «А много горцы потеряли?» «Как знать? — зачем вы не считали!» «Да! будет, — кто-то тут сказал, — им в память этот день кровавый!» Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал».
Поручик видел дальше, значительно дальше, чем все генералы «левого фланга», вместе взятые. Его острый глаз проникал в такие тайники человеческой души, до которых могли добраться только люди избранные, только «пророки», — одним из которых и был Михаил Юрьевич Лермонтов.
По поводу «Валерика» Константин Симонов писал: «Главным уроком из Лермонтова для меня — и как для поэта и как для прозаика был и остался «Валерик». Вообще-то главный урок для меня — это Лев Толстой. Но я почему-то думаю, что для самого этого, недосягаемого для большинства русских прозаиков — лермонтовский «Валерик» тоже был в свое время одним из первых уроков мастерства и правды.
Сколько бы я ни перечитывал Толстого — ранние его Кавказские рассказы, «Севастопольские рассказы» или военные страницы «Войны и мира» — мне всегда вспоминается еще и «Валерик», как тот ручеек под Осташковом, с которого начинается Волга.
А если оценить «Валерик» поуже — только как стихи — то думаю, что во всей русской поэзии не было написано ничего равноценного о войне до тех пор, пока не появились через сто лет главы «Василия Теркина», такие же удивительные, как «Валерик».
Итак, когда я слышу: «Лермонтов», где-то внутри меня, как эхо, возникает: «Валерик».
Лермонтов — во всем правдив и точен. Он знает то, о чем пишет. Слишком много отдал он своей души и силы тому, с чем соприкасался: кресало ударяло о кремень и — высекалась искра! Он бился «с грудью грудь», над ним словно молнии сверкали сабли и острия кинжалов. Он смотрел в глаза смерти. Притом бесстрашно. И каждое слово его, и каждая мысль глубоко выстраданы. И писал он только после того, как все выстрадано. И не мог не писать. И вправе был сказать: «Что без страданий жизнь поэта, и что без бури океан?» И не только декларировал, но доказывал это ежедневно, ежечасно, всей жизнью своей — и смертью.
Александр Кривицкий пишет: «Во время войны я неотвязно перечитывал Лермонтова. Вот кто писал о войне по-военному — никакой условности старинных батальных гравюр, никакой мишуры, сладко питающей воображение недотеп, не нюхавших пороха. И только реальность военной страды, где условия человеческого существования — противоестественны, а превозмогаются лишь великой силой духа. Первые народные характеры на войне принадлежат в русской литературе Лермонтову».
Может быть, и впрямь правда, что ведение «Журнала военных действий» с 6 по 17 июля было поручено Лермонтову. Может быть, это вовсе не легенда. Кто мог бы, например, написать такие строки:
«Должно отдать также справедливость чеченцам: они исполнили все, чтобы сделать успех наш сомнительным; выбор места, которое они укрепляли завалами в продолжение трех суток, неслыханный дотоле сбор в Чечне… удивительное хладнокровие, с которым они подпускали нас к лесу на самый верный выстрел, неожиданность для нижних чинов этой встречи — все это вместе могло бы поколебать твердость солдата…»
Но следующие строки едва ли принадлежат руке поэта: «Успеху сего дела я вполне обязан распорядительности и мужеству полковых командиров (перечисление) Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова и 19-й артиллерийской бригады прапорщика фон Лоер-Лярского, с коим они переносили все мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистом месте, заслуживают особенного внимания, ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапною смертию». (Напомню — рассказ этот ведется от имени генерала Галафеева.)
«Эти походы, — писал Г. Филипсон, — доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли…» Я думаю, что это важное и компетентное заключение.
Лермонтов за «дело при Валерике» был представлен к ордену Станислава 3-й степени. Надо отдать должное генералу Галафееву: поначалу он испрашивал более высокую — орден св. Владимира 4-й степени с бантом. Награду снизило высокопоставленное начальство. А еще более высокое — вовсе отказало в награде.
Генерал-адъютант Павел Граббе представил позже Лермонтова «к золотой полусабле». Но поэт и ее не получил.
После «дела на Валерике» Лермонтов поехал в Пятигорск, чтобы отдохнуть и полечиться на водах. Я думаю, что за все время своего пребывания на Кавказе — в первую и вторую ссылки — поэт едва ли участвовал в «делах» более двух недель в общей сложности. Но это не значит, что не подвергался он опасности: ведь каждый куст, каждый камень в горах грозили верной смертью.
Походы явно были поэту не по душе. И через несколько месяцев он напишет письмо бабушке. Бабушка в это время находилась в Петербурге и, как всегда, хлопотала о внуке. Видно, Лермонтову очень хотелось в отставку. Торопит бабушку позондировать почву на этот счет. «А чего мне здесь еще ждать? — напишет он. — Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам». И, как всегда: «Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и покойны…» Покойны? Это ей-то, бабушке, быть покойной, когда внук ее неизвестно где и за что бьется?
Самым важным в этом письме Лермонтова представляется мне желание его уйти в отставку. По-видимому, очень он этого хотел. К несчастью, мы не всегда являемся хозяевами своей судьбы. Такова уж жизнь…
Ранней осенью 1840 года Лермонтов снова в экспедиции. На этот раз — в последней. Отряд, в котором он находился, провел двадцать дней в Малой Чечне и возвратился в Грозную. Видно, и в этой экспедиции Лермонтов вел себя как храбрый офицер. Кажется, ему стали даже завидовать. Висковатов беседовал со Львом Россильоном и передал в своей книге его слова. Они довольно любопытны, отлично выдают солдафонскую сущность Россильона: «Лермонтова я хорошо помню. Он был неприятный, насмешливый человек, хотел казаться чем-то особенным. Хвастался своей храбростью, как будто на Кавказе, где все были храбры, можно было кого-либо удивить ею!.. Он был мне противен необычною своею неопрятностью. Он носил красную канаусовую рубашку, которая, кажется, никогда не стиралась и глядела почерневшею из-под вечно расстегнутого сюртука поэта… Гарцевал Лермонтов на белом, как снег, коне, на котором, молодецки заломив белую холщовую шапку, бросался на черкесские завалы…»
Лермонтов, вернувшись с отрядом в Грозную, разумеется, написал письмо Алексею Лопухину. И здесь он верен себе, точно, без обиняков пишет о себе и о своем отряде: «…Я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков — разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда». И снова почти обычная жалоба на то, что «письма пропадают»: «Бог знает, что с вами сделалось; забыли, что ли? или пропадают? Я махнул рукой».
Лермонтов обещает рассказать Лопухину про «долгие труды, ночные схватки, утомительные перестрелки, все картины военной жизни».
Лермонтов старался не выделяться среди своих боевых товарищей, вел одинаковую с ними жизнь. Видимо, это и раздражало барона Россильона, когда он говорил о «нечистоплотности» Лермонтова. Позвольте, откуда же ее взять, эту чистоплотность, если спишь на земле? Впрочем, кое-что объясняет А. Есаков, говоря об отношениях Лермонтова и Россильона: «Обоюдные отношения были несколько натянуты. Один в отсутствие другого нелестно отзывался об отсутствующем». Теперь становится более понятным отзыв барона Россильона.
Зиму Лермонтов встречает в Ставрополе. Вместе с ним и Столыпин-Монго. Говорят, что в конце 1840 года Лермонтов побывал и в Крыму, в Анапе. Насчет Анапы существует даже рассказ Е. фон Майделя в передаче Мартьянова. Однако все это очень сомнительно и нет никаких документов, подтверждающих поездку поэта на берег Черного моря. И, напротив, очень много свидетельств в пользу того, что Лермонтов провел зиму в Ставрополе. В то время тут находились Карл Ламберт, Сергей Трубецкой, Лев Россильон, Лев Пушкин (брат поэта), декабрист Михаил Назимов и другие. А. Есаков вспоминает: «Как младший, юнейший в этой избранной среде, он школьничал со мной до пределов возможного; а когда замечал, что теряю терпение (что впрочем не долго заставляло себя ждать), он бывало ласковым словом, добрым взглядом или поцелуем тотчас уймет мой пыл». Таков был настоящий, неподдельный Лермонтов!
В августе 1840 года пришло цензурное разрешение на печатание книги Михаила Лермонтова. Подписал это разрешение известный цензор Александр Никитенко. Печаталась она в типографии Ильи Глазунова и К°. В ней всего двадцать восемь произведений, 168 страниц. Стихи отбирал сам Лермонтов, и отбирал очень строго. Я уже говорил, что он не включил в нее ни «Парус», ни «Ангел». Открывается книга «Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Написана «Песня…» белым стихом, «на старинный лад». Из крупных произведений включена только поэма «Мцыри». Ни «Хаджи Абрека», ни «Боярина Орши». Сборник заключается стихотворением «Тучи». Одним словом, это книга, состоящая из двадцати восьми шедевров. Она поступила в продажу в Петербурге тогда, когда еще автор зимовал в Ставрополе.
На нее, разумеется, откликнулась критика. И первым долгом — Белинский. Как всегда, и на этот раз он говорил горячо, во весь голос: «Эта небольшая красивая книжка, с таким простым и коротким заглавием, должна быть самым приятным подарком для избранной, то есть, образованнейшей части русской публики». Так говорил Белинский в самом начале статьи. А в конце ее — не менее горячо: «Да! кроме Пушкина, никто еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща…» Читал ли Лермонтов эти лестные строки? Да, наверное. Когда прибыл в столицу. Или по дороге к ней.
Но нашлись и такие, которые злобно зашипели. Точнее сказать, всё продолжали шипеть, ибо еще «Герой нашего времени» пришелся им не по нутру. Недруг Лермонтова, реакционер и мракобес Степан Бурачек, например, окрестил роман Лермонтова «эстетической психологической нелепостью». А что говорить о Петре Плетневе, который год спустя после смерти Лермонтова сказал: «О Лермонтове и не хочу говорить потому, что и без меня говорят о нем гораздо более, нежели он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел… напомнить своих предшественников…» Не отставал от них и Николай Греч, к слову говоря пытавшийся изобличить Белинского в незнании русского языка. С ним вместе были и Николай Полевой, и Осип Сенковский. В какие времена не бывает подобных им и кого удивишь ими?!
Но как бы то ни было, каждый мало-мальски мыслящий читатель, который брал в руки книгу Лермонтова, не мог не понимать, с каким гигантом поэзии имеет дело…
Очень верную, очень точную характеристику дала поэзии Лермонтова графиня Ростопчина в известном письме к Дюма. Вообще говоря, любопытно все письмо — от начала до конца. Оно — яркое свидетельство проницательности и острого ума ее автора. Ростопчина, несомненно, любила Лермонтова и была любима им. Любила Лермонтова-человека и Лермонтова-поэта. Ей посвящено чудесное стихотворение, очень глубокое по мысли и, как всегда, откровенное.
«Ко времени второго пребывания поэта в этой стране войны и величественной природы, — пишет Ростопчина, — относятся лучшие и самые зрелые его произведения. Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку…»
Я говорил уже, что после «Смерти Поэта» Лермонтов уже «не мог» писать хуже. Все его произведения, написанные после, отмечены высоким мастерством и глубокой мыслью. Но особенный расцвет наступил в 1840 году, и продолжался он вплоть до середины 1841 года. Линия его прекрасного творчества шла все время вверх.
Лермонтов создал всего шестьдесят восемь стихотворений — уже в «зрелом» возрасте. Подавляющее большинство стихотворений рифмованы. Я думаю, что это и есть настоящая поэзия. Верлибр — я в том убежден — изобретен для «поэтов» ленивых, которым некогда или которым невмоготу по тем или иным причинам придумать свежие рифмы. В 1836 году барон Егор Розен предсказывал в «Современнике»: «Человечество идет вперед — и кипят все побрякушки, коими забавлялось в незрелом возрасте. Дальнейшее потомство прочтет рифмованные стихи с тем же неодобрением, с каким читает гекзаметры Леона. Последним убежищем рифмы будет застольная песня, или наверное — дамский альбом!» Сборник Лермонтова, вышедший четыре года спустя, доказал совершенно обратное. Я уже не говорю о дальнейшем блистательном шествии рифмы — прямо в двадцатый век, в поэзию Блока, Маяковского, Есенина.
Однако главное, на что мне еще раз хотелось бы обратить внимание, — это 68: как мало надо для гениального поэта и как гениально должно быть это малое!
Мне кажется, что иным поэтам стоило бы почаще вспоминать слова Иисуса Сираха: «Наложи дверь и замки на уста твои, растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковали надежную узду, которая бы держала твои уста».
Хлопоты бабушки, как видно, увенчались успехом, и Лермонтову разрешили отпуск. Бумага из столицы пришла, вероятно, в самом конце 1840 года или в начале следующего.
Костенецкий встречался с поэтом в Ставрополе, в штабе генерала Граббе, где заведовал «строевым отделением». К нему однажды зашел Лермонтов. Не виделись они со времени учебы в Московском университете. «И он припомнил наше университетское знакомство,» — пишет Костенецкий. Лермонтов интересовался последствиями ходатайства бабушки об отпуске. На запрос военного министра был подготовлен «положительный» ответ. Не кем иным, как самим писарем. Костенецкий пишет: «А вот вам и ответ», сказал я, засмеявшись, и начал читать Лермонтову черновой отпуск, составленный писарем, в котором было сказано, что такой-то поручик Лермонтов служит исправно, ведет жизнь трезвую и добропорядочную и ни в каких злокачественных поступках не замечен… Лермонтов расхохотался над такой его аттестацией и просил меня нисколько не изменять ее выражений и этими же самыми словами отвечать министру, чего, разумеется, нельзя было так оставить».
Словом, Михаилу Лермонтову отпуск разрешили.
И он поехал на север.
В последний раз.
Три месяца в Петербурге
Лермонтов возвращался в столицу на вершине своей прижизненной славы. Уже вышли две книги, которых вполне хватило, чтобы вознести его на русский Парнас.
Едет он на север, снова пересчитывая поверстные столбы до боли знакомой дороги. Какие же мысли роились в его голове на этот раз? Мы можем составить общее представление по его стихам. Только стихи его являются самыми ценными и самыми точными свидетельствами того, что творилось в душе поэта.
«Поедешь скоро ты домой: смотри ж… Да что? моей судьбой, сказать по правде, очень никто не озабочен».
Эти стихи вполне можно отнести к их автору. Разве что следует внести одну поправку: только один человек озабочен его судьбою — Елизавета Алексеевна. Она очень и очень озабочена! Она готовится к поездке на свидание со своим внуком в Петербурге. Однако из-за ранней распутицы отъезд ее из Тархан задерживается…
Едет прославленный поэт. И как это ни удивительно — не оказывают ему чрезвычайных почестей. А почему? Если любого епископа церквушки на Руси встречали колокольным звоном, то почему бы не сделать хотя бы этого для Лермонтова?
Города и веси проходят один за другим перед его печальным взором, а перезвона не слышно.
«Люблю отчизну я, но странною любовью!.. Но я люблю — за что, не знаю сам — ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее, подобные морям…»
Едет поэт по Руси, и в сердце его все горячее закипает любовь к родным просторам, где все как бы создано для счастья человека и где так мало его «в краю родном».
Едет поэт на север, все на север…
«На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она…»
Едет великий поэт России, а на сердце — недобрые предчувствия. Горькие думы не дают покоя. Что делать ему дальше? Вымаливать прошенье? Уйти в отставку?
Все тверже решимость уйти из армии, уйти в отставку и всецело заняться литературой. Может быть, даже издавать журнал. Вместе с Краевским, может быть.
«Провозглашать я стал любви и правды чистые ученья: в меня все ближние мои бросали бешено каменья…» «Из дальней, чуждой стороны он к нам заброшен был судьбою; он ищет славы и войны, — и что ж он мог найти с тобою?..»
И это он тоже о себе. Почти наверняка.
А дорога не кончается. Поверстные столбы похожи один на другой. Что же ждет поэта впереди?
Воистину: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна…»
Если мысленно представить себе карту путешествий Лермонтова, то в глаза невольно бросится неукоснительное постоянство маршрута. Судите сами. В детские годы — Тарханы — Кавказ. В юношестве — Тарханы — Москва, через Тамбов и Тулу или через Рязань. В пору молодости — Петербург — Москва — Кавказ. И снова: Петербург — Москва — Кавказ. И снова: Петербург — Москва — Кавказ. В том или другом направлении. Только однажды был сделан небольшой крюк — в имение Михаила Глебова.
Маршруты однообразные, но сколько разных мыслей и замечательных образов, так не похожих друг на друга! Боярин Орша и Хаджи Абрек, Печорин и Казбич, Азамат и Бэла, Грушницкий и опричник царя Ивана, Демон и Арбенин, Нина и Вера… Разве всех перечтешь в один присест, в одной не очень длинной фразе? Как видно, поэзия не зависит от пестроты маршрута. Есть у меня друзья, которые ездят в разные страны, но страны эти и люди их едва ли оставили отпечаток на душе. Может быть, прав был Лермонтов, когда советовал Шан-Гирею не ехать в Америку, но собираться на Кавказ. Впрочем, даже советы Лермонтова могут не прийтись «в жилу» иному, пусть более скромному нынешнему поэту. Поэзия — вещь удивительная и странная. Здесь меньше всего действуют советы «полезные» и, тем более, универсальные.
«…Начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка просила о прощении моем, а мне дали отпуск…» Так начиналось письмо Лермонтова к Александру Бибикову на Кавказ. Оно было писано в конце февраля 1841 года. А прибыл поэт в столицу 7 и 8 февраля. Официальная мотивировка известна: свидание с бабушкой. Однако бабушка все-таки не смогла прибыть вовремя из-за ранней распутицы: надо же было ехать от Тархан до Петербурга — расстояние немалое!
Но как понимать одну фразу в воспоминаниях Шан-Гирея? Вот она: «Лермонтов получил отпуск и к новому 1841 году вместе с бабушкой возвратился в Петербург». «Вместе с бабушкой…» Это никак не вяжется с утверждением графини Ростопчиной: «…По горькой насмешке судьбы г-жа Арсеньева, проживавшая в отдаленной губернии, не могла с ним съехаться из-за дурного состояния дорог, происшедшего от преждевременной распутицы».
Кто же прав?
Сергей Иванов, много лет изучавший жизнь и творчество Лермонтова, определенно сказал мне, что Лермонтов не возвратился «вместе с бабушкой», как пишет Шан-Гирей. Надо заметить, что Шан-Гирей вспоминал об этом много лет спустя, не «по свежим следам». И все-таки бабушка повидала внука в Петербурге: она успела приехать! Поэтому ошибается и Ростопчина. Лет двадцать пять назад было найдено письмо Елизаветы Алексеевны к Карамзиной, в котором она просит Карамзину походатайствовать через Жуковского о прощении внука. Это письмо писано в Петербурге 18 апреля 1841 года. Сергей Иванов показал мне публикацию письма Арсеньевой.
Одним словом, много сил положила бабушка, чтобы добиться прощения для внука. Не получилось. Но отпуск ему дали. Для свидания с бабушкой.
Отпуск свой заканчивал поэт тоже неплохо. Из Москвы он сообщил бабушке: «Я здесь принят был обществом, по обыкновению, очень хорошо — и мне довольно весело». И в Петербурге его наперебой приглашали на балы. Собственно, и начался-то отпуск с бала. Не иначе как у графини Воронцовой-Дашковой. На этом балу присутствовал сам великий князь Михаил Павлович. Но как же это посмел опальный офицер явиться на бал, где находятся члены императорского двора? Это был скандал.
Висковатов записал об этом вечере рассказ графа Сологуба, который «хорошо помнил недовольный взгляд великого князя Михаила Павловича, пристально устремленный на молодого поэта, который крутился в вихре бала с прекрасною хозяйкой вечера».
Великий князь искал встречи с поэтом для «грозного объяснения». Но куда там! Поэт «несся с кем-либо из дам по зале…» В конце концов, пришлось-таки поэту уходить «через внутренние покои, а оттуда задним ходом… из дому».
Было ясно, что небезопасно появляться поэту там, где бывают родственники его величества. Недолго пришлось дожидаться начальственного внушения по этому поводу. И случилось это после бала у графа Уварова. На нем, как обычно, блистал Лермонтов. Его окружали самые красивые женщины, с ним искали знакомства родовитые молодые люди. У него просили стихов, ловили его слова и рассказывали другим о беседах с ним как о большом счастье. Говорят, даже сам Булгарин, пользовавшийся дурной славой среди литераторов, пытался из всей мочи хвалить поэта чуть ли не на всех перекрестках, чтобы «все об этом знали». Стихи Лермонтова читали с упоением, их списывали друг у друга. Это считалось хорошим тоном. Имя Лермонтова широко было известно в столице. К слову сказать, именно здесь, в Петербурге, начали собирать все, что имело касательство к покойному поэту. Точнее, в той самой школе, где некогда учился юнкер Лермонтов. Начальник школы генерал-майор А. Бильдерлинг проявил благородную инициативу: организовал музей поэта. И с этой поры все, что мало-мальски было связано с именем Лермонтова, попадало сюда. Самыми различными путями. А ныне эти экспонаты хранятся в Пушкинском Доме (Ленинград)…
Но я, кажется, немного уклонился в сторону. Наутро, после бала у графа Уварова, Лермонтов был вызван к дежурному генералу двора Клейнмихелю.
Генерал «объяснил» поэту, почему разрешена ему поездка в столицу. И пусть молодой провинившийся офицер подумает над этим весьма и весьма серьезно…
Лермонтова никак не могли «простить». Можно подумать, что жизнь его так была дорога двору, что поведение с Барантом, поставившее под угрозу жизнь поэта, очень и очень огорчило его величество.
В самом деле: дуэль окончилась счастливо, Лермонтов понес наказание, можно сказать, искупил его своим участием в экспедициях в Чечню. Что же надо еще?
Слава Лермонтова росла. Того самого Лермонтова, который сочинил «Смерть Поэта». О Лермонтове говорили как о великом продолжателе дела Пушкина. Опальный офицер становился грозной силой.
Мало этого: Лермонтов плюс ко всему мечтал об отставке. Но и этого мало: как уже говорилось, мечтал о том, чтобы открыть журнал и выпускать его, например, вместе с Краевским. Этих своих мыслей поэт не скрывал, а у Бенкендорфа уши были те самые — всеслышащие. И Бенкендорф, одно время помогавший бабушке поэта, теперь уж вовсе отвернулся от нее. Поэтому Елизавета Алексеевна обратилась со своими просьбами к Клейнмихелю.
Думать, что его величество не мог простить Лермонтову его дуэли с Барантом, — значит полностью расписаться в своей наивности. Такие дуэли другим часто прощались. Но не прощались дуэли Лермонтовым. Краевский говорил Висковатову, что Лермонтов мечтал «об основании журнала». Бенкендорф хорошо мог представить себе, что это будет за журнал!
Вот почему настоятельно предлагалось поэту не «мозолить глаз» начальству и подобру-поздорову отправляться назад, на Кавказ. Правда, Лермонтову дважды или трижды продлевали отпуск, но ни о какой отставке или прощении не могло быть и речи.
Ростопчина пишет: «Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни».
Возможно, так оно и есть: пришла известность, признание, было весело, беззаботно. По крайней мере, так казалось. А на самом деле?
А на самом деле очень хотелось в отставку, хотелось свободного приложения сил. Этого стремления не могли заменить ему ни танцы до упаду, ни самые красивые женщины столицы, ни кутежи среди друзей.
О ком это сказано, если хорошенько вчитаться? «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой, она». Или же этот утес. «Одиноко он стоит, задумался глубоко, и тихонько плачет он в пустыне». А этот дубовый листок? «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой».
1 марта 1841 года Белинский пишет Боткину: «А каковы новые стихи Лермонтова? Он решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути».
Кстати, готовилось новое издание «Героя нашего времени». И оно вышло в Петербурге еще при жизни поэта. Он написал к нему предисловие, в котором заявлял, что «болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает!».
Но вот вопрос: успела ли книга настигнуть его на Кавказе? Удалось ли поэту подержать ее в руках — эту свою третью книгу?
20 апреля 1841 года Ростопчина подарила свои стихи любимому поэту и человеку. И сделала она при этом такую надпись: «Михаилу Юрьевичу Лермонтову в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому».
Перед отъездом Лермонтова ужинали втроем: она, Лермонтов и еще один «друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну». По словам Ростопчиной, «Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти». Было ли это конкретным предчувствием или обычным его предчувствием, которое одолевало его с юных лет? Это трудно сказать. Через несколько дней предстояла поездка в далекий край. Этого было достаточно для того, чтобы навеять на поэта самые грустные мысли. «Выхожу один я на дорогу…»
Лермонтов был один в целом свете. И выходил на дорогу один…
Лермонтов готовился к отъезду. Не спеша. Уж очень и очень не хотелось. Исподволь приходила зрелость. Правда, медленно. И с полным правом мог он написать в альбом Софье Карамзиной: «Люблю я больше год от году, желаньям мирным дав простор, поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор». Я не думаю, что эти слова надо понимать буквально: до «тихих вечеров» было еще очень и очень далеко. Но все-таки…
Князь Владимир Одоевский, прощаясь с Лермонтовым, подарил ему записную книжку. И учинил на ней такую надпись: «Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную». Поэт не смог ее исписать. Ни тем более «возвратить ее сам»…
Простился Михаил Юрьевич и… Как вы думаете, с кем? С Натальей Николаевной Пушкиной. Вот уже четыре года тому как была она вдовою. Говорят, Лермонтов долго чуждался ее. Говорят, она угадывала в нем предвзятую враждебность. И, видимо, не совсем без основания: разве все оправдывали Наталью Николаевну? И полностью ли ее оправдал сам Лермонтов?
Сохранились воспоминания дочери о Наталье Николаевне, в частности о прощании ее с Лермонтовым у Карамзиных. Они были написаны много лет спустя после гибели Лермонтова, опубликованы лишь в 1908 году. И это меня немного смущает, особенно «монолог» поэта, приведенный в воспоминаниях. Не очень уверен в том, что можно было стенографически точно изложить слова Лермонтова, к тому же в передаче Натальи Николаевны. А раз нельзя — то трудно с доверием воспринять дорогую нам лермонтовскую фразеологию. Я полагаю, что неправильно это — «сочинять» от себя речь того, кто оставил после себя прекрасные стихи и прекрасную прозу. Беллетризация здесь просто недопустима. Поэтому воспоминание о прощальном вечере у Карамзиных (беседа Натальи Николаевны с Лермонтовым) должно рассматриваться лишь в общих чертах. Из него явствует, что впервые поэт разговорился со вдовой Александра Сергеевича, что беседа эта была задушевной и, к несчастью, последней. Возможно, наибольшего доверия заслуживают слова Натальи Николаевны в передаче ее дочери, и я приведу их здесь: «Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца. И вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение унес с собой в могилу».
У Карамзиных Лермонтов пожал в последний раз руки своим друзьям. А Софье Карамзиной посвятил стихи, в которых есть такие строки: «Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха, и хи-хи-хи…» Писатель Георгий Холопов показывал мне дом в Ленинграде, где состоялся последний ужин у Карамзиных в честь Лермонтова. Пересказывая все, что известно об этой встрече. Стояли мы перед домом, на тротуаре. И я пытался представить себе, как отъезжал поэт от парадного подъезда.
Ростопчина написала стихи «На дорогу М. Ю. Лермонтову». О бабушке поэта в них сказано так: «Но есть заступница родная, с заслугою преклонных лет: она ему конец всех бед у неба вымолит, рыдая».
Нет, не вымолила. Не смогла. А «покорный внук» ее Лермонтов ничем ей в этом не помог. Решительно ничем! Но она продолжала денно и нощно молиться о нем. Еще Омар Хайям очень верно подметил: «Твоих лишений небо не оценит…» До молитв ли Елизаветы Алексеевны было небу?
«Жизнь Лермонтова сложилась так, как сложилась, — пишет Юрий Мелентьев. — И жизнь поэта — прекрасный пример того, что может сделать человек даже в свои неполные двадцать семь лет».
Михаил Лермонтов примерно около того времени, о котором речь, писал в стихах «Графине Ростопчиной»: «Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать…»
И не давал.
Никто не провожал Лермонтова на почтовой станции. Только неизменный Шан-Гирей.
Говорят, не любил Лермонтов, когда провожали…
Это было в середине апреля 1841 года. В восемь часов утра.
Несколько дней в Москве
17 апреля 1841 года Лермонтов прибыл в свой любимый город — Москву. Остановился он у своего однополчанина Дмитрия Розена, как сам он пишет бабушке. Проводил время у Столыпиных, Лопухиных. Я еще раз напомню слова из его письма: «…Мне довольно весело». Да, так оно и было по всем свидетельским данным. В Туле Александру Меринскому Лермонтов сказал: «Никогда я так не проводил приятно время, как этот раз в Москве». Не надо думать, что поэт только и делал в Москве, что обедал да ужинал в кругу друзей. Он здесь и литературными делами занимался: писал стихи, кое-что отдавал печатать. Например, поэт принес свою новую вещь «Спор» Юрию Самарину для «Москвитянина». «Вечером, часов в 9, я занимался один в своей комнате, — вспоминает Самарин. — Совершенно неожиданно входит Лермонтов… Не знаю, почему мне особенно было приятно видеть Лермонтова в этот раз. Я разговорился с ним…»
Князю Одоевскому Лермонтов записал в альбом: «У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается и сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21-м году проснулся от тяжкого сна и встал и пошел… и встретил тридцать семь королей и семьдесят богатырей и побил их и сел над ними царствовать. Такова Россия».
Вот еще одно интересное свидетельство, характеризующее общее политическое «самочувствие» поэта. Самарин рассказывает о том, как нашел его у Розена, как разговорились, как показывал Лермонтов свои рисунки и говорил о «деле с горцами»… «Его голос дрожал, он был готов прослезиться». Но не это самое важное в дневниковой записи Самарина. Этот журналист особо отмечает «его мнение о современном состоянии России»… и приводит на французском языке это мнение: «Хуже всего не то, что известное число людей терпеливо страдает, а то, что огромное число страдает, не сознавая этого». Примечательные слова! Впрочем, еще сильнее выразил эту же мысль Михаил Юрьевич в своих стихах. Не прямо, не в лоб, но общим своим отношением к тем, кто закабалил «немытую Россию». Такие произведения, как «Смерть Поэта», «Дума», «Прощай, немытая Россия…», намного страшнее любых политических деклараций.
На мой взгляд, замечательной была встреча (случайная) Лермонтова с Фридрихом Боденштедтом. Благодаря ей мы получили прекрасные воспоминания о Лермонтове, написанные поэтом, человеком проницательным и талантливым, переводчиком стихов Лермонтова на немецкий язык. Боденштедт был лет на пять моложе Лермонтова, и в мае 1841 года едва ли минул ему 21 год. Он пишет: «Я уже знал и любил тогда Лермонтова по собранию его стихотворений, вышедших в 1840 г.»
Встреча двух поэтов произошла «в одном русском ресторане, который посещала в то время вся знатная молодежь».
Лермонтов, разумеется, не был знаком до этого с молодым немецким поэтом, не очень хорошо владевшим русским.
Молодые люди были уже за шампанским. «Снежная пена лилась через край стаканов; и через край лились из уст моих собеседников то плохие, то меткие остроты».
И вот, в конце этой веселой трапезы, в ресторане появляется сам автор «Героя нашего времени», первый из живых поэтов России.
Какова его внешность, по Боденштедту?
«У вошедшего была гордая, непринужденная осанка, средний рост и замечательная гибкость движений… Плечи и грудь были у него довольно широки… Большие, полные мысли глаза, казалось, вовсе не участвовали в насмешливой улыбке, игравшей на красиво очерченных губах молодого человека…»
Боденштедт сразу же приметил под сюртуком «ослепительной свежести белье». У Лермонтова были нежные выхоленные руки. Их тоже запомнил Боденштедт.
Молодые люди продолжали пить. Лермонтов острил, был очень разговорчив и потешался над одним своим приятелем, да так, что обидел его. Боденштедт говорит о поэте: «…И он всеми силами старался помириться с ним, в чем скоро и успел».
Своей первой встречей Лермонтов произвел на немца «невыгодное впечатление». Задор и «шалости» Лермонтова сделали свое. Даже умный Боденштедт не мог их простить поэту. Ибо не увидел еще «другого» Лермонтова.
Но, к счастью, увидел. Это случилось на следующий день, в салоне одной своей знакомой. И Боденштедт признается: «…Я увидел его в самом привлекательном свете. Лермонтов вполне умел быть милым… Отдаваясь кому-нибудь, он отдавался от всего сердца, только едва ли это с ним случалось…»
Пришла пора собираться на юг. Мы не знаем, кто провожал его в Москве: Шан-Гирей был далеко, а Столыпин-Монго укатил вперед, и Лермонтов нагнал его лишь в дороге.
Нет, не думал Лермонтов, что в последний раз видится с Москвой, что никогда больше не свидится с нею.
Не думал! Недаром же писал он Бибикову в Ставрополь: «Покупаю для общего нашего обихода Лафатера и Галя и множество других книг». Он хотел еще пожить…
А старый бог? Он располагал иначе.
Дорога на Голгофу
На склоне горы Машук, недалеко от тропы, которая вела в немецкую колонию Каррас, было глухое место. Оно поросло высоким кустарником и травою. Чтобы отсюда попасть в Пятигорск, приходилось объезжать гору по тряской, едва обозначенной на земле дороге. В непогоду она делалась труднопроходимой для экипажей. Теперь Машук опоясан удобной асфальтированной дорогой. Она ведет прямо к «месту дуэли», увековеченному высоким обелиском. Его хорошо видно, когда едешь на поезде.
Вторник 15 июля 1841 года выдался душным. С самого раннего утра. Старожилам нетрудно было предсказать: быть грозе. И в самом деле, «черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой», Так свидетельствует двадцатидвухлетний титулярный советник князь Александр Васильчиков.
Явные признаки надвигающейся грозы проявились часов в пять пополудни. И, как это бывает в горах, мир внезапно помрачнел. Где-то ударил гром. Возможно, за горою Бештау.
Но «место дуэли» на горе Машук еще не стало местом дуэли…
Лермонтов вместе со Столыпиным-Монго прибыли в Ставрополь. Стоял май. Было невмоготу от жары. Отсюда Лермонтову надлежало ехать в «крепость Шуру», то есть в Дагестан, в Темир-Хан-Шуру. Так гласила подорожная.
Лермонтов писал бабушке, что едет в Шуру, а потом уже — на воды. И Софье Карамзиной писал: «…В тот момент, когда вы будете… читать, я буду штурмовать Черней…» И в шутку прибавлял: «…Это находится между Каспийским и Черным морями, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта…»
Но была не только Шура, был также и Пятигорск.
Можно сказать так: Шура — это налево, а воды — направо. Поэт невольно оказался на перепутье. Налево — неспокойный Дагестан Шамиля, направо — воды, отдых, веселье. Неужели же рваться в бой с горцами?
И на этот раз шестикрылый серафим не явился к поэту. И на этот раз заменил его Столыпин-Монго. Хотя возможно, что советы его в Ставрополе не были столь определенными, как тогда, в Петербурге.
Лермонтов звал на Кавказ Шан-Гирея. Я напомню, что он писал: «…Я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда, на Кавказ: оно и ближе и гораздо веселее».
И снова мысль об отставке, — теперь уже неотвязная: «Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку».
Поэт не знал, что в Петербурге уже готовится бумага — секретная — о том, чтобы поручика Лермонтова в «дело» не посылать, дабы не мог он выхлопотать себе льготы для выхода в отставку. В штабе генерал-адъютанта Павла Граббе, который хорошо относился к поэту, еще ничего не знали об этой бумаге. Она придет гораздо позднее, когда уже земная власть — даже самая высокая — не будет иметь никакой силы над Лермонтовым.
Кто же все-таки распоряжался судьбой поэта? Сам он, Столыпин-Монго, штаб Граббе, бог или рок? Но поэт мог бы сказать словами пророка: «Он повел меня и ввел во тьму».
Мы можем только гадать да сокрушаться: кто же это все-таки был? Судьба? Но она была бы иною, если бы не царь, не Бенкендорф и другие. Те, которые ничего не простили поэту. Из ненависти к нему. Или, может, все валить на «неуживчивый» характер поэта, как это делали некоторые его заклятые друзья при жизни?
«Я, слава богу, здоров и спокоен…» Так писал Лермонтов своей бабушке в мае 1841 года.
А все-таки, в Шуру или в Пятигорск?
Пятигорск в то время был маленьким городишком. Лучшая гостиница принадлежала греку Найтаки. Здесь можно было хорошо пожить. Господа офицеры могли кутнуть как следует. Шампанское лилось рекой. Найтаки был человеком известным в городе. Но это все-таки — гостиница. А на более длительное время лучше было снять домик. Например, Василия Чиляева. Как это и сделали Лермонтов со Столыпиным. За сто рублей серебром. Теперь домик этот известен как мемориальный музей Лермонтова — самое святое место на Кавказских Минеральных Водах.
Но ведь поэт мог и не снимать у Чиляева домик, который своим садом примыкает к дому Верзилиных. Мог, разумеется, и не снимать, потому что путь его лежал в крепость Шуру.
Сохранился довольно красочный рассказ ремонтера Борисоглебского уланского полка Петра Магденко, записанный Висковатовым. Магденко говорит о своей встрече с Лермонтовым в Ставрополе. Началось с того, что в биллиардной Магденко увидел некоего друга, игравшего партию с офицером. Офицер этот обратил на себя внимание Магденко: «Он был среднего роста, с некрасивыми, но невольно поражавшими каждого, симпатичными чертами, с широким лицом, широкоплечий, с широкими скулами, вообще с широкой костью всего остова, немного сутуловат — словом, то, что называется «сбитый человек».
— Знаешь ли, с кем я играл? — спросил позже друг Магденко.
— Нет! Где же мне знать — я впервые здесь.
— С Лермонтовым, — объяснил друг.
Николай Соломонович Мартынов приехал на воды в конце апреля. Он пояснил: «По приезде моем в Пятигорск я остановился в здешней ресторации и тщательно занялся лечением».
Нет, он не стал героем Кавказской войны, несмотря на свой внушительный рост. Его не сделали генералом, как он мечтал о том. Несмотря на большие усы. Которые, как свидетельствуют очевидцы, придавали «физиономии внушительный вид».
Дослужившись до майорского чина, он подал в отставку. И это — в двадцать пять лет! И ему, заметьте, дали отставку. Не отказали ведь…
Магденко привелось еще раз повстречать поэта. В крепости Георгиевской. Лермонтову, невзирая на ночь и опасности, связанные с нападением черкесов, непременно хотелось ехать дальше. По словам Магденко, поэт заявил, что «он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь». Смотритель станции тоже предупреждал поэта, что ехать, глядя на ночь, небезопасно. Лучше подождать до утра.
Магденко направлялся в Пятигорск и предвкушал удобства тамошней жизни в «хорошей квартире, с… разными затеями».
В Пятигорске оказался и Михаил Глебов, у которого не так давно гостил Лермонтов. Это было по дороге на Кавказ, в Орловской губернии. Тогда поэт разрешил себе небольшой крюк и несколько дней провел в имении Глебова.
На водах лечилось немало военного люда. Особенно раненых офицеров. Ими был полон и Ставрополь: кто без ноги, кто без руки. Война шла жестокая, особенно жестокая своей медлительностью и планомерностью. Горцев прижимали к Кавказскому хребту неторопливо, но верно.
Появился на водах и Сергей Трубецкой, сорвиголова, повидавший виды в различных кавказских военных переделках.
И князь Александр Васильчиков принимал серные ванны. И это все — хорошие знакомые Лермонтова. А некоторые — просто друзья. Близкие друзья…
Наутро Магденко снова повидался с Лермонтовым и Столыпиным. За самоваром. Отсюда, из Георгиевской, им предстояло ехать в разные стороны: в Пятигорск — Магденко, в Шуру — Лермонтову и Столыпину.
Одпако Лермонтов заколебался. Невзирая на приказ, на подорожную. «Теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины… Поедем в Пятигорск». Это, утверждают, слова Лермонтова, обращенные к Столыпину. Магденко поддерживает в этом поэта из самых лучших побуждений: «в Пятигорске жизнь поудобней, чем в отряде».
Что-то надо решать.
Столыпин полагает, что надо ехать в Шуру, ибо есть подорожная, есть и инструкция к ней. Как же ехать в Пятигорск? Но он не очень тверд в своем убеждении.
И тут Лермонтов, говорят, предпринял ход, вполне достойный его неукротимого нрава и автора «Фаталиста».
Почти все стихи, написанные Лермонтовым в 1841 году, были занесены в записную книжку Одоевского. (Если припомните, ее подарили поэту с «возвратом».) Многие стихи были сочинены в дороге и отосланы в Петербург. А самые последние писались в Пятигорске, в низеньком, простеньком домике. Говорят, под окном у него росли вишни, и стоило только протянуть руку, чтобы сорвать свежую ягоду. Все, что было написано в эту пору, есть вершина лермонтовской поэзии. Он создавал только шедевры, и конца этим шедеврам, казалось, нет и не будет.
В Петербурге, перед самым отъездом, или в дороге на юг, или в Пятигорске были писаны его знаменитые стихи «Прощай, немытая Россия…». Они слишком сильны, они слишком выразительны, чтобы как-то передавать их «твоими словами», и слишком лаконичны, чтобы как-то анализировать их. Они говорят сами за себя и беспощадны, словно пули. Их знают с детства. И все-таки их следует полностью привести в этом месте, ибо в восьми строках — весь Лермонтов, что называется, с головы до ног. В них — и решимость, и горечь, и ненависть ко всему, что душит живое.
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, послушный им народ. Быть может, за хребтом Кавказа укроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей».
Это и есть голос Михаила Лермонтова, беспрерывно звенящий вот уже свыше ста лет.
Вошел будто бы Лермонтов в комнату и произнес повелительным тоном: «Столыпин, едем в Пятигорск!» Однако Лермонтов никогда не написал бы «Фаталиста», если бы брал только упрямством. Он, говорили, достал монету и подбросил ее. Условия необычайно просты: орел — в Шуру, решетка — в Пятигорск! Все предельно «ясно». Жизнь доверяется случаю, случайности. Можно бы и присовокупить: слепому случаю. И больше — никаких рассуждений. Петр Магденко едва ли что-нибудь сочиняет: все, вероятно, так и было.
Но мне кажется, что при такой крутой перемене маршрута надо чувствовать за собою, как говорится, еще и спину. Надо полагать, что Лермонтов вполне рассчитывал на благосклонность самого генерала Граббе и других высокопоставленных офицеров в штабе и в самом отряде.
Как это всегда бывает с неординарными людьми, «провидение» определило наиболее опасный путь.
И Лермонтов со Столыпиным поехали в одной коляске с Петром Магденко. Поехали, разумеется, в Пятигорск.
«Ловушки, ямы на моем пути. Их бог расставил и велел идти. И все предвидел. И меня оставил. И судит тот, кто не хотел спасти».
Это сказал Омар Хайям. Много веков тому назад.
Дорога в Пятигорск казалась спокойной. Без ям особенных. И без ловушек. Было жарко. Было весело в коляске. И к вечеру показались первые городские дома. Приземистые. Под стать маленькому Пятигорску.
Мартынов гулял по Пятигорску с мрачным видом обиженного судьбой кавказца: в черкеске, с огромным кинжалом на серебряном поясе и огромными усами. В огромной папахе мерлушковой.
Костенецкий вспоминает: «…Он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина». А что же вышло? «Вместо генеральского чина он был уже в отставке майором, не имел никакого ордена… Отрастил огромные бакенбарды… вечно мрачный и молчаливый!»
Знавшие Пятигорск той поры рассказывают: «Зато и слава была у Пятигорска. Всякий туда норовил. Бывало, комендант вышлет к месту служения: крутишься, крутишься, дельце сварганишь — ан и опять в Пятигорск. В таких делах нам много доктор Ребров помогал. Бывало, подластишься к нему, он даст свидетельство о болезни, отправит в госпиталь на два дня, а после и домой, за неимением в госпитале места…»
…15 июля 1841 года.
Вторник.
После полудня стало ясно, что быть резкой перемене: духота особенно усилилась. Дышать было трудно. Все давило… Такое случается перед грозою. Перед ливнем. Когда в полчаса природа меняет свой облик, да так, что ее и не узнать. Туча, которая выплывала из-за Бештау, только наивным могла показаться обычною. В ее темном и мрачном чреве уже бушевала гроза и роились пока еще не видимые в Пятигорске молнии.
Туча ширилась, наползала — медленно, густо…
Лермонтов прибыл в Пятигорск. Устроился у Найтаки. Вместе с ним — Столыпин и Магденко.
А по дороге сюда «Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии». «Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным». Так рассказывал Магденко…
В гостинице Лермонтова порадовали: здесь, в городе, находится Мартынов (сам Мартынов!).
«Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:
— Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».
Благодаря Магденко и Висковатову мы знаем кое-что о приезде поэта в Пятигорск.
… Туча, выглянувшая из-за Бештау, все расплывалась. К пяти часам пополудни уже стало ясно: быть проливному дождю. Духота достигла апогея.
В то время Михаил Лермонтов заканчивал обед с Екатериной Быховец в колонии Каррас. (Это между Пятигорском и Железноводском.) И вел себя, говорят, как ни в чем не бывало: бездумно, беззаботно… «…Лермонтов был у нас — ничего, весел; он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел…» Слова эти из письма Екатерины Быховец от 5 августа 1841 года.
Быховец — последняя в его жизни женщина, с которой он беседовал. Она не удержалась от того, чтобы не присовокупить следующее: «…Он был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство…»
«Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали… Остаюсь покорный внук М. Лермонтов» (Москва, апрель 1841 года).
Лермонтов всегда успокаивал бабушку, зная ее великую любовь к себе.
«Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись; он ужасно самолюбив…» Так писала Быховец.
Знал ли Лермонтов, что Мартынов глуп, что это — напыщенный болван? Понимал ли поэт, что опасно сближаться с глупцом, тем более — самолюбивым? Разумеется, тот, кто написал «Героя нашего времени», все знал и все понимал. Но, видимо, не до конца. По доброте своей мог ли он подумать, что Мартынов всерьез будет целиться в сердце — в самое сердце! — друга? Петр Бартенев, знавший Мартынова, писал: «…Н. С. Мартынов передавал, что незадолго до поединка Лермонтов ночевал у него на квартире, был добр, ласков и говорил ему, что приехал отвести с ним душу после пустой жизни, какая велась в Пятигорске».
Петр Мартьянов писал, ссылаясь на своего знакомого поручика Куликовского: «Всякий раз, как появлялся поэт в публике, ему предшествовал шепот: «Лермонтов идет», и всё сторонилось, всё умолкало, всё прислушивалось к каждому его слову, к каждому звуку его речи». Поскольку все это сказано много лет спустя после гибели Лермонтова, нет ли здесь невольного преувеличения? Ведь имя Лермонтова, образ его в третьей четверти девятнадцатого века воспринимался иначе, чем в 1841 году. И это естественно, если только речь не идет о людях, подобных Белинскому, Ростопчиной или Боденштедту.
Меня интересует вот что: воспринимали ли в то время поэта так, как сообщает Куликовский, скажем, Мартынов, Васильчиков, Столыпин, Глебов, Трубецкой? Знали ли они того, другого Лермонтова, автора сборника стихов и «Героя нашего времени»? Нет, не знали, иначе бы спасли его от смерти.
Константин Симонов писал: «В смерти Лермонтова меня больше всего поражает то, что мы еще и сейчас, через 130 лет после нее, никак не можем с ней примириться». Это очень верно: примириться не можем.
Михаил Дудин в своем стихотворении не в состоянии удержаться от гнева. И это сто лет спустя! Он восклицает, говоря о дуэли: «Я вспомню это и застыну у гор и солнца на виду. Ты жив еще, подлец Мартынов. Вставай к барьеру! Я иду!»
А нашелся ли в то время хотя бы один человек, который вызвал бы на дуэль убийцу Лермонтова? Увы, нет! Зато нашлись те, которые поносили. И кого же? Убитого поэта!..
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
В пять часов пополудни или около того Лермонтов все еще был в Каррасе, что в семи верстах от Пятигорска. Он прощался с Быховец. После обеда. Это она пишет: «Уезжавши, он целует несколько раз мою руку и говорит: «Cousinе, душенька, счастливее этого часа не будет больше в моей жизни…» Я еще над ним смеялась…»
Священник Эрастов был весьма определенного мнения о Лермонтове. Тот самый Эрастов, который отказался отпевать мертвого поэта. Тот самый Эрастов, который донес на протоиерея П. Александровского. А донес потому, что протоиерей проводил тело поэта до могилы.
И этот священник был, разумеется, не один. У него имелись единомышленники не только здесь, в Пятигорске, но и там, в Петербурге. На самом верху.
Эрастов рассказывал Э. Ганейзеру: «От него в Пятигорске никому прохода не было. Каверзник был, всем досаждал. Поэт, поэт!.. Мало что поэт. Эка штука! Всяк себя поэтом назовет, чтобы другим неприятности наносить!.. Видел, как его везли возле окон моих. Арба короткая… Ноги вперед висят, голова сзади болтается. Никто ему не сочувствовал».
А разве пророк может рассчитывать на сочувствие людей, подобных Эрастову и Чиляеву? Разве пророк не все предвидит? Не он ли писал о судьбе пророка? «Смотрите ж, дети, на него: как он угрюм, и худ, и бледен! Смотрите, как он наг и беден, как презирают все его!»
И, кажется, это были последние слова поэта-пророка, сказанные им стихами на Кавказской земле.
… Черная туча заволокла полнеба. Она наступала все быстрее, сгущая духоту. Наступала она неумолимо, скрывая солнце. Вместе с нею шли и ранние сумерки. Уже гулко громыхало.
Однако дождя еще не было.
Время подвигалось к шести. Лермонтов скакал на своем коне из Карраса к подножию Машука. Он заметно торопился.
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
А случилось это в доме Верзилиных. В этом доме с матерью жили три молоденькие и премилые сестрицы. У них часто собирались молодые люди. В том числе ближайший их сосед Михаил Лермонтов. Явился сюда и этот, Мартынов.
Здесь и произошла известная ссора, ставшая роковой. Пустячный был повод к ней. Лермонтов что-то сострил, по своему обыкновению. Нарисовал в альбоме две-три карикатуры на Мартынова, что был при бакенбардах, усах и кинжале. Молодые люди посмеялись. Девицы хихикнули. А Мартынов нахохлился… Обиделся… Возможно, шутки были чуть позлее обычных… Думаю, что Белинский или тот же Лорер не обиделись бы.
Какие же имеются документы насчет этой ссоры у Верзилиных? Собственно, документы эти — письма, воспоминания, признания.
«Однажды на вечере у генеральши Верзилиной, — сообщает князь Васильчиков, — Лермонтов в присутствии дам отпустил какую-то новую шутку, более или менее острую, над Мартыновым. Что он сказал, мы не расслышали; знаю только, что, выходя из дому на улицу, Мартынов подошел к Лермонтову и сказал ему очень тихим и ровным голосом по-французски: «Вы знаете, Лермонтов, что я очень часто терпел ваши шутки, но не люблю, чтобы их повторяли при дамах…»
Из этого ясно одно: Мартынов не любил шуток — обычный удел людей недалеких!
Быховец уточняет, что это были за шутки Лермонтова: «Он его назвал при дамах m-r le Poignard и Sauvage'oм». Что значит по-русски: г-н Кинжал и Дикарь.
Сам Мартынов, отвечая на вопросы суда, писал: «Остроты, колкости, насмешки на мой счет… Просил его перестать, и хотя он не обещал мне ничего, отшучиваясь и предлагая мне, в свою очередь, смеяться над ним, он действительно перестал на несколько дней…»
Вот, по существу, и все. Неужели Лермонтов не видел и не понимал, с кем имеет дело?!
Лермонтов привез с собою в Пятигорск двух крепостных людей: конюха Ивана Вертюкова и Ивана Соколова — камердинера. Оба, разумеется, из Тархан. А прислуживал поэту Христофор Саникидзе.
Держал поэт двух лошадей. Говорят, были они великолепны. Мартьянов передает со слов Саникидзе, что «Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава… С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого камердинера своего любил как родного…» Вот еще любопытная деталь: «Саникидзе говорит между прочим, что Лермонтов умел играть на флейте и забавлялся этой игрой изредка… Много говорить он не любил. Обыкновенным времяпрепровождением у него было ходить по комнате из угла в угол и курить трубку с длинным чубуком. Писал он более по ночам, или рано утром, но писал и урывками днем, присядет к столу, попишет и уйдет. Писал он всегда в кабинете, но писал, случалось, и за чаем на балконе, где проводил иногда целые часы, слушая пение птичек».
Еще одна подробность: «главный лекарь», титулярный советник Барклай де Толли признал Лермонтова и Столыпина больными и «подлежащими лечению минеральными ваннами».
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
Мартынов — в своих ответах суду: «Я первый вызвал его. На другой день описанного мною происшествия Глебов и Васильчиков пришли ко мне и всеми силами старались меня уговорить, чтобы я взял назад свой вызов». Мартынов упрямится. Полагает, что у Лермонтова нет и тени сожаления о случившемся.
А что делали в это время Столыпин-Монго, Трубецкой, Васильчиков и Глебов? Есть свидетельство, что секунданты употребили все средства примирить поссорившихся. И Лермонтов был согласен. Однако Мартынов не соглашался…
И дуэль была решена. Все разворачивалось по намеченному сценарию: «…Его убийца хладнокровно навел удар… спасенья нет: пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет». Неужели Лермонтов писал свою биографию даже в этих своих стихах?
Условия дуэли жесткие: пистолеты «кухенрейтеры» — крупного калибра и дальнобойные. Расстояние между барьерами — пятнадцать шагов. От барьеров в каждую сторону — еще по десять шагов. От крайних этих точек, то есть с расстояния тридцати пяти шагов, — сходиться. Официальные секунданты: Глебов и Васильчиков. Имена Столыпина и Трубецкого, присутствовавших на дуэли, не назывались на официальном следствии, дабы оградить их от «неприятности».
Когда противники сходились — дождь уже шел и «мешал» Мартынову целиться. Бетлинг рассказывает со слов Мартынова: «Мартынов удивился, почему не стреляет Лермонтов…»
Нет, не мог стрелять Лермонтов. Не мог поэт стать убийцей. В отличие от некоего Мартынова: этот целился долго-долго, весьма тщательно. Уж очень, очень хотелось ему убить этого Лермонтова. Убить во что бы то ни стало. Уложить на месте. Выместить свою звериную злобу…
А эти? Эти четверо? Пусть все они были моложе Лермонтова, но ведь несмышленышами не были. Васильчиков, например, несмотря на свои двадцать два года, приехал на Кавказ, чтобы ревизовать военные организации. Убийца был старше его на три года. Остальные же примерно в этом же возрасте. Самому старшему из всех — Лермонтову — не исполнилось и двадцати семи…
Александр Блок писал: «В минуту команды «сходись» Лермонтов остался неподвижен, взвел курок и поднял пистолет дулом вверх. Лицо его было спокойно, почти весело». Истинно сказано: «И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить…»
Дождь все усиливался. Лермонтов стоял правым боком к противнику. Геройски. А убийца тщательно целил. Никак не хотелось ему промахнуться.
И не промахнулся…
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
Нет, Смерть уж стоит на склоне Машука. И судьба поэта решена. Прав, прав Омар Хайям: «Бог нашей драмой коротает вечность: сам сочиняет, ставит и глядит». Он уже сочинил сценарий и ничего в нем не пожелал изменить. До бабушкиных ли ему печалей?..
Александр Кривицкий как бы переносится в тот несчастный день 15 июля 1841 года. Он пишет: «Узкая, продолговатая поляна, окаймленная тогда кустарником, а теперь зеленой хвоей деревьев, наполнилась негромким говором, отрывочным восклицанием шестерых, совсем еще молодых мужчин. Темно-зеленое форменное сукно казалось черным в надвинувшихся тенях, — над головой клубились мемориальные тучи. Тускло отсвечивало золото погон. Их было здесь шестеро: дуэлянты, два секунданта, два свидетеля. Шестеро участников и свидетелей великой драмы русской жизни».
Да, так было…
Его тело перевезли домой поздно вечером. Извозчики не желали ехать в «такую даль» и в «такую грозу». По тем же причинам не могли раздобыть лекаря, чтобы оказать помощь тому, кто лежал на траве под Машуком, чья голова покоилась на коленях Столыпина…
Потом положили на диван. Позже перенесли на стол. Рана была смертельной: пуля пробила печень, легкие, сердце. Хорошо целил Мартынов!
Поэт лежал на столе. Художник Роберт Шведе «снял» портрет покойного. Но рядом не оказалось Эккермана, который мог бы сказать о Лермонтове: «Совершенный человек лежал предо мною во всей своей красоте, и, восхищенный, я на мгновение позабыл, что бессмертный дух уже покинул эту оболочку. Я положил свою руку на его сердце — оно не билось…»
Эрастов отказался отпевать. Уговорили Александровского. С трудом удалось пригласить военный оркестр.
Мартынов сидел под арестом, и его выпускали гулять только вечером. (Потом он уедет в Киев. Там ему положат церковное покаяние. А уж после, проезжая как-то мимо Тархан, навестит могилу Лермонтова…)
На третий день после дуэли, то есть 17 июля, Лермонтова погребут на Пятигорском кладбище. Его проводят в последний путь товарищи по военной службе.
Саникидзе сожжет окровавленный сюртук. Писари составят опись имущества поэта — оно сплошь походное, даже — «складной самовар».
Через год, весною, его тело перевезут в Тарханы. Это будет его последний путь на север.
А бабушка? Она найдет в себе силы, чтобы погладить свинцовый гроб… И тихо спросит:
— Здесь? Мишенька?
Она еще дышит, сердце бьется, но она уже мертва. Разве может жить Елизавета Алексеевна без Миши?
Так закончится его земная жизнь. И начнется великая жизнь поэта в веках.
«… Милая бабушка, будьте здоровы и уверены, что бог вас вознаградит за все печали…»
1970–1975
СКАЗАНИЕ ОБ ОМАРЕ ХАЙЯМЕ
Читающему эту книгу
Время меняет все: оно сильнее песчаной бури в пустыне, с ним даже не сравнится мощь океанского прибоя. Его особенность заключается в том, что действует оно исподволь. Когда спит весь мир, когда утихают бури и прибои — не спит только Время: его сила в постоянном бодрствовании и великой работоспособности. Оно даже сильнее огня, который так обожал Зороастр, или Заратуштра[2]. Может быть, в Ахримане — начале всяческого зла и тьмы — и заключена часть грозной силы Времени. Об этом еще надо подумать, освежив в памяти все, что говорили зороастрийцы-огнепоклонники в письменах своих.
Время способно низвергнуть большой город и возродить к жизни незаметное поселение. Так, например, случилось с некогда великолепным Нишапуром и некогда жалким Ноканом. Последний сделался столицей нынешнего Хорасана — Мешхедом, а первый — простеньким городком, главная достопримечательность которого — могила Омара Хайяма. Не будь здесь этой могилы, что бы сталось с Нишапуром?! Едва ли спасли бы его даже копи, в которых добывается знаменитая бирюза.
Кого после этого может удивить утверждение, что господин Рахмат Даштани неузнаваемо изменился? Он уехал в Париж цветущим человеком — молодым львом, а вернулся в родной Нишапур стариком. Он был богат и славен и превелик умом и ученостью. Но что он сделал за свою жизнь? Чем прославился? Во имя чего копил он знания свои? И на что потратил деньги, доставшиеся ему от родителей? Теперь это уже вопросы праздные и представляют лишь частный интерес для людей, живущих в переулке Моштаг. То есть для ближайших соседей господина Даштани.
Я с трудом обнаружил переулок Моштаг, проплутав по улицам Алиов и Арк, Фирдоуси и Даран и трижды пройдясь по узеньким Map-Map и Чахар-рах. Мало кто знал дом господина Даштани — этого анахорета-добровольца. Мне сказали, что юность свою провел он в этом городе, учился здесь же, потом в Мешхеде и Тегеране.
Господин Асефи — смотритель мемориала Омара Хайяма — наговорил о нем много любопытного и очень советовал побеседовать с ним. Не преминул также сказать и несколько слов о странностях Даштани. Самая главная из них — затворничество. И неизбывная любовь к Омару Хайяму. Что общего между аскетом и блистательным жизнелюбом Хайямом?
Рахмат Даштани в свое время покинул Тегеранский университет и поступил в Сорбонну. Прожил в Париже без малого сорок лет и, подобно Хайяму, вернулся в родной город.
Я все-таки нашел Рахмата Даштани. Пожилая служанка, оказавшаяся азербайджанкой из Решта, несколько оттаяла, услышав мою не очень связную азербайджанскую речь. Я заявил, что не уйду, пока не увижу господина Даштани. Вдруг появился и сам хозяин дома. Он был высок, сухощав и сед, с большими черными глазами. И, я сказал бы, при полном параде: белоснежная рубашка, модный галстук, серый костюм из материала, именуемого, кажется, «тропикалъ».
Он протянул тонкую, холеную руку и провел меня в тесную гостиную, затемненную металлическими жалюзи. И тотчас же перешел на чистейший русский язык. Я ему тут же высказал все, что думаю о Нишапуре, об Омаре Хайяме, об ученых трактатах и поэзии его.
Служанка принесла нам чаю.
— Сколько у вас времени? — спросил меня господин Даштани.
— Если речь идет о Хайяме — сколько угодно, — так сказал я.
— Вы о нем много прочитали книг?
Я ответил господину Даштани: почти что все, что есть на свете (это была неизбежная в ту минуту гиперболизация). Он улыбнулся.
— В таком случае, — сказал он, — я не буду касаться книг. Совсем не буду. Я расскажу о том, что удалось мне установить по старинным рукописным фрагментам и народным преданиям. Может быть, вам это пригодится.
Говоря откровенно, я был вне себя от радости: это как раз то, что мне особенно необходимо!
— Первое, — сказал очень тихо господин Даштани, — Омар Хайям был Человек. — И сделал долгую паузу.
По-видимому, это банальное утверждение было высказано неспроста. Я слушал внимательно.
— Не надо делать из него ни пьяницу, ни трезвенника, ни аскета, ни ловеласа в стиле французских романов прошлого столетия. Он был такой же, как все мы: холодал и голодал порою, жил прекрасно порою, много думал и много работал. Но при этом успевал и любить. Кого? Я бы сказал так: Человека вообще. Может, вы спросите: а любил ли женщин? Я скажу вам: да, и очень! Вы в этом убедитесь из моих рассказов. Учтите: в двадцать семь лет Омар, сын Ибрахима, по прозвищу Хайям, то есть Палаточник, был уже известным ученым и статным мужчиной.
И он стал рассказывать…
Я записывал самое главное конспективно, чтобы уже там, в Тегеране, в «Парк-отеле», расшифровать и расширить по памяти свои записи.
Наш разговор затянулся до вечера. Но не закончился. Наутро я снова посетил господина Даштани. И мы снова долго, долго беседовали. Точнее, я слушал его, время от времени прерывая вопросами… И я потерял счет времени и выпитым чашкам чаю…
Эта книга в некотором роде следует рассказу Рахмата Даштани. Выражая ему свою благодарность, я отнюдь не хочу перекладывать на него недостатки повествования. Эти недостатки — мои недостатки, и я несу за них полную ответственность. Тот, кто знаком с биографией великого иранского поэта и ученого, знает, сколь скуден фактический материал, а жизнь его, я бы сказал, необъятна. Один в Исфахане месяц — май 1092 года, — о котором рассказывается здесь, мне кажется, в какой-то степени подтвердит это.
Г. Г.
Нишапур, май 1973 года
1
Здесь рассказывается о случае, который произошел в Исфахане возле дома Омара Хайяма
В глухую калитку постучали то ли булыжником, то ли кулаком, крепким, как булыжник. Хозяева явно мешкали, не торопились открывать дверь непрошеному пришельцу. Оставалось сломать запор. Молодой человек огромного роста и атлетического телосложения близок был к этому. По-видимому, он знал, на что идет в это раннее утро.
Но калитка вдруг приотворилась, и грубый голос спросил:
— Кто ты?
— Не важно, — был ответ. — Скажи лучше, кто ты сам!
Привратник — а это действительно был привратник — вышел на улицу. Крепко сбитый раб-эфиоп в голубом халате из грубой, дешевой ткани. Лицо его было черное. Руки тоже черные, а ладони белые, точнее, розовые.
— Мое имя Ахмад, — сказал привратник, подбоченившись.
Молодой человек криво усмехнулся. И спросил:
— Твое место здесь или там, в доме?
— Здесь, — ответил привратник.
— Мне нужен твой хозяин. Я знаю его имя: Омар эбнэ Ибрахим.
— Что же дальше?
— Он, говорят, ученый…
— Тебе все известно?
— Да, мне известно больше, чем ты думаешь.
Эфиоп блеснул огромными глазами и как бы невзначай показал свои жилистые руки, которыми впору гнуть железо на подковы. Однако руки эфиопа не произвели никакого впечатления на разгоряченного пришельца.
— Деньги — еще не все! — вскричал он.
— А при чем тут деньги?
— А при том, что твой хозяин сманил мою девушку, посулив ей золота и серебра.
— Плохи твои дела, — заметил Ахмад невозмутимо.
— Это почему же?
— Зачем тебе девица, которая живой плоти предпочитает мертвый металл?
— Неправда! Он купил ее, купил бессовестно!
Ахмад спросил:
— Ты уверен, что она здесь?
— Да!
— И ты знаешь ее имя?
— Еще бы! Звать ее Эльпи. Ее похитили на Кипре и привезли сюда обманом. И он купил ее! — Молодой человек потряс кулачищем. — Раз ты с мошною — это еще не значит, что тебе все дозволено!
Эфиоп несколько иного мнения насчет мошны и «все дозволено». Он, видимо, не прочь пофилософствовать на этот счет. А может, и позлорадствовать. Подумаешь, какая-то Эльпи?! А сам он, Ахмад? Что он, хуже этой Эльпи? Разве не купили самого Ахмада на багдадском рынке? Если уж сетовать, то сетовать Ахмаду на свою судьбу! А Эльпи что? Ей уготована прекрасная постель, и кувшин шербета[3] всегда под рукою. Не говоря уже о хорасанских благовониях, аравийских маслах и багдадских духах! Ей что? Лежи себе и забавляй господина!
— Как?! — воскликнул влюбленный. — И ты, несчастный, полагаешь, что ей все это безразлично?! Или она любить не умеет! По-твоему, она существо бездушное?
Эфиоп прислонился к глинобитной стене. Скрестил руки на груди и окинул влюбленного полупрезрительным, полусочувственным взглядом: смешно выслушивать все эти бредни!
— Подумаешь, какая нежная хатун! Да пусть эта Эльпи благодарит аллаха за то, что послал он ей господина Хайяма…
— Благодарит?! — негодующе произнес взбешенный меджнун[4]. — А за что? За то, что купил ее любовь? А может, она, принимая его ласки, думает обо мне?.. Может…
Эфиоп перебил его:
— Послушай… Кстати, как тебя зовут?
— Какая разница?
— А все-таки?
— Допустим, Хусейн!
— Так вот, Хусейн. Есть в мире три величайшие загадки. Я это хорошо знаю. И разгадать их не так-то просто. Одна из них — загадка смерти, другая — тайна неба. А третья — эта самая проклятая женская любовь. Ее еще никто не разгадал. Но ты, я вижу, смело берешься за это. Смотри же не обломай себе зубы. Это твердый орешек.
Хусейн был непреклонен в своей решимости. Ему надо поговорить с соблазнителем. Он должен сделать это ради нее и самого себя.
Эфиоп кивком указал на кинжал, который торчал у Хусейна из широкого кушака — шаля.
— А этот кинжал, как видно, будет твоим главным аргументом в беседе? — спросил Ахмад.
— Возможно, — буркнул Хусейн.
Ахмаду очень хотелось отшвырнуть этого непрошеного болтуна, который к тому же еще и грозится, куда-нибудь подальше. У него руки чесались. Но силища этого Хусейна, которая ясно угадывалась, удерживала его. А еще удерживали его постоянные советы господина Омара эбнэ Ибрахима: разговаривай с человеком по-человечьи, убеди его в споре, если можешь, или поверь ему, если нет у тебя никакого другого выбора.
— Хусейн, — сказал Ахмад почти дружелюбно, — найди себе другую дорогу.
— Какую? — Хусейн вздрогнул, словно его змея ужалила.
— Которая попроще.
— Где же она?
— Только не здесь!
Хусейн оглядел эфиопа с головы до ног. «Может, попытаться ворваться во двор и там поговорить с соблазнителем?» — подумал он. Хусейн был уверен, что бедную Эльпи заграбастал этот придворный богатей и теперь надругается над нею. Эта мысль убивала меджнуна.
— Слушай, Ахмад, дай мне поговорить с ним…
Эфиоп покачал головой.
— Только на два слова!
— Нет!
— Я крикну ему кое-что. На расстоянии…
— Нет!
— А если я проникну силой?
— Зачем?
Хусейн кипел от негодования. Убить, растоптать, удушить ничего не стоило ему в эту минуту. Он был готов на все!..
— Пусть он вернет ее, — глухо произнес Хусейн.
— Эту Эльпи, что ли?
— Да, ее.
— Но ведь он купил ее, Ты сам этого не отрицаешь.
— Пусть вернет!!!
И Хусейн сжимает кинжал дамасской стали, который раздобыл еще там, в Багдаде.
У эфиопа иссякает терпение. К тому же солнце начинает припекать. Сколько можно торчать у калитки и вести бесплодные разговоры с этим меджнуном, по уши влюбленным в румийку-гречанку Эльпи? Но Ахмад, памятуя наказ хозяина, пытается быть вежливым:
— Ты не обидишься, Хусейн, если я повернусь к тебе спиной?
— Зачем?
— Чтобы войти во двор.
— Не обижусь, но всажу кое-что меж лопаток.
Хусейн не шутил. Он обнажил кинжал. Эфиоп понял, что не стоит подставлять свои лопатки этому одержимому. Он только поразился:
— Ты так сильно любишь ее, да?
— Больше жизни! — признался меджнун.
— И все-таки я не пущу тебя во двор!
Хусейн зарычал от злости. Неизвестно, что бы он сотворил, если бы не показался сам Омар эбнэ Ибрахим.
Он был в долгополой зеленой кабе из плотного шелка. Белоснежный пирахан[5] узким вырезом охватывал крепкую шею. Светло-карие глаза, каштанового цвета бородка и небольшие усы. И прямой с небольшой горбинкой нос. А над высоким лбом — традиционная повязка, словно бы окрашенная слегка поблекшим шафраном.
Да, разумеется, это был он. И Хусейн узнал его тотчас же. Ахмад попытался стать между ним и своим господином, но Омар Хайям отстранил слугу. Хусейн решил, что этот соблазнитель чуть ли не вдвое старше его и лет ему, должно быть, не менее сорока — сорока пяти.
Омар Хайям глядел прямо в глаза своему сопернику. Будто пытался внушить ему некую мысль о благоразумии.
— Это был ты! — зарычал Хусейн.
— Я тебя не видел ни разу в своей жизни, — сказал Омар Хайям. Голос его был низкий, спокойный и, казалось, немного усталый. Он говорил сущую правду: это какой-то силач-пахлаван, а с подобными нечасто приходится встречаться придворному хакиму[6], по горло занятому своим делом.
— А рынок? — сквозь зубы процедил Хусейн. — Вспомни рынок.
— Какой рынок?
— На котором ты купил мою Эльпи.
— Твою Эльпи? — Омар Хайям удивленно посмотрел на своего слугу и спросил его: — Эльпи принадлежит этому молодому человеку?..
Ахмад развел руками, усмехнулся.
— Не отпирайся, — сказал Хусейн. — Ты знал, что она моя, что я следую за нею с самого Багдада, когда бесстыдно рассматривал ее. Или ты полагаешь, что я ничего не смыслю?
— Нет, — спокойно возразил Хайям, — я этого не полагаю.
Он был ростом ниже Хусейна и чуть ниже своего слуги. Довольно крепкий телосложением, неторопливый в словах и движениях.
— Господин, — вмешался Ахмад, — этот молодой человек утверждает, что сделался меджнуном, совсем ослеп от любви к этой девице.
— А меджнун готов на все! — вскричал Хусейн.
«Он сейчас набросится на господина», — подумал Ахмад.
— Я могу понять меджнуна, — сказал Хайям Хусейну. — Я вхожу в твое положение. Но если ты настоящий меджнун, если для тебя любовь превыше всего, то ты должен понять и своего собрата.
— Это какого же еще собрата? — проворчал Хусейн.
— Меня.
— Кого? Тебя?
— Да, меня, Омара Хайяма.
— Это ради чего же?
— Может, и я меджнун? Может, и я люблю Эльпи? И не меньше тебя.
— Я не верю.
— Ну зачем же я стал бы покупать Эльпи? Скажи на милость — зачем? Чтобы иметь наложницу?
Хайям положил руку на плечо Хусейна. И сказал вразумительно:
— Будь мужчиной. Разве любовь добывается руганью или в драке? Ты можешь пырнуть меня кинжалом, да что в том толку? Я предлагаю нечто иное. Более приличествующее меджнуну и человеку вообще.
Хусейн молчал. Он походил на темную тучу.
— Я предлагаю простую вещь: ты поговоришь с Эльпи, и она решит, с кем ей быть: с тобой или со мною?
— Ты, конечно, уверен в себе…
— Я? — удивился Хайям. — Не больше, чем ты. Что одна ночь для женщины?..
— Очень многое, — хрипло проговорил Хусейн.
— А все-таки — что?
— Она за ночь может и полюбить безумно…
— …или вовсе разлюбить, или возненавидеть, — возразил Хайям… — Так вот: я предлагаю переговорить с нею. Она же с душою! Спросим ее. Пусть выбор будет за нею…
Хусейн усмехнулся. Через силу. Ибо ему было совсем не до смеха. Какой тут смех, если прекрасная Эльпи за толстым дувалом[7], а он, Хусейн, по эту сторону проклятой стены! Не проще ли всадить нож в соблазнителя? И тогда Эльпи может не утруждать себя выбором.
Хайям продолжает свои речи. Нет, он не трусит перед этим вооруженным меджнуном. Он хочет внушить ему, что людям более пристало убеждать друг друга словом, а не кулаками. Любовь всегда обоюдосторонняя: он любит ее, а она его. Женщина здесь даже не половина, а нечто большее: от нее идут главные флюиды любви. Так почему же не спросить ее? Почему бы не узнать ее мнение? Любит она или не любит? И кого она предпочитает? Разве в этом что-то особенное, что-то сверхъестественное?
«Он слишком уверен в себе, — думал Хусейн, все крепче сжимая кинжал. — Или подкупил он ее, или приворожил. Ведь не может быть, чтобы Эльпи, так горячо жаждавшая моей любви, вдруг переменилась?»
— Послушай, Хусейн, — продолжал Хайям, — я вполне верю в твои чувства, допускаю, что Эльпи предпочитает тебя, но я купил ее. Я отдал ее хозяину целую пригоршню динаров[8]. Это золото не было у меня лишним. Оно не отягощало меня. Я купил Эльпи, полагая, что делаю для нее добро. Я и понятия не имел о тебе… Клянусь аллахом!
Хусейн слушал, опустив голову, не переставая думать об Эльпи…
Хайям посмотрел наверх, чтобы по солнцу определить время. Утро уже не раннее — пора ему быть в обсерватории. Но он вынужден терпеливо разговаривать с этим меджнуном. Ибо любовь есть любовь и нельзя от нее отмахиваться, как от назойливой мухи, чьей бы она ни была любовью. Хотя меджнун явно зарвался и потерял всякое чувство меры и мужского достоинства. Хайям подумал о нежной и прекрасной Эльпи и на минуту вообразил, что она может предпочесть ему этого Хусейна, и что тогда? Разлука? Наверное. Впрочем, все в жизни складывается из встреч и расставаний, из радости и горя. Надо быть готовым ко всему! Кому достался этот мир? Даже великие Джамшид или Фаридун[9] не могли удержаться в нем долее положенного срока. Так на что же может рассчитывать простой смертный? Разлука с Эльпи, если суждено этому случиться, не самое страшное в этой жизни, хотя сердце и сожмется от огорчения. И, пожалуй, не раз.
— Я видел, как ты выбирал ее на рынке, — сказал Хусейн.
— Да, выбирал.
— И это не было любовью. Так выбирают и лошадь.
— Возможно. Но я полюбил ее именно на рынке. Я бы не хотел, чтобы она досталась какому-нибудь жирному негодяю. Мне нужна была прислуга. До зарезу…
Хусейн поправил его:
— Не прислуга, а наложница! А я ее собирался взять в жены.
— Это серьезно? — спросил Хайям.
— Клянусь аллахом!
Хайям оправил бородку неторопливым движением руки, вздохнул глубоко, с сожалением поглядел на этого самого Хусейна — неистового меджнуна. А потом сказал:
— Эльпи не может принадлежать двум мужчинам. Я за нее заплатил золотом, а ты готов выкупить ее кровью своего сердца. И это похвально! При создавшихся условиях я могу предложить только одно…
Хусейн спросил нетерпеливо:
— Что именно?
Ахмад на всякий случай приблизился к Хусейну, чтобы вовремя схватить за руку, если тот вознамерится напасть на господина Хайяма.
Омар эбнэ Ибрахим сформулировал суть своего предложения в очень кратких и, надо полагать, справедливых словах. Вот они, его слова:
— Я тебя не знал до сего часа, и ты меня не знал. Между нами не было вражды, и я не мог нанести тебе оскорбление сознательно. Я купил невольницу из Кипра согласно закону. Не я, так другой приобрел бы ее за ту же цену. Теперь выясняется, что ты претендуешь на нее. На мой взгляд, это незаконно, но любовь не всегда считается с законом. Поэтому с заходом солнца я жду тебя в этом доме. Тебе будет предоставлена возможность поговорить с Эльпи. Даже наедине. Это уж по ее желанию. И пусть она скажет свое слово. И я клянусь, что все будет по слову ее… Это справедливо… — Хайям помолчал. А потом спросил: — Что ты скажешь на это, Хусейн?
Молодой человек продолжал стоять насупившись. Рука его сжимала кинжал, готовая пустить его в ход.
Омар эбнэ Ибрахим сказал:
— От моей смерти выгоды тебе не будет, Хусейн. Поверь мне. Я предлагаю нечто более мудрое, чем ты можешь представить себе в эту минуту. Пойди выпей холодной воды, почитай книгу Ибн Сины, которую тебе вынесет Ахмад, и приходи ко мне вечером.
И Хайям пошел своей дорогой.
— Слышал? — обратился к меджнуну Ахмад.
Но меджнун, казалось, ничего не слышал: ведь на то он и меджнун, настоящий меджнун.
2
Здесь рассказывается об Исфаханской обсерватории
Обсерватория в Исфахане, в которой работал Омар эбнэ Ибрахим Хайям, была построена по приказу его величества Малик-шаха. Однако истинным строителем ее следовало бы назвать главного визиря Низама ал-Мулка.
Кто первым приметил Омара Хайяма, когда ему было всего двадцать семь лет? Низам ал-Мулк. Где был в то время Омар Хайям? В Бухаре и Самарканде. Разве так просто было заметить молодого ученого из самого Исфахана? Разве для этого достаточно простого зрения или обычного ума? Нет, разумеется. Его превосходительство видел слишком далеко, его ум работал по-особому, и уши его слышали многое из того, что не слышали другие в этом обширном царстве. Кто доложил об Омаре Хайяме его величеству? Главный визирь. Кто посоветовал пригласить ко двору молодого ученого? Главный визирь. Кто подал мысль о строительстве самой лучшей в подлунном мире обсерватории? Главный визирь. Кто сказал: «Нам нужен новый календарь, который следует назвать именем его величества»? Главный визирь.
Велик Малик-шах, но, как всякому царю, ему нужна правая рука, нужен советник со светлой головой. Разве не таков главный визирь? Именно таков, и словам визиря всегда открыты уши его величества. А ведь это тоже великое искусство — слушать умные советы и поддерживать их. Разве не в этом истинная мудрость правителя?
Его величество и главный визирь — как бы одно целое. Один советует, другой приказывает. Один выполняет необходимое государству через другого. И всегда — словно одно целое. Но это не означает, что его величество схож характером с главным своим визирем. Главный визирь несколько суховат, его правая рука на Коране, его левая рука на сердце, а глаза его зорко следят за выражением лица его величества, а душа ощущает движение души его величества.
Его величество благоволит к главному визирю, он уверен в его способностях, в его уме и энергии. Только при всем этом могла быть возведена эта удивительная обсерватория. Кто имеет подобную? Индостан? Китай? Александрия? Афины или Рим? Такой обсерватории нет даже в Самарканде, который воистину город великих ученых.
Обсерватория стоит на прочном базальтовом фундаменте круглой формы в плане. Над фундаментом высится стена высотою в несколько этажей. Крыша здесь плоская, огромные балки из ливанских кедров прочно соединяют в единый монолит эту кирпичную башню, диаметр которой равен пятнадцати шагам.
На круглой плоской кровле находятся различные астрономические приборы: квадранты, астролябии, огромная армилярная сфера и многое другое. Одни из них сделаны искусными самаркандскими, хорасанскими и исфаханскими мастерами, другие — ближайшими помощниками и сотрудниками Омара Хайяма. Армилярную сферу, например, почти такую же, какой пользовались в свое время Архимед и Птоломей, воспроизвели из меди и латуни Абуррахман Хазини и Абу-Хатам Музаффари Исфизари. Омар Хайям доволен приборами, особенно астролябиями. Подвешенные на перекладинах прочными железными цепями, они, с одной стороны, служили идеальными отвесами, а с другой — давали возможность отсчитывать углы возвышения светил, определять наклонения эклиптики и так далее. Окуляры на алидадах[10] были наиболее удачными из всех, какие только приходилось видеть Омару Хайяму.
Круглая площадка башни была расчерчена линиями, точно делившими ее на триста шестьдесят градусов. Каждый градус был поделен на шестьдесят минут, и линии эти были хорошо различимы сквозь алидадные окуляры.
Главная горизонтальная ось обсерватории, вернее, ее круглой верхней площадки, была точно ориентирована по исфаханскому меридиану, который в расчетах принимался за нулевой градус. Плоскость горизонта воображаемая, разумеется, и отсчеты от нее обеспечивались точностью алидадных осей, мягко и плавно поддававшихся едва заметным движениям руки наблюдателя.
В нижних этажах размещались рабочие комнаты, комнаты для собеседований, комнаты для отдыха и даже для сна. На первом этаже — самом прохладном — можно было подкрепиться пищей, которая доставлялась из кухни, построенной по соседству. Не забыть бы сказать, что на самом верху имелись также и удобные, очень легкие переносные лежанки. Они предназначались для астрономов, ведших ночные наблюдения за звездным небом.
Обсерватория была огорожена высокой кирпичной оградой, а у входа стоял домик для привратника. Одним словом, Омар Хайям и его сотрудники имели все основания быть довольными обсерваторией, лучшей из созданных человеком в то время и до того.
Главные ученые обсерватории — их было пятеро — дежурили поочередно каждые сутки. Вот имена их: Омар Хайям, Абуррахман Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Абу-Хатам Музаффари Исфизари и Меймуни Васети. Были они примерно одного возраста, вместе начинали свою работу в этой обсерватории и с помощью аллаха собирались дожить здесь до конца дней своих в постоянных трудах и наблюдениях. Были у них также и помощники из числа способных молодых исфаханцев — около десяти человек.
По распоряжению главного визиря бумага для обсерватории отпускалась самая лучшая — сорта «самарканди». И чернила были отменными. Всякий мелкий инструмент, необходимый для ученых, доставлялся незамедлительно по первому же требованию.
С высоты обсерватории открывался вид на город и на окрестные горы — голые, выжженные солнцем, похожие на огромные зубы сказочных зверей. Исфаханский оазис благодаря животворной реке Зайендеруд стоял зеленый, жизнедеятельный посреди безжизненной серо-желтой пустыни.
Сюда, в обсерваторию, каждое утро шагал Омар Хайям. Идя по кирпичному мосту через Зайендеруд, останавливался на минуту, чтобы полюбоваться зелеными струями реки и на минуту перенестись в область быстротечной человеческой жизни, которой нет ни начала, ни конца.
3
Здесь рассказывется о линиях, именуемых параллельными
Омар Хайям вошел в обсерваторию улыбающийся, довольный прекрасной утренней погодой и видом своих друзей. Впрочем, Меймуни Васети — широкоплечий, полнеющий, с изрядной лысиной и кареглазый — выглядел бледным и усталым. И это понятно: он провел ночь там, наверху, тщательно обследуя небо и занося каждое новое явление в особую книгу, которая называлась «Суточные изменения небесной сферы».
— Поздравьте меня, — весело проговорил Омар Хайям и сбросил кабу.
Исфизари — высокий и худой, горбоносый шатен — знал об удачной покупке господина Хайяма. Он слегка склонил голову и пожелал успеха заядлому холостяку.
Омар Хайям немного обиделся.
— Почему «заядлому»?
— Тот, кто не женился в сорок четыре, не женится и в шестьдесят.
— Это почему же? Ты знаешь, Абу-Хатам, что я люблю определения точные, доводы ясные. Почему это я, по-твоему, заядлый холостяк!
Исфизари обратился к своим друзьям. Он сказал:
— Если я не прав, пусть рассудят они.
— Пусть! — согласился Омар Хайям.
Меймуни Васети всю ночь наблюдал движения светил. Его взгляд переходил от одного созвездия к другому. А в созвездии Близнецов он обратил внимание на некое свечение, которого не было прежде и которое никем не описывалось. В это утро ум его был поглощен более серьезными делами, нежели проблема холостяцкой жизни господина Хайяма. Он сказал, что никто не может сказать, когда мужчина влезет в хомут семейной жизни. А посему сегодня «заядлый» холостяк, а завтра «заядлый» семьянин. Не так ли?
— Господа, — сказал Исфизари, — наш уважаемый Хайям привел в дом прекрасную румийку с Кипра. Точнее, с невольничьего рынка. Но предупреждаю: она всего-навсего служанка в его доме. — И ухмыльнулся.
— Слышите? — сказал Омар Хайям. — Это сущая правда: именно служанка! И просьба не путать с госпожою дома, как называли жену в стародавние времена. И тем не менее я действительно в хорошем настроении, что, как вам известно, бывает со мною нечасто. Вы спросите меня: почему же у меня такое хорошее настроение? Не правда ли?
— Правда, — подтвердил Лоукари. — Нам небезынтересно знать по возможности больше о своем товарище и наставнике.
Лоукари был малоразговорчивым, сухощавым человеком, настоящим ученым и с виду, и по сути. Провести ночь под звездным небом, наблюдая за светилами, — что может быть лучше? Пожалуй, ничего, если не считать библиотеки, где время проходит еще быстрее за чтением книг. Книги и небесная сфера — вот две любимые стихии Абу-л-Аббаса Лоукари, которому совсем недавно исполнилось сорок три года.
— Ну что ж, — сказал Хайям, — не скрою причину своей радости. — Он прошелся неторопливым взглядом по лицам своих друзей. — Я знаю, что вы только что подумали обо мне и какое при этом слово произнесли про себя. Я знаю это слово, если даже начнете отпираться. — Хайям прищурил глаза, подбоченился, слегка согнувшись в пояснице. — Вы сказали про себя: «женщина». Вы сказали: женщина — причина его радости. — И замолчал, словно ожидая, что его начнут упрашивать продолжать рассказ.
Но все почтительно молчали. Эти воспитанные люди не торопили собеседника, не выказывали своего нетерпения. Они умели ждать…
Хайям махнул рукой. И сказал.
— Женщина — сама собою. Она всегда приносит радость, особенно если ты купил ее по дорогой цене, особенно если вызвал в ком-нибудь зависть и ревность. Но я сейчас не о женщинах. Я всю ночь думал о линиях — самых различных и больше всего о параллельных. Да, да!
— Может быть, мы сядем? — сказал Васети.
В самом деле, почему бы не сесть и не поговорить по душам? А то получается как-то на ходу…
— В таком случае я не скоро отпущу вас от себя, — серьезно сказал Хайям. — Да, да! Потому что эти самые параллельные линии, которые вот уже полтора десятка лет не выходят у меня из головы, — славные линии. Но в довершение ко всему это линии таинственные. Однако я это скорее добавляю для себя, чем для вас. Ибо вы не хуже меня осведомлены об этом. Вот эти самые линии — причина особой радости. Клянусь аллахом!
Ученые сели на ковер. А Меймуни Васети облокотился о небольшую горку жестких подушечек: ночная усталость сказывалась.
— Начнем с самого простого, — сказал Хайям, — с пятого постулата его величества Евклида…
Он замолчал. И все молчали. Ожидая, что Хайям продолжит свою фразу, завершит свою мысль… А он спросил:
— Кто помнит пятый постулат?
Попробовал было припомнить Васети, но где-то на середине осекся. Лоукари тоже запутался в начальной фразе. Хазини сказал Хайяму:
— Зачем ты нас испытываешь? Тебе ничего не стоит прочитать наизусть.
Действительно, память у Омара Хайяма была потрясающая: стоило ему раз пробежать глазами какой-нибудь текст, как он мог с удивительной точностью воспроизвести его спустя месяц или год. Хайям порою даже хвастал немножко этой своей памятью…
— Так слушайте же, — сказал он и процитировал дословно Евклида на арабском языке (из книги, написанной в Каире): — «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых».
Цитата была прочитана без запинки.
— Так, — проговорил Хазини. — А дальше?
— Дальше? Дальше значительно сложнее. Полтора десятка лет тому назад… Нет, еще раньше, там, в Самарканде, я начал решать эту задачу…
— Какую? — спросил Васети.
— Я же сказал: пятый постулат Евклида…
— А зачем ее решать?.. Постулат есть постулат. Это все равно, что доказывать: трава зеленая, а песок серый.
— Не совсем так, — возразил Хайям. — Ты полагаешь, Меймуни, что все те, кто рассматривал этот постулат как теорему, требующую доказательств, были дураки?
Васети сказал:
— Тогда остается предположить, что сам Евклид поместил свой постулат не туда, куда следует…
— Пожалуй, так.
Ученые переглянулись: что это Омар вдруг решил уличать Евклида в неточности? Евклида надо принимать, как он есть. Евклид — бог в геометрии. Вот и все!
— Друзья, — сказал Хайям. — Наукой занимается человек. А человеку свойственно ошибаться, каким бы он ни был великим. Я не могу понять: почему бы не подвергнуть доказательному рассмотрению этот самый, я бы сказал, пресловутый пятый постулат?
— Очень просто! — Васети потер лоб. — Тогда придется построить новую геометрию.
— Необязательно, Меймуни… Доказать — значит утвердить Евклида в самой его основе… Я понимаю, когда Евклид пишет, что «все прямые углы равны между собою» или «ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой», — это не требует никаких доказательств. Это все слишком самоочевидно. А вот что касается двух параллельных линий, тут дело посложнее.
Меймуни покачал головою: дескать, не все понимаю. Остальные молчали, размышляя над словами Хайяма.
— Хаким, — почтительно обратился к Хайяму Исфизари, — вот уже более тысячи лет ученые пытаются, вернее, ломают свои головы над тем, чтобы опровергнуть или утвердить этот постулат Евклида. Но тщетно!.. Может быть, не стоит более заниматься этим и беспрекословно положиться на славного грека?
— Чтобы мысль застыла? — бросил Хайям.
— Нет, почему же? Для мысли простор безграничен. И для приложения ее к чему-либо можно найти массу разных способов.
Хайям налил в чашу воды из кувшина. Отпил глоток. Поставил чашу на столик.
Хазини сказал, что вполне согласен с хакимом. Если в голове засел этот самый постулат, если он будоражит, надо браться за него. Даже безрезультатность в таких случаях тоже можно посчитать за результат. Пусть тысячи лет ломали ученые головы. На тысяча первом году кто-нибудь да постигнет истину. И она может оказаться очень простою. Если постигнет… А ежели нет?..
Хазини переглянулся с Васети. Потом с Лоукари. Как бы ища ответа в их словах, которые готов услышать. Но ища поддержки, разумеется.
Хайям постукивал пальцами о столик и размышлял, не упуская ни единого слова друзей. Он ценил их ум, а еще больше — их откровенность. Они могли бы противоречить даже самому султану, если бы это могло послужить добром научной истине. Друзья не раз вступали в спор с уважаемым Хайямом, глубокоуважаемым хакимом.
Хайям упорно молчал.
— Если постигнет снова неудача, будут думать другие, — сказал Васети, пригубив свежей воды. — Мысль человеческая никогда не устанет, она будет работать вечно.
— Вечно? — задумчиво произнес Хайям.
— Да, дорогой хаким, вечно!
— Это хорошо…
Васети тихо засмеялся. Вечно — это хорошо? Но что такое вечность? Год, два, тысяча лет или тысячи тысяч?..
— Да нет же, — сказал Хайям, — вы не хуже меня знаете, что такое вечность… Вы же помните ту индийскую притчу?.. Ну, насчет алмазного столба.
— Разумеется, — сказал Лоукари.
Васети тоже кивнул. Утвердительно.
— Позвольте, — сказал Исфизари, — я что-то запамятовал… Какой алмаз? Какой столб?
— Ты это серьезно? — спросил Хайям.
— Вполне! Ну могу же я забыть кое-что? Или не могу?
Хайяму нравилась эта притча, и он с удовольствием повторил ее уже в который раз.
— Да ты, наверное, вспомнишь ее, — продолжал Хайям. — Это про алмазный столб… Одного мудреца спросили: что есть вечность? И он ответил: «Я не знаю, что такое вечность, но представляю себе один миг вечности». Его попросили объяснить, что есть миг вечности. И он сказал так: «Вы видите Луну? Вообразите себе столб из алмаза высотою от нас до Луны. А потом вообразите себе, что каждый день садится на вершину столба некая птица и чистит свой клюв об алмаз. Она при этом слегка стирает столб, не правда ли?.. Так вот, — продолжал мудрец, — когда птица опустится до земли, источив весь столб, это и будет миг вечности».
— М-да-а. Я теперь вспомнил эту притчу, — проговорил Исфизари. — Я слышал ее еще в детстве.
— Детская память самая острая, — сказал Хайям. — Но я, надеюсь, не наскучил тебе повторением уже знакомого?
Исфизари был слишком серьезен, чтобы заподозрить какую-либо иронию в словах хакима. И он вздохнул:
— О вечность, вечность…
И в тон ему сказал хаким.
— О бесконечность, бесконечность! — Проговорил он это полушутливо. И уже совсем серьезно, почти озадаченно продолжил: — Видите ли, греки, на мой взгляд, не могли принять как абсолютную данность понятие бесконечности. То есть расстояние, которое нельзя измерить при помощи шагов или движения каравана. Евклид был грек и сын Греции. Причем достойнейший. Разве мог он принять, притом беспрекословно, понятие бесконечности?.. В смысле геометрическом. Что бы он с ним делал? Просто ничего! Поэтому-то, — Хайям положил руки на стол, — он и перенес теорему о параллельных линиях в число постулатов. Если угодно, чтобы не возиться с этим чрезмерно расплывчатым и малодоказуемым понятием — бесконечность!
Меймуни Васети слушал очень внимательно. Он сказал, что все это очень любопытно, но…
Хайям взглянул на него вопросительно. Дескать, что же дальше?
— …но, — продолжал Меймуни, медленно рассекая воздух указательным пальцем правой руки, — но спрашивается: разве понятие бесконечности стало более ясным в наше время?
Хайям не торопился с ответом. Он хотел выслушать своих друзей. Да вообще, можно ли торопиться в таком сложном деле? Легко сказать «бесконечность», а как изобразить геометрически, наглядно, бесспорно? То есть сделать то, чего не могли достичь даже греки…
Лоукари сказал:
— Если возможна такая постановка вопроса, то напрашивается и другая…
— Какая? — Исфизари хотелось поскорее услышать, что скажет Лоукари. А тот, как нарочно, медлил. Наконец сформулировал свою мысль:
— Если мы откажемся рассматривать то, что именуется бесконечностью, перестанем постигать ее в той или иной форме, то боюсь, что мы тем самым выкажем недоверие к человеческой способности с годами мыслить глубже, шире и совершенней.
— О, что я слышу?! — воскликнул Хайям. — Это не слова, но мед для моей души…
Лоукари воодушевился. Он морщил лоб пуще обычного и, как бы пытаясь лучше постичь тот предмет, о котором размышлял, продолжил свое рассуждение следующим образом:
— Параллельные линии и их главное свойство — основа всей Евклидовой геометрии. А геометрия эта естественная, она вполне укладывается в наше представление о мире, нас окружающем. Разве мы не знаем, что такое плоскость, точка, линия? Наш глаз, наши чувства, весь наш разум согласуют наше представление о мире с теорией этого великого грека. Если наука и мыслимое состояние жизни не расходятся в главном, то должны совпадать и частности. И наоборот: совпадение частного или частных явлений предопределяет, точнее, гармонирует с общим. Не знаю, насколько точно, насколько понятно я выражаюсь, однако…
Хайям перебил его:
— А по-моему, ты выражаешься достаточно ясно, и не к чему скромничать сверх меры.
Исфизари держался несколько иного мнения:
— Меня не совсем устраивают отдельные выражения, которые были допущены уважаемым Лоукари.
— Что же, я слушаю, — проговорил Лоукари.
— Наш уважаемый друг сказал: «Если наука и мыслимое состояние жизни…»
Лоукари перебил:
— «Жизни» — в смысле «мира»…
— Пусть будет так… Если они не расходятся в главном… Что это значит? Во-первых, как понимать это самое «мыслимое состояние мира»? Как истинное или кажущееся нам?
— Как истинное, — поправился Лоукари.
— Очень хорошо! Дальше… Во-вторых, не совсем точно сказано относительно «главного» и «частного». Это требует разъяснений, потому что бывают явления в природе, в общем схожие, но по сути своей различные.
Лоукари скрестил на груди руки, задумался. Выслушал своего коллегу до конца и, сделав приличествующую паузу, сказал, обращаясь к Омару Хайяму:
— Хаким, говорят, что истина не познается в скоропалительной беседе и не до конца продуманном разговоре. Не кажется ли тебе, что нам стоило бы поговорить обо всем этом подробнее в другое время?
Хайям сказал:
— Не думаю, чтобы любой ученый спор был бы вреден. Однако есть свои достоинства в продуманном, заранее подготовленном разговоре. Но учтите: бывает мысль, подобная светлячку, — она блеснет неожиданно. И подобная мысль часто бывает весьма важной.
Так беседовали ученые в это утро.
4
Эта глава является продолжением предыдущей
Ученые говорили долго. Это и понятно: когда ум и сердце заняты одним делом, время течет незаметно. Солнце подымается все выше, а глаза этого не ощущают. Жара становится все более жестокой, а тело остается равнодушным к повышению температуры. Ибо и ум и сердце заняты важным делом. Если оно не по душе или не по сердцу, то и солнце припекает сильнее, и часы отсчитывают время очень медленно. Это было известно и в стародавние времена, может быть, раньше, чем жили Джамшид и Фаридун — всесильные цари.
Не менее жестоким, чем жара, бывает голод. Но если человек увлечен, он не замечает даже голода. Более того: говорят, что великий Ибн Сина мог работать сутками, не помышляя о еде и даже воде. Так свидетельствуют люди умные в стародавних книгах, которые есть и в самаркандских, и багдадских, и исфаханских книгохранилищах.
Но зачем ходить за примерами так далеко? Вот сидят нестарые еще люди, умудренные науками, и, позабыв обо всем на свете, беседуют меж собой. Даже тот, кто не сомкнул глаз всю ночь, наблюдая небо, сидит, не ведая усталости, ибо такие люди, как эти, во главе с хакимом Омаром Хайямом, не теряют даром времени и минуты их на вес золота.
Надо сказать, что здесь, на первом этаже обсерватории, за толстыми стенами, не так жарко, как во дворе или на плоской круглой крыше. И тем не менее в Исфахане в это время года — в начале лета — бывает порою так жарко, как только можно вообразить себе. Ибо Исфахан — благодатный оазис среди пустыни, раскаленной докрасна, и эта пустыня, разумеется, влияет на состояние воздуха, на температуру его. Даже за толстыми кирпичными стенами, даже на сквозняке не так уж прохладно, как иногда может показаться. Поэтому необходимо воздать должное выдержке и неимоверному трудолюбию этих ученых.
У каждого из них в руках калям[11] и стопка прекрасной бумаги. И каждый из них записывает свои мысли на бумаге, белой, как хлопок, как снег на Эльбурсском хребте. Потом эти листы попадут в руки к тому, кому поручит дело хаким, и ученые записки будут использованы для общего труда, для отдельной книги…
Хаким с воодушевлением говорил о колее, которую оставляет царская колесница или простая телега, если ее тянуть беспрестанно по гладкой песчаной почве и тянуть по прямой линии. Не есть ли эти линии суть параллельные, ибо колесница или телега может пройти по всей Земле, которая есть шар, наподобие Луны или Солнца? Евклид называет эти линии параллельными. Если на них падет прямая линия и пересечет их, то сумма двух внутренних углов будет равна двум прямым углам. А если нет, то линии непременно пересекутся по одну или другую сторону от прямой, которая падает на две линии…
— Это так, — сказал Исфизари.
С ним согласились все. А хаким спросил:
— Это самоочевидно?
— Да, — ответил Исфизари.
— Прошу вас подумать получше, — попросил хаким.
Он был очень озабочен. Уже позабылся спор с неистовым меджнуном, далеко была Эльпи, и ничто не имело в настоящую минуту столь огромного значения для его земного существования, чем эти странные параллельные линии. Они захватили Хайяма, он был поглощен ими, и друзья его были поблизости постольку, поскольку и их занимали эти странные параллельные линии. Странность этих линий прежде всего заключалась в том, что они оказались, по мнению хакима, не там, где им надлежало быть: среди постулатов, а не в числе теорем. Почему Евклид обозначил явную теорему как постулат? Где-то в глубине сознания — а может быть, как говорил великий Ибн Сина, за сознанием — Омар Хайям чувствовал, что параллельность эту надо еще доказать. И у него было почти готово некое геометрическое доказательство. Оно пришло в голову еще там, в Самарканде. Хаким не раз обращался к нему и в Бухаре, и уже, что называется, вплотную подошел здесь, в Исфахане. Но слово «подошел» — слово неточное. Много лет посвятил хаким решению теоремы, но и сегодня он был так же далек от ее доказательства, как и много лет тому назад. Что-то подсказывало хакиму, что вопрос о параллельных линиях необычный и можно думать, что сам Евклид не одну ночь ломал голову над своим постулатом… Над постулатом ли? О самоочевидном нечего тревожиться. Оно существует и будет существовать и без доказательств. А вот то, что требует доказательств…
Известно, что любое здание зиждется на фундаменте. В фундамент кладется крепкий камень. Он должен быть надежен. А ежели здание дрогнет, тогда виноват камень. Камень, положенный в фундамент.
Таким камнем Евклидовой книги, его учения, являются пять постулатов. Без них нет Евклидова учения. На них стоит оно, подобно незыблемому зданию. И это уже было на протяжении десяти прошедших веков. Эта его геометрия ничем — решительно ничем! — себя не опорочила, ни единая душа не сказала, что из-за нее ошиблись в постройке дворца, канала или в измерении углов треугольника и в прочих важных вещах. Стало быть, учение верно, геометрия Евклида не вызывает сомнений? Получается так.
— Вот ты говорил, — обратился Омар Хайям к Лоукари, — что если общее верно, то справедливо и частное. Евклидова геометрия как таковая едва ли вызывает сомнения. Она давно проверена в повседневных трудах и работах зодчих, ученых и в делах путешественников, требующих знаний. Следует ли из этого… — хаким посмотрел в глаза своему другу, — следует ли из этого, что постулат о параллельных линиях не подлежит какому-либо доказательству, какой-либо проверке? Утверждает ли он себя, исходя из справедливости этой геометрии в целом?
Лоукари провел рукою по лбу. Кашлянул. Выпил воды. Все это так неторопливо, так основательно, что, казалось, он в эту минуту определяет судьбы вселенной на века. Он заметил, что в науке нельзя что-либо утверждать навечно. Завтра явится некто и опровергнет тебя. Разве такого не бывало? Скажем, один ученый по имени Думани (он жил в Мемфисе и почти забыт даже учеными) утверждал, что число небесных светил ограничено одной тысячей, а что все прочие светлые точки — воображение нашего ума или отражение светил от небесного свода, который подобен зеркалу со множеством граней. Но вот явился Архимед, позже Птоломей, и они доказали, что светил гораздо больше. А Птоломей составил точный атлас всех видимых светил. Спустя века выясняется, что светил еще больше, чем это казалось Птоломею. Так же обстоит дело с любой научной истиной: она требует постоянной проверки и обдумывания. Но вопрос о пятом постулате Евклида не сдвинулся с мертвой точки…
— Следует ли из всего этого, — сказал хаким, — что все, кто ломал себе голову, пытаясь найти ключ к его доказательству, были, по меньшей мере, людьми наивными?
— Нет, почему же? — сказал Исфизари. — Просто это были любознательные. Вот я знаю одного старика — живет за рынком — он пытается изготовить колесо, которое будет вертеть само себя. Притом вечно. Я полагаю, что лучше доказывать недоказуемое, нежели брать нож в руки и грабить честных людей на большой дороге…
Ученые рассмеялись. Омар Хайям — непривычно громко, Исфизари — высоким, но тихим смехом, а Васети — басовито, точно откашливаясь, Хазипи — неслышно, как и Лоукари.
— Недурно сказано, — проговорил Хайям.
Васети добавил:
— Это хорошая оценка нашей работы… Представьте себе: пятеро здоровых мужчин на дороге из Исфахана в Шираз. Я знаю хорошее место для разбойничьих дел…
— Это на полпути? За крутым поворотом? — спросил Лоукари.
— Вот именно!
Место, о котором говорил Васети, было пустынно, однако имело выход к некой речке, по которой нетрудно было добраться до самого Персидского залива. Речка — она порою терялась в песках — протекала в глубокой расщелине, удобной для скрытных дневных переходов…
— Если нашу землю принять за огромный шар, — сказал Васети, — а это так и есть на самом деле, то наша колея движущейся телеги в виде двойного кольца опояшет весь мир. Спрашивается, где же бесконечность? — И он уставился на Хайяма.
Тот чистосердечно сказал:
— Напрасно так глядишь на меня. Если бы я знал все это, давно объявил бы себя пророком. Вся загвоздка в том, что я и сам ничего не знаю. И не смотрите на меня как на мудреца, у которого борода трясется от больших знаний. Я всего-навсего ваш товарищ, которому немного больше лет, чем вам.
— О нет! — воскликнул Исфизари. — Я согласен в одном: не надо кичиться своими знаниями. Но и не надо чрезмерно скромничать.
— При чем здесь скромность, господин Исфизари? — удивился хаким. — Надо смотреть правде в глаза и соответственно с нею вести речи. Я люблю определенность. Вы это знаете. Истина такова: я ничего не знаю! Я повторяю эти слова греческого философа, повторяю не стесняясь. Мы должны смело ввести в обиход понятие «бесконечность». Что это? Расстояние до Солнца? До созвездия Близнецов? Или в сто раз большее расстояние? Ни то, ни другое, ни третье! Расстояния, о которых мы говорим, поддаются измерению фарсангами[12], а бесконечность — нет. Если мы этого не поймем, то это значит, что мы ни на шаг не подвинулись вперед после греков. А ведь прошло десять с лишним веков!
Слуга принес холодного шербета. Целый кувшин. Разлил по чашам. Поднес каждому из ученых и молча удалился.
Хайям пригубил, а Васети опустошил тотчас же свою чашу. Остальные не дотрагивались…
— Я открою вам одну тайну, если меня не выдадите, — сказал Хайям. — Эта моя новая служанка дала понять, что хорошо разбирается в любви. Но я не торопился. К ее удивлению. Поймите меня, если можете: чудесная женщина двадцати лет ждала меня в соседней комнате. А я проводил время за бумагами. Под утро она вошла ко мне, но я, оказывается, не заметил ее…
— Что-то непохоже на тебя, — сказал Хазини, до этого молчавший. — Ты сидел за бумагами, а рядом изнывала от любви молодая красотка?
— Да, да! — слишком твердо выговорил Хайям.
Хазиии развел руками: дескать, верить ли? Разве не сам хаким распускает слухи о своей вечной приверженности к вину и женщинам?
Васети спросил:
— А все-таки что отвлекло тебя от любви, о хаким?
— Что? — Омар Хайям весело осмотрел своих друзей, потер руками колени. — Слово «отвлекло» в данном случае не совсем подходящее слово. «Увлекло» будет вернее.
— Пусть будет по-твоему. Что же увлекло?
— Целый день я провел над геометрической задачей. Долго бился. Разумеется, все над теми же параллельными линиями. Я взял четырехугольник, верхние углы которого предположительно прямые. Но это требовалось доказать. Это, так сказать, первое предположение, то есть углы прямые. Второе предположение: углы острые. Третье предположение: углы тупые. Я строил треугольники, опуская на основания их прямые, делил пополам четырехугольники… Словом, делал все необходимое для убедительного доказательства. Потом я предположил, что все углы тупые и все углы острые. Я мысленно вычертил и эти странные четырехугольники и невольно залюбовался ими…
— Более чем странные четырехугольники, — сказал Васети коллегам.
— К чему их приспособить? — прищурив глаза, спросил Омар Хайям.
Ученые молчали, не желая скороспелыми предположениями давать неправильное толкование.
— Эти фигуры меня забавляли весь день и всю ночь…
— Не мудрено, — заметил Исфизари.
— Да, очень любопытные фигуры… — сказал Лоукари.
— Что скажешь еще, господин Лоукари?
— Да ничего…
— Послушайте, друзья мои, — продолжал Омар Хайям, — представьте себе, что вы на вершине правильно наметенного ветром бархана. Этот бархан, на вершине которого стоите вы, расходится во все стороны соответственно правилам, присущим сыпучим телам. Не кажется ли вам, что именно на таком бархане может быть изображен такой четырехугольник?
— На бархане? — спросил Лоукари.
— Я это к примеру. Вместо песка можно взять зерно. Очень много зерна, представляете себе? А вы на самом верху. А под вами четырехугольник. Воображаемый или изображенный меловой краской или каким-либо иным способом. Представляете?
Первым отозвался Хазини.
— Нет, — сказал он.
Остальные согласились с ним. Вполне единодушно. Омар Хайям огорчился. Он порвал чертеж и сказал:
— Пожалуй, вы правы. Забудем об этом дурацком бархане.
5
Здесь рассказывается о встрече Хусейна с Эльпи и о том, что дала эта встреча меджнуну
Она сидела по одну сторону от хакима, а Хусейн по другую. Так пожелала Эльпи. Она не уступила настоятельным требованиям Хусейна остаться с ним наедине.
— Зачем? — спросила она.
— Мы будем откровеннее, — объяснил Хусейн.
— У меня нет от него секретов, — сказала Эльпи и посмотрела в сторону Омара Хайяма. А господин Омар Хайям молчал. Он заявил с самого начала, что сделает все так, как пожелает Эльпи.
— Твоя рабыня? — гневно спросил Хусейн.
— Это женщина, — ответил Омар Хайям.
— Ты же за нее заплатил деньги!
— Да. И немало.
— Значит, ты так уважаешь женщину, что готов заплатить за нее все свои деньги?
Хусейн скрежетал зубами, точно зверь пустыни. Ему хотелось уличить этого благочестивого ученого во лжи, в своекорыстии и, если угодно, в обычном мужском скотстве. А что, разве это не так?! Пожилой мужчина должен понимать, кто ему пара, и не должен зариться на двадцатилетнюю, у которой к тому же молодой возлюбленный. Если бы у него была совесть, он не стал бы отбивать Эльпи при помощи денег. Динары — это еще не любовь. Купленная благосклонность женщины ничего общего не имеет с подлинной любовью. А что, разве не так? Именно так!
Господин Хайям слушает Хусейна с таким равнодушием, что кажется, все это не касается его. Хаким присутствует здесь ради безопасности Эльпи — буйный меджнун способен натворить все, что угодно. Это во-первых. А во-вторых, так пожелала сама Эльпи: она настойчиво требовала этого. Ей не хотелось оставаться с глазу на глаз с Хусейном. Это ни к чему. Что было, то было, к прошлому нет возврата. Судьба повернулась к ней не спиною, а привлекательным лицом. Новый господин не заслуживает того, чтобы его огорчали. Ее мог купить любой мужлан в образе богатого купца. Великий бог соизволил послать ей этого господина, и Эльпи нечего сетовать на свое положение. Впрочем, уже привычное…
Господин Хайям не желает разговаривать с этим Хусейном. Ему претит объяснение с соперником. Любовь — дело двух сердец. Любовь — сугубо личное дело. И при чем тут третий? Нет ничего смешнее или трагичнее, чем объяснение двух мужчин относительно предмета их любви. Это унижает достоинство, сближает человека со зверем. Нет, в любовь двух сердец нечего вмешиваться.
— Ты грубо разорвал нашу любовь, — твердит Хусейн, зло поглядывая на Омара Хайяма.
А хаким молчит. Словно в рот воды набрал.
— Мы любим друг друга…
Молчит хаким, молчит и Эльпи. Она опустила глаза. Ей неприятен этот разговор. Может, она в чем-нибудь и повинна, но в чем? Ее купили по закону, она принадлежит по закону хозяину дома. Теперь уже ничем не поправишь этого. И надо ли что-нибудь исправлять? Кто она, в конце концов? Красивая игрушка в руках всевышнего, или судьбы, или богатых людей?
Эльпи спрашивает Хусейна:
— Скажи мне, что тебе надо?
Эта красивая молодая женщина спрашивает так, что вопрос ее не нуждается в ответе. Разве не ясно по тону ее, по сухо сложенным в короткую фразу словам, что все ею уже решено? Притом бесповоротно. Любовь уходит и приходит новая. Все в этом мире переменчиво. И в первую очередь любовь. Что есть любовь? Влечение души или плоти? Скорее души. Падшая женщина тоже способна любить. Не всякие деньги приносят любовь или нечто похожее на любовь. Все это объяснять Хусейну, молодому влюбленному, разъяренному меджнуну? Напрасный труд!.. Сколько ему лет? Двадцать пять? Разве мало, чтобы понять, что к чему?..
Брови ее, тонкие, как линии на бумаге, подняты высоко. Губы ее, пухлые, алые, созданные для сладких поцелуев, капризно надуты. Ресницы ее, такие длинные, загнутые кверху, замерли в красивой суровости. Пальцы ее рук, длинные как ивовые прутья, переплелись, и все десять длиннющих ногтей сверкают огнем ширазской краски. Высокая шея держит голову ровно и твердо — признак холодной настороженности. О чем спрашивать эту красавицу? Что требовать от нее? Какого ответа? Он написан, этот ответ, на лбу ее, белом и небольшом, на губах ее, он недвусмысленно сверкает в глазах Эльпи. Вся поза румийки говорит «нет». А меджнун все еще с надеждой гладит на нее!
Она сидит на хорасанском ковре, поджав под себя ноги, по-женски красиво, по-женски неотразимо. И глаза меджнуна невольно останавливаются на пальцах ног ее, чистых, как галька в роднике, приятных, как вода в пустыне…
— Скажи мне, что тебе надо? — повторяет Эльпи.
Да, Хусейн понимает, что необходимо ответить на этот вопрос. Разве не должна она знать, чего надо ему? Любви ее, взгляда ее, сердца ее! И он находит в себе силы, этот неистовый меджнун, чтобы заставить язык свой высказать все, что на сердце его.
— Эльпи, мне трудно говорить…
— Из-за моего господина?
— Да. И я скажу кое-что. Хочу, чтобы спала пелена, которая мешает твоим глазам определить, где твой истинный друг… — Он перевел дыхание, попытался забыть о нем, этом господине, нынче молчаливом. — Я хочу напомнить о том, что сказала ты звездной ночью в Багдаде…
— Напомни.
— Ты сказала: «Я твоя навечно». Сказала?
— Да! — Эльпи не повела при этом даже бровью.
— Ты сказала: «Я пойду за тобой в огонь и в воду».
— Верно, сказала.
Хусейн всплеснул руками. Он потрясен. Более того: потрясено все его существо правдивостью ее, прямотой ее. А ведь могла бы отказаться, могла заявить, что запамятовала. Вполне могла! Но нет, она подтверждает его слова. Да еще как! В присутствии своего господина. Ладно, он пойдет дальше, он напомнит ей кое-что, чего она не ждет. И меджнун несется вперед очертя голову. Все ему теперь нипочем!
— Ты целовала меня?
— Да, целовала.
— Я знаю тепло твоих ног.
Она утвердительно кивает.
Меджнун искоса глядит на господина Хайяма, но выражение лица у того отсутствующее. Его будто вовсе нет среди этих стен, словно он далеко отсюда. И это немного смущает меджнуна. Он теряет уверенность, напористость…
— Напоминая обо всем этом, Эльпи, я говорю тебе: оставь этот дом, я внесу деньги за тебя, я сделаю все, чтобы ты была хозяйкой в моем доме.
Но разве не знает она, что нет у него ни денег, ни дома, нет ничего, кроме чрезмерной горячности и желания любить красивую женщину?
— Я соберу деньги… У меня много богатых друзей, которые помогут мне, которые сделают все, чтобы соединить нас. Я и дом найду для тебя, и над ним будет небо такое же, как и здесь, и солнце такое же, как и здесь, и луна тоже…
Она, кажется, делается снисходительнее к нему, доверчивее к словам его. Она говорит тихо:
— Наверное, так…
Хусейн чуть не подпрыгивает от радости. Все как будто идет на лад. Нет, не может любить юная красавица этого пожилого — нет, старого! — человека. Это ясно. Это ясно даже слепому!
— Я не думаю, Эльпи, что твое сердце так быстро может позабыть любящее его сердце. Я говорю «не думаю», а теперь скажу так: я уверен, что два любящих сердца принадлежат друг другу вечно. Не так ли?
И снова, к его удивлению, она говорит:
— Да.
Что он слышит?! Что ему еще надо? Поскорее вызволить ее из этого ада. И Хусейн обращает свой взгляд на господина Хайяма. А тот по-прежнему каменный, по-прежнему отсутствующий. Слышал ли он все, что говорилось здесь?
— Эльпи! — кричит горячий меджнун. — Прошу тебя: скажи господину, потребуй от него своего освобождения на законном основании. Я внесу все деньги, необходимые для этого!
И взволнованный меджнун умолкает. Теперь необходимо вызвать господина Хайяма на объяснение, надо вырвать из него слово. Его молчание не только настораживает, но и озлобляет. Кто может поручиться за долготерпение меджнуна? Разве он не из плоти? Разве он не человек? И он не посмотрит на то, что здесь он в гостях. Ради Эльпи пойдет на все…
А хаким сидит, и дыхания его не слышно. Сущий индийский идол, безжизненный идол. И глаза его полуприкрыты. И руки скрестились на груди. Невольно задаешься вопросом: а слышат ли уши его? Не оглох ли он от любви или равнодушия? Что это с ним творится?
На всякий случай Ахмад стоит за дверью. Нет, нельзя оставлять господина с этим сумасшедшим! Что, ежели Хусейн подымет на него руку? Этого можно ждать от неистового меджнуна. Ибо любовь его есть болезнь его, болезнь сердца, недуг души… Ахмад глядит в щелочку, которая на высоте глаз его. Не спускает взгляда с меджнуна, как орел с ягненка на краю пустыни…
Эльпи молчит. Она молчит напряженно, долго молчит в щемящей тишине, в которой бьются три сердца. Их стук доносится даже до Ахмада. И Ахмад решает, что это есть тишина, полная глубокого значения, тишина чрезвычайная, которая разрывается в конце концов громоподобно.
Эльпи ни на кого не смотрит. Она смотрит куда-то в себя, словно в зеркало… Что-то она скажет?..
«Ежели попросит помощи, пусть не ждет пощады этот ученый соблазнитель. А ежели отвергнет?..» — Так говорит про себя влюбленный Хусейн.
«Ну что ж, — думает хаким, — дело близко к развязке. А этот меджнун очень влюблен, но не в этом беда. Худо, что он вовсе потерял голову или, что еще хуже, глуп от рождения. Сидит себе меджнун, сидит и ждет ее решения. Но какого?»
Эльпи заговорила. Спокойно. Неторопливо. Точно читала по бумаге. Говорила она по-арабски так, что казалось, всю жизнь прожила в Каире или Багдаде. Откуда у нее такой великолепный выговор? Но не будем ломать над этим голову, лучше послушаем ее. Вот ее слова:
— Дорогой Хусейн, я изменяла своему прежнему хозяину, ибо ненавидела его. А за что было любить его? За скаредство? За скотство и грубость? За обжорство и пьянство? И я изменяла ему. И он поймал нас с тобою, и ты был бит. И я была нещадно наказана. Он продал меня. Он разлучил нас. И только великий бог соединил нас в Багдаде. Я любила. Не кривила душой, слушала свое сердце, свою душу.
Меджнун сиял. Будто месяц в ясном небе. Он был рад, у него выросли крылья. Он готов был летать. Нет, не подвела его Эльпи, говорила она сущую правду, не щадя себя, не стесняясь хакима, хозяина своего!
Эльпи продолжала:
— Да, ты знал тепло моих ног. Ты имел все, что хотел. И я не жалею ни о чем…
Меджнун готов встать из-за столика, взять ее за руку и вывести из этого проклятого дома… Но Эльпи продолжает:
— Я не обманывала тебя. И к чему обман? Это худшее из того, что я знаю. Я верила тебе и доверяла. Почему бы и нет? Разве ты плох? Посмотри на себя: ничем тебя не обидел бог. И право, было бы глупо не любить тебя, особенно если рядом с тобой негодяй, мнящий себя великим меджнуном.
Хусейн на радостях потирал руки. Они сейчас уйдут отсюда — в этом он не сомневался. Но куда? Где дом его? Где крыша над головой? Кто построил ее? И когда?
А Эльпи говорит:
— Я отдаю должное твоей смелости и самоотверженности. Кто действовал смело? Ты. Кто не жалел своих сил, чтобы вырвать меня из когтей урода? Ты. Кто не думал при этом о своей безопасности, кто презирал опасность? Ты. Неужели можно забыть все это?
— Нет! — кричит Хусейн, восхищенный ее словами, в которых сплошная правда…
И она вдруг холодно заключает:
— И все-таки, несмотря на все это, я прошу тебя об одном: оставь меня.
Хусейн ничего не понимает. Эти слова плывут мимо него.
— Да, очень прошу: оставь меня. Я объясню тебе почему: я люблю другого. Не будем обсуждать это. Сердце очень часто не подвластно нам. Я остаюсь здесь на законном основании, то есть у своего законного хозяина.
Теперь-то, кажется, он кое-что понял. И тогда, шипя змееподобно, Хусейн вопрошает:
— Ты это говоришь мне? Повтори, что сказала…
Он и приказывает, и умоляет в одно и то же время. Она встает и, не говоря более ни слова, выходит из комнаты. В боковую потайную дверь.
Хусейн не в состоянии даже посмотреть ей вслед. Уперся взглядом в одну точку и словно язык проглотил. Нет, о чем он думает?
Неожиданно голова его падает на грудь. Упирается в нее мощным подбородком. И Хусейн вздрагивает всем телом. Раз, другой, третий… Плачет он, что ли? Да нет же, рыдает! По-настоящему. По-мужски тяжело и неслышно.
Хаким хлопает в ладоши: раз, два!
И тут входит Ахмад. Слуга видит озабоченное лицо хакима и сгорбившегося несчастного меджнуна.
— Ахмад, — приказывает хаким, — вина и еды!
Слуга кланяется и выходит.
6
Здесь рассказывается о странной трапезе
Хусейн все еще сидел, уронив голову на грудь. И рыдал беззвучно, потеряв мужской стыд. В комнате горят светильники — такие высокие, стройные, медно-желтые. Они сработаны исфаханскими чеканщиками. Ширазские ковры утепляли каменный пол, холодный даже летом. Дом этот был специально построен для хакима. Его превосходительство главный визирь Низам ол-Мулк приказал соорудить его, щедро выдавая деньги из казны. Здание без особой роскоши. Оно удобно для жилья, работы и размышлений, но лишено внешней привлекательности. Кажется, строители и не заботились об этом. Дом стоит посреди платанов, и внешность его просто теряется в зелени. Два этажа связаны между собой широкой деревянной лестницей. Она ведет наверх из большой прихожей, посреди которой голубеет водяная чаша мраморного бассейна. Окна высокие и узкие. Внутри здания царит полумрак, следовательно, здесь прохладно, то есть прохладно настолько, насколько этого может добиться опытный зодчий…
Ахмад принес белую скатерть, кувшин вина и фрукты. А также круглый хлеб, белый как снег. Он не спеша разложил все это перед мужчинами, стараясь не смотреть в сторону меджнуна.
Хаким переломил хлеб и протянул кусок меджнуну — грех отказываться от гостеприимно протянутого ломтя.
Меджнун, к удивлению Ахмада, взял хлеб и машинально направил его в рот. И пожевал немного. Безжизненно, безвкусно. А ведь это был теплый исфаханский хлеб!
И в полной тишине хаким обронил:
— Жизнь земная вечна, вековечна…
И снова в комнате стало тихо. Ахмад стоял в стороне неподвижно. Меджнун беззвучно жевал.
Поскольку меджнун молчал, то есть так молчал, что, казалось, не слышит ничьих слов, хаким счел необходимым несколько иначе выразить свою мысль. И он сказал:
— Жизнь беспредельна, и нет у нее ни начала, ни конца, ни каких-либо границ…
Было ясно, что истина, о которой хорошо осведомлены даже носильщики на базарах Исфахана, предназначена для ушей Хусейна. Теперь уже меджнун не мог не отозваться тем или иным образом на эту общеизвестную истину. Ибо ясно одно: если тебе навязывают простую мысль о том, что единица, будучи присоединена к единице, равняется двум, то это кое-что да значит. Неспроста, стало быть, объясняются с тобой простейшими истинами. А зачем говорить об этом за столом? Может быть, для того, чтобы отвлечь внимание от главного? Но разве любовь заноза? Разве ее так просто вынуть из сердца? Нет, хаким затевает долгий и сложный разговор. Это несомненно. Все теперь зависит от Хусейна. Стоит ли вести беседу в его положении? После того, как Эльпи произнесла свои безжалостные и непонятные слова?..
А хаким продолжал:
— Жизнь человеческая, жизнь одной особи есть мгновение. Она сверкает светлячком в беспредельной беспредельности, в неспокойном, извечном потоке…
Разве дервиши[13] не о том же толкуют? Самый последний дервиш в караван-сарае. Разумеется, жизнь одного человека — это вспышка в ночи или при дневном свете. Это миг один-единственный. Кого же может поразить и эта потертая истина?
Однако, как видно, хакиму нужен язык меджнуна, а не истина. Надо развязать язык Хусейну. В этом все дело.
Меджнун вдруг почувствовал приступ голода. Это с ним бывало после душевной встряски. Говоря откровенно, он плохо ел все эти дни. И не ощущал голода. А вот теперь, когда Эльпи вылила на него кувшин холодной воды, когда его потряс невероятный холод, чуть не перешедший в озноб, ему захотелось есть. Тем более что стол воистину великолепен: белая, снежная скатерть, фрукты, белый хлеб и агатового цвета вино. Очень трудно удержаться…
— Друг мой, — говорит хаким, обращаясь к меджнуну, — доставь удовольствие этому дому: попробуй немного, голодный желудок — плохой помощник в любом случае.
И налил вина. Оно заиграло так, что рука не могла не потянуться к чаше. И она, представьте себе, потянулась, и чаша оказалась в руке меджнуна. И губы сами приникли к прохладному глиняному краю. И меджнун отпил вина. А потом быстро осушил чашу и сказал Ахмаду:
— Еще, если не жалко.
Ахмад мигом бросился к гостю и наполнил чашу. Meджнун выпил и эту. И на сердце у него полегчало. И он сказал:
— Насколько я уразумел из твоих слов, господин Хайям, жизнь беспредельна, а человек в ней точно козявка.
— Не совсем так, — возразил Хайям, — я сказал, что человеческая жизнь не долее века простенького светлячка.
— Стало быть, наша жизнь коротка?
— Да, Хусейн уважаемый, и даже очень.
— И что из этого следует? — Меджнун уставился на ученого мужа, на похитителя прекрасной Эльпи. Впрочем, надо разобраться еще, насколько она прекрасна…
— Только одно, — с готовностью ответил Хайям: — Лови миг, живи в свое удовольствие и не осложняй свою жизнь. Особенно неудавшейся любовью.
— Понимаю, — сказал меджнун, — ты хочешь принести мне успокоение. Богатые вроде тебя всегда идут бедным навстречу: сначала обирают их, потом успокаивают стаканом родниковой воды или вина.
Хаким медленно приподнял правую руку. И ладонь его подалась резко вправо, а потом влево: он дал понять, что меджнун не прав.
Хусейн горько усмехнулся. Но, казалось, смирился: и уплетал, что называется, за обе щеки, и запивал вином. Откуда это прекрасное вино? Сказать по правде, он ни разу ничего подобного не пробовал. Может быть, из погребов самого султана? И чем его так остудили? Имеется ли поблизости родник? Или подвал так прохладен, что все стынет небывалым образом? Аллах с ним, со всем этим! Важно, что вино хорошее, холодное.
Омар Хайям объясняет, что он имел в виду, повторяя общеизвестные истины. Говорит, попивая вино:
— Вот ты, Хусейн, сидишь передо мной. Наверное, ты вдвое меня моложе. Наверное, и вдвое менее опытный в жизни. И то, что я скажу, — можешь поверить мне — чистая правда. И все это от чистого сердца. Ты, несомненно, таишь на меня обиду, а может, даже и злобу. Мне тоже не за что благодарить тебя — ты уже доставил много неприятного. А почему?.. Я отвечу тебе сам.
Омар Хайям пригубил — раз, другой, третий. Омар Хайям не спускал глаз с молодого меджнуна. И тот слушал старшего как бы поневоле. Нельзя было не слушать.
— Мы часто делаемся несчастными оттого, что забываем о простых истинах. Мы держим их в голове, как ненужную или малоинтересную вещь. А почему? Почему мы не возвращаемся к ним, простым истинам?.. Почему обижаемся, когда напоминают нам о них?
Меджнун хотел что-то возразить, но хаким жестом остановил его.
— Дай договорить, прошу тебя… Почему я напомнил тебе о бесконечности жизни, о нескончаемой жизни некой субстанции, из которой, как это утверждали еще греки, состоит весь мир, все живое и мертвое? И почему я сказал о мгновенье, в которое мы живем? Я связал вечность и мир, мир и наше краткое существование. Все потому… — хаким сделал паузу. — Все потому, что ты, если действительно любишь эту молодую женщину по имени Эльпи, не можешь не мыслить, не можешь не быть своеобразным философом, неким мудрецом или просто рассудительным. Ты меня понял?
Меджнун кивнул. (Судя по тому, что знал он арабский язык, грамота отнюдь не была чужда ему. Это всегда заметно, когда имеешь дело с человеком грамотным, малограмотным или вовсе не грамотным.) Он сказал:
— В общем, мне понятна твоя мысль, но мне неясно одно…
— Что именно, Хусейн?
— К чему все это? — Он имел в виду и эти разговоры, и эту трапезу.
Омар Хайям рассмеялся, предложил осушить чашу до дна.
— Я ждал этого вопроса. Слова мои направлены только к одному… Я хочу, чтобы ты уразумел хорошенько одну простую вещь: мы живем недолгий срок. Увы, недолгий!
— И что же?
Хаким покачал головой, и взгляд его стал грустным, словно вспомнил он нечто весьма и весьма огорчительное.
— В этот недолгий срок, — хаким, кажется, обращался только к себе, — мы должны уместить и горе свое, и радости. Мы должны и полюбить, и разлюбить, должны очароваться и разочароваться. Многое предстоит пережить. Лоб наш покрывается сеткой морщин. Сердце бьется все глуше и глуше. Мозг устает от постоянных забот. Колени слабеют с годами и пропадает зрение… Я выхожу из дому, ступаю на землю и вдруг ловлю себя на том, что ступил на прекрасный глаз…
— Глаз? — спросил удивленный меджнун.
— На прекрасный, Хусейн, на великолепный глаз!
— Это как же понимать? — Хусейн сам налил себе вина и выпил залпом. Ему становилось все легче и легче.
— Понимать следует в прямом смысле. Я ступаю на прекрасный глаз. И ты ступаешь на прекрасный глаз. Все мы шагаем по прекрасным глазам.
Меджнун подивился этим словам, отставил чашу, перестал есть. Он вытер губы грубым платком, ухватился руками за собственные колени, словно пытался вскочить.
— Мы? С тобою? По глазам?.. По прекрасным глазам? — наконец вымолвил он.
— Да, по самым настоящим, самым прекрасным, которые и плакали, и смеялись. Это были сестры Эльпи, это были ее подруги, ее предки, ее родители. — Хаким наклонился и произнес доверительно: — Кто-нибудь когда-нибудь ступит и на ее глаза.
— На глаза чудесной Эльпи?! — вскричал меджнун.
— Да, — безжалостно произнес хаким.
— О аллах! — Хусейн вскинул руки, закрыл ими лицо и застыл. Так он просидел в полной неподвижности почти целую минуту.
Хакиму тоже тяжело. Но что поделаешь, такова жизнь. Не ему переделывать ее. Так создал ее тот, который над хрустальным небесным сводом сидит и все знает, все зрит и ничего не предпринимает для того, чтобы восстановить справедливость, чтобы не убивать прекрасные глаза, яркие, как звезды в небе.
— Вот видишь, — продолжал хаким, — как скверно мы живем, как жалок наш мир и вместе с ним все мы и как жесток созидатель всего сущего. — Ему хотелось внушить эту мысль молодому меджнуну: — Вот ты расстроен. Нерадостно и мне. Мы оба охвачены жалостью к глазам тех, кого уже нет, мы осознаем несправедливость, царящую в этом мире…
— Это ужасно, — вздохнул меджнун, отнимая руки от побледневшего лица.
— Это не то слово, — сказал хаким. — Несправедливо все от начала и до конца! Кто меня позвал сюда? Он! — Хаким указал пальцем наверх. — Кто гонит меня прочь? Он! Кто заставляет меня страдать сверх всякой меры? Он! А зачем?
Хаким повернулся всем корпусом к меджнуну. Он смотрел на него так, как смотрит великий индусский маг на очковую змею. Омару Хайяму хотелось, чтобы молодой человек сам ответил на этот вопрос — «зачем?». Хаким налил вина и почтительно поднес собеседнику чашу, Меджнун с благодарностью принял ее. Он не мог не принять с благодарностью, ибо слова хакима западали ему в самое сердце, хотя и не совсем понимал он, к чему тот клонит свою речь.
— Не знаю зачем, — чистосердечно признался меджнун и, к своему удивлению, услышал:
— И я не знаю зачем.
— В таком случае где же истина, где правда? — вопросил молодой человек.
Омар Хайям улыбнулся, поднес к губам чашу и сказал:
— Истина на дне.
И выпил. И то же самое проделать посоветовал он Хусейну. И Ахмаду тоже. Хаким вроде бы отшутился. Так подумал меджнун. Однако это было совсем не так.
— Вот, стало быть, дело какое, — сказал Омар Хайям, — живем мы с тобой считанные годы. И Эльпи тоже. Неужели же эти малые годы мы должны отравлять друг другу? А?.. Неужели, уважаемый Хусейн, не хочется тебе прожить эту жизнь красиво? Разве секрет, что мы обратимся в глину? Самое ужасное заключается в том — прошу извинить меня за эти слова! — что даже глаза милой Эльпи не избегнут этой участи. Когда проклятая смерть набьет ей землею рот. Причем безо всякой жалости…
Хаким подождал, чтобы убедиться в том, что слова его действительно произвели впечатление на меджнуна. Тот глядел в полную чашу и молчал. Слушал, не глядя на хакима. А за спиною его торчал недвижный Ахмад с пустою чашей в руке.
— О аллах! — негромко произнес Омар Хайям. — Что же это получается? Дни жизни нашей строго отмерены в небесах, а мы грыземся, как голодные гиены в пустыне. Отравляем существование себе и другим. Я хотел, чтобы ты услышал сам то, что услышал. Из уст самой Эльпи. И чтобы не мучился ты больше. Чтобы не тревожилась и она.
Хусейн горько усмехнулся.
— Ты молод, и ты будешь еще любим. Ты настоящий меджнун, и тебе повезет в жизни. И не раз.
Хусейн медленно встал, чтобы не пролить ни капли вина. Выпил всю чашу и разбил вдребезги, швырнув ее в угол. Вытер губы шатком, злобно повел глазами, из которых впору было сверкнуть молнии, и четко выговорил:
— Будь проклят ты с твоею любовью и твоим учением!
И стремглав выбежал. Совсем как бешеная собака. И откуда-то издали донеслось:
— Мы еще увидимся! Я, я…
Хаким пожал плечами, помял в пальцах кусочек свежего хлеба и поднял глаза на Ахмада.
— Может, я был не прав, Ахмад? А?
Ахмад ничего не ответил.
7
Здесь рассказывается, о чем хаким беседовал с Эльпи
Вечер был тихий и нежный: вверху сверкала луна, за балконом стояли молчаливые кипарисы — они были почти черные на фоне светло-зеленого неба, — пели высоким голосом цикады. Одним словом, такой вечер на руку влюбленным, он помогает высказать то, что не всегда может выразить язык в другое время суток, он возвышает душу и заставляет особенно биться сердце.
А что было бы, если бы вдруг не стало этой огромной луны? Если бы вдруг перестали петь цикады, а кипарисы поникли своими гордыми верхушками?..
Эльпи не представляет себе, что бы стало тогда. Однако бог, создавший все сущее, наверняка придумал бы еще что-нибудь, чтобы влюбленным было хорошо.
Хаким укорил ее. Он сказал:
— Разве не достаточно самой любви? Разве требуется ее расцвечивать как-то по-особенному? Настоящая любовь сама способна светиться, подобно солнцу. Свет луны может померкнуть перед нею.
Она посмотрела на него такими большими, большими глазами. Эта румийка с Кипра все-таки была удивительно хороша!
— О чем ты думаешь? — игриво спросила Эльпи.
— В эту самую минуту?
— В это самое мгновение!
Он колебался: ответить ли ей прямо? Ее тонкие пальцы лежали покойно на груди ее. Но не было в этом кокетливом положении рук и тени женской покорности. Одно сплошное лукавство, выраженное едва приметным дрожанием пальцев…
Потом он перевел взгляд на ее ноги, на ярко-красные с фиолетовым оттенком ногти. Не было изъяна в этих ножках, даже ступни, нежно-розовые, были холеными, как у знатной хатун. Разве не эти ножки обратили на себя его внимание там, на рынке? Разве не их в первую очередь расхваливал ее хозяин — грубый торговец невольниками из Багдада?
И он ответил Эльпи по справедливости откровенно. Он сказал:
— Я подумал о великом соответствии твоих рук и ног. Красота их так необходима! Без нее женщина многое проигрывает.
— А глаза? — спросила Эльпи.
— Глаза всегда привлекательны. В них просвечивает мягкая и нежная душа. Но признаться, гармоничные руки и ноги есть первейшая необходимая женская принадлежность.
Эльпи очень обиделась за женщин. Она переложила руки с груди на колени. А веки опустила книзу, и ресницы при этом метнулись черными молниями. Румийка хорошо знала силу рук своих и чары ресниц своих.
— Ты говоришь о женщине как о каком-то неодушевленном предмете.
— Нет, я говорю о самом главном, что мне нравится в женщине, — сказал Омар Хайям. — И говорю потому, что ты обладаешь всем этим.
— Правда? — шутливо спросила Эльпи. И это вопросительно-шутливое «правда?» было неподражаемо.
Однако хаким оставался с виду спокойным, и это начинало возмущать Эльпи: как, этот пожилой человек до сих пор равнодушен к ней? Спокойно попивает вино, поглаживает бородку, глядит на Эльпи прищуренными глазами…
— А все-таки где твои жены? — неожиданно спрашивает она.
— У меня их нет.
— А жена?
— И жены нет.
— Ты мусульманин? Ты веришь в аллаха?
Он усмехается. Потом задумывается. Хитро поглядывает на нее: зачем это понадобилось ей? Что ей в вере его? Эта красивая женщина… Этот небольшой женский ум… И он говорит:
— А если полумусульманин?
Она удивлена: разве бывают такие?
Он кивает: дескать, бывают.
— Что же другая половина? Как тебя считать по другой половине?
— Тебе это очень хочется знать?
— А почему бы и нет? — Эльпи обнимает руками свои колени.
Ее змеевидные пальцы перед глазами его. Он смотрит на них. Не может оторвать глаз. Они нравятся ему…
— Считай полубезбожным, — говорит Омар Хайям и допивает вино.
— Как ты сказал, мой господин?
И он повторяет, разделяя слоги:
— По-лу-без-бож-ник… — и подчеркивает: — полу…
Эльпи так и не уразумела до конца: всерьез это или в шутку?
— А я верю в своего бога, — сказала она. — Он всегда со мной. Если бы не он, я не выбралась бы живою из множества бед, которые уготовил сатана. Если бы не он, я не оказалась бы у тебя.
Омар Хайям налил ширазского вина, красного, как кровь, и сказал:
— Вот тут ты сама подвела беседу к тому делу, которое меня более всего занимает. Но сначала выпьем.
Он пил с удовольствием, пил, не сводя с нее глаз. Понуждая ее к тому же легкими кивками головы. Они выпили чаши до дна. И она подумала: хорошо, что он полубезбожник. А иначе он пил бы только шербет. Пить только шербет так скучно, особенно если вокруг тебя сама госпожа по имени Любовь, если она царит безраздельно. В прочие времена это не всегда важно, шербет или вино. Можно прекрасно обойтись и водою. Нет, хорошо, что он «полу…». И тем не менее он немного странноват: без жен, даже без жены, пьет вино и называет себя полумусульманином. И это в самом Исфахане!
Он берет ее руку в свои и, поглаживая нежную, белую кожу, говорит очень тихо, но внятно:
— Объясни мне, Эльпи… Скажи по правде… Объясни мне: почему ты все-таки предпочла меня? Почему не ушла к этому молодому, красивому Хусейну? Ты же знала, что я отпущу тебя, если ты этого пожелаешь. Что я только для вида стану тебя удерживать. Что от тебя зависит все, от твоего решения. Пойми меня: я старше тебя вдвое… Я богаче Хусейна, но это для тебя, возможно, не имеет значения. Я хочу знать, Эльпи: насколько искренне твое желание остаться здесь? Отвечая мне, ты можешь быть убеждена в том, что удерживать тебя силой не стану, мне не нужно и выкупа, ты будешь свободна тотчас же и можешь уходить к… Хусейну, который тебя обожает.
Эльпи сказала:
— У меня тоже есть к тебе слово. Я тоже не все понимаю.
— Что именно? — он был немножко удивлен.
— Может быть, ты ответишь сейчас, и это поможет мне.
Она бросила на него взгляд, тот самый, который увлекает мужчину в определенном направлении и помимо его воли. Настоящий меджнун всегда покорен ему: это кролик под суровым взглядом змеи. Истинно так!
— Я очень тебе не нравлюсь? — Глаза Эльпи — две острых стрелы. И устремлены они на Омара Хайяма.
Он что-то хотел сказать.
Она продолжала:
— В том, что я тебе не правлюсь, — почти уверена. Но я не знаю, почему ты в таком случае не продашь меня или почему не заставляешь прислуживать тебе, как служанку? Одно из двух: или я женщина, или я обыкновенная служанка, годная только для уборки или готовки пищи. Я здесь не день и не два, но не ведаю, кто я. А я должна это знать!
Она говорила еще в этом же роде, понемногу распаляясь, повышая голос, то есть выказывая все признаки женского возбуждения. Возбуждения приятного, притягательного, подобающего красивой женщине. Эльпи была то ли рождена для любви, то ли умелые гранильщики алмазов сделали из нее женщину настоящую — с горячим сердцем, нежной душою, непреклонную в любви и жаждущую любви.
Вопрос ее был не из простых. На искренность следует отвечать искренностью. Любовь на этой земле должна цениться превыше всего. Ее не возьмешь с собою на тот свет. Невозможно любить в кредит. И не надо упускать ее, если это любовь подлинная, а иначе обкорнаешь себя, и притом беспощадно.
Он все еще поглаживал ее руку, а она ждала его слов.
— Я не знала еще столь терпеливого мужчину…
— Да?
— Или столь холодного…
— Возможно…
— Или у тебя целый гарем в твоей обсерватории?
— Гарема у меня нет, — проговорил он.
— В таком случае я не нравлюсь тебе! — воскликнула Эльпи и заплакала.
Признаться, Омар Хайям был удивлен и озадачен. Не ждал от нее такого. Значит, в ней билось сердце пылкое и любвеобильное. Но откуда такое у продажной женщины? И он тут же поймал себя на том, что несправедлив к ней. Разве не была она игрушкой с отроческих лет? Разве сильные мира сего щадили ее? Разве была она в глазах их человеком, равным им во всем? И кто щадил ее самолюбие? Кто уважал в ней человека? Она стала такою, какою стала. Нельзя от нее требовать чего-либо необычного. И зачем, собственно, требовать?..
— Хорошо… — сказал он.
Она отвернулась, чтобы скрыть свои слезы.
— Хорошо, — продолжал он, — отвечу тебе.
Омар Хайям дал ей возможность прийти в себя, подал вина. И сказал так:
— Нет, Эльпи, ты нравишься мне. Может быть, со временем я и сделаю глупость и влюблюсь в тебя. Именно поэтому я бы не хотел ранить тебя неосторожным обращением, не хотел заявлять своих прав. Мне нужна женщина, а не существо в образе женщины. Я хочу чувствовать душу ее, любя ее оболочку и откровенно любуясь ею. Признаюсь, я не из тех, кто ценит только душу. Она должна находиться в соответствующей оболочке. Разве я не вправе ждать, набравшись терпения, ответного чувства?
— Вправе, — прошептала Эльпи.
— Я не хотел бы, чтобы меня любила невольница только потому, что я ее хозяин.
Кажется, он растопил холодок, на мгновение остудивший ее сердце. Кажется, он в чем-то разубедил и в чем-то убедил ее.
Он привлек к себе Эльпи, и она была податлива. Ее соразмерный стан был совсем рядом, она приникла к нему легко, как мотылек. И плоть ее была невесомей дыхания ее.
— Ты обезоружил меня, — сказала она со вздохом. Ее щека лежала на его щеке. Она поглаживала его мягкую, шелковистую бороду. — Говорят, у мужчин с такой бородой и характер мягкий.
Она смотрела на него глазами, полными доверчивости. Она как бы искала покровительства…
Луна поднялась выше. Она стояла в дверях, готовая перешагнуть через порог и войти в эту обитель, чтобы разделить трапезу и разжечь сердца пламенем любви. Небо еще больше позеленело, оно стало похожим на луг, напоенный влагою Зайендеруда. А кипарисы вовсе помрачнели, стояли непреклонно гордые. Прохладою веяло от вечернего пейзажа, и хорошо, что в эти часы не горели светильники — они только помешали бы чудному мгновению, которое могло растянуться на часы.
Да и посвист цикад слышался явственное, чище. Он подымался в вышину, и странное ощущение тишины и покоя охватывало все живое. Небо и земля сближались в едином порыве, как два любящих сердца, и оттого мир становился еще прекрасней и привлекательней.
Держа Эльпи в объятиях, Омар Хайям не переставал любоваться небом и землею под небом…
Теперь уже ненужным казался ее ответ, которого он ждал в начале трапезы. Но человек есть человек, и он вечно жаждет подтверждения своим мыслям. Это у него вроде болезни. И он напомнил:
— Эльпи, ты обещала сказать… Почему я, а не Хусейн!
Она рассмеялась. И зубы ее сверкнули. И шея ее как снежная, и в глазах ее все живые струи Зайендеруда. И вся Эльпи как ртуть, как живая вода из сказок древности. Вся она как сладкая песня в маленьком оазисе. Такая песня лечит, словно лекарство, такая песня — свидетельство победы над стихией пустыни и стихией смерти.
Она приблизила к нему свои губы, накрашенные красной помадой из Шираза, и сказала:
— Ты человек умный, а ждешь пустяка. Разве не ясно тебе, что ты мой возлюбленный, что я вижу сквозь твои одеяния то, что видит не всякий женский глаз, что сердце твое полно любви, а голова твоя — голова пророка? Почему же я должна предпочесть другого, почему должна мерить любовь мерилом лет?
Омар Хайям признал ее ответ достойным ее.
Он поцеловал ее в губы, жаждавшие любви, и рука его легла на грудь ее, твердую, как гранат.
Он мельком взглянул на любопытствующую луну и бездумно отдался этой молодой, искусной в любви женщине.
8
Здесь рассказывается, о чем Омар Хайям беседовал с главным визирем
Главный визирь его превосходительство Низам ал-Мулк пребывал в прекрасном настроении. Неторопливо поглаживал свою черную бороду. И в глазах его отражалась полная луна. Он восседал на жестких подушках, и розовая скатерть, похожая на гигантский лепесток персикового цветка, лежала на каменном полу между визирем и Омаром Хайямом.
Нынче было светло и без светильников и очень тепло.
Его превосходительству хотелось сегодня вечером подольше удержать возле себя этого ученого, которого он пригласил ко двору его величества после того, как слава Омара эбнэ Ибрахима вышла за границы Бухары, Балха и Самарканда, где умеют ценить слово мудреца.
Ученый был почтителен: он слушал слова визиря обоими ушами, он глядел на своего покровителя в оба глаза, и в то же время он внимал легкому свисту цикад и следил за причудливыми сочетаниями лунного света и теней на широкой террасе. Казалось, весь огромный Исфахан нынче плывет, подобно ладье, в сплошном лунном молоке под небом, наполненным запахами всех цветов мира.
Луна нынче тем более была удивительна, что стояла она белоснежным агнцем посреди сплошной бирюзы — так красива была в эту майскую ночь небесная сфера! И Зодиак двигался медленно, чтобы все светила вселенной могли полюбоваться прекрасным Исфаханом.
Его превосходительство строг в правилах, набожен и точно следует учению пророка. Поэтому не слышно звуков ни чанга[14], ни барбата[15], и рабыни не услаждают мужских глаз своими жаркими плясками. И не раздаются слова нежных газелей. Все значительно проще. Темный нубиец прислуживает мужчинам. Он старается держаться в тени, чтобы не становиться между луной и его светлостью — главным визирем Малик-шаха. Нубиец высок, гибок, словно кипарис, и молчалив…
Лунный свет падает на лицо хакима. Глаза его широко открыты, небольшая бородка, словно легкая повязка, тянется от уха и до уха.
Нубиец принес сосуд с шербетом, два тонкостенных фиала, сушеных фруктов, миндаля в сахаре. Его светлость притронулся к кувшину: от сосуда повеяло прохладой. И его превосходительство подумал про себя: «Это хорошо». Потом он взглянул на раба своего вопросительно, не роняя ни слова. Нубиец не понял его. Оглядел суфру — не позабыл ли поставить чего-нибудь? Но все как будто было в порядке.
— А еще? — сказал визирь.
Нубиец не понимал господина, он не трогался с места, и его светлость улыбнулся. Омар эбнэ Ибрахим Хайям знал эту улыбку: широкую, открытую, истинную улыбку человека, у которого широкое сердце и который снисходителен к человеческим слабостям.
— Омар, — сказал он мягко, — скажи этому истукану, чего недостает этой скудной суфре…
Омар Хайям бросил взгляд на суфру: она розовела по мере того, как луна поднималась выше, а Зодиак поворачивался к Исфахану всеми своими яркими созвездиями. Ученый не смог определить, чего же не хватает здесь. Мяса? Но ведь было сказано: фрукты и шербет! Какой-нибудь посуды? Но ведь все налицо: тарелки, фиалы, кувшин…
И визирь пришел на помощь. Он сказал:
— Я, кажется, намекнул достаточно ясно: вина недостает столу!
Нубиец разинул рот. Раб хорошо знал, что его превосходительство не терпит вина. Так зачем оно?
А визирь продолжал:
— Приятная беседа требует вина… Не так ли?
Нубиец молчал из страха перед гневом господина. А ученый из почтительности.
— Я жду ответа, — сказал визирь.
— Лучшая часть застолья, — сказал Омар, — это беседа.
— Верно, — согласился его светлость. — Беседа — показатель ума. И все-таки?
И он обратил свой взор к нубийцу, который стоял в тени и почти слился с нею. Он словно бы стал своей собственной тенью. Бесплотной. Как и надлежит рабу.
— Шербет и миндаль — что может быть лучше? — сказал Омар, чтобы угодить визирю.
На этот вопрос, обращенный к кому-то, ответил сам визирь:
— Лучше вино! Так говорят…
И он подал знак нубийцу. И вскоре появились на суфре кувшин красного и кувшин белого, как небосклон на рассвете, вина.
— Поэты любят вино, — сказал визирь.
— Да? — удивился Омар.
— А разве нет?
Омар пожал плечами. Он сказал, что не очень хорошо знаком со стихотворцами. Да, кажется, поэты любят вино, ибо оно будоражит сердце и фантазию…
Ученый увидел — причем очень ясно, — что визирь прищурил левый глаз, а потом пыхнул толстыми губами, слегка прикрытыми негустой растительностью усов.
— Можно подумать, что ты только понаслышке знаешь поэтов, — проговорил он насмешливо.
И его превосходительство прочитал некие рубаи про вино и про жизнь, воскрешаемую хмелем, про счастье, навеваемое им.
— Твои? — спросил он хакима.
— Возможно, — ответил Омар.
Визирь поразился.
— Как это — возможно?! Разве ты сомневаешься в этом? Разве не узнаешь своих рубаи?
— Я не поэт, — серьезно ответил ученый. — Моя профессия — математика и астрология[16]. И философия.
— А стихи? — сказал визирь.
— В свободное время, — отвечал ученый. — Иногда.
Визирь развел руками. Велел налить вина, что нубиец выполнил с величайшей расторопностью.
— Мои мечты не о стихах, — сказал жестко Омар.
— А о чем же? — визирь пригубил шербет и поставил фиал на место. — О чем же, Омар?
Хаким выпил вина, поднял вверх фиал и, словно бы провозглашая нечто идущее из глубины сердца, сказал:
— Моя голова и все существо мое заполнены мыслями об обсерватории. Только о ней!
Ученый посмотрел на луну. Она была очень яркая, как эта суфра[17] на холодном каменном полу. Она плыла меж прозрачных облаков, и вместе с ней плыли все светила великого Зодиака, недосягаемого для взоров и ума человека.
Тогда визирь прочитал на память еще рубаи. В четырех стихах, срифмованных строка к строке, восславлялась женщина, ее любовь, красота плоти ее. И снова сощурил глаз визирь, будто пытался уличить своего гостя в чем-то недозволенном.
— Чьи это слова? — спросил визирь, имея в виду стихи.
— Возможно, и мои, — уклончиво ответил Омар. — Однако я приехал в этот прекрасный город не стихи писать, а заниматься астрологией. — Он воодушевился: — В наше время над всем духовным господствуют математика и философия. Только они способны возвеличить душу и ум человеческий!
Визирь не стал горячить ученого обостренным спором. Но заметил, отхлебнув шербета:
— А поэзия?
— У поэзии свое место. Несравненный Фирдоуси это доказал всей своей прекрасной жизнью. Однако мой учитель Ибн Сина отдавал предпочтение философии и медицине, то есть наукам, которые есть следствие большой работы ума, нежели души, Ибн Сина — образец для меня до конца дней моих!
Тут луна выглянула из-за причудливой алебастровой решетки, которой сверху была украшена терраса, и в полную силу осветила лицо хакима: оно было вдохновенно, и великая горячность души его отображалась в глазах. Визирь сказал себе, что не ошибся, приглашая Омара эбнэ Ибрахима по прозвищу Хайям в столицу — Исфахан. Если молодому человеку суждено совершить в своей жизни нечто, то он совершит это именно здесь, в Исфахане. Разве в нынешнее время могут дать ему средства, необходимые для строительства обсерватории, даже такие города, как Бухара или Самарканд, не говоря уже о родном Хайяму Нишапуре?..
— Омар, я не знаю, продолжаешь ли ты писать рубаи, — сказал визирь. — Я не хочу вникать в это. Ты полон сил, а я уже на грани старости и могу оценить то, что звездой горело во мне и теперь уже затухает… Увы, увы, это так — затухает…
Визирь велел нубийцу принести уксуса, а заодно зажаренных цыплячьих грудок. Холодных. Пусть на столе полежат эти поджаренные румяные грудки, может быть, и приглянутся…
Раб исполнил это…
Хаким тут же взял одну из хрустящих грудок. Он ел, но чувствовалось, что ел он, совсем не думая о еде, и не от голода, а как-то не отдавая себе отчета. Его занимало нечто более важное.
— О великий, я прибыл сюда в надежде сделать кое-что по части астрономии и математики, а также философии, — говорил Омар. — Я хочу, чтобы ты, чья поддержка расширяет мою грудь и придает силу моей душе, заверил его величество, что ни один динар не пойдет на поэзию, но будет служить единой цели: науке, и только науке!
— Похвально, — с улыбкой сказал визирь и, поискав глазами фиал с шербетом, взял его и с удовольствием освежил свое сердце. — Но тот, в ком есть высокое призвание поэзии, уже болен. Больше того: он одержим!
Омар запротестовал. Особенно горячо. Может быть, потому, чтобы до ушей его величества не дошли рассуждения о поэзии, о ее превосходстве над наукой или даже равенстве с наукой. Ибо его величество Малик-шах при всем своем уважении к газелям и касыдам[18] рассчитывает иметь собственную обсерваторию, собственных ученых при дворе, с тем чтобы астрология, так необходимая для благополучного управления делами, опиралась на прекраснейшую, современную во всех отношениях обсерваторию. Вот на что предназначал он динары и дирхемы[19].
Омар говорил, и слова его, сказанные негромко, достигали ушей визиря, и слушал тот хакима без всякого напряжения…
— Твое превосходительство, есть своего рода поэзия и в математике, скажем, алгебре и алмукабале[20]. В чистой геометрии тоже. Архимед и Евклид оставили нам прекрасные образцы этой математической поэзии.
Визирь попробовал миндаля в уксусе. Он с любопытством разглядывал своего собеседника, который был моложе его чуть ли не на тридцать лет… Много ума… Уйма энергии… Вера в науку… Не такие ли одержимые творят чудеса на поле брани, в делах государственных, в науке и поэзии?.. Он полюбил этого Омара по прозвищу Хайям еще при встрече с ним в городе Самарканде и переманил ко двору его величества Малик-шаха. Здесь, в Исфахане, главный визирь убеждается в том, что выбор его не был ошибочным.
Омар продолжал:
— Я хочу решить этот постулат. Его нужно и можно доказать.
— Да? — удивился визирь.
— Да, да! — воскликнул воодушевленный вниманием визиря Омар Хайям. — Я думал обо всем этом еще там, в Нишапуре. Потом в Бухаре. Потом в Самарканде. Я разговаривал с великими учеными. Я читал трактаты математиков и философов. Я видел во сне только параллельные линии. Я думаю сейчас, что они не столь уж просты, как кажутся на первый взгляд, и что решение задачи о параллельных линиях обещает нечто большее, чем решение просто одной задачи!
— Похвально, — заметил визирь, — похвально, что столь необычные вещи тревожат твой ум. Но я вижу, что ты почти не ешь и мало пьешь. Разве такое поведение гостя не огорчит хозяина, кто бы он ни был: султан, туранский[21] хакан[22], ученый или владеющий краюхой хлеба дервиш? Учти: это вино только ради тебя. Это нарушение моего правила…
Визирь поднял фиал так, чтобы полный диск луны оказался над ним, словно выходящий из него. Его светлость сказал, не спуская глаз с фиала и с лунного диска:
— Что бы хотел его величество?.. Чего он ждет от тебя и от твоих помощников?.. Определения и уточнения положения светил на небесной сфере? Да, конечно. Уточнения круговращения Земли, о котором, кажется, говорил ученый Бируни? Да, конечно. Определения погоды наперед по расположению светил? Да, конечно. Более точных астрологических гороскопов? Именно! Главным образом этого… Что ты скажешь? Тебе не кажется, что придворный астролог немного отстранился от своих прямых обязанностей? Я бы не желал, чтобы такое замечание исходило от его величества…
Говоря это, главный визирь выпил фиал до дна и вытер салфеткой губы, бороду и усы.
Хаким молчал. Он оперся руками о колени поджатых ног и не торопился с ответом. Более того, он пытался получше уяснить себе смысл всех слов, которые были сказаны визирем.
А луна между тем уплывала все вправо, все вправо. Она то скрывалась за алебастровой решеткой, то появлялась вновь, и тогда становилось светло, как от ста бедуинских костров, разложенных в пустыне.
Омар обнэ Ибрахим долго думал, прежде чем ответить его светлости. Он вообразил себе, что рядом с ним сидят его молодые друзья — математики и астрономы Абуррах-ман Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Абу-Хатам Музафари Исфизари, Меймуни Васети. И противника своего дней ранней молодости в Нишапуре, и дней нынешних — Газали тоже вообразил сидящим напротив себя, рядом с его светлостью. Что бы сказали они, если бы узнали об ответе Омара, который услышит сейчас главный визирь?
— Если бы я был счастливым Аладдином из одной арабской сказки, — сказал тихо Омар, — и если бы сумел добыть еще столько динаров, сколько надо обсерватории, я бы ответил так: я займусь более важным делом, чем астрология…
— Чем же, Омар?
— Истинной наукой.
Хайям был освещен луной до возможного предела, и главный визирь не только хорошо слышал слова ученого, но и прекрасно видел выражение его глаз. А глаза, как говорят мудрецы, душа человека. Главный визирь сказал очень твердо:
— Я этих слов не слышал от главного астролога его величества…
9
Здесь рассказывается о молодом стихотворце из Балха и о том, что услышал он из уст Омара Хайяма
Хаким обедал в своей комнате, которая при обсерватории, служитель по имени Али, очень умный, не хотел тревожить хакима. Но молодой человек, назвавшийся поэтом из города Балха, настаивал на немедленной встрече. Он сказал, что для этого проделал путь в сотни фарсангов и не сойдет с места, пока не увидит великого поэта.
Али спросил его, чтобы не было недоразумения, о каком великом поэте идет речь. Ибо в обсерватории, насколько ему известно, имеются великие ученые мужи, а вот о великом поэте он не слыхивал. Неизвестно, говорил ли Али это искренне или чтобы отвадить молодого человека из Балха от обсерватории, где должно быть тихо, где должно быть покойно, чтобы зрела ученая мысль в полную силу.
Молодой человек был весьма настойчив. Его загорелое лицо свидетельствовало о том, что долгое время провел он под палящими лучами солнца. И, наверное, не врал, что из далекого Балха, что шел с караваном, что повидал свет и изведал лихо. И что песок был у него на зубах и пыль застилала глаза. И что часто днем делалось темно, как ночью. И дышать становилось трудно, потому что песок хлестко бьет по щекам, по рукам, по всему живому на этом пути. В такие часы верблюды, обученные умелыми погонщиками, ложатся на песок, а люди прилипают к их бокам. И тогда верблюды и люди одно целое. И это есть спасение от беды.
Молодой человек показывал руки, которые обожжены, на которых словно бы следы уколов и укусов. И следы ожогов. На самом деле не уколы и не укусы, а от горячего воздуха, песка и мелких камней. А когда кончается буря, будто наступает рассвет: черная пелена медленно опускается на землю, сквозь нее все явственнее проглядывает солнце, и наконец оно снова начинает жечь все живое, и вскоре земля — как раскаленная сковородка.
— Надо все это испытать самому, чтобы лучше понять, что есть жизнь и что есть смерть, — говорил молодой человек. — Я первый раз отправился в такое далекое путешествие. И то с отцом, который не хотел брать меня с собою, говоря: «Зачем тебе подвергать себя опасности? Поживи в городе, пока не окрепнешь вполне и не сделаешься подлинным мужем». А мне хотелось! Мне не терпелось увидеть великого поэта, послушать его стихи.
Али спросил:
— И ты проделал такой путь только ради этого?
— Да! — пылко ответил молодой человек.
— Чтобы выслушать два-три стишка?
— Нет. Чтобы поговорить с его превосходительством Омаром Хайямом.
Али мрачно поправил:
— Здесь нет его превосходительства. Здесь работает хаким, который выше его превосходительства. Ты меня понял?
— Пусть будет по-твоему. Однако я должен видеть его!
Этот молодой человек из далекого Балха был настойчив свыше всякой меры. В его глазах, воспаленных на солнце и ветру, изъеденных пылью пустыни, обрамленных выцветшими ресницами, горел неукротимый огонь. И Али понял, что отделаться от него невозможно. Этот из тех, о ком говорят: «Выгони в дверь — влезет в окно». Несмотря на длительное путешествие, молодой человек был одет чисто, даже можно сказать, изысканно. Его каба[23] свидетельствовала о достатке, а чувяки были расшиты серебром.
— Твой отец погонщик? — недоверчиво спросил Али.
— Погонщик двадцати верблюдов, — ответил молодой человек гордо. — Мой отец не очень беден и не очень богат. Все, что имеет, отдает своим детям.
— А много вас?
— Четверо, — последовал ответ. — И все четверо — мужчины.
Али почему-то обрадовался:
— О, храни вас аллах! Твой отец будет счастлив, если все его сыновья столь же настойчивы, как ты!
Он велел подождать во дворе, а сам направился к хакиму.
Омар Хайям сидел один на ковре. Перед ним стояла тарелка с жареными фисташками: их хорошо грызть, когда приходится думать. Думаешь и грызешь, думаешь и грызешь.
— О многоуважаемый хаким, — сказал Али, входя в комнату, и покорно приложил правую руку к сердцу.
Хаким посмотрел в его сторону, но мысли его были далеко. Зная это, Али еще раз обратился к Омару Хайяму, пытаясь привлечь к себе его внимание.
— Слушаю, слушаю, — произнес хаким.
Али подумал, что эти слова обращены не к нему, а к кому-то другому. Он сказал:
— Тебя хочет видеть некий поэт из Балха…
— Что?
Али повторил.
— Поэт? — недоверчиво спросил хаким.
— Да, поэт.
— Так отошли его, Али, в караван-сарай. Он, верно, перепутал обсерваторию со странноприимным домом.
И взял пригоршню фисташек.
— Нет, — сказал Али.
Хаким удивился.
— Что нет? Разве я не ясно выразился?
— О многоуважаемый хаким, да пребудут с тобою все радости земли…
— Я не люблю витиеватую речь, — заметил хаким.
— Что?
— Речь, говорю, не люблю витиеватую! Изъясняйся по-человечески. Ведь ты же не муфтий[24]!
Али перешел на скороговорку:
— Этот молодой человек пришел из Балха.
— Много шляется народу по свету, — проговорил хаким.
— Он шел с одной целью…
— С какой же?
— Только с одной. Повидать тебя, о хаким!
— Зачем?
— Я же сказал — он поэт.
— Уж лучше бы ты привел немудрящего звездочета. Зачем нам поэт? Особенно мне?
Али твердо стоял на своем. Казалось, настойчивость поэта из Балха перешла к нему.
Али сказал:
— Он шел по опаленной солнцем земле, на зубах его песок пустыни, и в глазах его пыль пустыни. Один из погонщиков — отец этого поэта. Отец ничего не жалеет для сына. Он одел и обул его так, чтобы не оскорбить твоих глаз…
— Мои глаза ко всему привыкли, Али.
— Он пил вонючую воду и ел гнилую пищу. Гиены пустыни чуть не сожрали его…
— Это преувеличение, Али.
— Он шел к тебе, и смерть витала над ним…
— А другие, которые шли вместе с караваном, разве бессмертны? И очень глупо рисковать жизнью ради стихов, без которых вполне можно прожить.
— Однако, хаким, ты же не можешь без них!
— Без стихов?
— Да! — дерзко воскликнул Али.
Омар Хайям перемешивал указательным пальцем фисташки. Долго он это делал. Долго и молча.
— Может быть, молодой человек желает узнать что-либо о светилах? — наконец проговорил он.
— Нет. Он только поэт.
Хаким все думал.
— Может, показать ему обсерваторию?
— Нет, он желает говорить только о стихах.
— Какой чудак! — сказал хаким. — Зови его. «Ради стихов? — подумал хаким. — Ради стихов столько мучений на долгом пути? Какое это будет неисчислимое бедствие, если в один прекрасный день большинство человечества обратится в неистовых поэтов!»
И он встал навстречу гостю, пришедшему издалека. Молодой человек бросился к хакиму и с жаром поцеловал ему руку.
Омар Хайям усадил его, а служитель Али принес кувшин шербета и кувшин вина.
— Я недостоин этого! — воскликнул молодой человек, порываясь встать. — Я не могу сидеть у правого плеча великого поэта!
— Сиди, сиди, — сказал хаким, удерживая поэта. — Мы сейчас разберемся во всем, и, ежели обнаружим здесь великого поэта, все будет по-твоему.
Молодой человек восхищенно глядел на хакима: ему не верилось, что он рядом, совсем рядом и что они дышат одним воздухом.
Хаким справился об имени поэта из Балха, и тот назвал себя: имя — Рустам, а по отцу — Зирак.
— Рустам эбнэ Зирак? — спросил Омар Хайям.
— Да, господин, именно так.
Хаким внимательно оглядел молодого человека и сказал:
— Мне кажется, что ты сошел со славных страниц великого Фирдоуси.
— Почему так кажется, господин? — смущенно произнес Рустам.
— А по всему… И рост, и молодость… И это имя твое… Что привело тебя сюда?
— Мы шли долгим и трудным путем, — сказал Рустам. — Глаза наши очень часто ничего не видели сквозь завесу желтой пыли, ветер срывал с головы шапки и уносил далеко. Однажды нам казалось, что буря заживо погребет весь караван. Это было между Балхом и Нишапуром. Отец сказал мне тогда: «Вот до чего довели тебя стихи».
— Стихи? — удивился Омар Хайям. — А при чем стихи, когда бушует буря? Или, может, я чего-то не улавливаю?
Молодой человек из Балха что-то хотел объяснить и вроде бы не мог.
— Стихи сочиняются в свободное время, — сказал хаким. — Но когда бушует буря, надо думать и бороться, а не стихи сочинять.
— О господин мой, ты не так меня понял, — сказал Рустам вдруг на арабском языке.
Хаким поднял руку:
— Не утруждай себя, Рустам, я прекрасно понимаю и свой родной. Говори по-нашему…
— Господин мой, дело в том, что я поэт и приехал сюда, в Исфахан, только чтобы повидать тебя и поговорить с тобой.
— О чем же?
— О стихах… О высокой поэзии.
— Ты, конечно, шутишь, Рустам. — Хаким взял многократно сложенный лист самаркандской бумаги и развернул. Он оказался картой, на которой изображены моря и реки, города и высокие горы великого царства.
Хаким указал на город Балх, а потом перевел взгляд на город Исфахан и в него тоже ткнул пальцем.
— Ты видишь? — спросил он. — Какое это расстояние? Сколько сот фарсангов, а?
— Много, — ответил Рустам.
— На караванной дороге встречаются не только оазисы, Рустам. Она полна ловушек: болезней, зверей, разбойников. Песок тоже убивает человека. Очень часто. Если купцы рискуют жизнью, они знают, что это стоит барыша, который сулит им опасное путешествие. А ты почему рисковал?
— Хотя бы для того, чтобы посмотреть свет, — сказал Рустам и покраснел.
Хайям отпил вина.
— Это хорошо! — сказал он. — Твой ответ мне нравится. Ради этого можно и рискнуть. То, что увидел глазами и пережил сердцем, стоит очень многого. Не так ли?
— Да, и я так думаю.
— И ты решил ради стихов посмотреть свет?
— Не совсем так, мой господин. Я решил поговорить с тобой.
— О стихах?
— Да.
— Почему именно со мной? Разве мало поэтов в Балхе?
Рустам отпил шербета и сказал, не скрывая своего удивления:
— Поэты в Балхе? Они есть, но разве кто-нибудь из них сравнится с тобой?
— При чем тут я? — раздраженно бросил Омар Хайям.
Рустам растерялся. Ему показалось, что этот Омар Хайям вовсе не тот Омар Хайям, к которому шел через опасные пустыни. Но ведь ошибки быть не может! Омар эбнэ Ибрахим? Омар Хайям — поэт? Омар Хайям — надим[25] — постоянный собеседник его величества? Омар Хайям, работающий в обсерватории? В самом Исфахане? Или здесь две обсерватории и в обеих работают Омары Хайямы?
«Наверное, мне следует встать и уйти, — подумал Рустам. — Если я попал не к тому Омару Хайяму — величайшему поэту, — то, разумеется, следует как можно скорее покинуть обсерваторию и не морочить голову уважаемому хакиму…»
Рустам вскочил на ноги. Он вскочил так, будто собирался бежать, бежать без оглядки. Глаза его были расширены, пальцы на руках оттопырены, и необычная бледность на лице…
— Я прошел многие сотни фарсангов… — сказал он, запинаясь. — Я уже говорил, что на зубах моих был песок, а глаза слипались от желтой пыли. Скажи мне, о хаким, неужели я ошибся адресом?
— Кого ты искал, Рустам?
— Омара Хайяма.
— Он здесь, перед тобой.
— Но мне нужен поэт…
— Зачем?
— Чтобы поучиться у него мудрости…
— У поэта Омара Хайяма?
— Да, у него.
Рустам сложил руки на груди и насупился. И немного погодя прочитал стихи. Нараспев. Выделяя рифмы, подчеркивая смысл их особым произношением важных, по его мнению, слов. Смысл стихов был точен, не допускал двух толкований. Это были стихи-четверостишия о том, как течет по земле, красивой земле, ручей. Он блестит, сверкает всеми цветами радуги, и звуки его чарующи. Но вот впереди расселина, и ручей пропадает, исчезает, словно его и не было на этом свете. Вот и все!
Хаким слушал, опустив голову. И, не подымая ее, спросил молодого поэта:
— Ну и что?
Молодой поэт прочитал еще одно четверостишие. В нем говорилось о кувшине, простом кувшине из глины. Что, казалось бы, в этом особенного? Но вот поэт, написавший эти рубаи, увидел в нем, в простом кувшине, нечто, а именно: ручки у кувшина — это руки красавицы, а сам кувшин — из сердца ее. Иными словами, красавица после смерти превратилась в прах, а из того праха гончар смастерил кувшин.
Прочитав рубаи с большим подъемом, поэт из Балха ждал, что же скажет этот непонятный Омар Хайям в образе хакима.
А хаким неожиданно встал, взял за плечи молодого человека и повел его наверх, на крышу обсерватории. Они подымались по крутой винтообразной лестнице, освещенной светом, который лился из небольших стрельчатых окон.
Они ступили на крышу словно бы в новый мир: вокруг, насколько хватало глаз, простирался огромный город. Над множеством домов колыхались неверные столбы дыма, откуда-то из-за реки доносились голоса уличных торговцев и переливчатые звуки верблюжьих колокольчиков. Река Зайендеруд — благодетельница крестьян — шумела на перекатах, и ее блеклый изумрудный цвет по-особенному сверкал на солнце Исфахана.
А вверху бездонный и бескрайний шатер неба. Он густого бирюзового цвета и, похоже, твердый, как эмаль. И даже жаркое солнце не способно лишить его яркости, голубизны.
После прохлады и полусумеречного освещения на крыше оказалось нестерпимо жарко и ослепительно бело. И весь мир оказался таким необозримым и таким поразительным, что едва ли хватило бы слов у молодого поэта, чтобы выразить всю его красоту…
Хаким подвел гостя к большой шаровидной астролябии. Снял с нее чехол, и астролябия вспыхнула подобно солнцу — до такой степени была она начищена. Ярко-желтая медь слепила глаза.
— Я и мои товарищи, — начал хаким, — каждую ночь проводим здесь по нескольку часов. И наш глаз направлен в самую глубину небесной сферы. Мы следим за плывущими созвездиями, мы шагаем по Млечному Пути, мы наблюдаем Луну. И потом снова возвращаемся на нашу Землю и снова окунаемся в различные работы и дела. Учти, Рустам, мы это делаем каждую ночь. Ты меня понял?
— Нет, — чистосердечно признался пылкий Рустам.
Хаким немножко удивился. Однако ему пришелся по душе ответ поэта из Балха. Нет ничего хуже, когда тебя не поняли, а в угоду тебе говорят «да». Хаким сказал про себя, что надо бы объяснять более вразумительно таким молодым людям, как Рустам, ибо у них самомнение преобладает над действительными знаниями. Наверное, это недостаток молодости, наверное, и сам он, хаким, таким же был в молодости…
— Я понял вот что, — сказал Рустам, — что ты, досточтимый хаким, что ты и твои друзья работаете очень много. И часто — не смыкая по ночам глаз. Но какое это имеет отношение к поэзии?
— Прямое, — жестко произнес хаким.
Рустам, очевидно, не совсем улавливал эту связь: непонимание было написано на лице его слишком явно.
— Молодой человек, — сказал хаким, — я каждую ночь наблюдаю ход небесных светил. И прихожу к одному выводу: сколь необъятен мир, сколь он широк и высок. И подчас я кажусь себе песчинкой, безмозглым дитятей перед величием небесной сферы и всем тем, что сотворено руками аллаха — всемилостивого и милосердного. Я замираю в те минуты и часы, я делаюсь как бы другим человеком, который с трудом представляет себе все величие вселенной. И в самом деле, что мы перед нею? Безграничность вселенной, ее извечное существование заставляют меня задуматься о самом себе и смысле моей жизни, а также о жизни моих друзей и врагов…
Рустам стоял перед хакимом, слушал внимательно его речи и гадал: «Тот ли это Омар Хайям или не тот? Этот ли написал чудесные рубаи, дошедшие до Балха, или другой, которого еще предстоит разыскать?» Рустам гадал, и сомнениям его, казалось, не будет конца…
— Я говорил сейчас о небесной сфере, — продолжал хаким, — но ведь то же самое можно и должно сказать обо всех науках… Например, читал ли ты великого Ибн Сину?
— Я знаю его стихи, — сказал Рустам.
— А его философские и медицинские книги?
— Нет, не читал.
— А что ты знаешь о господине Бируни?
— Бируни? — спросил Рустам. — Это поэт?
— Нет, великий астроном.
Молодой человек из Балха покраснел.
— Рустам, я назвал всего два имени — два великих светила человеческого разума. А ты их не знаешь… К чему я веду речь? К тому, чтобы привлечь твое внимание к более серьезным вещам, нежели двустишия и четверостишия. Ты понял меня?
Рустам кивнул.
— Это уже хорошо, Рустам. Что такое поэт?
Рустам ждал, что хаким сам объяснит.
— Я спрашиваю: что такое поэт?
Рустам неуверенно начал:
— Человек, слагающий стихи…
— Неверно! — Хаким чуть не вскрикнул при этом. Казалось, он произнес это слово не только для Рустама, но и для всего Исфахана. — У нас, в Исфахане, слагающих стихи больше, чем полагается. Каждый считает себя вправе поболтать пару раз стихами. На досуге, после плотного обеда, немало любителей почитать собственные стихи. Но я говорю не о них! Я говорю о настоящих поэтах. Ты меня понял?
Рустам кивнул еще раз.
— Прекрасно! — воодушевился хаким. — Это мне уже правится. Я люблю, когда начинают понимать простые вещи. Это не так уж легко, как кажется. А тебе, Рустам, мой молодой друг, пора понять еще одну истину: поэт — это прежде всего мудрец. Поэт — прежде всего человек опытный в делах житейских и науке. Поэт — человек дела, и, будучи таковым, он слагает стихи не ради собственного удовольствия, а в поучение людям. Поэт пишет стихи — поэт учит людей. Не прямо, а косвенно. Не как имам[26], разбирающий с чужих слов главы Корана, а как мудрец, сам постигающий тайны мироздания и увлекающий других за собой. Молодость хороша. Но хороша она по одной причине: молодость может выбирать дорогу, она вся перед нею. Но прежде всего надо набраться ума и знаний. Это в первую очередь относится к поэту. Вот почему я показал тебе эту крышу и этот замысловатый прибор, именуемый астролябией. Тебе это ясно?
И Рустам почтительно произнес:
— О хаким, разреши задать тебе вопрос?
— Задай.
— Тот ли ты поэт, которого я ищу, или не тот?
— Я не знаю, кого ты ищешь.
— Омара Хайяма.
— Да, я и есть Омар Хайям. — Хаким подошел к астролябии и повернул алидаду кверху, просто так, в глубоком раздумье. После недолгого молчания сказал: — Но я должен разочаровать тебя: я астроном и математик.
— А стихи? — с отчаянием спросил Рустам. — Стихи, которые я читал? Разве они не твои?
Хаким ответил уклончиво:
— Что ж с того?
— Значит, ты и есть великий поэт?! — воскликнул молодой человек.
Хаким обнял Рустама, заглянул ему в глаза, такие доверчивые, и сказал:
— Рустам, если ты хочешь быть поэтом, послушайся меня: учись наукам, особенно математике и философии. Без них поэт не поэт.
— Ну а ты, а ты? — нетерпеливо вопрошал Рустам. — Разве ты не тот, кого я ищу?
И на этот раз уклонился хаким от прямого ответа.
— Поэта судит только время, — сказал он. — Только оно присваивает ему это великое имя. Только время покажет, кто поэт, а кто простой стихоплет.
10
Здесь рассказывается о меджнуне, который в кругу своих друзей
Али эбнэ Хасан у самой границы пустыни. Дом его стоит на зеленой полянке, питаемой прохладным Зайендерудом, а через десять шагов отсюда начинается желтый песок. На таком песке ничего не растет. И это понятно: попробуй посеять что-нибудь на подогретой жаровне! Высокая глиняная стена прочно отгораживает двор Али от прочего мира. Узкая и низенькая железная дверь ведет к дому. Дом не очень плохой и не очень хороший: обычное жилище купца с достатком ниже среднего.
Однако сам Али эбнэ Хасан не простой купец, все помыслы которого направлены на приумножение богатства. Так мог бы утверждать только тот, кто вовсе не знает Али или же судит о человеке по случайной и кратковременной встрече с ним.
Али под пятьдесят. Высок и жилист. Такой чернявый, с пронизывающим собеседника насквозь взглядом. Родился он в Ширазе, постоянно живет в Исфахане, где у него две лавки: недалеко от мечети и на базаре. Есть лавка и в Ширазе. Али торгует изделиями из серебра и коврами. Покупает ковры Али у кочевников на юге, за Ширазом. Но поскольку умен не только Али, у него много соперников в этом торговом деле.
Три жены у Али эбнэ Хасана. Аллах послал ему восемь детей. Из них только трое наследники. Остальные — красивые девочки, похожие на красивых матерей… Али эбнэ Хасан превыше всего ставил женскую красоту и добродетель, и судьба послала ему жен по сердцу и вкусу его.
Под холодной купеческой наружностью Али таилась душа политика. Да, да, политика, человека, для которого хлеб сам по себе значит еще не все. Политика его была связана с религией. Поскольку никто не призывал его к активной деятельности — государственной, разумеется, — он сам нашел поле для такой деятельности.
Да будет известно вам, что Али эбнэ Хасан был шиит[27], то есть исповедовал религию шиитов, которая родилась, как говорят, где-то в Аравии, а может, еще дальше. А когда именно родилась — мало кто помнит. У слабого, говорят, большая амбиция. У слабого, говорят, больше самолюбия, и слабый, говорят, обидчив и честолюбив сверх всякой меры. Скажем прямо: Али эбнэ Хасан был именно таков. Он сердился на себя и на весь мир оттого, что мало что значит в этой великой стране и ум его и религия остаются как бы за бортом плывущего государственного корабля.
У него были друзья и единомышленники. А у кого их нет? Но Али эбнэ Хасан выбирал друзей самолично и допускал их к себе только после долгого и изнурительного испытания. Если бы его величество знал, что творится в доме этого купца, он прислал бы своих воинов, и те в мгновение ока стерли бы с лица земли и высокие глиняные стены, и дом, который среди них. И поляну выжгли бы огнем, и пепел шевелился бы на земле — серый, мертвенно-бледный. То же самое стряслось бы, если бы сообщили обо всем этом главному визирю.
Однако, справедливости ради, следует сказать, что Али эбнэ Хасан не был самым ярым из шиитов. Находились куда более горячие головы. Например, Хусейн-меджнун. Они, как голодные азиатские тигры, жаждали крови, насилия. Кровь при этом имелась в виду чужая, насилие — над другими, над этими проклятыми суннитами[28], которые букву священного Корана ставили выше мысли о справедливости. Слушая речи тех, кто посещал дом Али эбнэ Хасана, сведущие люди сказали бы, что немало среди них и неких исмаилитов[29], которые во сто крат злее обыкновенных шиитов.
Этот Хусейн, будучи бешеным меджнуном, был также и шиитом бешеным. Иными словами, одним из тех исмаилитов, которые считали, что только реки крови могут избавить правоверных от пут, коими опутали их власть имущие сунниты, позабывшие или умышленно искажавшие истинный смысл священной Книги. Хусейн не скрывал от своих друзей, что давно точит нож и пустит его в ход, как только представится подходящий случай.
Вот и сейчас, с закатом солнца, он явился сюда по проторенной дороге, и Али эбнэ Хасан и его гости сразу почувствовали, что Хусейн до крайности раздражен.
— Я убью его, — сказал Хусейн, как только переступил порог дома. Хозяин и гости вовсе не удивились этому: они были согласны, что кого-то следует убить. Но кого?
Али восседал в углу на пестрой подушке. Гости, поджав ноги, занимали места по левую его руку.
Зеленщик Джафар жевал кусок тонкого хлебца и мрачно посапывал. Он был толст. Он был не очень опрятен, и пот лил по упругим его щекам. Он прищурил глаза и сказал, что знает, кого следует убить. Если угодно, напишет имя негодяя на бумаге, и тогда можно будет проверить — ошибся или точно угадал. Его друг по имени Бакр — мясник, специалист по потрохам — весьма заинтересовался заявлением Хусейна. Да, разумеется, надо убивать, и к тому же незамедлительно.
Зейналабедин-ассенизатор и старый Али-пекарь — люди степенные и зрелые. Они прежде подумают, а потом уж скажут, что следует делать: убивать или миловать. Зейналабедин эбнэ Хусейн, собственно, не был ассенизатором в прямом смысле этого слова. Он возглавлял славный цех неких оборванцев, спавших днем и приводивших в порядок отхожие места по ночам. Это был уважаемый человек, и под началом его орудовала скорее банда разбойников, нежели ассенизаторов. Если бы главный визирь догадывался, кто это шарит по ночам в непотребных углах, наверняка постарался бы попристальнее приглядеться к исфаханским золотарям…
— Кого же ты решил убить, Хусейн? — спросил Али эбнэ Хасан. Он говорил шепеляво, но довольно четко, старательно выговаривая слова.
— Сам знаю кого, — глухо произнес Хусейн.
— Этого еще мало, — заметил хозяин.
— Да, это так, — подтвердил Али.
Четверо мужчин, перед которыми стояли глиняные сосуды с водой и шербетом и, кажется, с вином, а также глиняные блюда с хлебом и жареным мясом, перестали жевать и пытливо разглядывали Хусейна. Тот скинул с себя верхнюю одежду, бросил на нее свой кинжал и опустился на пол. Он был очень зол.
— Кто знаком с хакимом по имени Омар? — спросил Хусейн.
Мужчины задумались.
— Омаром эбнэ Ибрахимом… Звездочетом и мошенником.
— Мошенником? — протянул хозяин.
— Да, с мошенником!
Али эбнэ Хасан кивнул. Да, он знаком с человеком, который носит такое имя. Да, этот Омар к тому же и астролог, а может быть, и надим. Но мошенник ли? О каком это Омаре ведет речь Хусейн?
Хусейн оторвал кусок лаваша, разорвал его на мелкие кусочки и набил ими рот. Запросто. Как на базаре. В голодный день.
— Если должность надима есть верный щит от всяческих грязных дел, — сказал Хусейн, — то мне не о чем говорить…
— Почему же, сын мой? Говори…
— Я полагал, что меня поймут с полуслова…
— Возможно, и поймут. Разве это исключено? — успокоил молодого меджнуна хозяин, умудренный опытом и знанием наук. — Но надо хорошо подумать, прежде чем награждать человека таким емким словечком, как «мошенник». Ведь, как ни говори, понятие это растяжимо: есть мошенник на базаре, есть в науке, встречается он и во дворцах. Если угодно, и в мечетях. Разве все эти мошенники равнозначные? Один надувает на ломаный грош, а другой обкрадывает целое государство. Кого же ты имеешь в виду?
Хусейн обескураженно поглядел на окружающих, словно бодливый телок, и произнес загробным голосом:
— Я имею в виду всякого, кто пользуется деньгами для того, чтобы совращать людей.
— Каких людей, Хусейн?
— Обыкновенных.
— А все-таки? Нельзя ли поточнее?
— Можно и поточней, — Хусейн лязгнул зубами. Они были крепкие, и оттого звук получился устрашающий. — Я спрашиваю: имеет ли человек право красть чужую любовь? Красть только потому, что мошна потолще твоей? И называть себя при этом правоверным?
— Это кто же правоверный? — спросил хозяин. — Не этот ли Омар Хайям?
— Он самый!
Потом наступила тишина. Трудно было вмешиваться в этот разговор третьему, а сам Али эбнэ Хасан не торопился продолжать свои речи. Он казался утомленным, голова его была занята более важным делом, чем история о какой-то любви…
— Я его убью, — пригрозил Хусейн. И он намотал на пальцы длинный стебель зеленого лука, положил его в рот и захрустел.
— Убьешь? — безучастно спросил Али эбнэ Хасан.
— Да… Потом Эльпи будет снова моею. — Хусейн разодрал пирахан на своей груди и воскликнул: — Я же люблю ее!
И оглядел всех, ища у каждого сочувствия.
Хозяин усмехнулся. Он сказал:
— Во-первых, любовь не добывают кровью. Во-вторых, хаким, которого ты называешь своим врагом, не самый главный враг. Это так.
Али-пекарь закивал головой.
— Ты просто не знаешь коварства этого звездочета, — сказал Хусейн. — Я совершенно уверен в одном: он самый главный враг, и я приведу свою угрозу в исполнение.
Али эбнэ Хасан поднял руку. Он нахмурил брови. И сказал:
— Не о том говоришь, Хусейн, и не туда направлены твои мысли. Женщин на свете — что песчинок на берегу моря. И ты найдешь себе другую. Как, впрочем, и сам хаким. Я не вижу причины для вражды из-за какой-то потаскушки.
— Она не потаскушка, — возразил Хусейн. — Она несчастная жертва мужского прелюбодеяния.
Хозяин усмехнулся. Али-пекарь засмеялся громче. Другие подобным же образом выразили свое отношение к словам Али эбнэ Хасана.
Однако гроза продолжала бушевать в груди молодого Хусейна. Что понимают в любви мужчины, погрязшие в политических интригах, ненавидящие султана и его визирей? Этим подавай только власть, а любовь для них — нечто вроде полевого цветочка, который не жаль раздавить.
Али эбнэ Хасан погрозил пальцем Хусейну. Он приказал замолчать и не раскрывать рта, если говорить тому больше не о чем. Здесь, в этом доме, где все подчинено великой цели, разговор о любви к какой-то женщине — просто кощунство. Тем более ревность к хакиму. Хаким Омар Хайям не самый главный враг шиитов. Даже наоборот: для него что шиит, что суннит — одно и то же. Он равнодушен и к тем, и к другим. Есть одна великая цель — это султанский престол, который должен быть уничтожен, а все прочее — мелочь, недостойная мужского внимания…
— Да? — иронически попросил Хусейн.
— Да! — грозно ответил Али эбнэ Хасан.
— А если на тебя наплевали?
— Терпи.
— А если наплевали на нее?
— Пусть терпит и она.
Хусейн ударил себя ладонями по коленям:
— Ну а жизнь, которой нет без любви? Неужели все следует приносить в жертву… как бы это выразить?..
— Не утруждай себя, — прервал его Али эбнэ Хасан, повышая голос. — Слушай, я хочу повернуть твою голову только в одну сторону. Было бы глупо, если бы мы с тобой занялись чем-либо таким, что недостойно нашей цели. Любовь, эта чепуха, придет потом. И не один раз. Я понимаю твое негодование. Сумасшедший меджнун всегда ревнует. Он почти слепец… Ты меня понял?
А чего тут не понимать? Разве эти высохшие рыбы сохранили в себе душу? Душу, которая знает, что есть любовь? Этот Али эбнэ Хасан вполне доволен своими тремя женами. Али-пекарь изошел по́том у печи — ему ли до любви? Зейналабедин-ассенизатор что смыслит в сложных любовных делах? А Бакр тем и занят день-деньской, что потрошит туши да точит ножи. У него ли спрашивать, что такое любовь? Он понимает свое — любовь к потрохам! А что же еще? К тому же он испытывает особую нежность к мальчикам. Он ли оценит женскую красоту?
— Ладно, — заключил Хусейн, — я дело свое знаю и сам во всем разберусь.
— Возможно, — примирительно сказал Али эбнэ Хасан, — возможно, ты кое-что и смыслишь. Однако прими во внимание одно: у нас с тобой поважнее заботы. А если тебе хочется жениться, мигом тебя оженим. Есть тут у меня на примете соседская дочь. Все при ней! А зад ее может свести с ума хоть кого.
Хусейп состроил гримасу:
— Как же она его отрастила?
— Сам вырос, — всерьез ответствовал Али эбнэ Хасан. — Зовут ее Рохие. Шиитка, преданная своей вере. Вся семья такая. Спроси Зейналабедина.
Ассенизатор начал божиться, дескать, это не девушка, а сплошная сладость. Достойная девица достойной семьи. А под конец спросил Хусейна:
— А кто она, твоя красавица?
— Моя? — Хусейн вытаращил глаза. — Ты хочешь знать, кто она?
— Да.
— Падшая женщина.
— Падшая? — разинул рот от удивления Зейналабедин.
Хозяин не выдержал:
— Скажи лучше — шлюха.
— Скажу, — со злорадством проговорил Хусейн.
Бакр встал, подошел на цыпочках к Хусейну и приложил ладонь к его лбу. Подержал немного и заключил:
— У него жар.
Хусейн покачал головой, оттолкнул Бакра.
— Я заявляю вам, — сказал он, — я убью его!
— Аллах всемогущий! — взмолился Али эбнэ Хасан. — Что слышат мои уши?! Да ты попросту спятил! Слышишь, Хусейн? Ты сошел с ума!
Меджнун — на то он и меджнун! — ничего не слышал уже. Он что-то шептал горячими губами, а глаза его тоже горели от некоего внутреннего жара.
— Это пройдет, — сказал Бакр и уселся на свое место.
Мужчины продолжали есть и запивать еду вином и холодной водой.
11
Здесь рассказывается о том, как одна священная особа посетила обсерваторию
Великий муфтий, любезный сердцу его величества имам Хусейн аль-Кутейба, муж многоопытный и хитроумный, посетил обсерваторию. Он осуществил свое давнее желание увидеть собственными глазами то, что расхваливали ученые при дворе, и услышать нечто из уст самого хакима Омара Хайяма. Если рожденный от матери посвящает свой труд изучению беспредельно великих дел и творений аллаха всемилостивого и милосердного, то вполне естественно, что великий муфтий желает узнать об этом ученом как можно больше. Поскольку его величество внимает ухом своим словам господина Хайяма, было бы странно и не совсем понятно, если бы великий муфтий пренебрег возможностью поближе познакомиться с кладезем небесной науки, якобы находящимся совсем неподалеку, за рекой Зайендеруд, в пределах обсерватории. Вещи следует видеть такими, какие они есть. Можно отвергать богохульные рубаи, приписываемые Хайяму, но нельзя не согласиться с его утверждениями о бесконечной красоте и исключительном величии творения рук аллаха.
Великий служитель и послушатель всевышнего Хусейн аль-Кутейба был умнее, чем полагали некоторые, и простоватость его была лишь напускною. Он хорошо различал, где верблюд и где игольное ушко, и разницу между ними понимал лучше, чем кто бы то ни было во дворце.
Это был человек высокий и худой. Но нельзя было сказать, что высох он, изучая священную Книгу, что в молитвах и воздержании проходит вся его жизнь. От рождения был он близорук, и выпуклый горный хрусталь, что чище стекла, помогал ему лучше различать предметы, несколько удаленные от глаз. Однако злые языки поговаривали, что хрусталь этот скорее способствовал обдумыванию неких замысловатых ответов в необходимых случаях, нежели улучшал зрение, ибо хорошо, когда в руке держишь предмет, отчасти заменяющий четки, эти чересчур мужицкие побрякушки, — можно затянуть время, например протирая хрусталь платком, а тем временем подобрать нужные слова. И этот хрусталь не раз сослужил полезную службу своему обладателю.
Одеяние носил муфтий зеленого цвета — из самой нежной и прочной хорасанской ткани. А тюрбан на голове его, аккуратный, небольшой, был белее снега на самых высоких горах в самый яркий солнечный день.
Поговаривали, что у муфтия три глаза: один на затылке, в добавление к двум, находящимся под бровями. Этим самым недруги его хотели подчеркнуть чрезвычайную осмотрительность священнослужителя. Впрочем, трудно было обойтись без третьего глаза тому, кто долго и стойко удерживался близ трона его величества Малик-шаха. Или близ левого плеча его превосходительства Низама ал-Мулка. Только один аллах ведает со всей достоверностью и ясностью, сколь неверны жизненные тропы, не видимые простым глазом и переплетающиеся между собою в покоях дворца. Ни одно светило не поможет на этом пути, если нет еще более верного проводника, каким был, есть и пребудет во веки веков аллах всемилостивый и милосердный. В этом великий муфтий был совершенно уверен…
Он переступил порог обсерватории с двойственным чувством. С одной стороны, он не мог позволить себе поддаться искушению и открыто выказать свое презрительное отношение к обсерватории и ее ученым. Это было бы не совсем благоразумно. С другой стороны, не следовало проявлять излишнего интереса ко всей этой болтовне о бесконечном мире, за которым едва угадывается образ аллаха милостивого, милосердного и вседержителя. Здесь следовало избрать ту золотую середину, о которой всегда мечтали многомудрые люди древности. Великий муфтий был достаточно стар — ему недавно минуло семьдесят — для того, чтобы повести беседу так, как полагается человеку его возраста и сана. Он был закален в хитроумных и многотрудных беседах с ортодоксами из Багдада и не в меру строптивыми шиитами из Хорасана. Две поросли одной ветви давали много пищи для размышлений. Но мало этого: беседы эти волей-неволей оттачивали ум, настораживали сердце и укрепляли дух. Триединство ума, сердца и духа как такового приоткрывало завесу, которая на всем — от колыбели до небесной сферы. То есть оно спасало от заблуждений в этом мире и — дай аллах! — в том, другом.
Этот сухой и вечно настороженный человек знал цену себе и каждому из тех, кто жил во дворце или вертелся вокруг него. При этом он умел молчать. В самый горячий час, когда великие страсти бушевали в груди его, он говорил только сотую часть из того, что хранил в себе. Таков закон, суровый и неотвратимый, — если хочешь устоять на ногах в этом подлунном мире, а точнее, в прекрасном и величественном дворце его величества.
И здесь, на виду обсерватории, великий муфтий оставался верен самому главному правилу: в Исфахане веют незримые ветры, и они разносят слово, сказанное даже невзначай. И горе тому, кто позабыл об этом под воздействием горячности своей или невоздержанности в разгаре пира. Каждое слово припечатывается, словно к бумажке, и бумажка та летит в некие покои султана, где тщательно изучается дабиром[30] или его помощниками, взвешивается на весах справедливости, и тогда сказавший слово получает свое.
Какие мысли приходят в голову, когда глядишь на дворец его величества, на камни его и дерево его, полированное, как стекло? Мысли о величии государства? Да, разумеется. О мощи его и невообразимой обширности? Да, разумеется. Что стоит оно от века и будет стоять во веки веков нерушимо? Да, разумеется. А еще что?
Когда глядишь на окна, каждое из которых стоит одного богатого дома, когда любуешься колоннами, каждая из которых есть красота и неистощимое богатство, заложенное в мраморе, когда золоченая кровля слепит глаза и сама по себе есть слава его хозяина, когда гремят трубы дворцовые, возвещая о приезде его величества или отъезде, разве мысль о единстве и сплоченности в этих стенах не есть ли главенствующая мысль? Если не эта, то какая же?
Все это так и есть, когда глядишь со стороны. А когда сам находишься внутри этих стен? Что же ты видишь тогда?
Великий муфтий смотрел на мир из этих стен, из покоев дворца, ибо был надимом его величества. Он слышал от его величества больше других и часто взирал на окружающее глазами его величества. И что же он видел и что понимал?
Все сложно, противоречиво и порою непонятно в этом дворце. Ибо так же сложно, противоречиво и порою неясно вовне его, на бескрайних просторах государства от Средиземного моря до Ганга, от Каспийского моря до океана на юге. Возьмем главное, что есть на этом свете, главное, на чем зиждется основа основ этого государства, — величайшую из религий — ислам. Как это ни горько, но приходится согласиться с теми, которые утверждают, что он раскололся, словно орех. Разве сунниты и шииты не есть единоутробные дети матери-ислама? Да, разумеется. Великий муфтий точно определяет время зарождения ислама, границы его роста и — увы! — раскола. Великий муфтий не верит в магию слова. Раскол содержит в себе семена катастрофы. Но катастрофа не от самого слова как такового, а от самого факта. Зачем ходить далеко? Разве с просторов северного прибрежья не докатывается до стен Исфахана возмутительная и воинствующая ересь шиитов, которые тоже расколоты, подобно ореху, на многие части?
Да и так ли монолитно само население дворца, как это может показаться непосвященному со стороны? Главный визирь Низам ал-Мулк крепко держит бразды правления государства в руках своих. Он предан исламу, он правоверен до мозга костей и ненавидит всяческую ересь. И он говорит: «Ересь в исламе есть начало ереси в государстве, которая подтачивает стены дворцовые…» Он говорит так, ибо он мудр, и он живет в вере своей, подобно шелковичному червю в коконе. Но червь этот воистину велик умом и духом, и жилище его прекрасно и величественно, ибо оно есть постамент нерушимой веры его…
Великий муфтий, когда перед ним открыли двери обсерватории, оглянулся, чтобы посмотреть на мир, который за спиною, будто прощался с ним. Ему казалось, что входит он в иной мир, и хотелось ему убедиться, что позади него земля и солнце, созданные аллахом от века, и пребывают они в замыслах создателя в своей первобытной чистоте. Поэтому невольно обострялась мысль о скверне, которая здесь, за порогом, за этими дверьми. Но не знать, что делается здесь, не увидеть все собственными глазами было бы трусостью, которая не дозволяется истинной верой.
Здесь, на пороге обсерватории, невольно спрашиваешь себя: «А что есть это странное кирпичное здание, в чем сила его и как сопоставить его с великой мечетью и великим дворцом его величества? Что общего меж ними и в чем разница, которая непременно должна быть, ибо каждая вещь имеет свою природу и свое назначение?»
Великий дом аллаха не нуждается ни в каких объяснениях, сущность его светла и ясна. Пока живет душа человека, пока обитает она в потустороннем мире, будет жить и здравствовать великий дом аллаха. Ибо в нем сила и красота человека от сотворения Адама, от скрижалей Моисеевых и великого воинства Мухаммада.
А дворец?.. Разве не есть он средоточие не только высшей власти, но и высшего лицемерия? Разве визири преданы его величеству так, как они громогласно говорят об этом, как изъявляют свою верноподданность и покорность? И нет ли среди них носителей ереси и духа непокорности, который дует с туранских степей? Если в народе через каждое сердце, бьющееся в нем, проходит трещина, то почему бы этой трещине не быть и во дворце? Разве дворец так уж прочно отгорожен от всего того, что происходит за его стенами? Нет ли тут связующих нитей? Есть, есть! — утверждает великий муфтий. — И не могут не быть! Хотя и сказано в Книге: «Он избрал вас и не устроил для вас в религии никакой тяготы…» Хотя и сказано в Книге: «Держитесь за аллаха! Он ваш покровитель. И прекрасен покровитель, и прекрасен помощник!» Неужели же жизнь сильнее Книги?
Великий муфтий при этой мысли испуганно озирается, ибо в нем добрый испуг, испуг доброго мусульманина, который в чем-то хитер, но в чем-то истинный мусульманин — послушатель воли аллаха. Однако у него есть голова, и он обязан смотреть глазами своими и думать своим умом. А иначе беда!..
Взглянув на круглое кирпичное здание, великий муфтий говорит себе: «Да, трещина проходит через многие сердца и во дворце. Это истина непреложная. Что это так — немало тому доказательств… Вот хотя бы недавний разговор с главным визирем…»
Его превосходительство спросил:
«Так ли чисто стадо, как это кажется?»
Говоря «стадо», он имел в виду стадо аллаха, которому несть числа и которое под дланью его величества.
«Стадо едино, — уклончиво ответил великий муфтий. — А иначе оно называлось бы другим именем. Само имя его свидетельствует о единстве его».
Его превосходительство Низам ал-Мулк видит дальше и слышит лучше, чем это может показаться наивному.
«Нет силы сильнее аллаха, нет длани сильнее его длани, а мы — пыль на его стопах. — Так сказал главный визирь. Был час дневного отдыха, и он пил вместе с великим муфтием холодную воду. — И стадо свое бережет аллах. Это есть истина истин… Но так ли едино это стадо и не нужен ли за ним глаз да глаз?»
Великий муфтий не стал кривить душой. Он знал чистоту помыслов главного визиря, жизнь которого была в угоду аллаха. И сказал великий муфтий одно небольшое слово:
«Нужен».
Главный визирь отставил чашу с водою и спросил:
«Значит, стадо не едино?»
«Я этого не говорил…»
«Тогда зачем глаз?»
«О, твое превосходительство, разве это помешает? Сказано в Книге: «А если они с тобой препираются, то скажи: «Аллах лучше знает то, что вы делаете!» Из этих слов ты можешь заключить, что даже сам аллах допускал препирательства в стаде своем».
Низам ал-Мулк погладил бороду в глубокой задумчивости и проговорил, как бы находясь наедине с самим собою:
«Не туда идет стадо, и бич пастуха заметно ослабел…»
«Это не так», — возразил муфтий.
На что визирь ответил:
«Истинно так! Я предвижу многие сложности. И меня беспокоят молодые люди, в головах которых ветер. Им нет дела до святых слов и святой Книги, они преисполнены жажды власти, и дело у них, к сожалению, идет вслед за словами».
«Что ты говоришь?!» — воскликнул вдруг перепугавшийся муфтий.
«То, что слышал. И я говорю это обдуманно и только для тебя. Его величество скоро все узнает. Он уже кое о чем осведомлен. Мы укажем ему на болезнь, подскажем, какое существует от нее лекарство. И тогда дело за ним».
Главный визирь был спокоен, но в словах его чувствовалась тревога. Он продолжал, ибо хотелось ему, как видно, поделиться с кем-нибудь из верных людей:
«Исмаилиты подымают голову. Под фальшивым словом о свободе они готовят ниспровержение религии и власти. Есть меж ними и вовсе горячие головы. Это люди отпетые и жаждущие крови, наподобие шакалов. Их пока мало, однако они опасны именно своим малым количеством. Эта малая часть может увлечь за собою большую часть народа. Наиболее действенную силу народа. И тогда положение может создаться отчаянное. Недавно я повелел отрезать язык и уши одному такому молодцу. Он гниет в темнице. Но жестами рук и телодвижением своим он грозит всем нам и попирает имя аллаха».
Так сказал главный визирь, и слова его до сих пор грозно звучат в ушах великого муфтия. И он недоверчиво взирал на кирпичи, которые были сложены полукругом, переходящим в полный круг. И муфтий подумал о связи между словами визиря, миром, который за спиною, и этим кирпичным зданием, где тоже мысли… Но какие это мысли? И почему вдруг сейчас, у дверей, пришло странное озарение: а нет ли взаимосвязи между всеми этими домами — дворцом, мечетью, обсерваторией — и теми самыми горячими головами, которые грозятся ниспровергнуть все сущее? А если есть, то какова эта взаимосвязь? Должны ли все эти силы взаимодействовать гармонично на благо державы дли противоборствовать меж собою для того, чтобы повергнуть в прах великое здание государства, освященное именем аллаха?..
Великий муфтий не мог ответить на это точно и безошибочно. В эту самую минуту навстречу ему направлялся Омар Хайям со своими друзьями. Они шли гурьбой, неторопливо, но и не медленно. Шли с достоинством и радушием, ибо так положено доброму хозяину.
Хаким чему-то радовался. Это сразу подметил великий муфтий.
— Твой приход — великий подарок, — сказал Омар Хайям. Он почтительно склонил голову.
Великому муфтию почудилось, что полуоткрытые глаза хакима источают чуть приметное лукавство. Знатный гость не сразу перешагнул через порог.
— Спасибо, — сказал он. — Я надеюсь, что услышу от тебя нечто такое, что усугубит мои познания о природе вещей, в чем я, сказать по правде, не особенно силен.
Хаким кивнул. И широким жестом пригласил в помещение. В круглое. Странное на вид.
12
Эта глава является продолжением предыдущей
Знатного гостя Омар Хайям провел на самый верх — на плоскую и круглую кровлю обсерватории. Муфтий и сопровождавшие его лица, о которых трудно сказать что-либо определенное, кроме того, что они все время молчали, прошлись по кругу, несмело посмотрели вниз.
— Высоко, — заметил муфтий и отошел подальше от границы круга. Он обратил сугубое внимание на изразцовый пол, который гладок и на котором выложены радиальные линии, хорды и концентрические круги. А по краю круга пол градуирован при помощи изразцовых плит разной окраски: градусы — красного цвета, минуты — желтого. А весь круг смолисто-черный, такой блестящий и прочный. «Дорогая штука», — подумал муфтий.
Омар Хайям давал пояснения. А друзья его — Исфизари, Васети, Хазини и Лоукари — вставляли словечки, когда Хайям устремлял в их сторону вопросительный взгляд.
— Этот круг, называемый азимутальным, разделен на триста шестьдесят градусов, — говорил хаким. — Градусы и минуты отмечены соответственно.
— А секунды? — спросил муфтий.
— Они помечены особой краской, и, чтобы разглядеть их, надо подойти к самому краю… А от твоих ног и большой окружности лежит радиус, выполненный из благородного сплава. Это подвижной радиус, и по нему легко отсчитать число градусов, минут и секунд.
— Значит, радиус, — проговорил муфтий.
— По нему ориентирована горизонтальная ось вот этой астролябии…
Омар Хайям подвел высокого гостя к центру круга, где на специально устроенной металлической перекладине на бронзовой цепи была подвешена тонкой работы латунная астролябия.
— Это немножко трудно, но мы можем определить любой нужный нам угол в горизонтальной плоскости небесной сферы, — объяснял хаким. — Причем надо учесть, что мы сию минуту стоим на исфаханском меридиане и смотрим точно на юг. А за спиною у нас точно север. Меридиан этот выложен голубыми плитами.
— Вижу, вижу, — сказал муфтий, выказывая внешнюю заинтересованность всеми этими меридианами, горизонталями и астролябиями. Говоря по правде, все это было не очень понятно, но любопытно. Однако главное было впереди: к чему все это, что даст все это в итоге? До поры до времени муфтий скрывал нетерпение, но и слушать все эти ученые речи было ему довольно-таки тягостно.
Сама по себе астролябия оказалась незаурядной вещью. Наверное, тот, кто смастерил ее, был большой мастак. Разумеется, не так-то просто подобрать металл. Но еще труднее выковать из него этот вертикальный диск, отшлифовать его, нанести градусы и минуты, приделать алидаду, которая должна ходить по кругу, изображая из себя овеществленный диаметр. Эта алидада, будучи направленной на светило, дает на круге отсчет градусов и минут. Как объяснил хаким, зная число градусов возвышения и азимутальное число относительного исфаханского меридиана, можно определить местоположение любой звезды на небесной сфере. Для большей наглядности хаким показал некую сферу из меди, которая походила на земной глобус. На эту сферу были нанесены созвездия. Такой увидел бы аллах вселенную, если бы пожелал взглянуть на нее с высоты высот.
Хаким долго объяснял значение некоего медного пояса, называемого эклиптикой. Понять что-либо было совершенно невозможно. Умственное напряжение могло вызвать сильнейшую головную боль. И великий муфтий ужаснулся…
— А что, твои друзья тоже вычисляют этот угол? — спросил он хакима.
Хаким ответил:
— И этот, и многие другие.
Муфтий взглянул на каждого из них и обратился к самому себе с таким вопросом: «Неужели делать им больше нечего?» Но вслух, разумеется, этого не сказал. Он сказал совершенно противоположное:
— Это удивительно… Это трудно своей трудностью…
Великий муфтий вновь пожелал взглянуть на главную астролябию — гордость обсерватории, — с тем чтобы бросить взгляд на вселенную через две щели в алидаде. Ему с готовностью помогли в этом. И муфтий увидел то, что увидел: малюсенький кусочек синего неба. Это было все равно что смотреть на небо сквозь игольное ушко.
— И что же? — недоуменно спросил муфтий.
— Наблюдатель видит звезду или Луну, — пояснил хаким.
— Это ночью?
— Да, ночью.
— И так все ночи?
— Да, много ночей.
Муфтию хотелось узнать: зачем все это? В самом деле, разве аллах не сотворил гармонию, достойную его величия? В чем смысл наблюдений? Раскрыть тайну его деяний? Это невозможно! Только аллах знает свои тайны и верно хранит их. Чтобы прославить его деяния? Но это уже сделано в великой Книге. Пророк пророков Мухаммад возвеличил аллаха. Что же в состоянии сделать эти люди в этой обсерватории? Они или лгут, или заблуждаются. Одно из двух. Нет, зачем нужны эти ночные бдения, это дорогостоящее здание, эти дорогие приборы и эти рты, которых обязана кормить казна его величества?
Великий муфтий не спеша обошел круг, потирая руки и говоря:
— Велик аллах! Велик и милосерден…
Он искренне не понимал, к чему все эти премудрости с градусами и минутами, эклиптикой и горизонтом? Разве не сказано в Книге: «Ему принадлежит то, что в небесах и что на земле: поистине Аллах богат, преславен!»? Так что же получается? Смотреть на небо, чтобы прославлять аллаха! Но этого уже не требуется. Это сделано наилучшим образом пророком из пророков. А может быть, в опровержение всего этого? Тогда затея эта не только богохульна в сущности своей, но и тяжко наказуема, подобно воровству или грабежам. Во имя чего построена обсерватория? Это надо знать, а чтобы знать, надо уяснить…
Ходит по кругу в задумчивости великий муфтий, а ученые наблюдают за ним. Что скажет он? Благословит или проклянет?
Великий муфтий, заложив руки за спину, подходит к хакиму. Долго, изучающе глядит на него, и борода его трясется на легком ветерке.
— Омар, известна ли тебе Книга? — Муфтий обращается к хакиму строго, как учитель.
— О да! — отвечает хаким. — Я знаю и эту, и много других. Память у меня свежа, и я читаю наизусть многие книги.
— Нет, — останавливает его муфтий, — я имею в виду Книгу всех книг, источник всяческой мудрости и всяческого блаженства, оружие против нечестивых и щит правоверных. Я говорю не о многих, но только об одной. Да будет это тебе ясно, Омар!
Омар Хайям склоняет голову в знак того, что все уразумел в точности.
— В Книге сказано: «Он научил Корану, сотворил человека, научил его изъясняться. Солнце и Луна — по сроку, трава и деревья поклоняются…»
Хаким продолжил речь великого муфтия:
— «И небо Он воздвиг и установил весы…»
Муфтий был доволен. Он сказал:
— Истинно сказано. Веришь ли ты Книге, в которой эти слова?
— О да! — сказал хаким.
— Веришь ли? — переспросил муфтий, словно бы усомнившись в ответе хакима.
— Да, да, да!
Муфтий провел ладонями по лицу своему и бороде своей, словно освобождаясь от некой скверны, словно совершая некое омовение. И сказал:
— В таком случае зачем все это?
— Это? — Хаким крайне удивился. — Что — это?
— Это, — сказал муфтий и указал рукою на круг под ногами, на астролябию над полом и многочисленные приборы под чехлами.
Хаким обменялся взглядами со своими друзьями. Они дали понять ему, что на этот вопрос, столь прямой по сути своей, следует отвечать ответом, столь же прямым по сути своей. Но хаким избрал другой путь, он нашел другую тропу, чем ту, которую предлагали друзья его — немного горячие, менее опытные, менее тертые в делах дворцовых, где надо иметь три глаза — два спереди, обычные, и один на затылке.
— В Книге сказано, — продолжал муфтий: — «О сонм джиннов и людей! Если можете проникнуть за пределы небес и Земли, то пройдите! Не пройдете вы, иные как с властью». Как ты это понимаешь, Омар?
И хаким ответил так, как ответил: с подчеркнутой любовью к аллаху и его неисчислимым благодеяниям, к великому творению рук его. Ответил как истый мусульманин. Те, которые пришли с муфтием, изумились словам хакима, ибо были они сказаны с достойным преклонением перед именем аллаха и его пророка Мухаммада. Они решили про себя: «Вот человек, достойный похвалы!» Однако муфтий был выше их и видел дальше их. И он спросил:
— Так к чему все это? — И он обвел глазами то, на чем стоял, то, на что взирал, что было вокруг него в обсерватории.
— Его тайны безграничны, — ответил хаким и положил руки на грудь в знак величайшей покорности воле аллаха.
— Это так, Омар.
— Если проживешь десять жизней, все равно не проникнешь ни в одну из них до конца.
— Это так, Омар.
— А тайнам его несть числа. И считай их до конца дней своих — не сочтешь.
— Это так, Омар. В Книге сказано: «Он сотворил человека из звучащей глины, как гончарная…»
А хаким продолжил эту фразу из Книги:
— «…и сотворил джиннов из чистого огня».
— «Господь обоих востоков и господь обоих западов», Омар…
Хаким присовокупил:
— «Он разъединил моря, которые готовы встретиться…»
Великий муфтий вдруг замешкался… Память неожиданно изменила ему. И это понятно: лет ему было немало. Но ведь Книга одна, а лет много, и ничто не должно забываться из Книги, которая священна. И хаким выручил его, говоря:
— «Между ними преграда, через которую они не устремятся».
— Верно, Омар. Так к чему же все это, я спрашиваю?
Хаким подумал немного, поклонился, словно бы кланяясь создателю Книги. И это очень пришлось по душе великому муфтию. Но ведь и хороший человек, ведь и правоверный может выйти на неверную стезю, и тогда глаза его закрываются плотной завесой, и не видит он ничего, кроме неверной стези, на которой стоит. Это так! Великий муфтий может привести тому много примеров, и каждый из них будет уроком для всего сущего, уроком жестоким, но полезным.
— Мой учитель, — начал хаким, — который есть и пребудет, великий Ибн Сина, философией своею и знаниями своими усугубил значение учения нашего и силу его…
— Ибн Сина? — спросил муфтий.
— Да, он.
— Ибн Сина? — повторил это имя муфтий. — Но при чем он? Он был любимцем шахов и хаканов, его имя на святилищах наших. Он слишком велик, чтобы произносить имя его на этой плоской кровле. Он проникал в сердце мусульман, он врачевал во имя аллаха, прославлял имя его.
— Я отдаю себе отчет в том, что я ничто перед моим учителем, — с горечью сказал хаким. — И мы не стоим мизинца его. Но смею утверждать, что идем по стопам его и дорога, указанная им, пряма и верна.
И тогда муфтий спросил в упор:
— Какое же из благодеяний господа нашего вы сочтете ложным? — И он оглядел всех, кто стоял вместе с ним на этой кровле.
— Проникнуть в тайны небесные не что иное, как найти дорогу к судьбе и душе человека. Разве расположение светил безразлично его величеству, тебе или простому землепашцу?
А муфтий твердил свое:
— Какое же из благодеяний господа нашего вы сочтете ложным?
— Работая здесь и не смыкая глаз по ночам, мы думаем о величии его и поражены тем, что видим. Разве это не есть одно из благодеяний его, дарованных нам?
— Нет, — отрезал муфтий, — я не о том. Я спрашиваю: «Какое же из благодеяний господа нашего вы сочтете ложным?» Тем самым я говорю: для чего суета на этой кровле и ночи, полные бдения, в то время, когда положено спать?
— А познания? — спокойно сказал хаким.
— Какие? Во имя чего и кого?
— В Книге сказано: «Опираясь на зеленые подушки и прекрасные ковры…» Мы хотим, опираясь на них, то есть на господа нашего, найти решение многих тайн земли и неба. Но тайн миллион миллионов, и чем больше открываешь их, тем больше рождается тайн.
— Это так, — согласился муфтий.
— Мы желаем, наблюдая светила, воздать должное имени его и замыслам его.
Муфтий улыбнулся, как бы спрашивая: «А так ли это?» Однако хаким, словно не замечая этого, продолжал:
— Тысяча наблюдений — тысяча результатов. Тысяча наблюдений — тысяча исправлений. Поправка к поправке, и еще раз поправка к поправке, и мы наконец приходим к истине. Возможно, все еще приближенной к истинной истине. И эти движения, которые есть наука, будут накоплением знаний, угодных человеку.
— Человеку? — прошептал муфтий.
— Да.
— Человеку? — недоверчиво повторил муфтий.
— Да, — сказал хаким.
— А не ему? — и муфтий указал на небо. Указал глазами, полными благочестия.
— И ему тоже.
Муфтию не очень понравился ответ Омара Хайяма: что значит «тоже»? И можно ли ставить на одну доску человека и небо? Этот ученый, кажется, готов пойти еще дальше и поднять человека выше небесных сфер. Особенно в своих стихах… И муфтий спросил, как бы невзначай:
— Омар, а как твои стихи?
— Мои? — удивился хаким.
— Ты же поэт, — сказал великий муфтий.
— О нет! Я не могу претендовать на столь высокое звание.
— Разве оно выше звания ученого?
— Несомненно.
Муфтий многозначительно произнес:
— Мне приходилось читать кое-какие рубаи…
Хаким продолжал, словно не расслышав слов муфтия:
— Нет, я не поэт. Поэт — это Фирдоуси. Если человек порою и грешит стишками, он еще не поэт.
— А кто же?
— Так просто… мелкий баловник…
— А я-то думал… — проговорил муфтий, но не закончил своей мысли. Он хитровато посмотрел на хакима. И еще раз повторил: — А я-то думал…
И начал спускаться вниз по лестнице.
Хаким предложил гостю отобедать, но тот отказался под благовидным предлогом: ждут во дворце…
Хаким и его друзья проводили муфтия и его спутников до ворот. Здесь муфтий остановился, чтобы напоследок посмотреть на обсерваторию. Покачал головой, но не сказал ни слова. А на прощание все же припомнил «поэта».
— Значит, вовсе не поэт? — спросил он.
— Истинный поэт — Фирдоуси, — уклончиво ответил хаким.
— Я рад, что рубаи, которые ходят по рукам, не принадлежат поэту. — И муфтий вышел за ворота вместе со своими провожатыми.
Когда ученые остались одни, Исфизари спросил хакима:
— К добру ли этот визит?
На это хаким ответил:
— Пока здравствует главный визирь, эта обсерватория будет стоять как скала.
— А потом?
Хаким подумал, подумал и сказал:
— Надо жить радостью сегодняшнего дня, надо вкушать все сладости сегодняшнего дня. — И весело добавил: — Нас ждет обед!
13
Здесь рассказывается об утренней прогулке по берегу Зайендеруда
Восток алел. Желтые зубцы окрестных гор покрылись розоватой краской. Одна за другою гасли звезды. Воздух как бы оцепенел, предвещая жестокий зной.
Омар Хайям сказал своему другу Меймуни Васети — математику и астроному.
— Мы всю ночь следили за звездами. Никто не может сказать, что же мы высмотрели. Даже ты. И я тоже. Ценность этой ночи с точки зрения науки, может быть, определится после нашей смерти. Вот чаши с вином, вот хлеб и пастуший сыр. Позавтракаем и пройдемся немного по грешной земле. Посмотрим, что творится на ней.
Меймуни Васети согласился с хакимом. И после завтрака они направились на берег Зайендеруда, на тот, на левый, где больше всего зелени. Перейдя через кирпичный многоарочный мост, они свернули налево и оказались в двух шагах от полусонных струй Зайендеруда.
— Мы пойдем против течения, — сказал Омар Хайям.
Васети усмехнулся.
— Я знаю эту твою страсть — идти против течения.
Хаким был одет в голубую шелковую кабу и подпоясан зеленой шалью, то есть кушаком. Васети, как всегда, — в кабу из легкой шерсти неопределенного цвета. «К такой грязь и пыль не пристают», — шутил он.
— Друг мой, — сказал Омар Хайям, — сколько бы мы ни глядели на звезды — а нам смотреть на них всю жизнь, — все равно придется спускаться на землю. Мы рождаемся здесь, любим здесь женщин и умираем. А потом прорастаем травою или из нас делают кувшины для вина.
— Дорогой Омар, — сказал Васети, — а есть ли в таком случае смысл в наших бдениях?
— Огромный! — воскликнул Омар Хайям.
— Круговращение планет настолько уж важно?
— Безусловно!
— И эти календари, и расчеты времени, и параллельные линии?
Хайям остановился и посмотрел в глаза своему другу:
— А ты мог бы жить без них?
— Откровенно?
— Да, только откровенно.
— Нет, не мог бы.
— Вот видишь!
Друзья двинулись дальше.
— Милый Меймуни, ты умнее, чем хочешь казаться. А потому не заставляй повторять давно известные истины. Мой покойный отец отдал меня в учение достопочтенному Насиру ад-Дину Шейху Мухаммаду Мансуру. Этот ученый муж жил в Нишапуре, имел своих учеников, и главное занятие его было богословие. Со мною вместе учился замечательный наш поэт Санаи. И я помню, как учитель, отвечая на наши глупые вопросы, объяснял нам, его ученикам, все давным-давно ясное и понятное. Вроде: Джейхун течет на севере, а Нил — где-то на юге, а Ганг — на востоке… К несчастью или счастью — это пусть решает каждый, — аллах создал человека. Адам сделал все для того, чтобы мы расплодились. А раз так, то надо жить, хотя это не так уж просто. А жить — это значит любить, учиться, учить, смотреть на звезды, решать задачи…
Хайям указал на рыбаков, закинувших свои сети в реку. Иные удили рыбу с берега и, занятые своим делом, казалось, никого не замечали. Им не было дела до прелестного восхода, когда с каждым мгновением меняются в мире краски, когда все, начиная с небес и кончая тоненькой былинкой, по-своему переживает этот переход от ночи к дню.
— Они добывают себе пищу, — сказал Хайям, — часть улова продадут на базаре и на заработанные дирхемы попытаются накормить свою семью. Это не так-то просто.
Васети пригляделся к изможденным и огрубевшим под солнцем лицам рыбаков и сказал:
— Омар, ты полагаешь, что точное определение продолжительности года или круговращения планет окажет некоторую помощь этим людям?
Хайям сорвал травинку и внимательно разглядывал ее.
— Их счастье в том, — сказал Хайям, — что живут они сегодняшним днем. Это, можно сказать, лекарство и для души, и для тела.
Они присели на огромное бревно, которое лежало у самой реки. Под ногами у них плескалась чистая, голубовато-зеленая вода. Она мчалась вперед, но у самого берега замедляла бег настолько, что, казалось, течет обратно.
Хайям поднял с земли кривую хворостинку длиною в три или четыре локтя и опустил ее одним концом в воду.
— Признаюсь тебе, — сказал Хайям, — я много думаю об Адаме и о тех, кто за семь тысячелетий со дня сотворения человека прошел через этот караван-сарай, именуемый миром. Зачем все это и во имя чего? Я этого не знаю.
— А что сказано по этому поводу у Аристотеля? — спросил Васети.
— Кажется, ничего.
— Разве вся его философия о движении не есть подтверждение необходимости смены поколений! В конечном счете не в этом ли смысл жизни?
— Меймуни, возразить мне нечего… — Омар Хайям хлестнул воду хворостинкой, а потом попытался прочертить прямую против течения. — Видишь? Вода сопротивляется. Жизнь точно вода: она сопротивляется тем, кто идет против течения.
Васети ухмыльнулся.
— И плыть всегда по течению тоже довольно противно.
Хайям сказал:
— Аристотель, несомненно, прав, когда говорит о движении. Это мы наблюдаем каждое мгновение. Я люблю эту реку за ее стремительное движение. Я часто прихожу сюда, чтобы отдохнуть. И мне кажется, что в эти минуты я обновляюсь. Мы с тобою, Меймуни, хотим этого или не хотим, тоже участвуем в движении.
Омар Хайям обратился к прошлому. Взять, например, поэзию. Кто велик в этой области? Несомненно, Фирдоуси. Его «Шах-намэ» будет жить, пока цел этот странный караван-сарай, то есть мир. Фирдоуси — солнце. Но есть и другие светила на персидском поэтическом небосклоне. Например: Рудаки, Шахид Балхи, Абу-Шукур Балхи, Абу Салик Гургани, Абу-Саид, Кисаи. Что собою являла бы жизнь без них? Конечно, масло из сезама[31] и ячменные лепешки существовали бы, но жизни подлинной не существовало бы… Вот эти рыбаки. Они не мыслят жизни без рыбы и без единого дирхема в кармане. А на досуге они сошли бы с ума без Фирдоуси. Значит, поэзия тоже сама жизнь. Или это не так?
— Ну почему же, — согласился Васети, — здесь у нас с тобою не будет спора. Со стародавних времен поэзия в нашем народе соседствует с ячменной лепешкой.
Хайям обратился к науке. То ли ему хотелось в чем-то убедить своего друга, то ли сам желал еще раз убедиться в некоторых, по его мнению, непреложных истинах.
Кто солнце науки? Несравненный Ибн Сина. Есть светила и рядом с ним. Пусть они светят не столь уж ярко, но это светила! Настоящие! Неподдельные! Ал-Кинди, например, многое перенявший у Аристотеля и много сделавший сам в медицине, геометрии, астрономии, музыке. Разве не велик и Фараби, тоже следовавший за Аристотелем? А Мухаммад ибн-Муса ал-Хорезми? Он прославил Багдад своей астрологией и математикой. А что сказать об Ал-Баттани? Он сделал то, что никому не удавалось до него: точно определил продолжительность года. Баттани объявил: триста шестьдесят пять дней, пять часов и двадцать четыре секунды. Если он и ошибся, то на ничтожно малое количество минут и секунд. Разве это не изумительно само по себе?
Однако самое удивительное будет впереди, а именно: Бируни определит вращение Земли вокруг воображаемой оси. Но и это не все. Бируни выскажет почти сказочную догадку, которая опрокинет учение Птоломея начисто. С его неподвижной Землей и вращающимся вокруг нее Солнцем и светилами. Бируни скажет: нет, все наоборот!
О чем все это говорит? О движении? Это так. Но есть кое-что поважнее самого движения как такового. Жизнь в ее проявлениях — бесчисленных, разнообразных. Это утро, эта река, эти рыбаки, это небо, эта земля… Цель жизни едина и велика: поддерживать жизнь! Разве это не удивительно?! Разве не прекрасно?
Васети полагает, что если ставить вопрос так, и только так, то это скорее приведет к грубым заключениям и даже чревоугодию. А духовное? Как сочетать духовное с низменным, поэзию и музыку с овсяной лепешкой и глотком воды? Не приведет ли это к чисто животному интересу в жизни, к ее обыденным и недальновидным желаниям? Скажем, эти рыбаки…
— Эй, уважаемый! — крикнул Васети рыбаку, который сидел ближе прочих к ним, удя рыбу и не спуская глаз с поверхности воды.
Тот повернул к Васети рябое костистое лицо, прошамкал:
— Шлушаю тебя, гошподин.
— Ты не мог бы назвать свое самое большое желание?
— Шамое, шамое? — спросил рыбак.
— Да. Именно.
— Поймать хотя бы пяток рыбок.
— А еще?
— Еще штолько же жавтра.
Рыбак снова уставился на воду.
— Слышал? — обратился Васети к Хайяму. — Философия сиюминутной жизни в чистом виде, не угодно ли?
Хайям возразил:
— Нет, не угодно! Это не философия. Это верх желания голодного и бедного человека.
— Сделай поправку, Омар: большинства людей.
Омар Хайям сказал, что, если даже рыба предел желаний, это лучше, чем блаженство рая где-то в отдаленном и очень туманном будущем.
Васети рассмеялся.
— Это хорошо известно, Омар: ты в кредит не веришь.
— Да, не верю. Предпочитаю наличными и немедленно, пока бьется мое сердце.
— Это знаем по твоим стихам.
— И ничего вы не знаете! — проворчал Хайям. Он крепко ударил хворостинкой по воде. И повторил: — Не знаете!
— Согласен! — И, смеясь, Васети продолжил: — Мы много не знаем из того, что ты иногда сочиняешь и куда-то прячешь.
Хайям казался рассерженным.
— И ничего я не прячу! Я просто кидаю их куда попало. Чаще всего приобщаю к мусору.
Васети перестал смеяться. Положил руку на колено Хайяму. Сказал:
— Мы друзья, Омар?
Тот кивнул.
— Мы давно работаем рядом?
— Скоро двадцать лет.
— Я до сих пор не уразумел одного…
— Только одного? — улыбнулся Хайям.
— Ты не смейся. Только одного…
— Люди иногда всю жизнь живут бок о бок и умирают, так и не поняв друг друга.
— Омар, ответь мне на вопрос: почему ты делаешь вид, что стихи не твое дело, что стихи вовсе тебя не касаются?
Хайям медленно поднял правую руку.
— Это неправда. Я люблю Фирдоуси и некоторые стихи Ибн Сины.
— Я не о том, Омар. Я имею в виду твои стихи. Именно твои, а не чьи-либо другие.
Хайям бросил хворостину в воду, подпер голову руками.
Васети сказал:
— Мы, твои друзья, часто подбираем твои стихи. Прямо с пола. И храним у себя…
— …и отдаете переписчикам? — перебил Хайям.
— Только не я. Может быть, ты стесняешься занятия стихами? Если это так, я никогда не напомню о них.
Омар Хайям погладил бороду, потер лоб обеими руками, точно у него болела голова. И сказал:
— Это неправда: никто не должен стесняться стихов, в том числе и я, если они настоящие. Вот мое мнение о поэзии: она сама жизнь! И тот, кто говорит: я позабавлюсь стихами, а потом обращусь к настоящему делу, — тот глубоко ошибается. Тот, кто слагает хорошие стихи, тот живет полной жизнью. Поезжай в Гарм-Сир до самого моря, сходи в Дур до самого южного залива, поезжай в Казвин или в противоположную сторону — в Хорасан, и на всем нескончаемом пути ты встретишь людей, которые поют песни и читают стихи. Ибо они хотят жить. Они не говорят, что Бируни сказал то-то и то-то, они не говорят, что Архимед сделал то-то и то-то. Они читают Фирдоуси и плачут вместе с ним, и радуются вместе с ним. Когда достопочтенный Санаи пишет стихи, он живет большой и нужной жизнью. Он при этом и шах, и султан, и хакан, и раджа. Я хочу сказать, что он царь царей всех народов и стран. Госпожа Поэзия слишком добра и слишком сурова. Лик ее и мил, и уродлив. Это смотря по тому, к кому с каким сердцем и с какой душой поворотится она. Госпожа Поэзия к тому же учительница — требовательная и скупая на похвалы. И когда меня кое-кто по недомыслию называет поэтом, я внутренне трясусь от страха и стыда! Говорю это тебе без ложной скромности: я всего-навсего прилежный ученый, идущий по стопам великих. А по должности — астролог его величества. Вот откуда этот страх, о котором говорю тебе.
Васети слушал со вниманием и сочувствием. Все, что бы ни делал или ни говорил Омар эбнэ Ибрахим, он делал и говорил серьезно, обдуманно, убежденно. И вместо того чтобы затевать спор со своим другом, Васети прочитал рубаи. Он читал стоя, торжественно, правда, не совсем умело.
Рябой рыбак прислушался к Васети. И он крикнул молодому рыбаку, сидевшему на берегу, чуть поодаль:
— Баба́! Поди-ка сюда, здесь идет соревнование поэтов.
Тот, которого звали Баба́, живо откликнулся, позвал еще кого-то.
Васети продолжал читать рубаи, и даже лучше, чем наедине с Хайямом.
Хаким поднял голову и увидел светящиеся глаза, воистину красивейшие глаза бедных, тщедушных на вид людей. Они были рады. Они благодарно взирали на Васети, подбодряли его.
А когда Васети передохнул, один молодой рыбак принялся читать сам — бейты и рубаи, газели[32] и касыды. Читал нараспев, с удовольствием, самозабвенно. И наконец устал. Тогда слово перехватил пожилой человек, седобородый и скуластый. Он читал выразительно, обращаясь ко всем поочередно. Читал про любовь и розы, про вино и женщин, про битвы и разлуку…
— А теперь ты, уважаемый господин, — попросил он Васети.
Меймуни Васети провозгласил стихами тост за любовь. А потом он показал, иллюстрируя рубаи, как меджнун разбил чашу о камень. Это очень понравилось рыбакам.
— Нашстояший мушшина! — сказал рябой.
— Повтори-ка снова, уважаемый господин, — попросили его друзья.
Васети повторил. Потом прочел про жизнь и про смерть, и про то, что поэт не верит в рай, а желает рая здесь, на земле, на зеленой лужайке вместе с сереброгрудой…
Это привело рыбаков в восторг. Они просили, требовали еще, умоляли — еще!..
Васети, кажется, исчерпал рубаи. Он указал на Хайяма:
— Просите его.
Омар Хайям глухо, негромко полупропел рубаи о неверности красавиц. Однако меджнуна из рубаи успокаивало одно: он сам неверен красавицам… Потом прочитал несколько рубаи о гончаре и жестоком боге, который разбивает свои творения, подобно непригодным кувшинам. А потом еще о тайнах мироздания, которые отгадывай — не отгадаешь. И еще о том, что не верит в кредит и требует от бога наличными здесь, на земле. И наконец, о том, что не желает славы, что она для истинного меджнуна, влюбленного в жизнь и красавиц, подобна барабанному бою над ухом…
— Все! — сказал он и резко поднялся с места.
На него восхищенно смотрели рыбаки, и потрескавшиеся рыбацкие губы шептали слова благодарности.
— Кто ты? — спросил его рябой.
— Случайный гость, — ответил Омар Хайям. И, не говоря больше ни слова, заспешил назад, к мосту.
А за ним Васети.
14
Здесь рассказывается о том, как Омар Хайям побывал во дворце в час досуга его величества
Его величество хлопнул в ладоши. Довольно громко. Чтобы услышали его музыканты. Барабан и рубаб[33] мигом умолкли. А ней продолжал звучать еще некоторое время. И тоже умолк. Танцовщицы застыли.
Малик-шах дал понять, что хочет говорить. Он откинулся на низеньком кресле и обратился к главному визирю, который сидел от него по правую руку.
— Я задам один вопрос уважаемому хакиму…
Его превосходительство Низам ал-Мулк подал знак стольничему, и тот повелел удалиться танцовщицам в соседнюю комнату. А музыканты остались на своих местах.
В зале было светло: горели все светильники — такие высокие, медные, начищенные мелом и особым горным песком, который мельче мела, если его растереть в порошок.
Омар эбнэ Ибрахим, казалось, не обратил внимания на музыку, которая умолкла, и на исчезновение танцовщиц. По-видимому, он думал о чем-то своем. А иначе как мог он вдруг оглохнуть или ослепнуть? Он держал в руке прекрасный фиал, украшенный бирюзой, и все время смотрел куда-то вдаль: не на танцовщиц, которые гибче лозы, не на музыкантов, чье искусство не знает себе равного от Хорасана до области Багдада. А в даль. Беспредельную.
Когда его величество изволил сказать: «Я задам один вопрос», — Омара точно разбудили от сна. Он обратил к его величеству свое лицо и слегка наклонился вперед, показывая тем самым, что он весь слух, весь внимание.
Главный визирь, сидевший по правую руку, тоже склонился в сторону его величества. И он услышал то, что услышал…
— Нельзя ли было бы узнать, — сказал его величество, не спуская глаз с ученого, — о чем думает в эти минуты господин Омар Хайям? Я понимаю моего главного визиря, который равнодушен и к музыке, и к танцам, ибо он слишком правоверен. Ну а что касается уважаемого хакима, тут я немножко озадачен…
Ученый и рта не успел открыть, как его властно остановил султан.
— Не торопись с ответом, — сказал он. — Я знаю, что ты сейчас далеко отсюда в своих мыслях. Я вижу то, что вижу. Я не сидел бы на этом троне, если бы не разбирался в вещах сравнительно несложных. Я полагаю, что тебе не стоит отпираться, если все видно и понятно даже постороннему наблюдателю.
Омар Хайям посмотрел на визиря, словно бы ища у него поддержки. И снова встретился со взглядом его величества. «Неужели ты должен придумывать свой ответ?» — как бы вопрошал султан.
Омар эбнэ Ибрахим сказал:
— У меня нет мыслей, которые мог бы утаить от твоего величества. Сердце мое открыто для тебя, как бывает открыта дверь богобоязненного человека, поджидающего добрых гостей. Я действительно был далеко отсюда. Я был далеко именно потому, что находился очень близко.
Левая бровь султана вопросительно приподнялась:
— Как это понимать, уважаемый Омар? — Его величество повернулся к своему визирю. — Разве «далеко» и «близко» понятия совместимые?
Низам ал-Мулк ничего не сказал, ибо вопрос не был прямо обращен к нему.
— Я скажу, — ответил Омар Хайям. — Сидя на этом месте, слушая музыку и любуясь танцами, то есть всем своим естеством пребывая в этом зале, возле твоего величества, я думал — причем невольно — совсем о другом. И это другое я бы определил словом «далеко».
— Мне нравится ход твоего рассуждения, — сказал султан. И главный визирь кивнул. — Но надо ли понимать твои слова в том смысле, что тебе скучно здесь?
— Отнюдь, — сказал Омар Хайям.
— В таком случае поясни свою мысль.
— Твое величество, я это сделаю весьма охотно. И если выразить ее в двух словах, то вместил бы в два противоположных понятия: «жизнь и смерть».
Его величество удивился.
— Как, ты думаешь за столом о смерти? — сказал он.
Омар Хайям опустил голову в знак согласия.
— Так, — продолжал его величество, все больше любопытствуя. — Что же напоминает тебе о смерти? Неужели здесь, в этом зале, есть предмет, который навевает столь мрачную мысль? Укажи на него — и я распоряжусь убрать его!
— Бесполезно, — проговорил ученый.
— Что бесполезно?
— Убирать этот предмет.
— Почему?
— Это невозможно…
Его величество подбоченился. Прошелся внимательным взглядом по стенам, потолку, полу, окнам с причудливыми решетками и дверям, которые инкрустированы костью и красной медью.
— Я не вижу ничего невозможного…
Одно слово Омара эбнэ Ибрахима, и, казалось, любая вещь вылетела бы отсюда в мгновение ока.
— Его величество ждет, — напомнил ученому главный визирь.
— Это невозможно по одной причине, — сказал Омар Хайям. — Предмет, который сию минуту навевает мысль о смерти, — это жизнь.
— Как?! — воскликнул удивленный султан.
— Жизнь, — повторил Омар.
— Эта жизнь? — Его величество широким жестом обвел рукою зал.
— В данном случае эта. А в общем, любая жизнь в любой ее форме.
Султан скрестил руки на груди. На кончике языка его вертелся один вопрос. Его величество только соображал, кому его задать: ученому или визирю? И остановил свой выбор на последнем:
— Как это понимать?
Главный визирь сказал, что, как утверждают ученые, еще Платон доказывал, что жить — это умирать. То есть смерть есть следствие жизни. Не будь жизни, не было бы и смерти.
— Это ясно, — вздохнул султан, которого вдруг заставили думать о смерти в этот прекрасный вечер. — Стало быть, уважаемый Омар, наблюдая жизнь в любой ее форме, невольно думает о конце ее. Иначе говоря, о смерти. Это объяснение верно? — спросил султан ученого.
— Совершенно, — сказал Омар.
Его величество отпил глоток вина.
— Значит, — как бы размышляя, сказал султан, — наша сегодняшняя беседа, наша скромная трапеза, музыка и танцы наводят на мысль о смерти? Чьей же? — И он глянул на ученого исподлобья. Эдак недоверчиво, эдак подчеркнуто вопросительно…
Омар ответил:
— Речь идет о некой субстанции, которая может выразить и жизнь и смерть. Как если бы из одной вытекала другая.
Его величество признался:
— Слишком тонкая философия. Нельзя ли ее высказать применительно к этому? — И его величество указал рукою на стол, на пол, на потолок, на музыкантов.
Ученый кивнул. И начал с того, что поставленный в такой форме вопрос скорее приведет к поэзии, нежели к философии.
— И это хорошо! — обрадовался султан.
— Это сильно затруднит дело, — сказал ученый.
— Почему же?
— Очень просто, твое величество. Философия отвечает на сложный вопрос умозрительным заключением. Философия без труда примиряет эти два понятия — жизнь и смерть, между тем как поэзия никогда не приемлет смерти. А почему? Я отвечу: потому что это слишком жестоко, а все, что жестоко, не может быть принято, одобрено поэзией в любой форме. Поэзия есть течение мыслей, рожденных в сердце. А сердце никогда не примирится со смертью.
Его величество взял в руки фиал и омочил в нем губы. Разговор, по его мнению, принял слишком отвлеченный характер. Его вопрос — первоначальный — предполагал более конкретный ответ. Удовлетворительный ответ пока не получен, а его величество рассчитывал именно на него.
— Любуясь танцовщицами, — пояснил ученый, — и вслушиваясь в гармонию звуков, я невольно думаю о смерти…
— Почему? — перебил его султан.
— Не знаю. Может быть, потому, что хотелось бы вечно наслаждаться жизнью.
Султан расхохотался.
— И телом?..
— Да, и телом.
— Прекрасно! — Его величество указал на фиал, стоящий перед Омаром, и на фиал, стоящий перед визирем. — Выпьем за чудесную плоть!
— В наши годы? — прошептал визирь.
Султан расхохотался пуще прежнего.
— А почему бы и нет?! Разве любовь — удел только молодых? А? Почему мы должны целиком уступить ее господину Хайяму? Только потому, что он моложе? А? Нет, я не уступлю! А ты?
Главный визирь угрюмо молчал.
Ученый сказал:
— У тебя, твое величество, всегда хорошо. Хорошо для сердца и ума, для глаз и ушей. Здесь, под твоим добрым взглядом, вырастаешь на целую голову. И когда я думал о смерти, я хотел сказать, что невозможно представить себе расставание со всем этим. Причем расставание навеки. И знать, что больше этой красоты не увидишь никогда…
— Никогда, — как эхо повторил его величество. И вдруг загрустил. Он поставил на место фиал. И погрузился в долгое раздумье, уставившись взглядом в какую-то точку на суфре, вышитой золотом руками хорасанских вышивальщиц.
В зале было тихо — пролетит муха, и ту слышно. Султан обеими руками резко расправил усы и бороду, тряхнул головой, покрытой тяжелыми прядями черных-пречерных волос. И снова рассмеялся. Звонко эдак. По-молодому. И глаза его сощурились при этом. И лицо его просияло…
— Что же из всего сказанного следует? — обратился его величество к хакиму. — А?
Омар Хайям сказал:
— Из этого следует, твое величество, что надо пить, надо наслаждаться жизнью и…
Султан весьма повеселел и хлопнул в ладоши. Изволил приказать, чтобы танцевали, чтобы играла музыка. И сказал визирю:
— Ты слышал?
Тот кивнул.
— Нет, ты слышал? А ну-ка повтори, господин Хайям.
Ученый в точности повторил свои слова.
— Слышал? — снова вопросил султан, обращаясь к своему визирю. Затем ему захотелось узнать: есть ли ответ ученого — ответ философа или поэта? То есть приходят ли в полную гармонию меж собою философия и поэзия?
— Наверняка, — сказал Омар Хайям.
Султан спросил визиря:
— Тебя этот ответ устраивает?
— Пожалуй, — ответил визирь.
— Меня тоже, — сказал султан. И опустошил фиал — медленно, неторопливо, вкушая сладость вина.
И он увидел перед собою трех красавиц, тела которых были гибки, как лозы. Одна из них была нубийка, другая туранка, а третья румийка. Их бедра и груди соперничали меж собою. Красавицы были слишком земными, чтобы думать о смерти. И если бы груди их могли звенеть, как колокольчики, они при каждом движении бедер вызванивали бы серебристыми голосами: «Жизнь! Жизнь! Жизнь!»
15
Здесь рассказывается об одном госте из Нишапура
Хаким Омар Хайям производил сложные геометрические вычисления, когда вошел привратник и доложил о прибытии некоего ремесленника из Нишапура. Хаким терпеть не мог, когда прерывали его работу. Это он запрещал строго-настрого. Однако при слове «Нишапур» хаким отложил в сторону книгу, которую держал на коленях, — это был старинный, тяжелый фолиант.
— Из Нишапура, говоришь? — осведомился хаким.
— Да, господин. Он говорит, что привез письмо от мужа твоей сестры имама Мухаммада ал-Багдади.
Омар Хайям живо поднялся со своего места и сказал слуге:
— Веди его сюда.
И вскоре в комнату вошел человек небольшого роста, худощавый и загорелый, возрастом лет пятидесяти. Судя по одежде, был он среднего достатка.
Нишапурец остановился на пороге, словно бы не решаясь переступить его, низко поклонился и сказал:
— Мир дому сему, в котором изволит проживать знаменитый и многоуважаемый господин Омар эбнэ Ибрахим.
— Добро пожаловать, — сказал хаким. — Кто ты и правда ли, что ты из Нишапура?
— Зовут меня Бижан эбнэ Хуррад, — сказал нишапурец и сделал шаг вперед. — Я призываю аллаха ниспослать тебе здоровья на долгие и счастливые годы.
Хаким двинулся навстречу гостю.
— Да, годы идут, — продолжал гость, — и они неумолимы: все стареет и меняется под их воздействием. И они уродуют нас до неузнаваемости. — И повторил, приложив руку ко лбу: — До неузнаваемости…
— Воистину так, — согласился хаким, напрягая свою память, чтобы распознать, кто же этот пришелец.
Омар Хайям усадил гостя поудобнее, велел привратнику принести вина и холодной воды.
Бижан эбнэ Хуррад говорил:
— Время делает человека совершенно иным. С одной стороны, оно как бы наделяет его мудростью, а с другой — нагоняет такую немощь, которая делает почти излишней эту самую мудрость. Не так ли, Омар?
— Уважаемый, — ответствовал хаким, — в твоих словах заключена большая правда. Однако в этом неумолимом воздействии времени я вижу нечто благотворное. Оно заключается в том, что люди, объединенные в одно сообщество, имеют в среде своей как всесильную юность, так и многоопытную старость. Это сочетание необходимо для жизни, для людей. Невозможно представить себе юность, которая порхает, как бабочка, без зрелости, которая смотрит на мир особенными глазами. Что юность без зрелости?
Гость кивнул. И почтительно спросил:
— Если ты, уважаемый Омар, не смог узнать своего друга детства, то возможно ли расценить время иначе, как беспощадное?
— Друга детства? — удивился Омар Хайям.
Он внимательно пригляделся к гостю, вороша свою память, но все еще пребывал в полном неведении: кто перед ним, когда они виделись и где?
— Бижан… Бижан, — повторял хаким. И вдруг заключил гостя в горячие объятия друга.
Не часто хаким обнимал людей, не часто давал волю своим чувствам. Все, даже те, кто знал его близко, утверждали, что хаким чуждается людей, что предпочитает одиночество, что не ищет собеседников, если к тому не вынуждает его важное дело…
— Да, тот самый Бижан, — сказал гость. — Если припомнишь, мы ходили в одно и то же медресе, позже — к одному и тому же учителю. Это было в Нишапуре ни много ни мало тридцать пять лет назад.
Омар Хайям был рад этой встрече с другом детства. С давних пор судьба безжалостно развела их: Омар — в Исфахане, а Бижан занимается тем, чем занимался отец хакима, — ремеслом палаточника.
— Я делаю палатки, — рассказывал Бижан эбнэ Хуррад, — я шью их так, как учил твой отец, покойный Ибрахим. Их охотно покупают купцы из Балха и Бухары и даже из самого Самарканда.
Хаким слушал Бижана, а сам думал о тех далеких, но счастливых годах, когда родной кров казался красивейшим дворцом в мире, когда ячменная лепешка могла соперничать с лучшими яствами Индии и Багдада. Хаким вспомнил смуглого мальчонку, с которым бегал по садам и улочкам, с которым набирался ума-разума у седовласого имама.
— Послушай, — говорит Бижан, — я тебя тотчас же узнал. Прямо с порога. Да, это ты, мальчик Омар, только немного повзрослевший. Поверь мне: твои черты не слишком изменились. И я тебя узнал бы даже в базарной сутолоке.
Омару Хайяму было вручено письмо от имама Мухаммада ал-Багдади, его шурина. Мухаммад писал, что сестра его жива и здорова, что оба они, Мухаммад с женою, соскучились по хакиму, слава которого докатилась и до Нишапура. Шурин выражал надежду, что в свое время хаким вспомнит свою истинную родину и вернется к ней, чтобы служить ей наукой и стихами. Мухаммад писал, что это письмо передаст ему друг детства Бижан эбнэ Хуррад, тот самый Бижан, который вместе с Омаром ходил в медресе. Бижан славный ремесленник, однако его притесняет местный правитель, и Мухаммад надеется, что Бижан, друг детства Омара Хайяма, найдет у последнего хороший прием и защиту, ибо Омар близок к его величеству и к визирям его величества…
Прочитав письмо, хаким угостил своего гостя обедом и только за фруктами и разными сладостями начал расспрашивать о деле, которое привело друга детства в далекую столицу.
Бижан эбнэ Хуррад сообщил, что Мухаммад и его жена, сестра Омара Хайяма, живут вполне сносно. Мухаммад посвящает много времени занятиям алмукабалой и геометрией. В этих науках он преуспевает, и не исключено, что скоро ученый мир прочитает его сочинения. Соседи, которых, наверное, помнит хаким, все, слава аллаху, живы, но сильно постарели. Жизнь течет в Нишапуре, как везде: одних аллах дарует здоровьем, других призывает к себе. Молодое поколение сменяет старое. Этот закон, может быть, и хорош для аллаха, но слишком уж суров. Непонятно, почему аллах одной рукой создает живых существ, а другой — вынимает душу из них? Нет ли тут несоответствия?
Омар Хайям поддержал старого друга, говоря:
— Полнейшее несоответствие, дорогой Бижан! Если творение рук твоих нравится тебе, не разрушай его. Если не нравится, если тебя грызет сомнение, не сотворяй его. Не правда ли?
— Что верно, то верно, — согласился Бижан. — Но не пахнет ли тут богохульством?
— Почему же богохульством?
— Очень просто: мы подвергаем сомнению его деяния.
Хаким промолчал.
— Впрочем, — продолжал старый друг, — тебя обвиняют именно в богохульстве.
Омар Хайям посмотрел на Бижана испытующе и мягко заметил, что гость простодушен, что говорит он обо всем искренне, без задней мысли. Но почел за благо перевести разговор на другую тему:
— Скажи, дорогой Бижан, какая нужда заставила тебя проделать столь длинный путь от Нишапура до Исфахана? Несомненно, что-то важное. И чем могу помочь тебе?
Бижан эбнэ Хуррад выпил холодной воды, от вина отказался и сказал:
— В самом деле, не так-то легко идти с караваном от Нишапура до Исфахана. Но если ты сидишь на горячем гвозде? Если в боку у тебя заноза, не дающая тебе ни сна, ни покоя? То как же тогда? Сидеть сложа руки? Хуже будет! Не обращать внимания, терпеть? Но это совершенно невозможно. Поверь мне, старый друг, я тебя никогда бы не побеспокоил, если бы не важная причина. Вот сюда дошло… — И пришелец из Нишапура указал на свой кадык. Это значило, что нечем уже дышать, что терпение лопается: куда же выше кадыка?
Хаким попивал вино мелкими-мелкими глотками и думал о жизни, которая уродует человека раньше времени. Какой же славный и нежный был поэт Бижан в юные годы. А сейчас он худ и жилист, глаза его плохо видят — постоянно щурится Бижан, — и пальцы его стали кривые от трудов, и голос охрип от времени. Омар Хайям глядит прямо в глаза Бижана, он пытается угадать черты того, юного Бижана. Но где же тот Бижан? Где та юность? Позвольте, тот ли это Бижан?..
И почему-то представляет себе речку, которая сверкает на солнце искрами и всеми цветами радуги, которая вырывается на свет божий и радует всех сущих на земле; радует, веселит и вдруг исчезает где-то в песках, «уходит в небытие». Так существовала ли речка? Было ли соцветье красок? Где все это? Куда девалось?
— Слушай, — говорит хаким своему другу, — жизнь что речка. Жизнь что светлячок. Жизнь что молния. Она сверкает, она взвивается к небу истовым огнецветом. А потом? А потом?
Старый, милый друг умилен. Он хватает руку хакима. Пытается ее поцеловать. Омар Хайям противится этому. Зачем? Разве возможно такое между друзьями? Разве в этом проявление дружбы?
Омар Хайям уже сочинил рубаи про жизнь и про речку, про светлячка и про жизнь. Рубаи вертятся в голове. Надо только записать на бумаге. Где перо и самаркандская бумага? Только на хорошей бумаге, только хорошими чернилами пишутся добрые и необычные слова.
Омар Хайям наполняет чашу вином. Лучшим вином, которое есть у него. Однако этот Бижан, кажется, слишком правоверный, правовернее самого муфтия… Этот Бижан предпочитает воду или, в крайнем случае, шербет. Этот Бижан не желает терять лицо перед великим поэтом. Он не говорит об этом. Но он дает понять хакиму Омару Хайяму.
Хозяин поначалу не очень разумеет гостя. О чем речь? О том, чтобы не пить вина? Но разве это предмет спора? Кто сравнивает воду с вином? Кто смеет поставить рядом эти две жидкости, хотя и та и эта одинаково жизнетворны?
— Омар, тебя называют большим вольнодумцем, — говорит Бижан. — Об этом свидетельствуют и твои стихи.
Омар Хайям недоумевает:
— При чем здесь стихи?
— Их читают так, словно пьют воду из чистого колодца. Особенно молодые.
— Не знаю! Ничего об этом не ведаю…
Бижан эбнэ Хуррад почувствовал, что разговор о стихах не очень приятен Омару Хайяму. И он поступает совершенно верно, перейдя к своей просьбе, ради которой он и прибыл сюда, в Исфахан.
— Жизнь наша на волоске, — говорит Бижан. — Я всегда полагал, что человеческая жизнь не слаще собачьей. Но теперь могу сказать, что готов влачить даже собачью. Вот как тяжко!
Старый друг подробно рассказывает о жалком житье-бытье ремесленника. Трудишься с самого раннего утра и до позднего вечера. Горбом добываешь каждый кусок хлеба. Но такова доля, и на это трудно сетовать. А вот от поборов разных житья не стало. Хорасанский правитель выжимает последние соки. Цех палаточников, цех чеканщиков, кузнецов, цех пекарей и ковровщиков направил Бижана в столицу с жалобой на правителя. Ведь он все вершит именем его величества. Неужели это правда? Неужели мало его величеству пота, который проливается с утра и до вечера?
Омар Хайям понимает, чем рискует этот палаточник. Но, видимо, уж слишком приперло, ежели решается на жалобу.
— Ты собираешься вернуться в Нишапур? — спрашивает Омар Хайям.
— Разумеется. Куда же я денусь?
— А правитель обо всем будет осведомлен?
— Наверное.
— И он тебя поблагодарит, Бижан?
— Не думаю. Поэтому-то я решил действовать через тебя. А иначе не сносить мне головы!
Бижан эбнэ Хуррад подал бумагу, тщательно завернутую в платок. Она была спрятана за пазухой в прочном кожаном кармане.
Хаким прочел жалобу. Она была написана слишком витиевато, но смысл был ясен как день: о великий повелитель, помоги своим подданным — нет житья от правителя!
Омар Хайям попросил гостя время от времени подкрепляться. А себе налил вина.
— Пусть я сгорю в аду, — пошутил хозяин, указывая на фиал с вином.
— Не приведи аллах! — воскликнул набожный палаточник.
Омар Хайям спросил Бижана:
— Ты бывал в Туране?
— Нет.
— На берегах Джейхуна?
— Нет, не привелось.
— В Багдаде?
— Тоже нет. Я, уважаемый Омар, может быть, впервые оставил родной Нишапур.
— А я кое-где бывал, — сказал хаким. — И доложу тебе следующее: народ повсюду живет жалкой собачьей жизнью.
У Бижана отвисла челюсть.
— Неужели так же, как в Нишапуре?
— Может, еще хуже!
— Но ведь правители бывают разные…
— Мне жаль тебя, Бижан, ты слишком наивен.
— Так что же делать? Умирать, не проронив ни слова?
Омар Хайям осушил чашу, вытер салфеткой усы и губы. Он размышлял: огорчить этого славного Бижана или оставить в его душе местечко для надежды?..
— Я уверен, — говорил гость из Нишапура, — что если ты, который есть надим его величества, который лицезреет его величество, подашь нашу жалобу и присовокупишь просьбу и от себя, то дело выгорит. Милость его велика, и пусть частица ее обратится к нам.
Бедный Бижан!.. Омар Хайям припоминает черты юного Бижана — разорителя птичьих гнезд, драчуна и непоседы. Вот и прошли его годы, и сидит перед хакимом изрядно потрепанный жизныо человек. Нет, нельзя разрушать надежду, пусть он надеется… Нельзя! Иначе…
— Хорошо, — говорит Омар Хайям, — я переговорю с главным визирем, я испрошу у него совета и поступлю согласно его словам, которые высоко ценятся. Если надо будет, я обращусь и к его величеству. Но я не сделаю ничего такого, что может повредить тебе в Нишапуре. Ты меня понял?
Бижан кивнул.
Омар Хайям, казалось, что-то вспомнил. От удовольствия потер руки и спросил:
— Ты знаешь, Бижан, где пребывают добрые правители?
— Нет, дорогой Омар, не знаю.
— Как? — Омар Хайям рассмеялся. — Это известно всем, а ты не знаешь.
— Живем далеко от столицы… — оправдывался палаточник.
— Это ничего не значит… — Омар Хайям сказал наставительно: — Так знай же, Бижан, и скажи об этом всем в Нишапуре. Скажи по секрету, не кричи на весь базар… Так вот: добрые властители живут в аду или раю… Только там, и нигде больше!
Бижану эбнэ Хурраду хотелось плакать, И смеяться и плакать в одно и то же время…
16
Здесь рассказывается об одной ночи, когда серп луны был особенно ярок
Эльпи удивляется: откуда этот свет? Луна не толще, чем буква алиф[34]. Повисла серпом над плоскими кровлями Исфахана. Небо темно-зеленое, как луг в апрельский день. Единственный, неповторимый луг еще детских лет на острове Кипре. Кто может объяснить это таинственное свечение, кто укажет на истоки его? Бог, аллах? Может, святой Мухаммад?
Хаким смеется в ответ на ее вопросы. Какой бог, какой аллах? У Эльпи свой бог, у хакима свой. Нелепо спорить, чей лучше, чей справедливее, чей милосерднее.
Как нелепо? Эльпи крайне удивлена. Подобные речи в устах благочестивого хакима? И это в его годы? Когда человеку приличествует думать о рае и аде?..
О рае и аде? Хаким запрокидывает голову и пытается охватить ладонью ее груди. Но это не удается: груди упрямы, подобно двум ягнятам. Подобно шаловливым ягнятам на лугу, подобно двум прекраснейшим рыбкам из южных морей…
Он признается ей, что не мыслит рая без Эльпи. И ада тоже. Он говорит, что гурии ничто по сравнению с этими бутонами, которых не может охватить ладонью…
Она удивленно скашивает на него глаза. Она как бы не верит своим ушам. Или он вовсе не правоверный? Разве отрекся он от своей веры? От этой священной Книги… Как ее?.. Да, от Корана!
Он отстраняется от нее. На минуту. Для того чтобы получше разглядеть ее. Этот лунный свет — немножко неверный, немножко тусклый — способен все видоизменять. Он как бы набрасывает на все волшебное покрывало, и тогда получается зрелище, радующее глаз. В эти минуты Эльпи словно бы из мрамора — удивительная в своей наготе. Пусть неверный лунный свет удвоил красоту ее. Но и с учетом этой иллюзии Эльпи остается невероятно прекрасным созданием.
Он смотрит на нее откровенно-оценивающе, и Эльпи неловко. Почему так пристален его взгляд? Осуждающий? Одобряющий? Влюбленный? Полупрезрительный? Кто угадает в чарующем полумраке?..
Эльпи интересуется адом. Впрочем, и раем тоже. В самом деле, что же там? Правда, интересуется больше из озорства, чтобы испытать этого бородатого, красивого мужчину. Только и всего. Любопытно все-таки, что ответит ей ученый мусульманин? «Они все очень верующие, — говорит про себя Эльпи, — аллах у них — все. Пророк Магомет тоже все. Они верят в гурий — этих райских красавиц. Мне об этом говорил один купец в Багдаде».
Он снова пытается охватить ее груди. Но это ему и на сей раз не удается.
— Слишком упругие, — признается он.
— А что бы ты хотел? — говорит она. И хохочет. Неестественно громко. Болтая в воздухе ногами.
Он сказал, что эти не совсем красивые движения больше приличествуют детям, нежели двадцатилетней красавице…
— Такая привычка с детских лет, — ответила она. — Лежа на песке, на берегу моря, я любила задирать ноги.
— Да? — спросил он, морщась от ее грубоватой откровенности.
И все-таки она была чудо как привлекательна. И грубоватость ее проистекала от прожитых нелегких лет и ее горькой судьбы. Кто только не пользовался ею, пока не вошла она к нему. Как майская роза.
— Что ты смотришь так, господин?
— Просто так.
— Просто так не смотрят.
Она снова расхохоталась.
— Мы с тобою говорили о рае, — сказал он серьезно. — А знаешь ли ты, что рай не сравнится с сегодняшним вечером? Я это говорю, все взвесив и все решив.
Она приподнялась на мягком серебристо-чистом ложе, которое на высоте одного локтя от пола. Волосы у нее распущены по плечам и спине. Такие густые, ухоженные, душистые волосы.
— Значит, мы в раю? — спросила Эльпи, с трудом унимая смех.
— Конечно! — воскликнул он.
— И ты при этом не кривишь душой?
— Нет! — сказал он резко.
Она бросилась на него и стала целовать. Это было неожиданно. И он, как только освободились уста из сладкого плена, сказал:
— Пантера, сущая пантера!
А потом они пили вино. Она призналась, что впервые видит мусульманина, которого почти не затронула всеобщая богобоязненность. Одно дело — христиане. Другое — мусульмане. Разве мусульманин смеет нарушить установления шариата? Разве вино не запрещается? Или это зависит от разумного толкования божественных установлений?
А он смотрит на ноги ее и думает о той высокой силе, которая своей властью и прихотью созидает подобные ступни, подобные пальцы, полные невыразимой красоты и пропорций. Такие ножки больше пристали какой-либо хатун из знатного рода, нежели простой гречанке. В самом деле, в чем секрет красоты? Кто может ответить на этот вопрос?..
Она настаивала на своем: почему хаким не предпочтет холодную воду холодному вину?
Он нежно поцеловал ее розовые соски, отпил глоток вина и тряхнул головой. Ей показалось, что он гонит от себя какие-то неприятные мысли. Но это было не так…
Ее глаза светились индийскими фонариками. Они странно фосфоресцировали. Кажется, все бледнеет перед белизною этого создания — прохладного, как мрамор, и горячего душой, как песок пустыни в полуденный зной.
Он запускает пятерню в ее волосы, густые и пахнущие ароматом косметических бальзамов. Он треплет очень нежно ее щеки и гладит небольшие, упругие уши. И думает, что и уши Эльпи соразмерны, что и здесь чудесная пропорция полностью сохранена.
Хаким наливает себе и ей. Отламывает ломтик хлеба и подносит к ее губам. И она захватывает алыми губами душистый ломтик и улыбается. Потом пьет из его рук, а он из ее фиала…
Они меняются чашами, и ей от этого весело. Запрокидывает голову, водопад черных волос изливается на ворсистый ковер. И жемчуга ее зубов так ярки!
— И все-таки ты не желаешь удовлетворить мое любопытство. Может быть, оно тебе кажется глупым?
— Какое же? — говорит он.
— Ты не боишься гнева своего бога?
— А что я совершаю? За что мне отвечать? — смеясь, спрашивает он.
— Ты пьешь вино.
— И что же?
— Вам же нельзя.
— Кому это нам?
— Мусульманам, — говорит Эльпи и протягивает кверху руки, словно пытаясь достать луну с зеленого неба.
Он молча пьет чашу вина.
— Меня за это в ад? — говорит он обиженно.
И целует ее груди и бедра.
— Меня за это в ад? — вопрошает он.
А она хохочет.
Потом хаким отстраняется от нее и, насупившись, ворчит:
— Если за все это мне и грозит ад, я согласен. Готов идти в ад. Прямо и без колебаний! Но здесь, — он стучит ладонью по ковру, — но здесь, на земле, под луною, я ничем не поступлюсь. А ты знаешь, Эльпи, в чем мой самый главный недостаток?
Она, разумеется, не знает его главного недостатка.
— А я скажу, — решительно говорит хаким. — Я не верю в кредит!
— Что ты сказал?
— Не верю в кредит!
— Как это понять, господин?
— Очень просто. — Хаким наливает вина в чаши, подает ей и берет другую себе. — Я человек простой: прошу только наличными! Мне нужна в этой жизни ты, какая есть, а не в образе гурии на том свете. Мне нужно это терпкое ширазское вино на этом свете, а не там, в раю. Я хочу, чтобы меня целовали здесь, на этом свете, а не в райских кущах, не на райских лужайках. Я хочу пьянеть от аромата твоих волос здесь, на земле, а не там, в раю. Ты поняла меня? Повторяю еще раз: в кредит не верю!
Она приподнялась.
— Разве не так уж важно, что ждет нас в раю? — спросила Эльпи.
— Нет, — небрежно ответил хаким.
— Господин, есть рай и у нас. Я не знаю, такой ли это рай, как ваш, мусульманский?
— Почти, — бросил он.
Хаким смотрел вверх, в темный потолок, лишенный света и оттого такой далекий и загадочный, как сам небосвод.
— Эльпи, — сказал он, не поворачивая головы, — если тебе кто-нибудь предложит блаженство на том свете, не меняй земные на них. Поверь мне! Я наведал людское горе. Я видел счастье. Меня бросало вниз, на дно сухих оврагов. Я поднимался на седьмое небо. Я и холодал, и нежился в тепле. Я и голодал, и знал сытую жизнь. Я был любим и сам любил. Меня бросали, и я бросал. И скажу тебе поистине: лучше быть брошенным здесь, чем горячо любимым на том свете. Это мое убеждение. Ты меня поняла?
Эльпи молчала. Она думала о нем: «Ни жены у него, ни детей, ни гарема. Такой одинокий и такой чудной в своих размышлениях». Она перебрала всех мужчин, которых удержала ее память, и решила, что такого еще не знала. Он был любопытнее, несомненно, умнее и привлекательнее других мужчин своими взглядами на жизнь.
Этот мужчина достаточно строен, грудь его вполне широка и крепка. Но красота его в глазах его и речах.
А он продолжал, уже как бы для себя самого:
— Я каждую ночь смотрю в бесконечность небесной сферы. Я мысленно достигаю хрустального купола. Я пытаюсь постичь тайны, скрытые от других. Я иду дорогой моего учителя Ибн Сины и Бируни. Архимед, Птоломей и Евклид указывают мне великие пути в пространстве. И с каждым днем небо становится для меня еще более загадочным, чем в тот день и час, когда я впервые посмотрел на него. Я изучаю движение Солнца, которое ходит вокруг нас. Я прислушиваюсь к вращению Земли, которое загадочно. И я говорю себе: мир прекрасен, мир вот этих глаз, вот этих губ, вот этих бедер и этих ножек…
Говоря это, хаким поочередно целовал то, что называл, и поцелуи его были горячи, как клейма для коней в туранских степях.
— Истинно говорю, Эльпи: без этого мир не стоит и луковичной похлебки. Без тебя и твоих глаз он пуст, он угрюм, он страшен. Без тебя в нем холодно и темно, как в пещере, в которой живут медведи Памирских гор.
Она, смеясь, прижала ладонь к его губам, чтобы он замолчал. А он целовал ладонь и говорил:
— Разве вот это не рай? — Он обвел рукой пространство над собой и вокруг себя. — Это тело прекраснейшей из женщин, этот свет прекраснейшего из светил. Чем не рай?
Она погрозила пальцем. И сказала:
— Скольким ты говорил все это, мой господин? И точно такими же словами?
Для него этот вопрос был несколько неожиданным. Налил себе чашу до самых краев и, стараясь не пролить драгоценной влаги, сказал:
— Многим, Эльпи, очень многим.
Она захлопала в ладоши. Словно бы от радости. Словно бы от случайного открытия, весьма приятного душе ее и сердцу.
А он пил не отрываясь, пил с упоением, с любовью, увлеченно.
— А мне? — простонала Эльпи.
Он подал фиал и ей. Любуясь ею, спрашивал себя: «Где же больше тайны — на губах ее или на небесном своде, опоясанном Млечным Путем?» И не мог ответить на этот вопрос.
17
Здесь рассказывается о том, как Омар Хайям и его друзья беседуют под звездами
Чернильное небо. Чернильная земля. И сама обсерватория во мраке. Хазини слегка поднял противоположный глазу край алидады — и в бездонной дали возникает созвездие Лебедя. Лоукари и Омар Хайям любовались звездным небом — таким ясным и таким чистым сегодня ночью. Луна еще не взошла, и поэтому звезды словно золотые монеты на черном бархате.
Появился Васети. Он поднялся по винтовой лестнице с нижнего этажа, где производил некие математические вычисления.
Было слегка прохладно. И это благодаря Зайендеруду, который сладко шумел недалеко отсюда.
— Такая ночь для любви, — сказал хаким, — а мы с вами смотрим на небо. А ведь могли бы любоваться красавицами!
Хазини, не отрываясь от прорези алидады, сказал, что любая дева всегда лучше созвездия Девы. И всякую деву на земле, как и на небе, окружают Волопасы, Львы, Вороны, Гидры и прочее. Если любовь принять за некую эклиптику, то она пройдет как раз через Деву, а по обе стороны от нее, то есть эклиптики, окажутся Ворона с Гидрой и Волопас. Разве это не символично?
Шутка астронома, хоть и не блистала особым остроумием, развеселила ученых.
— Господин Хазини, — сказал Омар Хайям, — смотрит на небо, а на сердце у него самое обыкновенное, земное.
— Любовь соединяет и небо и землю воедино, — заметил Хазини.
— Согласен, — сказал хаким.
Васети сравнил любовь и поэзию. Последняя мертва без любви. Что на это скажет уважаемый хаким?
— Ничего не скажу, — отозвался тот. — Аксиома не требует доказательств. Это еще древние знали. Я держусь того мнения, что вообще нельзя отрывать любовь от поэзии — их надо называть единым словом.
— Я еще не знаю такого, — признался Васети.
Хаким обратился к Хазини:
— Оторвись на минутку от Девы. Послушай нас.
— Я смотрю на Лебедя, а не на Деву.
— Это сейчас все равно. Речь идет об очень важном.
Хаким был в особенном, приподнятом настроении: ему обещаны деньги на работы по определению расстояний до небесных светил, обещана помощь в распространении нового календаря «Джалали», и, наконец, девица по имени Айше согласилась подарить ему час-другой где-нибудь на берегах Зайендеруда…
Хазини отошел от астролябии, протер глаза:
— Так о чем это вы? О поэзии или о любви?
— О том и другом, — сказал Васети. — Мы ищем слово, которое объединило бы эти два прекрасных явления нашей жизни.
— Любовь и поэзию? — удивился Хазини.
— А что? Разве они не родные сестры?
— А куда же девать науку?
— Любовь и поэзия выше!
Хазини с этим не согласился. И стал доказывать, что если без любви человечество не обходится в силу своего естества, то без поэзии прожить еще можно. Человек, то есть поэт, живет и вследствие этого сочиняет стихи и поет их. Значит, жизнь, а следовательно, и любовь выше поэзии.
Васети назвал эти рассуждения достойными какого-нибудь дебира — письмоводителя, — но никак не ученого. Он, Васети, уверен, что любовь и поэзия — одного корня, но назвать этот корень одним достойным именем пока затрудняется.
— Я не думал, что ты такой, — сказал Хазини.
— Какой? — насторожился Васети.
Было очень темно и невозможно следить за выражением лица собеседника. Однако, судя по голосам, по оттенкам их, друзья находились в добродушнейшем состоянии. Настроение хакима всегда передавалось им.
— Ты мне казался немного суховатым, — объяснил Хазини. — Твоя стихия — звезды. И больше ничего!
— Неужели свои мысли о любви я должен нести высоко, наподобие знамени?
Хаким вмешался в разговор. Он сказал:
— Спор пустой. Поверьте мне, друзья: человек одинаково обязан своим существованием и любви, и поэзии. Что же до их объединяющего имени, то оно существует. И знаете, как оно произносится?
Омар Хайям воздел руки к небу и торжественно провозгласил:
— Жизнь, друзья, жизнь!
Он обнял своих друзей, прижал каждого к груди.
— Вот так, как я обнял вас, — сказал он, — так и жизнь объемлет и любовь и поэзию. Если за поэзией не признавать права называться самой жизнью, значит, выхолостить ее. Как холостят баранов и прочих животных. Да, друзья мои, я пришел к этому выводу, прожив почти сорок пять лет.
Васети попытался поймать хакима на слове:
— Значит, ты поэт, хотя ты это и пытаешься отрицать.
Хаким энергично возразил:
— Я говорю о поэзии, а не о поэтах. Поэт — Фирдоуси. Поэты — Рудаки и Дакики. Поэт в наше время — хаким Санаи. А все те, кто наловчился сочинять бейты и рубаи, газели и касыды, — все эти «цари поэтов» при дворах, позорящие просвещенный слух, — дурацкие создания. Я говорю не об их поэзии. Я говорю не о поэзии, угодной шахам, султанам, хаканам и их многочисленным визирям. Это не поэзия! Это подобие поэзии, фальшивая подделка. Когда мудрые люди говорят слово «поэзия», значит, имеют в виду саму жизнь, то есть жизнь, продолжающуюся в поэзии, один из рукавов реки жизни. А река жизни — да будет вам известно! — широка и необъятна.
Васети сказал:
— Уважаемый хаким, нас сейчас трое. Над нами только звезды, а под нами спящий Исфахан. И мы должны говорить только правду. Верно говорю?
— Да, — подтвердил хаким. — Это условие нашей дружбы, общей работы и общей цели.
— Прекрасно! — воскликнул Васети. — Ответь мне, уважаемый хаким: что есть твои стихи?
Во вселенной наступила тишина. Секунда. Другая. Целая минута тишины! Омар Хайям обдумывал свой ответ: правдивый, искренний.
— Какие стихи ты имеешь в виду?
— Которые мы читаем на полях твоих геометрических вычислений и философских трактатов, — пояснил Васети.
Опять тишина во всей вселенной. Секунда. Другая. Целая минута тишины! И хаким ответил:
— Это часть моей жизни. — И скороговоркой добавил: — Но я не поэт. Это звание слишком высокое. — И еще добавил: — Эклиптика пронизывает все существо созвездия Девы. Очень жаль, что где-то рядом нет созвездия Поэзии…
— А Лира? — спросил Хазини.
— Это не совсем то. На ней[35] может бренчать любой.
18
Здесь рассказывается о том, как хаким пирует с прекрасной Айше на берегу Зайендеруда
— Аллах накажет тебя! — говорит Айше.
— Ну и пусть! — отвечает Омар Хайям.
— И ты не боишься его гнева?
— Боюсь.
— А почему же ты говоришь «ну и пусть»?
Хаким не желает нынче ломать голову над различными вопросами. Он отвечает весело первыми сорвавшимися с языка словами:
— А потому, Айше, что гнев твой страшнее.
Эта небольшая лужайка, на которой устроились Айше и Омар Хайям, словно зеленое ложе. Со всех сторон она окружена кустарниками. В двух шагах шумит, пенится на камнях, бурно лижет берега светло-зеленая рока Зайендеруд.
Над головою кусок неба — с одеяло, не больше. Такое синее небо, излучающее зной. На траве белая скатерть. Вина и фруктов вдоволь. Фрукты и жареное мясо. Зелень и мясо. Но главное — вино. Такое сыскать не так-то просто. И тонкостенные глиняные чаши отменной работы. Их очень много. Ибо хаким любит в разгар пирушки разбивать чашу о какой-нибудь камень. Черепки разлетаются в стороны. С треском. И Омар Хайям хохочет. Ему становится веселее, когда разбиваются чаши…
Сколько лет Айше? Может быть, восемнадцать? Ее мать убирает нижний этаж обсерватории. Это бедная женщина. И у нее единственная дочь. У Айше большие, грустные глаза. Хаким их называет «глазами тюрчанки». И поясняет:
— Глаза тюрчанки — прекраснейшие в мире.
Айше краснеет, бледнеет и снова краснеет.
— Я очень стар? — спрашивает Омар Хайям.
Она не отвечает.
— Наверное, очень, — вместо нее произносит сам хаким.
— Нет, не очень, — говорит она. И краснеет. — Аллах накажет тебя.
— За что же, Айше?
— За то, что изменяешь ей…
Он привлекает ее к себе: ну зачем забивает она себе голову чужою любовью?
— Я люблю всех женщин, — говорит Омар Хайям.
— Как всех? — удивляется Айше.
— Разумеется, всех. Очень просто.
И он целует ее. И ей волей-неволей приходится верить ему, ибо нет, наверное, на свете поцелуев слаще этих…
— И потому я люблю тебя, — поясняет он.
— А ее?
— Ее тоже.
Он подносит ей чашу с вином. Отпивает из собственной. Омар Хайям советует ей пить без промедления и пьет сам. Разве можно не пить, когда с ним Айше?..
Он спрашивает ее:
— Айше, откуда у тебя такие точеные ножки?
— От аллаха.
— А эти груди?
— От аллаха.
Омар Хайям задумывается. Ненадолго. Разве можно погружаться в думы в такие минуты? Ведь рядом Айше!
— Аллах накажет тебя, — строго говорит Айше.
Он ничего не хочет слышать. При чем тут аллах? При чем другие женщины? Разве можно не пить и не любить?..
— Что ты скажешь ей? — допытывается Айше.
— Ничего.
— Из страха?
— Нет. Просто так. Она знает, что я люблю всех женщин.
— И даже старых?
— Этого не говорю.
— Даже некрасивых? Даже хромых?
Он молчит. А потом говорит ей:
— Словом, я люблю женщин. Такими, какими создал их аллах.
Омар Хайям подносит к ее алым губам кусочек поджаренного мяса. Она ест и запивает вином. Это очень пьянящее вино. Так ей кажется. А он допивает чашу и с размаху бьет ее о камень. И сотни осколков разлетаются в стороны.
Он смотрит на нее и думает: «Нет, я не видел никого краше Айше».
И он искренен. И каждый раз, когда целовал женщину, думал, что именно она олицетворяет красоту. Ибо любил их безудержно. Любил их за верность и неверность, за красоту и горячность, за холодность и недоступность, за жар поцелуев и даже за измену. Любовь его столь же глубока и искренна, сколь и мимолетна. Но каждый неверный поцелуй тяжело ранил его, однако рана вскоре заживала. Так как на страже любви всегда стояло время! Оно не разрешало грустить дольше положенного, дольше положенного самим аллахом…
Хаким наклоняется к ней. И целует ее в губы долгим, долгим поцелуем. И ей кажется, что сейчас разорвется ее сердце…
Волосы ее распущены. Пахнут они мускусом и жасмином, так же, как у Эльпи. И он невольно спрашивает себя: «Откуда у нее такие дорогие духи?» Он ныряет головою в черные струи волос и зарывается в них. Подбирается к ее ушам, которые походят на маленькие, твердые обиталища жемчужин, и спрашивает:
— Ты придешь ко мне ночью?
— Не знаю…
— Я буду в обсерватории. Буду совсем один.
— Не обещаю.
Ее глаза полузакрыты. И она не лжет: она ничего не может обещать.
Хаким вспоминает свою первую любовь, которая была там, далеко, в Самарканде. Та девушка походила на Айше. Очень была на нее похожа. И тоже любила повторять: «не знаю». Девушка была пятнадцатой весны, несверленый жемчуг, и ждала своего ювелира. Может, аллах и сейчас посылает Хайяму столь же великолепный подарок?..
Айше разрумянилась от вина и ласк. Щеки ее пылают. И ей стыдно смотреть на него. Ее глаза глядят куда-то поверх него, может, на небо. Или еще выше. Но куда же выше?
Хаким резко поднимается, смачивает в реке платок и обмывает им свою шею.
— Чтобы от любви не разорвалось сердце, — шутит он. Ему очень хорошо.
— Я хочу воды, — говорит Айше, не глядя на Омара Хайяма.
— Приказывай! — с готовностью восклицает он. Берет под мышку большой глиняный кувшин и льет воду в меньший, совсем небольшой. А оттуда — в чашу. И пьют вместе: он — вино, а она — воду. И он просит ее разбить чашу вдребезги. О камень. Она не решается. Он подает ей пример. И тогда она тоже разбивает чашу.
— Это примета? — спрашивает она.
— Да, примета.
— Какая же?
— Тот, кто разбил чашу, испив ее до дна, — все равно вино это или вода, — будет любим вечно.
— О аллах! — вскрикивает Айше. — Значит, я буду любить тебя вечно?!
— А ты сомневаешься в этом?
Ее глаза расширились, в них как бы загорелся священный огонь, присущий только истинному меджнуну. И, увидя этот огонь, Омар Хайям возрадовался юношеской радостью. Он повел ее к берегу реки.
Они стояли одни над рекою, обнявшись, словно вдруг возникшие из единого дыхания и единого сердцебиения. Она была много ниже его. Хрупка и тонка.
— Ты видишь, как мчится эта река? — спросил он.
Она сказала:
— Да.
— Ты знаешь, что она точно так же текла и семь тысяч лет назад?
Она сказала:
— Нет, не знаю. И почему семь тысячелетий? А не меньше и не больше?
Хаким объяснил ей, что человечество зародилось именно семь тысячелетий тому назад. И река эта, именуемая — и неспроста — Животворной, текла точно так же и точно так же была свидетельницей любви и счастья влюбленных.
— Да? — осведомилась она удивленно. Айше это ни разу не приходило в голову.
— А знаешь ли ты, — продолжал он, — что точно так же будет она течь и после нас?
— Наверное, — произнесла Айше, которой и эта мысль о смерти и бессмертии тоже не приходила в голову.
Он это понял и согласился с нею: в самом деле, стоит ли изнурять себя думами о прошлом или близком и неизбежном конце?
Омар Хайям продолжал:
— Но я сейчас не о смерти. Кому она нужна? Я о том, чтобы люди вечно любили друг друга. И они будут любить вечно!
Он отошел от нее на шаг, оглядел ее с ног до головы и решил про себя: она — лучшее создание аллаха. И, наверное, никогда не видал такую красавицу с такими удивительными глазами. И за какие богоугодные дела послала ему судьба это неземное творение?..
— Айше, говорили тебе, что ты прекрасна? — спрашивает он восхищенно.
— Да, — ответила она.
— Кто же?
— Сваха.
— Тебя сватали?
— Пытались…
— И ты не вышла замуж?
— Нет.
— Почему?
— Я не знаю. Может быть, потому что бедная.
Он призадумался. Бедная? Айше — бедная?
— Ты настоящая хатун, — сказал он. — В тебе течет кровь госпожи. Именитой госпожи!
Она усмехнулась. Горькой усмешкой. Впрочем, только с виду горькой. Разве печалятся в ее годы при таком стане и таких губах, при таких ножках и шее? Прочь печаль!
— Господин, — сказала обворожительно низким голосом, словно ей за двадцать и словно вполне опытная в любви, — не понимаю, почему согласилась сбежать с тобою на эту лужайку почти на целый день? Меня хватятся и начнут искать. Я знаю это.
— Кто хватится? — спросил он.
— Может быть, мать.
— А еще?
— Брат. Старший.
— А еще?
— Больше некому.
— А хотелось бы?
— Что?
— Давать отчет? Кой-кому. Скажем, мужу.
— Может быть. Женщинам нравится хозяйский глаз.
— Женщинам?! — воскликнул Омар Хайям.
— Да. А что?
— Я не ослышался?
— О нет!
Омар Хайям готов рассмеяться, пытается быть серьезным.
— Вы, женщины, слишком могущественны. Мы и мизинца вашего не стоим. Вы хитры. Вы умны. Вы терпеливы. Вы благородны. Вы преданны. Особенно в любви. Так зачем, спрашивается, вам хозяйский глаз? Нет, он вам не нужен. Он просто оскорбителен для вас. Это сами вы придумали его, чтобы вернее дурачить мужчин. Да, да!
Сказать по правде, Айше и не подозревала, что способна дурачить мужчин. Она была в том возрасте, когда женщина больше действует согласно инстинкту, нежели прислушивается к голосу опыта или разума. Айше нравился этот пожилой мужчина, статный и умный. Она не знала, что будет с нею через час или завтра, не говоря уже о более отдаленных временах. Она доверяла своей любви, может быть, больше, чем это полагалось. Но доверяла. А это для нее было все: сердце побеждало ум!
Омару Хайяму показалось, что его юная подруга немножко растеряна. Он подумал, что слишком стар для нее. К тому же что может он предложить ей? Замужество? Но это слишком далеко от его планов. Хаким может отдать только себя, и то на время. Может отдать свое богатство, которого нет. Эльпи он просто купил. Эльпи знала, на что идет: сегодня ее любят, а завтра? Кто поручится, что он сохранит любовь свою к ней до завтрашнего дня? Никто! Да и можно ли ручаться в таком деле? И нужно ли?..
Он повел Айше на прежнее место. И они снова уселись на зеленую траву. Она молчала, подчиняясь ему во всем. Айше не принадлежала себе — ею полностью, сам того не подозревая, овладел этот умный бородатый мужчина.
— Айше, — сказал Омар Хайям, — мне кажется, что я люблю тебя. Мне нравятся твои алые губы. Я люблю твои юные годы.
Она слушала его, склонив голову набок. Щекою касаясь его плеча.
— Ты спросишь меня — и это вполне естественно, — люблю ли я еще кого-нибудь? И я отвечу тебе откровенно: да, люблю. Но я люблю и тебя. Скажи, что бы мне сделать для тебя?
Подумав, она ответила:
— Ничего.
Хаким протянул руку к чаше. Однако Айше опередила его. Она подала ему чашу, сама налила до краев. И они выпили, не произнеся ни слова. Он изучающе осмотрел чашу, перевернул ее кверху дном и вдребезги разбил о камень.
— Я хочу есть, — признался он. — Вдруг проголодался, как шакал. Выбери мне кусок мяса. По своему вкусу. Слышишь, Айше?
И она выбрала. И подала ему. И он вдруг помрачнел. Нахмурился. И не стал есть. Она с испугом взглянула на него:
— Что с тобой, мой господин?
— Ничего.
— Ты болен?
— Да. Только не спрашивай чем.
— Не буду, — покорно произнесла Айше.
— И не надо, — сказал Омар Хайям. — Я подумал сейчас о смерти.
Айше встрепенулась. И, чуть не рыдая, произнесла:
— Только не смерть!
Он обнял ее.
— Я думаю о смерти вообще, — пояснил он, — и не могу смеяться, когда думаю о ней. Я завидую тем, кто будет сидеть на этой лужайке после нас. После того, как из меня неумолимый гончар вылепит кувшин для вина.
Айше стало немножко страшно: можно ли говорить о таких вещах, когда над головою шатер любви?
Омар Хайям вдруг резко поворотился назад. Словно его кто-то окликнул…
— Что с тобой? — спросила Айше.
— Она, это она смотрела на меня. Только что… — сказал он, не глядя на Айше.
— Кто она?
— Смерть! — произнес Омар Хайям.
19
Здесь приводится беседа, которая состоялась между его превосходительством главным визирем и Омаром эбнэ Ибрахимом Хайямом
В пятницу утром, когда исфаханцам виделись еще последние предутренние сны, его превосходительство Низам ал-Мулк послал человека к хакиму Омару Хайяму. И наказал передать, что его превосходительство просит-де уважаемого хакима пожаловать к главному визирю для важного разговора.
В ту раннюю пору хаким пребывал в объятиях прекрасной румийки. И когда слуга доложил ему о приглашении его превосходительства, Хайям не сразу сообразил в чем дело. Но не прошло и часа, как хаким Омар эбнэ Ибрахим сидел напротив главного визиря и сердце его билось ровно.
Главный визирь погладил бороду свою обеими руками. Это означало, что настроение визиря хорошее, что на сердце его мир, что в душе его плещутся волны покоя и доброжелательства. Это был человек, пополневший с годами и с годами приобретший остроту мысли и зоркость глаз. Он видел далеко. И мыслил широко. Это ему была обязана своим рождением, ростом и знаменитостью багдадская академия — прибежище многих ученых и талантливых мастеров по части различных приборов. А разве исфаханская обсерватория не была в полном смысле этого слова детищем его превосходительства? Разве пошел бы на великие денежные расходы его величество, если бы не старания и советы его главного визиря?.. Не худо почаще освежать в памяти эти деяния Низама ал-Мулка…
— Что ты знаешь о странах Индии? — вдруг задал вопрос главный визирь.
Признаться, хаким немного смутился: почему именно о странах Индии? Разве что-нибудь угрожает оттуда? Или задуман поход в те страны?
— Это далекие страны, — сказал визирь.
— Да, это так.
— Купцы, побывавшие в странах Индии, рассказывают чудеса.
Еще бы! Там умеют оживлять мертвых и мнимо умерщвлять живых. Там змеи в особенном почете. И обезьяны вроде домашних животных. Там по дорогам бродят коровы и никто не смеет обидеть их.
— Разумеется, разумеется, — говорит визирь, — множество людей спит и видит во сне страны Индии. Разве не слышали рассказов о роскоши и богатстве стран Индии?
Хаким вполне согласен с визирем: каждое слово его соответствует действительности, еще и еще раз свидетельствуя о глубоких познаниях его превосходительства…
— Я угощу тебя неким напитком, — многозначительно сказал визирь, — если ты еще не пробовал его.
— И этот напиток индийский? — спросил хаким.
— Да.
— Он крепок, словно вино?
— Напротив, он как вода, но душистый. Одни называют его «та», другие — «ча», а иные — даже «са». «Ча» есть корень китайский, в то время как слово «са», кажется, цейлонское или еще какое-либо иное.
Его превосходительство хлопнул в ладоши: дверь отворилась, и вошли двое чернокожих, которые несли низенький столик, инкрустированный слоновой костью, сосуды серебряные и чашки с блюдцами белоснежного цвета из индийской и китайской глины.
Низенький столик поставили меж беседующими. Из пузатого сосуда налили желтоватую жидкость в чашки, и те чашки подвинули к визирю и хакиму. Вскоре хаким почувствовал душистый запах, смешанный с паром, и не мог разобрать, что это за запах…
Визирь посоветовал хакиму не притрагиваться к чашке, пока не принесут меду и засахаренного винограда. И тогда, пригубляя из чашки, следует пить эту жидкость, именуемую «ча». Она не должна быть очень горячей или чрезмерно охлажденной, но такой, как стерпят губы и язык. Говорят, что напиток этот придает силу и гонит живительную влагу по всем внутренним органам — дыхания, пищеварения и кроветворения.
Хаким слышал краем уха о подобном напитке из далеких стран, но пить ему не приходилось. Надо полагать, что глоток такого «ча» стоит целого жбана прекраснейшего ширазского вина. А заменит ли «ча» целый жбан?
Пока напиток остывал, визирь сказал:
— Да будет тебе известно, уважаемый господин Хайям, что я близок к завершению некоего труда, который назвал бы книгой об управлении…
— Управлении? — удивился хаким.
— Да, именно об управлении. Я имею в виду государство, а не маленькое хозяйство. Объясню в чем дело… — Визирь притронулся пальцами к чашке и быстро отнял руку: «ча» был все еще слишком горяч. — Государство управляется мудростью правителя. Мудрость правителя проистекает от воли аллаха, который есть всему начало и конец. В священной Книге приведены основы нашего существования. Живое и мертвое подчиняются законам. И когда жизнь усложняется, когда государство, подобное нашему, набирает силу и простирает неограниченно свою мощь, требуется большое умение, чтобы как следует приложить божественные установления к будничной жизни правителя и его подданных.
Хаким кивнул. И тоже притронулся пальцами к чашке. Ему показалось, что она достаточно остыла.
— Пей, — сказал визирь и пригубил напиток.
Хаким отпил глоток. Еще глоток. Подражая его превосходительству, вдохнул аромат непонятного питья…
— Ну и как? — спросил его визирь.
— Вино лучше, — простодушно ответил Омар Хайям.
— Не делай преждевременного вывода, — посоветовал ему визирь. — К этому напитку надо привыкнуть. — И, посмеявшись чуточку, добавил: — Если его добудешь, разумеется. Да и цена на него велика.
Хаким продолжал пить маленькими глотками напиток по названию «ча».
А визирь продолжал:
— Я хочу задать один вопрос. Он касается наиболее деликатного места в моей книге. Я не сомневаюсь в том, что она вызовет споры. А враги мои, в первую очередь этот разбойник Хасан Саббах, станут поносить меня пуще прежнего. Но дело сделано: книга почти готова, и никто не помешает мне обнародовать ее. Согласись, что править нашим государством не так просто. Оно раскинулось чуть ли не на полмира. И разный проживает в нем народ. В том числе и разбойник Хасан Саббах со своей шайкой. От благочестивых мусульман до безбожников в разбойников — вот тебе подданные на любой вкус! Исходя из собственного опыта, я даю советы правителям. Излагаю свои мысли…
Хаким кивнул: дескать, все понятно и справедливо.
— Но в такой стране, как наша, где человек живет земледелием и меньше торговлей, очень важно, чтобы крестьянин чувствовал себя в каком-то роде равноправным человеком. А?
Омар Хайям молчал.
— Я так думаю, — продолжал визирь. — А что значит быть человеком? Надеяться на силу своих рук и на землю свою. Мне кажется, что грабить землепашца не полагается. Это противно священной Книге и всем установлениям шариата. Тут должна быть граница. А иначе придется согласиться с этим Хасаном Саббахом и разрушить все устои нашего государства. Что ты скажешь, хаким?
Омар Хайям поставил чашку.
— Твое превосходительство, — начал он, — ты всегда поражал меня неожиданностью течения своих мыслей и дел. Я вечный должник твоей щедрости. И то, что услышали мои уши, есть великое благо для меня, бальзам для сердца моего. Как подданный и слуга его величества я ощущаю великую мудрость в твоих речах. А твое решение обнародовать книгу правителя есть благо для всего государства.
Его превосходительство слушал речи хакима благосклонно, ибо знал, что язык ученого повторяет то, что на сердце у того, и что хаким не покривит душою.
— Ты правишь мудро — твои седины тому свидетели, — говорил Омар Хайям горячо. — И то, что ты обратил свои взоры на тех, кто копошится в земле от зари до зари, есть плод твоей величайшей прозорливости. Твое превосходительство! — воскликнул Омар Хайям. — Ну сколько лет живет на земле человек? Иногда этот век можно определить по пальцам рук и ног. Иногда — вдвое, втрое больше. Пусть даже вчетверо. И все? Да, все! Увы, так положил аллах, и никто не в силах отменить его приговор. Три четверти населения нашего государства копошится в песке и навозе. В поте лица своего добывает хлеб как высшее благо. Но ведь кусок этот очень часто вырывают у него изо рта. Беззастенчиво, грубо, жестоко, безжалостно. Ему говорят при этом: «Это для твоего господина». Ему говорят при этом: «А это для твоего верховного владыки». Ему говорят: «А это для защитников твоих, совершающих ратные подвиги». А это же крестьянин! В одном лице. С одной жизнью. Одним сердцем.
— Вот я о нем-то и спрашиваю тебя, хаким.
Омар Хайям развел руками.
— Если ты ждешь от меня ответа чистосердечного, я скажу.
— Именно, — сказал визирь твердо.
Подумав, Омар Хайям сказал:
— Я слишком долго смотрю на небо. Слишком долго изучаю движение светил. Я мысленно достиг крайнего предела: хрустального свода, над которым бездна. Мне порою кажется, что жизнь светил мне яснее, нежели наша, человеческая. То, что под боком, полно еще большей тайны, чем то, что над хрустальным сводом. Да, да!
Главный визирь слушал внимательно. Ученый, который был намного моложе его, пользовался уважением визиря. И словам хакима визирь придавал соответствующее значение.
Омар Хайям развивал свою мысль следующим образом:
— Нет мудрости в мире выше, чем мудрость аллаха, великого и милосердного. Это должно быть признано в начало всякого рассуждения. Потом следует, исходя из мудрости его, посмотреть на себя и себе подобных. После такого анализа я решил: здесь, на земле, должна быть обеспечена человеку сносная жизнь. Обещаниям нельзя верить! Да, нельзя верить!
Последние слова хаким произнес столь решительно, что заставил насторожиться главного визиря. Тот отхлебывал «ча», не спуская глаз с хакима.
— Мне обещают рай? Прекрасно! Мне сулят сытую жизнь на том свете? Прекрасно! Мне обещают любовь очаровательных гурий? Хорошо! Однако, твое превосходительство, поскольку ты пишешь книгу, знай: ничто против этой жизни — та, ничто против этих женщин — те гурии! И вина глоток сильнее посулов. Вот к какому выводу я пришел, изучая вселенную такою, какая она есть.
Визирь не перебивал, не пытался помешать случайным жестом. Он держал чашку обеими руками, как бы грея их. Не часто приходилось ему видеть хакима столь возбужденным. И он подумал, что разговор этот пришелся хакиму по душе, что хаким говорит то, что думает. А это надо ценить…
— Поэтому, — продолжал Омар Хайям, — мне понятно твое просвещенное желание обратить внимание на судьбу тех, кто кормит и поит нас. Государство только выиграет, если обретет доверие крестьянина… Что было прежде? О чем пишут старинные книги? Страна не имела единого правления. Иноземцы приходили и грабили. Господин грабил слугу, купцы обманывали честных людей. И не было во всем этом никакой мудрости. Его величество счастливо обрел в твоем лице правителя всемудрого и всевидящего. И государство обрело покой, порядок. Караванные пути свободны, купцов больше не убивают и не грабят.
— А Хасан Саббах? — мрачно спросил визирь.
— Чтобы победить его в кратчайший срок, чтобы одержать верх над всеми, ему подобными, нужно милосердие к тому, кто копошится в земле и стучит по меди молотком с самого раннего утра. Надо выбить оружие у врагов, проявив внимание к смертному. И ты, твое превосходительство, верно поступаешь, раздумывая над несчастной судьбой крестьянина, раздираемого нуждой, голодом и насилием. Надо исключить эти три понятия из его жизни, да из нашей тоже, и тогда многое наладится само собою…
— Ты так полагаешь, хаким?
Омар Хайям снова вспыхнул, словно на миг приутихшее пламя. Он сказал:
— Особенно насилие, твое превосходительство! Вот где зло, вот где беда всех бед! В семье и в государстве, в государстве и во всей вселенной!.. Я как-то был в Тусе. И однажды увидел ворону на крепостной стене. Она клевала кость, на которой чудом удержался кусок вонючего мяса. И я подумал: чья эта кость? Может быть, прежнего правителя Туса?
Визирь вздрогнул.
— Что ты говоришь, хаким? — сказал он брезгливо.
— Я говорю правду, — ответил Хайям, — только правду. И хочу обратить твое внимание вот на что: умрет бедный, умрет и его правитель. Кому достанется этот мир? Только грядущим поколениям. А больше никому!
— Это так, — согласился визирь.
— Напиши в своей книге страницы разума, внуши правителям всех степеней, что насилие есть главное зло. Внуши уважение к человеку, потеющему на клочке земли. И тогда твоя книга, которая, я уверен, есть великое произведение, станет еще более великой. Вот мое слово!
В огромном зале тихо. Солнце довольно высоко над зубчатыми голыми скалами и разом прорвалось сюда. Оно заиграло своими лучами на медных светильниках, на белоснежных вазах и загорелось зеленым пламенем на неких вьющихся растениях, обрамлявших высокие и узкие окна.
— Да, — прервал молчание визирь, — ты сказал хорошо. А главное — откровенно. Я хотел услышать твое мнение, чтобы укрепиться в своем. Когда пишешь, надо верить тому, что пишешь, надо быть убежденным в этом. Не так ли?
— Истинно так, — подтвердил хаким.
— Спасибо тебе за твои слова. Мне кажется, что книга моя будет полезной, и я дам тебе ее почитать, как только закончу.
Хаким поблагодарил за доверие, за приятную беседу, которую неожиданно подарил ему визирь. И хотел было уйти. Но визирь остановил ого. Встал, взял хакима за плечи, как бы полуобняв, и прочитал рубаи. Наизусть.
Рубаи звали слушателя на лужайку, на грудь милой, к кувшину вина. Поэт говорил: пей и люби, и час этот твой. Поэт утверждал, что идущий по земле постоянно ступает на чей-нибудь глаз. Может быть, это глаза красотки, которая пленяла собою многих и сделала многих счастливыми?
Прочитав, визирь подождал, что же скажет хаким. Однако тот погрузился в своп мысли.
— Ну и как? — спросил визирь. — Нравятся эти рубаи?
Визирь ждал, что хаким признает их своими, что не откажется от этих истинных перлов поэзии.
Омар Хайям ответил равнодушно:
— Мне нравятся. Особенно твое чтение.
— Это твои рубаи? — спросил визирь.
Омар Хайям отвел глаза.
— Разве я поэт? — ответил он смущенно. — Разве я поэт?
20
Здесь рассказывается об одной ученой затее Омара Хайяма
Во дворе обсерватории был уголок, который особенно полюбился Омару Хайяму.
Если обогнуть здание обсерватории справа и идти вдоль ограды, узкая садовая дорожка приведет к кипарисам. Эти кипарисы стояли, словно воины, вдоль северной стены. И под их недреманным оком росли персиковые и грушевые деревья и вилась виноградная лоза. Это был прекрасный уголок, и хаким говаривал в шутку: «Вот где бы я желал вечно лежать: среди цветов и зелени и совсем недалеко от виноградной лозы».
Здесь стлался травяной ковер, и лежал он меж трех арыков, в которых протекала вода из Зайендеруда. Воистину райский уголок, могущий вдохновить не только поэта, но и ученого, отрешившегося от мира ради науки!
Хаким приказал расстелить на земле широкую скатерть, принести сюда ковров и подушек для полного удобства. И завтрак заказал на свой вкус — необычный, можно даже сказать, праздничный: жареную баранью ляжку, сдобренную вином, куропаток с рисом и шафраном и горячие пшеничные лепешки. Это была еда, к которой нельзя притрагиваться без вина. Поэтому вино было выбрано красное, тягучее, терпкое, предварительно остуженное. А своего друга Исфизари хаким попросил прихватить из дому чанг. Сей ученый муж отменно играл на чанге и недурно пел. Друзья хакима поразились: изысканный завтрак на свежем воздухе, притом в будний день!
На что хаким ответил:
— Он и будет будничным, наш дастархан[36]. Поэтому прошу запастись бумагой и перьями.
Вот каким образом прекрасным летним утром ученые оказались на лужайке в саду обсерватории. Явились ближайшие сотрудники хакима Омара Хайяма: Абуррахмая Хазини, Абу-л-Аббас Лоукари, Меймуни Васети и Абу-Хатам Музаффари Исфизари. Именно этих своих сотрудников особенно высоко ставил Омар Хайям, полагая, что они виднейшие ученые и что имена их со временем будут широко известны.
Но более всего поразило гостей Омара Хайяма вино: такого, казалось, они еще никогда не пробовали. Кроме вина, был припасен еще и шербет на тот случай, если кому-нибудь не захочется вина. Но ученые подтвердили в один голос, что предпочитают пить вино, чтобы им была уготована прямая дорога в ад.
— О уважаемый хаким, — сказал Хазини, — все это чудесно, но не объяснишь ли нам, ради чего накрыт этот необычный стол?
— Объясню, — пообещал хаким.
Было довольно жарко даже здесь, в тенистом уголке. Однако мурлыкали арыки, полнились чаши с холодным вином, и даже ветерок веял, и птицы пели прямо над головой.
Хаким усадил друзей, а сам выбрал себе место рядом с кувшином вина, ибо никому не доверял столь священное дело, каковое всегда возлагается на виночерпия. И сказал:
— Господа, мы будем есть и пить, но будем и беседовать, притом на тему очень серьезную. А посему прошу вас иметь наготове бумагу и перья. Делайте необходимые пометки, записывайте мысли — они очень пригодятся. А выбрал я этот уголок и еду соответственную потому, что новая работа всегда требует праздничного начала. — И добавил: — Если ее хочешь завершить успешно, тоже по-праздничному.
Сотрудники хакима переглянулись, давая понять друг другу, что ни о чем толком не осведомлены заранее и сейчас не все понимают…
Хаким попробовал мяса, поднял чашу, причмокнул губами. Его глаза загорелись и невольно обратились к небу, как бы благодаря аллаха за великое удовольствие.
За трапезой завязался разговор, и ученые незаметно окунулись в сферу, близкую им и любопытную для них. Начало беседе положил Омар Хайям. Он заметил, что любознательность, которою наделен человек, всегда служила толчком в науке, а поскольку любознательность беспредельна, как и сама жизнь, то и науке, стало быть, надлежит развиваться беспредельно. Что это значит? Возьмем простую вещь: уже древнейшие знали, что один плюс один — это два. Но любознательность повела их дальше. И вот уже два умножается на два. И так далее. Это древнейшие. А древние сумели пойти еще дальше. Они занялись корнями. И потому-то сегодня можно утверждать, что квадраты равны корням, что квадраты равны числу, что корни равны числу. Идя дальше, можно утверждать: корни и число равны квадратам. И не только утверждать, но и доказывать! Наглядно. Геометрически. То же самое можно сказать и о другом утверждении алмукабалы: квадраты и число равны корням. То есть вырастает целая наука о числах, о корнях и квадратах. Но и здесь нет границы, и потому естествен переход к кубам.
Возьмем астрономию…
Тут хаким прервал самого себя и предложил выпить за астрономию — науку великую, прекрасную, как философия. И предложил попробовать куропаток с рисом под шафраном. Он это говорил, как хозяин пиршества, как глава его. Ибо и в этом деле хаким был большой мастак.
А потом продолжал:
— Птоломей — этот древний египтянин — создал стройную науку о светилах, о мироздании. И близко подошел к истине: все вертится вокруг Земли. Не так ли? Но вот проходит тысячелетие, и Сиджихи, по словам великого Бируни, заявляет, что Земля стоит на месте, но вертится вокруг себя, подобно волчку. Это подтверждает и сам Бируни! Но слушайте дальше. Бируни восхваляет Птоломея, но сам в конце жизни приходит к противоположному выводу: Солнце стоит на месте, а вращаются вокруг него светила и Земля, разумеется!
Хаким оглядел своих друзей: он весь сиял, он, казалось, был на седьмом небе. Он очень любил, когда что-либо опровергали, и очень не любил, когда твердили нечто заученное, установившееся. Если, говаривал он, мы будем твердить одно и то же, кто же поведет нас дальше по дорогам познаний? Так он говаривал…
— Наверное, тут могла вкрасться ошибка, — продолжал Омар Хайям. — Мало высказать мысль, ее надо подтвердить опытом. Бируни этого не сделал.
— Справедливо, — сказал Васети.
— Во всяком случае, это дело будущего. Что я хочу сказать? Мысль не должна застаиваться, успокаиваться — вот что! И мы собрались здесь для того, чтобы заявить об этом. Согласны со мной?
Вопрос был обращен ко всем. И ответ не составлял труда, ибо известно, что успокоившийся ум — мертвый ум. Исфизари тронул басовую струну, и над лужайкой поплыл ровный, низкий звук, подобный мужскому голосу.
— Это значит «да», — пропел ученый.
— Чаши! — воскликнул хакпм.
И пять рук с чашами поднялись кверху, чтобы все это видело небо, чтобы знало оно, что все пьют поровну и без остатка.
Птицы, сидевшие на деревьях, вспорхнули, лепестки, белые и розовые, посыпались на землю. И украсили стол драгоценными монетами — живыми и ароматными.
Хакима с некоторых пор занимало одно очень важное дело. И он сообщил какое… Он раздобыл работы древних греков, а также книги Абу-л-Хасана Сабита ибн Курры Ал-Харрани и Ибн аль-Хайтама и других ученых. Он напомнил своим друзьям слова Архимеда, которые сохранили ученые, а именно: «Всякая стоячая жидкость не движется, и ее форма — форма шара». Это утверждение подлежало, по мнению Омара Хайяма, особому рассмотрению ввиду того интереса, который вызывает оно в связи с формами небесных светил. Архимед, продолжал развивать свою мысль хаким, написал книгу об устройстве небесной сферы, воспроизводящем круговращение небесных светил…
— Об этом писал еще и Прокл, — заметил Лоукари.
— Совершенно верно.
— Многие писали, — добавил Васети.
— Возможно, — согласился хаким.
— Мне кажется, — сказал Васети, — что можно попытаться опровергнуть Птоломея, но вряд ли это удастся.
— Почему? — спросил хаким настороженно.
— Это был большой ученый. Ничего зря не говорил. Воистину бог!
— И тем не менее… — Хаким взял куропатку и полюбовался ею.
Хазини решительно восстал против обожествления даже самого Аристотеля, даже самого Фирдоуси и Ибн Сины. Это ничего общего не имеет с подлинной наукой…
— Из тебя вышел бы неплохой асассин[37], — с улыбкой проговорил Васети.
— А почему бы и нет? — неожиданно для друзей признался Хазини.
Но слова эти восприняли как шутку: в самом деле, какой асассин из Хазини, вечно погруженного в тайны мироздания?
— Я сейчас закончу свою мысль, — сказал хаким, — не буду вас долго мучить. Да и себя тоже… Дело в том, что Архимед попытался определить расстояние от поверхности Земли до Луны. Он указал количество стадий[38] от Луны до Меркурия, от Меркурия до Венеры, от Солнца до Марса. И так далее. Словом, этот грек дерзнул. И у нас под рукою имеются величины этих расстояний. Я не думаю, что они очень уж точные.
И Омар Хайям и на этот раз блеснул своей отличной памятью. Он напомнил Архимедовы цифры. Вот они: расстояние от Земли до лунной орбиты — стадий 554 мириад и 4130 единиц; от Луны до солнечной орбиты — стадий 5026 мириад и 2065 единиц; от нее до орбиты Венеры — стадий 2027 мириад и 7165 единиц; от нее до орбиты Марса — стадий 4054 мириад и 1108 единиц; от нее до орбиты Юпитера — стадий 2027 мириад и 5065 единиц; от нее до орбиты Сатурна — стадий 4037 мириад и 2065 единиц… Затем хаким Омар Хайям перевел все эти греческие меры в количество фарсангов.
Его друзья еле поспевали за ним, чтобы записать числа, со многими из которых были знакомы еще со школьной поры, но почему-то не приходило в голову подвергнуть их проверке или сомнению.
Высказав предварительные соображения, хаким подошел к главному предмету разговора:
— Господа, я освежил в вашей памяти все давно вам знакомое. Не кажется ли вам вполне естественным, если мы сами попытаемся измерить указанные расстояния? Каково ваше мнение?
И хаким спокойно принялся за куропатку, сказав, что весь превращается в слух. Он сидел ровно, расправив плечи, подогнув под себя ноги. На нем был синего цвета халат из однотонного шелка. И белье проглядывало на груди — бледно-голубого, воистину снежного цвета. Хаким был очень крепок, несмотря на свои сорок пять лет или около того.
Первым поддержал Хазини. Сотни лет тому назад измеряли расстояния до светил. Почему бы не заняться измерением сейчас, когда имеются хорошие приборы, когда знаний больше, гораздо больше…
Тут его перебил Васети:
— Вспомни, Хазини, что говорил Ибн Сина. А говорил он, что нынешние знания суть рассеянные знания древних.
— Возможно, в философии, но в астрономии после Архимеда накопилось немало любопытного. Я хочу высказать свое мнение: давайте попытаемся все измерить заново.
Лоукари и Исфизари высказались в том смысле, что следовало бы прежде обдумать пути и способы, ибо в этом и заключена вся трудность. Надо дерзать со знанием и умеючи. А есть ли и то, и другое?.. То есть достаточно ли знаний и умения?..
— Об этом я и хотел посоветоваться, — сказал хаким, с удовольствием запивая куропатку вином.
По мнению Лоукари, прежде всего необходимо определить, как говорили греки, базис. То есть прямую. Причем от точного измерения ее и зависит весь результат работы. А угловые измерения провести при нынешних астролябиях или квадратах не так уж трудно…
Хаким поддержал его кивком.
— Я сейчас представляю себе некую карту наших городов, — говорил Лоукари. — Вот, скажем, Исфахан, а на север от него — город Савас. Там много ученых. Или взять хотя бы Ормуз на юге. Или Киш, недалеко от Ормуза. Или Шираз. Можно пойти на восток от Исфахана: скажем, до Нишапура или Балха. Можно взять и другие города: Бухару и Самарканд. Предпочтительнее большие расстояния, ибо при этом меньше будет ошибок.
Хаким еще раз кивнул.
— А способы измерений? — спросил Васети.
— Обычные.
— При помощи караванов?
— А каким же еще образом?
— Я этого не знаю, — сказал Васети.
В эту минуту готов был разгореться жаркий спор, однако хаким не допустил до этого. Он весело предложил чашу вина: после нее, дескать, все станет ясно…
— Ведь вино наш друг? — вопросил он. — Не правда ли?
Ученые дружно согласились с этим.
— В таком случае — за любовь!
И все опорожнили чаши. Еще бы: кому не хочется любви? Что можно иметь против нее? Хазини прочел некие рубаи, не назвав их автора. Вот содержание: хотя этот мир и украшают ради тебя, но не полагайся на него, ибо много таких, как ты, приходят и уходят; похищай свою долю счастья, не то похитят ее другие…
Хаким погрозил пальцем своему другу. Он не любил, когда читали ему его же стихи. Он краснел при этом, точно уличенный в шалостях…
— Довольно об этом, — сказал хаким, — вернемся к тому, о чем говорил уважаемый Лоукари… Верно, нужен базис. А измерение его что же?.. — Омар Хайям задумался. — Его надо проводить обычным способом. Берем караван. Сколько фарсангов проходит он в час? Это можно определить. Сколько часов провел он в пути? Это тоже можно установить. Таким образом, мы получим расстояние между двумя крайними точками базиса.
Лоукари сказал, что все это верно. Но чем дальше будут отстоять эти точки друг от друга, тем менее вероятна ошибка, точнее, тем меньше будет ее числовое значение…
— Однако точки следует брать на одном и том же меридиане, — сказал Васети. — Это значительно облегчит измерение.
— Стало быть, с севера на юг? — спросил хаким.
— Или наоборот, — ответил Васети.
— Это будет видно. — Хаким казался озабоченным. И он сказал: — Давайте выпьем за наше начинание. Нам придется испрашивать разрешение на расходы у его величества. Что скажете, господа? Беремся за дело?
Лоукари поднял чашу.
То же самое сделал и Васети.
Их примеру последовали Хазини и Исфизари. А за Омаром Хайямом дело не стало: он уже пил из чаши и швырнул ее в кусты, опустошив.
— А теперь послушаем чанг! — воскликнул он. — Что может быть лучше музыки в таком саду?!
Он нагнулся, опустил ладонь в арык и смочил себе лоб.
— Мы чуть не перессорились, — сказал он, улыбаясь, — а жизнь все-таки хороша. Что скажешь, господин Исфизари?
А тот в ответ поднял чанг и ударил по струнам.
21
Здесь рассказывается о доподлинно известных речах, произнесенных в крепости Аламут, что значит «Орлиное гнездо»
Если идти на север, все на север от Исфахана, то в горах можно встретить людей, которые укажут дорогу к крепости Аламут. Но тут оговоримся: это не так просто. Сразу возникает много вопросов: кто ты? Зачем тебе нужна эта крепость? Кого ты ищешь? Зван ли туда или сам решил добираться? Суннит ты или шиит? Но ведь среди шиитов есть и исмаилиты. Ежели исмаилит, то кого назовешь из видных лиц, которые могли бы поручиться за тебя? Словом, не так-то просто попасть в крепость Аламут, а тем более поговорить с известным Хасаном Саббахом. Это главарь наиболее боевитых шиитов, называющих себя последователями пророка Исмаила, клянущихся в верности не только обновленной религии, но и свободе. Хасан Саббах так и говорил: «Сунниты опутали нас так, что человеку невмоготу дышать. Дышат в свое полное удовольствие только султан, его визири да их прихлебатели». Эти слова Хасан Саббах обращал к народу, призывал его к борьбе против богатых…
Неудивительно, что его величество Малик-шах называл Хасана Саббаха не иначе как негодяем. А главный визирь — только разбойником. Хасан Саббах, в свою очередь, не оставался в долгу. Из «Орлиного гнезда» он извергал поток проклятий на головы султана и его визирей. Особенной ненавистью пылал этот самый Хасан Саббах к главному визирю — его превосходительству Низаму ал-Мулку.
Придворные поэты в своих стихах изображали Хасана Саббаха человеком клыкастым, низким и уродливым, богохульником и кровопийцей. За его голову было обещано много серебра и золота. Хасан Саббах надежно укрылся в своем Аламуте, укрепленном стенами и глубокими рвами. И чувствовал себя в безопасности. Между тем как его люди, часто переодетые дервишами, совершали убийства, именовавшиеся исмаилитами «возмездиями». Асассины наводили ужас на многих людей, и с ними невольно приходилось считаться, то есть считаться с их грозными и безжалостными действиями.
Но да будет известно каждому, что Хасан Саббах привлекал к себе сердца простолюдинов свободолюбивыми призывами. Он говорил: человек должен быть свободным. Он говорил: ислам должен не угнетать человеческую душу, а, напротив, обновлять ее. Он говорил: сунниты присвоили себе слишком много прав, а их муфтии служат орудием закабаления. И много еще подобных слов говорил Хасан Саббах. И семена, которые сеял он, попадали на благодатную почву.
Разве всего этого не понимал главный визирь? Нет, он отлично все знал и пытался найти некие пути, по которым следует направить государственное правление во избежание крушения, во избежание роста насилия и взаимного истребления. Низам ал-Мулк видел далеко, но понимал, что поворачивать в какую-либо сторону налаженную жизнь государства не так-то просто. Конечно, он все понимал. А если бы не так, разве процветала бы дорогостоящая обсерватория в Исфахане или багдадская академия? И тем не менее, как бы ни был силен главный визирь, над ним простиралась власть его величества.
Хасан Саббах был худощав. Роста выше среднего. Из-под короткой черной бородки проглядывал острый кадык. На загорелом и обветренном лице — узкие щелочки глаз, а сами глаза — неопределенного водянистого цвета. Говорил он ровным, хрипловатым голосом. Почти никогда не повышал его, но было что-то жуткое, сковывающее в этом голосе. Так мог разговаривать человек, который все взвесил и все решил. А главное, решился на все.
Было у него две жены. Но никто не видел в глаза их, и никто не знал, где они живут. Были и дети. Их тоже никто не знал. И в этой таинственности было тоже что-то угрожающее.
Хасан Саббах, как всякий одержимый, имел свои привычки, если угодно, были у него свои причуды. Вот одна из них: все дела он решал и вершил ночью, а днем отдыхал под неусыпным надзором преданной ему охраны. И эта его особенность делала вождя асассинов человеком особого склада и особой судьбы.
С высоты «Орлиного гнезда» Хасану Саббаху казалось, что он видит все. Верные люди приносили ему вести из далекого Самарканда, Бухары, Балха, из жаркого Шираза и ненавистного Исфахана. На основании этих сообщений Саббах пришел к окончательному выводу о том, что Малик-шах и его главный визирь несколько поуспокоились, ослабили бдительность, ибо страна вроде бы умиротворена, народ оправился после многочисленных и самых различных потрясений, войны давно нет. Кому же придет в голову поднимать бунт против Малик-шаха, кто пойдет за таким бунтарем?
На этот, казалось бы, не требующий особого объяснения вопрос дал ответ сам Хасан Саббах. В один прекрасный день собрал он своих близких сообщников. Шли они разными дорогами на север страны, встречались в горах в условленных местах и оттуда направлялись в крепость. После должной и тщательной проверки их проводили в большой зал, устланный коврами.
Хасан Саббах встречал своих сообщников молча, легким поклоном.
Когда все собрались и расселись по местам, глава асассинов сказал так:
— Вчера я наблюдал за одной птичкой. Сидела она на ветке и пела. Ветка была невысоко — рукой достать. Она пела от всей души. Не замечая меня. Не обращая на меня никакого внимания. Это продолжалось долго… Сегодня моросит дождь, тучи собрались с соседних гор и грозят ливнем. А вчера стояла теплая погода. Пахло цветами. Поэтому птичка особенно усердствовала — ей было очень и очень хорошо…
Хасан Саббах умолк, подождал, пока всех обнесут шербетом, кусками мяса и хлеба. А потом продолжал:
— Я долго слушал это пение, и мне оно стало надоедать. Все имеет свои пределы: даже красота может опротиветь. И я собирался уже уйти, как пение оборвалось. Я подошел к птичке поближе. И что же я увидел?
Он оглядел собрание своих приверженцев и сказал про себя: «Это мои люди. На них можно положиться». И остановил взгляд на одном из них, по имени Зейд эбнэ Хашим. Таком молодом, бледном и худом асассине с горящими глазами. Зейд не притрагивался к еде, пил только шербет и думал о чем-то своем. «Не этот ли?» — спросил себя Хасан Саббах и закончил свою речь следующим образом:
— И что же я увидел, подойдя поближе к ветке? Спящую птичку. Спящую, усталую от своей песни. Да, да, это было так! И тогда я сказал и себе, и мысленно обращаясь к вам: «Не так ли спят сейчас во дворце исфаханском?» Сказал и, протянув руку, без труда поймал птичку. Она встрепенулась, но уже было поздно.
Хасан Саббах поднял чашу с шербетом и остудил себя напитком. Уже ни на кого не смотрел. И все поняли, что он сказал то, что хотел сказать. И все поняли то, что услышали.
Салех эбнэ Каги, человек преклонного возраста, ремесленник, наживший горб на бесчисленных медных чеканках, взял первое слово. Это был исфаханец, жил под боком у Малик-шаха, и его светильники приобретались управителем дворца, ибо это были светильники тонкой работы.
— В твоей притче, — сказал он, обращаясь к своему вождю, — большая правда. Птичка задремала от радости, от переполнявшей ее радости. Тому способствовали погожий день и аромат цветов. И она уснула, потеряв ощущение грозившей ей опасности. А она, несомненно, видела тебя. И наверняка опасалась твоей руки. И тем не менее попалась. — Салех эбнэ Каги говорил высоким, немного скрипучим голосом, но говорил продуманно. — Можно твою притчу полностью перенести и на людей. Но мы должны понимать разницу, которая есть между птичкой и Малик-шахом.
— Он негодяй! — прервал исфаханца хмурый вождь асассинов.
— Это дело другое, — сказал Салех эбнэ Каги, у которого была своя голова. — Негодяй отличается от птички еще больше, чем от обыкновенного человека. Этого не следует забывать, когда имеешь дело с Малик-шахом. Птичек множество, а султан один. Тут не должно быть промаха.
— Вот это верно! — воскликнул Хасан Саббах.
Саадет из Балха недолго раздумывал над тем, какое высказать соображение. Намек Хасана Саббаха не допускал двух толкований. А исфаханец осторожно призывал к осмотрительности. Саадет был одних лет с Салехом эбнэ Каги — ему тоже под пятьдесят. Однако характер иной. Исфаханец терпелив и склонен к рассуждениям, а Саадет больше думает руками или ногами. Караванная дорога, длинная и жаркая, утомила его, но горячность его не уменьшилась. Душа его пылала, как всегда, и он, как всегда, жаждал действия.
Довод его был крайне прост: не слишком ли выжидаем, не слишком ли долготерпеливы? Это может навести на мысль о том, что скорее уснут асассины, нежели эти господа в исфаханском дворце. Это же очень просто: нельзя откладывать решительные действия до того дня, когда асассинов призовут во дворец, чтобы навести там свои порядки. Этого никогда не будет!
Хасан Саббах непрестанно кивал головой, он был согласен с каждым словом Саадета из Балха. Верно, бездействующий кинжал в конце концов ржавеет.
— Надо учесть, — сказал исфаханский чеканщик, — что неудача в нашем деле равносильна смерти. Неудача, неверный шаг надолго отобьют охоту к борьбе у многих, даже у самых горячих голов.
— В этом есть своя правда, — согласился Хасан Саббах. — Из этого следует только один вывод: надо бить без промаха!
— Это совершенно справедливо, когда речь идет об одном человеке, — возразил исфаханец, — но если подымаешь руку на все государство?
— Что же с того! — сказал Хасан Саббах. — Разницы тут никакой: промаха быть не должно!
Исфаханец пожал плечами, сказал, что послушает других. А другие не торопились высказывать свое мнение. Это не такое дело, чтобы всем наперегонки нестись. Молчали, посапывали, почесывали бороды. И тогда, безмолвно поощряемый Хасаном Саббахом, слово взял молодой Зейд эбнэ Хашим. Он вытянул сухую руку с большим кулаком и, словно бы кому-то угрожая, начал твердо, без обиняков:
— Я понимаю так: мы явились сюда неспроста. Мы званы не случайно. Смелость — половина успеха. Без нее только дремать пристало. Без нее и шагу не сделаешь. Другая половина дела — это дерзость. Без нее тоже ничего не поделаешь. Власть достается дерзким. Вот если тебе уготован престол отцом или еще кем-либо. Если хочешь взять силой — надо дерзать. Кто хочет послужить своей вере и сокрушить врагов, тот должен сказать себе: я смел и я дерзаю!
Этот Зейд потрясал обоими кулаками. Вокруг сидели люди и постарше его, но он не обращал на это никакого внимания. Выражал свое мнение предельно ясно. Он призывал к дерзости. А как это понимать?
— Очень просто, — пояснил Зейд. — Мы сговариваемся и идем напролом. Самое главное — выигрыш времени, неимоверная дерзость и смелость.
Многие смотрели на него с удивлением. Какой такой Зейд, и что он, собственно, сотворил на своем веку? Пожалуй, нет в этом зале человека, который знал бы его по делам. Разве что сам Хасан Саббах.
Тут послышались разные голоса: одни соглашались с исфаханским чеканщиком, другие держали сторону человека из Балха. Но никто не сказал прямо: Зейд прав! Значит, молодой человек остался в одиночестве? Нет, ничего подобного! Ему была обеспечена защита.
— Принеси нам вина, — обратился Хасан Саббах к человеку с кривой саблей на боку. Этот человек стоял в дверях — он слушал и смотрел. На его место заступил другой, такой же головорез. Вскоре появилось вино. Оно было в кувшинах, холодное и терпкое. Одни пили вино, другие предпочитали шербет. Принесли горячие куски жареной дичи на вертелах и положили на большое блюдо — в три локтя диаметром. И каждый, кто хотел, брал себе кусок величиной с добрый кулак.
Хасап Саббах выпил вина, вытер усы платком, который был у него за кушаком, и сказал:
— Почему мы собрались? Не для праздных же разговоров! Они нам ни к чему. Все слышали про смелость и дерзость? Вот это настоящие слова настоящего мужа! Долго мы будем сидеть в этом «Орлином гнезде»? Мне надоело. А вам? И сколько можно? Год, два, три? Десять лет? Всю жизнь? Но разве нам отпущены две жизни? Мы хотим видеть плоды своих рук еще при нашей жизни. Я сказал вам: момент благоприятный. Многие подачками вроде бы усыплены. Они не ропщут. А кто ропщет, с тем разговоры короткие. У меня есть план. Я не хочу скрывать его от вас. Но хотел бы предупредить перед тем, как выложу его.
— Выкладывай, — сказал чей-то басовитый голос.
— Да, да! — подхватили другие.
— При одном условии. — Хасан Саббах поднял кверху указательный палец. — При одном условии.
— Слушаем! — воскликнули многие.
— Условие такое, друзья: если я скажу нечто, никто не покинет этого замка без общего на то решения. Только так и можно сохранить тайну.
Все согласились с этим.
— А теперь слушайте. — Хасан Саббах очистил место перед собою, как бы для того, чтобы яснее дать попять, что же будет происходить на поле боя. — Мы спокойно могли бы захватить город Рей! Если бы захотели. Или еще какой-либо другой. Смогли бы торжествовать победу в Балхе или Бухаре. Но зачем, спрашивается? Чтобы быть втянутыми в бои с войсками Малик-шаха? Чтобы Низам ал-Мулк, проклятый, зарыл нас в землю? Разве этого мы добиваемся?.. Нет, нам нужно не это…
Все приготовились выслушать, что же нужно, что самое главное сейчас.
— Мы должны нанести удар. Но когда? Когда окончательно созреет нарыв? Да, так думают некоторые. Через год или через два? Кто предскажет точный срок? А знать это надо бы! Однако, готовя удар и нанося его, я говорю вам: держитесь подальше от разбойников, называющих себя нашими друзьями! Нам нужны умные и бесстрашные храбрецы, согласные умереть, если понадобится. А кровожадным разбойникам с большой дороги не место в наших рядах! Это, надеюсь, ясно?.. Теперь давайте подумаем, как быть дальше?
Хасан Саббах потряс руками, давая понять, что говорит он для всеобщего сведения, говорит для ушей, умеющих слушать.
Он привел один пример: вот горит здание. Его подожгли злоумышленники. Подожгли с одного конца. Что делают спящие в нем? Они просыпаются от запаха гари и убегают через покои, которые не охвачены еще огнем. Но бывает и так: дом поджигают в самой середине, саму спальню. И что же тогда? Тогда трудно выбраться из сплошного дыма, и нападающие достигают своей цели. Вот так!
Трудно сказать, насколько убедительным был пример Хасана Саббаха. Однако вождю асассинов казалось, что его поняли так, как надо. Сказать по правде, сюда, в «Орлиное гнездо», он пригласил своих сообщников, которые в большинстве своем слушают, нежели думают своей головой. Нечего терять время на убеждения, на споры. Это сплошное безумие! Ибо обо всем уже подумал сам Хасан Саббах. Нужны исполнители. Вот кто!
Исфаханец спросил, как понимать слова насчет пожара? Имеется ли в данном случае в виду столица или вся страна — от края и до края? На это вождь сказал:
— А как полагаешь ты?
— По-видимому, столица, — ответствовал исфаханен.
— А еще точнее?
— Неужели дворец?!
— Он самый, — спокойно пояснил Хасан Саббах. И продолжал: — Видишь ли, брат, хороший мясник никогда не наносит удар быку, скажем, в ягодичную часть или в живот. Зачем? Чтобы наблюдать, как животное агонизирует целые сутки? Мясник целит острием ножа в самое горло, и тогда животное тотчас погибает. Ты меня понял?
— Да, разумеется. Тут и понимать нечего. Но при этом встает такой вопрос: если наносить удар по дворцу, то есть по главному лицу во дворце, то есть по Малик-шаху, то что же дальше? Есть визири, есть воинство, есть дабиры и многочисленные прихвостни. Как быть с ними?
На это Хасан Саббах ответил:
— Это верно. Вопрос не праздный, не надуманный. Он полон глубокого смысла. И тем не менее разве не ясно, что случается, когда отрубаешь голову? Голову, а не руку!
Это известно. А все-таки нельзя государство отождествлять полностью с коровой или быком. Разумеется, исфаханец согласен с общим планом. Его интересует план в деталях, чтобы не провалиться случайно… Он подчеркивает: случайно!
Собравшиеся дали понять вождю, что в словах исфаханца есть доля справедливости и знание плана во всех его тонкостях необходимо. С чем Хасан Саббах вполне согласился.
— Я хочу, — сказал он, — чтобы наш молодой друг Зейд эбнэ Хашим встал и сел слева от меня, чтобы он все слышал и все понимал. Ежели он хочет, чтобы помощь его была решающей. Я еще раз повторяю: ежели он хочет, чтобы помощь его была решающей в нашем святом деле.
Все поворотились к молодому асассину. Тот некоторое время сидел недвижим. Казалось, задумался над словами вождя. А потом встал и, не говоря ни слова, направился к Хасану Саббаху и занял место слева от пего. Он смотрел в глаза своему вождю. Он любил Хасана Саббаха и безгранично верил ему.
Хасан Саббах опустил голову. Словно бы устал держать ее так, как полагается.
Вождь не торопился. Дело такое, что требовалось сугубое обдумывание. Лишнее слово к добру не приведет. Не до конца понятое предложение совсем ни к чему, оно внесет только путаницу. Нужна выдержка. Осмысление каждого слова. Оно должно войти в ухо слушающего и остаться в голове прочно, надолго. Ибо каждому необходимо руководствоваться этим словом в многотрудном и опасном деле.
Хасан Саббах повернул голову назад, насколько это было возможно, и принял из рук стоящего поодаль стража кинжал. Он поднял оружие высоко, чтобы все видели его, и торжественно провозгласил:
— Я передаю это произведение ширазских мастеров в руки уважаемого Зейд эбнэ Хашима. Он может и не принять его. Это будет равносильно отказу, и более ничего. Но ежели примет, мы решим, в кого он должен всадить его. В самое сердце. По самую рукоять. Вы меня поняли?
Молодой асассин поднялся с места, принял кинжал, поцеловал его.
— Я направлю его куда следует, — решительно заявил Зейд…
Хасан Саббах словно бы не расслышал этих слов.
— А теперь, — сказал он, — согласно уговору решим, как быть дальше. Я бы хотел изложить образ наших действий. Хорошо?
Ему ответили хором: «Хорошо».
И Хасан Саббах обстоятельно изложил план. Продуманный до мельчайших подробностей. Зейд эбнэ Хашим не упустил ни одного слова, ибо кинжал был передал ему, а не кому-либо другому…
22
Здесь рассказывается о том, как Эльпи узнает то, что узнает
Светильник на небе нынче погашен, сверкают только звезды. Не горят медные светильники и в комнате, где, как всегда, господствуют сине-зеленые тона — по цвету неба, которое в широком окне.
Эльпи вся светится внутренним светом. Кожа ее бела и шелковиста. От нее пахнет тонкими багдадскими духами, ее волосы благоухают жасмином.
Омар Хайям говорит ей:
— Я должен сказать тебе нечто.
Она не хочет и слышать о чем-нибудь постороннем. Зачем говорить в такую ночь? Разве мало счастья? Разве мало сладости? Даже думать запрещено в такую ночь!
И Эльпи читает стихи на своем языке и переводит на арабский. Стихи про бессонную ночь, про любовь, про поцелуи и объятия. Такой полудетский лепет…
Однако стихи глубоко трогают саму Эльпи. Она в упоении… Ночь, вино и любовь. Чего еще пожелать душе? Неужели и сию минуту размышлять о тайнах мироздания, которые не стоят и плевка?..
— Как ты сказала? — останавливает ее Омар Хайям.
Эльпи весело повторяет:
— Все эти твои мироздания не стоят и плевка.
Хайям смеется: хорошо сказано. Как бы это не забыть?
Конечно, Эльпи права: в такую ночь грешно думать о чем-то постороннем.
— Но я должен огорчить тебя. — Хаким вдруг переходит на сердитый тон. — Я это говорю серьезно…
Что хаким еще выдумывает?
— Слушай, господин, — просит Эльпи, — сделай мне больно. Только очень больно.
— Я не могу, — говорит он. — Я не могу, ибо должен огорчить тебя. Я не могу скрывать эту тайну.
Ну что ж, Эльпи готова ко всему.
Хаким отворачивается — ему немного стыдно. Он покашливает — не знает, как начать. Потом выдавливает из себя одно слово:
— Эльпи…
Она лежит неподвижно на мягкой и широкой постели. Она смотрит на небо, готовая слушать. А он все молчит.
И тогда Эльпи говорит тихо и неторопливо:
— Я знаю все. Ты изменил мне.
Хайям вздрагивает.
— Что ты сказала?
— Ты полюбил другую, — говорит она спокойно.
Он тоже смотрит на небо, на котором звезд не счесть. Неужели он трус? Начинает ненавидеть себя? Разве мужчина — трус? Разве тот, кто бесстрашно устремляет свой взор в глубину вселенной, — трус? Разве тот, кто знает цену жизни и цену смерти, — трус?
— Можешь не отвечать, — говорит Эльпи. — Я догадываюсь. Я это почувствовала неделю назад. У твоих губ был другой вкус. Они целовали не так, как раньше. Это было неделю назад.
Он хранил молчание.
— Скажи, что я не права. — Эльпи холодна и по-прежнему спокойна. Даже слишком спокойна.
Хайям хотел было раскрыть рот, но губы не повиновались ему.
— Скажи, что я солгала! — приказала она.
И он сказал ей:
— Нет, ты права.
Хайям лег на спину, подложил себе руки под голову вместо подушки и стал говорить так, точно обращался к звездам, а не к Эльпи.
Точно, во всех подробностях, стараясь ничего по упустить, будто находя в этом особое удовольствие, начал он рассказывать о том жарком дне, о прохладных струях Зайендеруда, о зеленой лужайке и юной Айше. И эта скатерть, словно снег с Эльбурсских гор, вино и шербет, зелень и мясо, и часы душевного наслаждения, которым не было конца… Это были часы любви — подлинной, естественной, волновавшей сердце и ум. Вокруг никого!.. Только Зайендеруд!..
Вдруг он оборвал свои воспоминания и прислушался: но все тихо, и хоровод светил совершенно беззвучен. А пение цикад лишь подчеркивало тишину.
Она сказала глухо:
— Дальше…
Он повернулся к ней: она лежала пластом и тяжело дышала. Она дышала так, словно пробежала целый фарсанг, не меньше!
Повторила:
— Дальше…
Он увидел ее губы и жемчуга меж ними. Он увидел ее соски, направленные в небо. И живот ее светился особенным светом: фосфоресцировал зеленоватым, матовым огнем. И пупок, черную точку посредине зеленоватого живота, увидел он…
— Дальше, — попросила она. Схватила, точно добычу свою, его за плечи и просила: — Дальше… Я прошу, — умоляла Эльпи. — Говори же! Ничего не скрывай…
Он приложил руку к своему лбу: на нем испарина. Сердце готово выскочить наружу — ему тесно в грудной клетке, словно птице.
— Зачем? — удивленно спрашивает он.
Но она требует, просит, умоляет. Она готова раствориться в нем. И эта молодая женщина предстает в совершенно новом обличии, и удивление его растет от минуты к минуте. Но еще быстрее захлестывает его жар.
И тогда, не отдавая себе ясного в том отчета, Хайям начинает рассказывать Эльпи об Айше и дастархане у Зайендеруда. Более того: многое придумывает, давая волю фантазии.
Эльпи безудержно толкает его на эту фантазию. В необычайном исступлении обвивая шею его, подобно сладострастной змее, она выспрашивает.
Целовал ли он ее? Да, целовал. Айше отвечала тем же? Да, отвечала. Искусна ли Айше в любви?
Хаким уверял, что до грубой страсти дело не дошло. А Эльпи не верит.
— Вы дождались темноты?.. — спрашивает Эльпи.
— Нет, было совсем светло. Был день…
— Послушай, — говорит Эльпи и резко привстает: — Ты приведи ее сюда…
— Зачем? — со стоном осведомляется он.
— Я хочу посмотреть на нее… Мне будет приятно… Я совсем, совсем не буду ревновать…
Он обещает.
А потом Эльпи долго лежит обессиленная, лишенная дара речи. Лежит с закрытыми глазами. И едва выговаривает:
— Вина…
Он неуверенно шарит руками: где этот кувшин, где эти чаши? С трудом находит их, потому что на глазах у него пелена.
Понемногу зрение возвращается к нему. Звезды, оказывается, светят. Кусок сине-зеленого неба служит неверным светильником.
И Эльпи жадно пьет. И, выпив, вздыхает сладко:
— Вот теперь я живая…
И она читает на память некую греческую оду мужчине. Оду, которую некогда пели вакханки где-нибудь в Милете или на Кипре — в этих полуазиатских, полуевропейских уголках. Потом она нескладно переводит на арабский. И вдруг в упор спрашивает:
— Айше лучше меня? Сознайся, красивее?
Он не желает кривить душой. Он честен. Неверен, но честен. Что значит — красивее, лучше?
Омар Хайям никогда не любил только ради утоления похоти. Это недостойно человека. А если это настоящая любовь, она не может быть «лучше» или «хуже». Любовь есть любовь! Это нечто данное свыше, нечто ниспосланное аллахом…
Эльпи ловит каждое его слово. И соглашается:
— Наверное, так… Я это поняла у тебя и с тобой. А раньше казалось, что это не так. Разве любовь не есть товар, такой же, как тюки хлопка или кусок золота? Разве нельзя ее продать или купить? Я и сама знала, что можно. Но ты, господин, научил еще кое-чему. Ты сделал меня своей рабой. Это прекрасное рабство…
Хаким растроган этим признанием. На радостях пьет чашу. Если угодно, он прочтет ей стихи про любовь. Но только на фарси[39]. Она понимает что-либо в фарси?
— Не важно, — говорит Эльпи. — Я хочу слышать твой голос.
И Омар Хайям начинает читать. Нараспев. Совсем как поэты в Ширазе. Но для него важна не музыка, а самый смысл. И он читает скорее для себя, а не для Эльпи. Ему сегодня нужна поэзия. Сегодня он особенно чувствует неразрывную связь с нею. Что было бы, если б не стихи? Тогда, может быть, аллах придумал бы еще что-нибудь такое же прекрасное? И надоумил бы человека жить тем, что было бы равносильно поэзии?
Он читал долго. Увлеченно. Низким голосом. Негромко. Как будто бы задушевно беседуя. Но с кем? Разве Эльпи способна оценить сочетания слов, подчас имеющих не один, а два смысла? Подчас намекающих, на что-то незаметно указующих.
Этот во многом скрытный господин как бы преображается, читая стихи. Весьма возможно, что даже свои стихи… И когда Омар Хайям прерывает чтение, чтобы глотнуть вина, Элъпи осторожно задает вопрос:
— Это не твои стихи?
Он отвечает уклончиво в том смысле, что любителей писать стихи очень много. И что он, хаким, часто путает свои с чужими. И тихо смеется…
— Но ты любишь стихи. Признайся.
— Люблю.
— Больше своих звезд?
Он в затруднении. Как всегда, он желает быть предельно откровенным, если это возможно. Здесь не дворец и не базар, где тебя могут подслушать чужие, недоброжелательные уши… Поэтому возможно. И он говорит:
— Как тебе сказать, Эльпи? Звезды — это моя работа, моя жизнь. Я бы умер без них. Но умер бы еще раньше без стихов. Они тоже жизнь. Ты меня понимаешь? Вот мы едим хлеб. Мы пьем воду или вино, иногда шербет. Это тоже — но правда ли? — жизнь. Так и стихи. Человек не может без них. Можно представить себе жизнь без Фирдоуси? Думаю, что нет, нельзя! Вместе с воздухом, которым дышит человек, он впитывает в себя и поэзию. Вот ты могла бы прожить без поэтов?
— Могла бы! — задорно отвечает Эльпи.
Он мягко зажимает ей рот. И говорит:
— Помолчи, Эльпи. Не произноси слово, прежде чем не подумала. Нет, нельзя без Фирдоуси жить! Поэзия и жизнь — это одно целое.
— Возможно, — соглашается Эльпи, поднимая ногу и направляя ее к небу. — Так же, как эти звезды?
— Прекрасная указка, — восхищается Омар Хайям. И покрывает неторопливыми, горячими поцелуями ее ногу…
— Можно ли жить без женщин? — спрашивает он и отвечает: — Нет, нельзя. Можно ли жить без поэзии? Нет, нельзя. Говоря о человеке, мы не можем расчленить его без того, чтобы не умертвить его. То есть нельзя у человека оторвать голову или вынуть сердце. Ибо нет без них жизни! Лишить человека поэзии — значит лишить его души.
— Наверное, это так, — говорит Эльпи. — Тебе это лучше знать.
— Я ставлю знак равенства, — продолжает хаким, — между любовью и хлебом, между любовью и вином, между любовью и воздухом. Правда, зверь живет и без поэзии… Ему достаточно куска мяса и глотка воды. А человеку?
— Это для меня сложно, — лениво произносит Эльпи. — Но я привыкаю к тому, что ты во всем прав. Если даже ты продашь меня кому-нибудь или уступишь другому, то и тогда я не обижусь на тебя. Ибо ты прав во всем. Я хочу, чтобы ты не был обременен моей любовью. Любовь всегда приятна, если она легка, однако тяжесть ее невыносима.
— Ты так думаешь?
— А ты?
— Мне кажется, Эльпи, что истинная любовь всегда легка. Она живет вместо с тобою, она рядом, она в тебе, во всем твоем существе. Подобно поэзии.
Она нежно гладит его бороду. Потом проводит ладонью по его лбу, который горяч, как камень на солнце.
За окнами брезжит рассвет. Небо принимает желтоватую окраску. Звезды блекнут на его фоне. Скоро совсем погаснут. Но тут же загораются другие звезды: ее глаза. И выбор приходит сам собою: свет двух этих звезд неотвратим…
23
Здесь рассказывается о том, почему Омар Хайям обеспокоен судьбою календаря «Джалали»
Да будет известно, что после одной из бесед с его превосходительством главным визирем, касавшейся астрологических предсказаний, хаким Омар Хайям попросил разрешения задать вопрос. Главный визирь Низам ал-Мулк сказал:
— Спрашивай, уважаемый хаким.
Беседа проходила в саду. Визирь сидел на мраморной скамье перед бассейном с чистой, как слеза, водою. А хаким Омар Хайям был совсем рядом, и скамьей служила ему сплетенная из камыша треножка, легкая для переноса и приятная для отдыха на тенистой дорожке или под деревом.
В саду стаями летали зеленые попугайчики и пели песни некие пичужки, населявшие густолистые кроны деревьев.
— Я слушаю тебя, — сказал визирь, — и говори смело, ибо здесь, кроме этих птиц и нас с тобою, ни души.
— Это не секрет, и скрывать мне нечего, — ответствовал Омар Хайям.
Визирь поглядел на небо, улыбнулся и проговорил:
— Положим, уважаемый хаким… Почему бы в таком случае не подарить мне в знак дружбы твои рубаи?
Хаким не сразу ответил визирю. Более того, будучи формально астрологом его величества, он мог уклоняться от этих своих обязанностей только благодаря заступничеству главного визиря. Именно Низам ал-Мулк, и только он, всегда выступал перед султаном в защиту хакима, когда его величество выказывал недовольство астрологом. Однажды султан сказал:
«Клянусь аллахом, астролог испытывает наше терпение. Я ценю его предсказания — тем больше, казалось бы, должно быть его рвение».
На что Низам ал-Мулк ответил:
«Это верно, твое величество. Но если кого и надо бранить за нерадивость уважаемого хакима, то только меня».
«Почему же тебя?» — удивился султан, чье полное имя было Джалал-ад-Дин Малик-шах.
«Я разрешил ему, полагая, что ты не будешь разгневан этим, больше внимания уделять составлению календаря, называемого в твою честь «Джалали».
«Ах да, — вспомнил султан, — ты мне говорил об этом календаре. Где же этот календарь?»
«Вместе с астрономическими таблицами он будет преподнесен тебе».
Султан нахмурился:
«И мы должны будем жить по новому календарю?»
«Да, — ответил визирь. — Ибо он точен, ибо он нов и более приличествует твоему правлению».
«А что скажут они?» — султан указал на дверь, но при этом имел он в виду врагов своих.
«Они будут твердить заученное, — сказал визирь, — независимо от того, появится ли у нас новый календарь или время будет отсчитываться по старому».
«Надо подумать», — сказал султан.
Главный визирь приложил правую руку к сердцу и склонил голову.
Разговор о календаре между султаном и его главным визирем состоялся давно, но с тех пор мало что изменилось. Хаким Омар Хайям и его сотрудники вносили в календарь все новые и новые изменения и уточнения и жили надеждой, что рано или поздно султан потребует их к себе…
Что нового мог сказать хакиму главный визирь?
— Я полагаю, — заметил он, — что астрологу его величества положено хотя бы время от времени показываться на глаза своему господину.
— Ты имеешь в виду его величество?
— Да, — сказал визирь. — Он господин наш.
Хаким встал.
— Твое превосходительство, — сказал он тихо, — ты знаешь мое мнение об астрологии. Каким бы удачливым я ни казался в этой области, судьба человека — любого! — решается здесь, на земле, а не в небесах. Я клянусь тебе в этом и даю голову на отсечение, если это не так!
Низам ал-Мулк смотрел на воду, которая время от времени слегка морщинилась под дуновением ветерка.
— Светила движутся вокруг Земли, — продолжал горячо хаким, — согласно законам природы…
Это последнее слово резануло слух его превосходительства. Он скривил рот, почесал правый висок.
— Природы? — недовольно произнес он. — А что ты оставляешь аллаху?
— Очень многое, твое превосходительство: сотворение мира, всего сущего. И это так! Только так! Разве этого мало?
— Мало, — сказал визирь. — И Газзали доказывает это.
— Твое превосходительство… — Хаким сжал кулаки. — Это имя вызывает во мне глубокое возмущение. Нет ничего легче, чем взять в руки священную Книгу и обвинять всех в невежестве и отступничестве от нее. Но книга, как бы ни была она священна, остается книгой, а жизнь идет особым чередом, подчиняясь особым законам.
— Мало оставляешь аллаху, — упрямо повторил визирь. — Газзали все время твердит об этом.
— Я еще раз говорю: нет ничего легче этого. И голова у такого рода ученого никогда не болит. Самое большое, на что он способен, — это трясти бородою…
Визирь любовался водою, но не пропускал мимо ушей ни единого слова хакима.
— А теперь скажи откровенно, твое превосходительство: сколько их трясло бородами и ушло из этого мира, так ничего и не доказав, но зато причинив немалый вред?
— Я понимаю тебя так, уважаемый хаким: аллах сотворил мир, а мир этот живет с тех пор по своим законам…
— Законам природы, — дополнил хаким.
— Скажем так… Но что же теперь остается делать аллаху?
Визирь спрашивал серьезно. Ибо на этот счет был другого мнения, чем хаким. Может быть, этот Газзали в чем-то перехлестывает, может быть, Газзали требует расправы, что не подобает ученому, истинному ученому? Разве не писал Газзали письма его величеству, всячески понося Омара Хайяма и требуя смести с лица земли рассадницу всяческой ереси — исфаханскую обсерваторию? И он добился бы своего, если бы не главный визирь. Ибо Газзали не один. У него тысячи последователей и единомышленников. В этих обстоятельствах требуется большая осмотрительность, большое умение, чтобы не сказать ловкость.
— Твое превосходительство… — Хайям садится на свою плетенку. — Я это могу сказать только тебе и никому больше. Только просвещенный ум способен поверить словам, которые я сейчас выскажу. — Хаким сделал паузу. — Я каждую ночь — или почти каждую — изучаю небо. Я залетаю взглядом до самых высот хрустального свода. И я прихожу к выводу, изучив вращение Солнца и Луны вокруг Земли и вращение Земли вокруг своей оси, к одному выводу: нет единого закона природы, но есть множество, и один гармонично вытекает из другого. Один есть следствие другого. Я в этом нахожу подтверждение великим мыслям моего учителя Абу-Али Ибн Сины. Он, и только он, говорил правду, а я всего лишь подтверждаю его слова делами науки.
— Газзали обвиняет тебя в богохульстве…
— Не только.
— В отрицании всяких деяний аллаха.
— Это неправда! Он врет.
— Газзали вопит: мир в опасности, Омар Хайям уводит нас к безбожию!
— Это неправда, — возразил хаким. — Я говорю, я утверждаю: мир создан аллахом.
— А дальше?
— Аллах сделал великое дело…
Его превосходительство прочитал некие стихи. Наизусть. Стихи о том, что аллах создал землю, небо, моря; аллах сотворил человека, дал ему дыхание; и тот же аллах создал невероятное — смерть. Зачем? Чтоб погубить свое же творение? Разве умный так поступает?..
Прочитал стихи визирь и посмотрел в глаза хакиму. Он ждал, что скажет Омар Хайям.
— Твои? — строго спросил визирь.
Омар Хайям молчал.
— Я спрашиваю тебя, уважаемый хаким.
Омар Хайям вздохнул. И сказал, вздыхая, словно бы сожалея о чем-то:
— Да, мои, твое превосходительство.
— Ты их давал кому-нибудь?
— Нет.
— А как же они попали ко мне?
— Я этого не ведаю.
— Я никому не поручал добывать их.
— Значит, принесли тебе мои недруги.
— Их прислал сам Газзали.
— Стихи пишу только для себя, — сказал хаким. — Глупо писать стихи после великого Фирдоуси.
— Понимаю твою скромность. — Его превосходительство говорил озабоченно и доброжелательно. — Твои враги, уважаемый хаким, не дремлют. Они жаждут твоей крови. Ты это знаешь?
— Да?
— Зачем же ты даешь им в руки оружие, которое они обращают против тебя?
— Это получается против моей воли. — Хаким добавил: — Как и у тебя, твое превосходительство.
Визирь вздрогнул, словно услышал нечто удивительное. Он скрестил руки и грозно спросил:
— А как это получается у меня?!
— Не знаю. Но врагов у тебя еще больше, чем у меня. И они тоже жаждут твоей крови. Я это не раз говорил и хочу, чтобы ты долго, долго жил, долго здравствовал здесь, у трона. Это великое благо для нас.
Визирь, вспыхнув, быстро успокоился. Подергал себя за бороду. Покашлял, будто у него вдруг запершило в горле. И сказал ровным голосом, как о деле давно известном:
— Это верно: врагов у меня много! Увы, против моей воли. Но отступать нельзя! Если хочешь руководить большим государством, всегда приходится рисковать. Над нами его величество, а над ним сам аллах. На нас устремлены острые взоры того и другого. А еще глядят на нас тысячи глаз наших подданных. Есть среди них люди благоразумные, но есть и разбойники. Вроде Хасана Саббаха. Он спит и видит меня в могиле. Однако руки у него коротки. Он слишком бешеный, и в этом наше счастье. Кто может поверить его бредовым речам? Кто?!
Хаким решил, что в данном случае благоразумнее промолчать. А как с календарем? Вот к календарю и надо повернуть разговор…
Его превосходительство признал, что не всем нравятся его действия. Не все довольны правлением его величества. А все ли довольны учением Мухаммада? Разве все почитают его должным образом? Разве полностью искоренены семена безбожия и ереси?
Стая зеленых попугайчиков вдруг разом взлетела с большой зеленой ветки и, покружив над садом, уселась на соседнее дерево. Попугайчиков было множество, и они произвели большой шум своими небольшими крыльями и резкими голосами.
Визирь удивился, прекратил свою речь и спросил хакима:
— Можно подумать, что птицы эти взлетели сговорившись. Но мы не слышали голоса их предводителя. Ведь должен быть у них предводитель? А?
Хаким сказал, что, вполне возможно, кто-то и подает им знак, но кто? И каким образом? Голосом? Взмахом крыла? Или еще каким-либо иным способом? Он признался, что специально не занимался этим, но что, если это интересует главного визиря, хаким попытается ответить на этот вопрос позже, после обдумывания.
Визирь махнул рукой:
— Не будем морочить себе голову повадками глупых птиц. У нас и без этого много дел и хлопот.
Тут было самое время ввернуть словечко по поводу календаря. И это сделал хаким с большим умением и тактом. Он сказал, что много времени отнял у его превосходительства. Что время главного визиря расценивается на вес золота, что не надо лишними разговорами отвлекать его превосходительство от важных государственных дел. И что если он, хаким, посмел заговорить о календаре «Джалали», то только потому, что календарь и его введение в обиход представляется лично ему, хакиму, делом большой государственной важности. Да будет известно милостивому и большого ума визирю, что календарь «Джалали» давно составлен и неоднократно выверен. Попутно, точнее одновременно, составлены астрономические таблицы и проверены многие данные о светилах, дошедшие от древних, в частности от Птоломея. Календарь «Джалали» очень и очень точен. Дело заключается в измерении промежутка от одного весеннего равноденствия до другого, с тем чтобы календарь по возможности устранял неточности. За тридцать три года — это промежуток времени — должно быть четыре високосных года через каждые семь лет и один високосный год через пять лет. При таком чередовании лет получается ничтожно малая разница, скажем в восемнадцать — двадцать секунд.
— Секунд? — вопросил визирь.
— Да, твое превосходительство.
— И такая точность, по-твоему, необходима?
Хаким ответил:
— Его величество распорядился составить точный календарь. И мы не могли ослушаться его. Мы не могли подвести нашего великого покровителя, каким являешься ты, твое превосходительство.
Визирь снова залюбовался чистой водою бассейна. Гладкое дно просвечивало со всеми малейшими подробностями сквозь пятилоктевую толщу воды. Бассейн манил к себе. И он был целебным и спасительным в пору зноя…
— Хорошо, — сказал визирь. — Я поговорю с его величеством, я посоветую ему ускорить введение нового календаря. Ты его назвал «Джалали»?
— Да, твое превосходительство.
— Это хорошо, но ты должен представить, уважаемый хаким, некоторые трудности, с которыми будет связано введение календаря.
— Все трудности и пути их обхода в твоих руках.
— В его руках, — поправил визирь и указал на небо.
— Я слишком утомил тебя своими разговорами, — сказал хаким. — Я не смею больше…
Низам ал-Мулк, который был старше хакима чуть ли не на три десятилетия, выглядел прекрасно. Голова его была ясна, осанка вовсе не старческая, плечи крепкие, ноги выносливые. И хаким подумал, что много еще добрых дел суждено совершить его превосходительству.
Визирь встал, направился вместе с хакимом к другой, противоположной стороне бассейна. Шел он неторопливо, размеренным шагом, о чем-то думая. Визирь подвел хакима к самому краю бассейна.
— Ты видишь дно? — спросил он.
— Да, вижу.
— Оно чистое?
— Вполне.
— А толща воды какова? Светлая?
— Очень светлая, твое превосходительство.
— А теперь взгляни наверх.
Хаким запрокинул голову и увидел бирюзовое небо. Это был великолепный купол над Исфаханом, купол, какого и не вообразишь, если не запечатлелся он в твоих глазах хотя бы единожды.
— Ты видел это дно и любовался этим куполом. — Визирь указал на бассейн, а потом поднял руку кверху. Говорил он торжественно и чуть нараспев, как поэт. — Что тебе приходит в голову? О чем твоя мысль?
Хаким не сразу сообразил, чего от него ждут. Чтобы не смущать ученого, его превосходительство сам ответил за него:
— Первая мысль — о величии аллаха. Вторая мысль — о повседневной животворной силе его. И третья мысль — все от аллаха — и сегодня, и во веки веков!
Сказал и отпустил хакима.
24
Здесь рассказывается о неких заговорщиках
Сегодня Хусейн находился в кругу своих истинных друзей. Сегодня, как ему казалось, мог дать полную волю своим словам и усладить слух свой правильными речами.
Началось с того, что неистовый Хусейн заявил, как и там, у Али эбнэ Хасана, что намерен убить подлого совратителя хакима Омара эбнэ Ибрахима. Того самого, который ведает обсерваторией, что за рекою Зайендеруд, и который, по слухам, является надимом его величества.
Наверное, это небольшое сборище можно было бы назвать шайкой. Однако все дело в том, что цели, которые ставились и обсуждались здесь, нравились кой-кому. Поэтому слово «шайка» не совсем точно в данном случае. Эти молодые люди представляли собою самое крайнее крыло исмаилитов. Были они особенно нетерпеливы и беспощадны. Даже сам Хасан Саббах осуждал таких.
Когда Хусейн произнес имя хакима, хмурый волосатый молодой человек по кличке Тыква спросил:
— За что ты хочешь наказать его?
— Он отбил у меня любимую. Купил. Любимую Эльпи. Румийку.
У Тыквы была большая голова и брови нависали над глазами, словно козырек над входной дверью, и глаза были округлы и хищны, как у филина. А лицом был рыж и угрист. Он криво усмехнулся.
— А как же еще отбивают женщин? Ясно же — деньгами.
— Нет, — возразил Хусейн, — не просто мошной, а нагло, хорошо зная, что она моя.
— Если твоя, бери ее, — резонно посоветовал Тыква.
— Это не так-то просто, — сказал Хусейн.
— Почему?
— Потому что хаким держит ее на запоре.
Двое головорезов по кличке Пловец и Птицелов поддержали Хусейна: уж очень не терпелось им перерезать кому-нибудь горло. А вот Джафар эбнэ Джафар, не желавший скрываться под кличкой, сказал, что есть у него свое особое мнение. Это был сухощавый молодой человек. Глаза у него навыкате. Лоб не по годам морщинист. Приплюснутый нос и большие жилистые руки со вздувшимися венами.
Он сказал, что противно слушать слова Хусейна. Про какую-то там шлюху и ее престарелого любовника. На протестующий жест меджнуна он ответил испепеляющим взглядом. «Это еще что?! — говорил его взгляд. — Что за благоглупости в это тревожное время? Разве перевелись женщины? Разве свет сошелся клином на какой-то Эльпи? Затевать глупую ссору из-за румийки? Да пусть будет даже ихняя богиня!»
— Не будем морочить друг другу голову, — хрипло произнес Джафар эбнэ Джафар. — Лучше займемся настоящим делом.
Его отец был великолепным чеканщиком. Да и сам Джафар неплохо чеканил по меди и железу. Но больше помогал отцу. Самому было недосуг — его занимало кое-что поважнее. Его знали в тайных кругах исфаханских исмаилитов как человека крайних действий. Поэтому можно было понять Джафара эбнэ Джафара, когда он осадил меджнуна. Что такое меджнун в его глазах? Недотепа, несмышленыш, кобель. Вот кто меджнун! И он все это высказал в самой резкой форме Хусейну и своим друзьям.
Джафар вытащил из-за пояса кривой дамасский нож и всадил его в земляной пол. По рукоять.
— Тот, кто разгласит наши разговоры, получит этот нож. По самую рукоятку, — мрачно заявил он.
Впрочем, это была обычная угроза исмаилитов на их сходках. Надо отдать должное: свое слово они держали. Будь это брат их или отец, приговор приводился в исполнение. Таким образом поддерживалась дисциплина в их немногочисленных рядах и обеспечивалась сохранность тайны. Соглядатаи Малик-шаха и его главного визиря не всегда улавливали подспудные действия исмаилитов, и слухи об их коварстве и жестокостях вызывали недоверие. Между тем все шло своим чередом: исмаилиты тайно собирались, тайно обсуждали свои действия, тайно грозили султану и его главному визирю.
Джафар эбнэ Джафар обратился к Хусейну с таким вопросом:
— Что сейчас самое главное в твоей жизни?
— Эльпи, — не задумываясь, ответил тот.
Джафар сделался мрачнее тучи.
— Тыква, вразуми его, — сказал он.
Тыква проблеял несколько слов насчет того, что любовь в такое, как нынешнее, время только помеха. У него был тонкий голос, и говорил он нараспев, опасаясь, чтобы легкое заикание, которое порою возникало у него, не вызвало смех.
— Можно подумать, — говорил Тыква, — что одна румийка, какая бы раскрасавица ни была она, заменит тебе солнце и луну. Но это совсем не так! Слышишь, Хусейн? Давай доведем свои замыслы до конца, и тогда не только румийка, но и весь Кипр будут ползать у твоих ног. Слышишь, Хусейн?
А Хусейн сделался как чурбан: сидит не дышит, не шевелит ни единым пальцем, застыл как неживой. Он, наверное, не ожидал такого приема у друзей. Он к ним со своими горестями, а они окатили холодной водой. Плюнуть на все и удалиться? Но как жить без друзей, с которыми обменялся клятвой и каплями крови?
— Поймите, я вроде бы убитый, — пробормотал Хусейн. — И от чьих рук? От руки этого ученого звездочета. Он издевается над нею и надо мною, у меня уйма друзей, а я, значит, вытираю мокрые глаза и остаюсь с позором? Так, что ли?
Тыква и Пловец хотели было успокоить его, но Джафар эбнэ Джафар с присущей ему прямотой сказал:
— Да, да! Просто-напросто утираешься. Рукавом. Как после плевка. Это тебе понятно?
Хусейн скорбно молчал.
— Если непонятно, — продолжал Джафар, — слушай меня. И запоминай каждое слово. А эту шлюху выкинь из головы. Мы в этом поможем.
Пловец и Тыква согласно закивали головами.
— Значит, так…
Джафар прислушался: все ли спокойно? Поманил своих друзей поближе к себе, а нож воткнул еще глубже, на самую малость, ибо он и так уже вонзился по рукоятку.
— Он… — Джафар поднял указательный палец кверху, — он сказал, что время действовать. Может, этой ночью, а может…
— Действовать кому? — спросил Хусейн, все еще пребывая в подавленном состоянии.
— И тебе тоже! — рявкнул Джафар. — Проснись, Хусейн! Ты понял меня?
Хусейн горестно вздохнул. Он сделал вид, что понял все. А на самом деле перед его глазами как живая стояла Эльпи. Он видел только ее, а голос Джафара доносился откуда-то издалека.
Джафар схватился за голову, словно опасался, что она вот-вот лопнет. И, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил:
— Жизнь наша подходит к черте. Шла она по одному руслу, а теперь пойдет по другому. Что сказано в священной Книге? «Он — тот, кто сотворил небеса и землю в истине; в тот день Он скажет: «Будь!» — и она бывает». Вы слышите меня?
Да, друзья слышали. Даже Хусейн. Особенно поправилось ему слово «будь!». И он выпрямился, сутулость его пропала, он взял чашу и выпил вина и запил водою. «Будь!» Он посмотрел на нож, глубоко сидящий в земле, и кое-что отметил про себя. Ведь подобный нож может пребывать не только в земле. Есть место и в груди. В чьей-нибудь отвратительной груди!
А между тем Джафар эбнэ Джафар, глубоко убежденный в своих словах, говорил далее:
— В каждом из нас течет кровь, и каждый из нас есть сын своей земли. И над нами — сила священной Книги. Но не та сила, которую пытаются изобразить суннитские муфтии, а сила истинная, которая правит всеми нами и руководит нашими помыслами. Разве свобода не есть порождение учения пророков? Разве Исмаил жил не для того, чтобы сказать нам словами аллаха: «Будь!» Это не простое слово!.. Хусейн, о чем ты думаешь?
— О слове «будь!», — не солгав, сказал Хусейн.
— Прекрасно! — И Джафар продолжал свое: — Я говорил с ним. Я имею в виду вождя нашего. Его беседа была столь же живительна, сколь мила вода Зайендеруда для пустынной земли Исфахана. Он спросил: «Нет ли колебаний в рядах ваших?» И я ответил: нет! Потому что это так. Или, может, я ошибаюсь?
Пловец сказал грубым голосом землероба, грубым голосом человека, которого родила земля:
— Нет, ты не ошибаешься. И он не ошибается. У меня спрятано десять ножей из дамасской стали. Я наточил кинжал, который ковали в Ширазе. Есть и исфаханские клинки. Они не уступают дамасским! Это говорю я! Когда протрубит труба, я буду готов. Со мною будут многие. Мы ждем только слова аллаха. Мы ждем этого «будь!».
А потом они мирно ели ломти тонкого хлеба и запивали вином и водою. А потом еще долго молчали. А у бедного меджнуна все кипело в груди. Как в казане, поставленном на жаркий огонь. Он сказал себе, что будет ждать этого сигнала: «Будь!» Он дождется его. И сделает по слову этому…
Джафар эбнэ Джафар перешел далее к спокойному, но строгому суждению.
Его родители жили в горах Эльбурса, они были далеко и высоко. Только он один, отщепенец в роду, отбился от рук, уехал из родных мест и посвятил себя священной борьбе за дело Исмаила. Ибо оно казалось ему главным в жизни. И не только своей, но и в жизни всех людей на свете. Это же ясно: что самое важное? Свобода. Что более всего необходимо человеку? Земля. Чего жаждет всю жизнь крестьянин в пустыне? Воды. Каким же образом можно добиться этого? Через покорность? Покоряясь аллаху и господину, Мухаммаду и султану с его визирями? Как бы не так! Что завещал Исмаил?..
Друзья молча слушают Джафара эбнэ Джафара. Почтительно. Не перебивая. Усваивая все сказанное им. Хотя все это не раз слышали от Джафара и от других фанатиков-исмаилитов.
— Вот ты, — обращается Джафар к Хусейну, — души не чаешь в этой шлюхе. Аллах с тобой! Люби кого хочешь! Тебе никто не мешает. Но вот что: ты полюбил ее, она — тебя, а вместе вы рабы, живущие безо всякого просвета в жизни. Ты понял?
— Да.
— Разве это жизнь? Разве это любовь?
— Нет, — отвечает Пловец вместо Хусейна.
— А теперь представь себе: ты вполне свободен, она вполне свободна. Тобой никто не помыкает. Ее никто не продает, как вещь. Ты можешь представить себе это?
— С трудом, — говорит Хусейн.
— А почему с трудом?
Хусейн не знает. Пловец тоже. И Тыква тоже. Разные бывают люди: одни соображают быстро, а другие тугодумы. Разве не так?
— Отчасти, — возражает Джафар. — Отчасти, потому что привыкли к рабской жизни. — И он поочередно тычет пальцем в грудь каждого из своих друзей.
Пловец молчит. А Тыква согласно кивает головою.
Что же до Хусейна, тот не может ответить на это однозначно, то есть словами «да» или «нет».
Разъяренный Джафар вскакивает с места. И грозится кулаками.
— Вы истинные рабы! — орет он в неистовстве. — Потому что даже здесь не смеете открыто признаться в этом. А чего, собственно, боитесь? Доноса? Но кто из нас донесет? Неужели я? Неужели Тыква? Или ты, Пловец? Или сумасшедший меджнун? Кто? Я спрашиваю!
Хусейн говорит:
— Надо разобраться. Я, к примеру, посылаю к шайтану любого, кто вознамерится понукать мною. Я не разрешу, слышите?
Джафар хохочет. И хохоча говорит:
— Несчастный, ты раб давно! Давным-давно! От рождения. И незачем скрывать это. Ты раб не только султана, но и своей собственной страсти. Ради пары спелых грудей ты готов забыть о своем рабстве. Да, да, да! И не смей возражать!
Джафар стоит изогнувшийся, точно тигр перед прыжком. А на кого, собственно, прыгать, кого разрывать на части? Своих собственных друзей?
Хусейн недовольно пожимает плечами и отламывает хлеб. Что спорить с этим одержимым? Ясно же, одержимый!
— А ты? — обращается Джафар к Пловцу. — Может, ты поговоришь с визирями? Расскажешь, как тяжело ловить рыбу в Зайендеруде и кормить семью, а?
— Это верно, очень трудно.
— Ведь и слова не те! — зло говорит Джафар. — Слова должны жечь! А ты? Какие слова исторгают твои вялые уста? Какие?
Пловец пытается оправдаться:
— Я же говорю… То есть я не говорю, что волен жить как хочется. И голод к тому же… И всякое такое…
— По-моему, это называется нищенство.
— Может, и так.
— Дураки! — сердится Джафар. — Дураки! Вы ничему не научились. — Он нагибается, хватает чашу, пьет ее до дна. Потом выдергивает нож из земли, левой рукой подымает подушку, на которой сидел. — Глядите! Вот этот негодяй. Вы знаете, кто он. Я даже не хочу называть его имя. Это противно! Мой язык не на помойке найден, чтобы произносить ненавистные имена! Одним словом, вот он!
Джафар высоко поднимает подушку, еще больше выкатывает глаза и вонзает нож в подушку. Джафар подкидывает подушку к потолку. И сыплется пух. Много пуха. Словно бы снег идет в горах Эльбурса.
— Видали? — злорадно вопрошает Джафар.
Разумеется, все видели. Это же нетрудно…
— Теперь вы поняли, что все это значит?
Молчание.
— Вот так, только так следует расправиться с теми, кто во дворце. Запомните это. Там, а не в обсерватории главные наши враги. И так, только так надо разговаривать с врагами!
Джафар садится на место. С него катится пот. Дышит тяжело. И кажется, вовсе не замечает пуха, который разносится по комнате.
— Я очень зол, — признается Джафар эбнэ Джафар. И ни на кого не глядит. Уткнулся взглядом в землю.
Хусейн вылавливает пух из наполненной чаши. Его примеру следуют Пловец и Тыква.
— Выпить, что ли? — улыбаясь, спрашивает Джафар, как будто ничего не случилось. И уже совсем успокоившись: — Все произойдет по Писанию. Это слово, о котором я говорил, скоро прозвучит и достигнет ваших ушей. И тогда важно, чтобы вы не оплошали. — И обращаясь к Хусейну: — А потом ты найдешь возможность и время рассчитаться с любимой за ее неверность. Надо начинать с главного. Ты понял?
У Хусейна на уме только одно: «Эльпи, Эльпи, Эльпи…»
— Учтите, — предупреждает Джафар эбнэ Джафар, — кинжал имеет два лезвия. И оба они острые.
Что это значит? И друзья его переглядываются: не их ли касается угроза?
25
Здесь рассказывается о дервише, который держал речи на исфаханском базаре
— Я скажу вам нечто!..
— Нельзя ли потише?
— Я должен выразить словами то, что накипело на душе!..
— А зачем так кричать?
— Я не кричу. Я только желаю, чтобы слышали все.
— А мы не глухие.
— И поняли бы все!
— Мы не полоумные.
— И зарубили бы себе на носу!
— Ну уж это наглость…
— Я никого но боюсь!
Стоит дервиш на исфаханском базаре посреди мясных рядов и потрясает руками. Он кривой на левый глаз. Одежда на нем изрядно потрепана, неопрятна. Держит в руке посох и горланит на весь базар.
Мясники — народ степенный и состоятельный. Потрошат себе баранов и не очень обращают внимание на дервиша-крикуна. Однако, как ни говори, толпа есть толпа: она любознательна, ей хочется послушать дервиша, если у того есть что сказать. А по всему видно, что есть: не станет же орать, если за пазухой пусто!
Иные мясники побросали работу, обступили дервиша. А один из них попытался урезонить наглеца. Только из этого ничего не получилось: стоит себе дервиш, чуть не рвет на себе волосы и продолжает привлекать к себе внимание выкриками и жестами.
Потом к мясникам присоединились зеленщики. Думают про себя: «Наверное, святой человек, надо бы его послушать».
А что случилось? На что глядеть? Как этот дервиш надрывает себе глотку? Или потрясает посохом в воздухе? Когда приезжает с Востока укротитель змей — это зрелище. Когда хаджи, побывавший в Мекке и Медине, рассказывает о разных чудесах — это успокоение для души. А что угодно этому дервишу? За то время, пока он орет, мог бы и поведать кое о чем…
Как ни говори, а на базаре в Исфахане — как на всяком базаре: падок народ на зрелища и всякие россказни. А почему бы и нет, тем более если за это денег не просят…
Один из мясников, дюжий молодец с огромным ножом в руке, дергает дервиша за грязный рукав. Дервиш огрызается:
— Чего тебе?!
— Ежели ты хочешь говорить, говори, — ответил мясник. — Сколько же можно кричать?
— А ты кто такой? — взвизгивает дервиш.
— Али эбнэ Хасан. Вот мое имя!
— Ну и что ты этим хочешь сказать?
— Чтобы и ты назвался, кто ты есть.
— Не торопись. Все узнаешь. — Дервиш приосанивается. Бьет посохом землю. — А ты знаешь, что такое буря в пустыне?
— Положим, нет.
— Ты знаешь, что такое мороз в Туране?
— Скажем, нет.
— А ты ел падаль?
Мясник корчит гримасу и признается:
— Нет, не едал.
— А я все это знаю. Это все у меня здесь! — И дервиш трижды ударяет себя рукой по шее, да так сильно, что язык вываливается наружу.
Дервиш потрясает кулаками. Исступление вновь охватывает его! Но не очень понятно окружающим, что, собственно, приводит его в исступление и на кого обрушивает он свой гнев. А то, что он гневается, видно даже слепому: того и гляди полезет в драку. А разве так ведут себя благочестивые дервиши?
Мясник-верзила желает выяснить, что надо страннику. Он обращается к нему вежливо, даже с некоторой долей почтения, ибо дервиш чем-то взволнован.
— Святой человек, — говорит мясник, — почему ты так негодуешь? Не проще ли облегчить свою душу и рассказать нам то, что хочется тебе рассказать? Ежели, разумеется, мы того достойны.
Дервиш вытирает потное лицо подобием рукава, от которого остались одни суровые нити.
— Ничего особенного я не скажу, — ворчливо отвечает дервиш. — Дайте мне воды, и я кое-что сообщу.
Кто-то подает ему чашку с водой — дервиш даже не взглянул кто. И не поблагодарил. Потом уселся на корточки. Его окружили плотным кольцом: были тут мясники, и зеленщики, и всякий сброд, посещающий базар и охочий до диковинок.
— Я иду из самой Бухары, — начал дервиш. — Не всегда меня брали караванщики, и тогда я шел по пескам, поджариваемый точно грешник в аду. Я пил горькую воду. Я пил и чистую воду. Ячменная лепешка была для меня слишком вкусна. Я хотел видеть мир, каков он есть. И увидел, доложу я вам.
Ему подали еще воды, потому что чувствовалось, что в горле у него пересыхает. Не то от волнения, не то от зноя.
— И вот что я скажу: много добрых людей на свете. — Дервиш слова эти произнес громко, почти выкрикивая их. — Но скажу и другое: немало отпетых негодяев, готовых причинить тебе зло. Эти душегубы шныряют и в пустынях, и среди людей. Знайте же: это шакалы в образе человеческом!
Дервиш рассказал о прекрасных городах, которые в этом обширном государстве. Бухара и Самарканд — чистые жемчуга. И Хива не уступает им. Нишапур и Балх — чудо-оазисы человеческой мысли и бытия. Исфахан и Багдад многое потеряли бы, ежели б не с чем было их сравнивать. Аллах устроил мир соответственно: красивое рядом с красивым, уродливое рядом с уродливым. И жизнь познается в сравнении. И тогда приходят на память слова из Книги: «Господи наш! Не уклоняй наши сердца после того, как Ты вывел нас на прямой путь, и дай нам от Тебя милость: ведь Ты поистине — податель!»
И жизнь построена так, как построена: аллах сделал все для этого, и мы, его песчинки, благодарим его, ибо он всемилостивый и милосердный!
Дервиш продолжал:
— Вот идешь ты. Шагаешь фарсанг за фарсангом, и на каждом клочке — его печать: добрая и милосердная. И думаешь ты о мире его, как бы сотворенном для счастья и довольства. А между тем душегубы и разбойники на больших дорогах пытаются разрушить эту гармонию. Пройдите по дорогам, исполните завет аллаха, как он сказал в Книге: «Странствуйте же по земле четыре месяца и знайте, что не ослабите аллаха и что аллах опозорит неверных!» Я испытал то, что испытал, и тяжесть этих испытаний у меня вот здесь!
Дервиш снова ударил себя изо всей силы по затылку, и язык у него снова вывалился наружу.
Слушающие его подивились силе слов его, и убежденности его, и оглушающему голосу. Но самое главное: смысл речей незнакомого дервиша оставался все еще темным. Непонятно было, к чему он клонит, в какую сторону его поведет. Будет ли это речь о смирении и долготерпении как лучших человеческих качествах, рожденных исламом, или же дервиш имеет сообщить нечто необычное, или же обвинит власть в терпимости к различного рода душегубам?..
Толпа все больше прибывала. И слова дервиша повторялись в задних рядах для тех, кто стоял еще дальше.
Дервиш кричал:
— Я повидал свет. Я видел мудрых змей в Индиях и людей, которые по месяцу лежат в могилах и выходят оттуда живыми. Я видел человека с двумя головами и на четырех ногах. Я жевал лист, от которого жизнь продлевается до скончания века. Я видел воду, горящую пламенем, и фонтан огня, бьющий из-под земли. Но я скажу одно: нет прекраснее страны, чем наша, и нет власти справедливее и могущественнее, чем та, которая дарована нам аллахом через его величество!
Люди немножко поразились. Они сказали про себя так: если ты решил хвалить власть, то зачем заламывать руки? Зачем исступленно орать на базаре? Кому не известно, что власть всегда хороша, что противники ее всегда душегубы? Для того чтобы прийти к такому выводу, к какому пришел дервиш, вовсе не надо собирать толпу на базаре. Такие речи можно смело произносить перед дворцом его величества.
Дервиш, как видно, почувствовал по движению толпы, что разочаровал ее. И тогда громогласно вопросил:
— Что я этим хочу сказать?
Даже те, кто хотел выйти из плотного круга, остановились, решив подождать, что же воспоследует за сим вопросом, таким многообещающим по интонации?
— Слушайте же меня внимательно, — сказал дервиш, протягивая руку за новой чашей воды. — Я вижу все и знаю многое. Мои уши привыкли различать походку муравьев, которая у них не одинакова. Мои глаза видят, как наливается соком былинка в степи. Я слышу голоса ангелов. И я хочу предупредить, ибо топор занесен, ибо кривой нож наточен, ибо камень висит над нами, готовый раздавить нас.
Толпа зашумела. Сзади стали напирать, и дервиш оказался в столь тесном кругу, что начал задыхаться. Он потребовал жестом, чтобы расступились немного. На это ушло некоторое время. И еще некоторое. И только после всего этого дервиш продолжал свои речи:
— Знайте же, правоверные, истинно сказано в Писании: «Тех, которые не веруют в знамение аллаха и избивают пророков без права, и избивают тех из людей, которые призывают справедливость, обрадуй мучительным наказанием!» Так сказано в Книге, и это справедливо стократ!
Дервиш достал из грязной сумки, висевшей у него на боку, несколько сушеных виноградин и сжевал их. И оживился. И стал кричать еще громче.
Мясник-верзила потребовал тишины, ибо в задних рядах зашумели.
Дервиш говорил:
— Что я видел в своих богоугодных путешествиях? Я уже говорил: процветающую землю и справедливость власти, данной аллахом его величеству. Порядок и справедливость, честность и благоразумие — вот что я видел. Что осталось от хаоса и душегубства прошлого? Почти ничего! Его превосходительство, наш благодетель главный визирь — да ниспошлет ему аллах долгую и счастливую жизнь! — сделал все для того, чтобы правление его величества сложилось самым лучшим образом, чтобы хотение его величества претворялось в жизнь. — Дервиш передохнул. — Но все ли так, как того желают его величество и его превосходительство? Я спрашиваю вас: все ли так? — И замолчал.
Кто-то крикнул:
— Все гладко не бывает!
И еще кто-то:
— Только в раю все прекрасно!
Дервиш подхватил:
— Верно и справедливо сказано. Но что из этого следует? А вот что: можно ли терпеть душегубов, которые открыто промышляют на больших путях, на улицах городов и великолепных базарах?
— Нельзя! — сказал дюжий мясник.
— А что же делается, правоверные?! — Дервиш снова потряс кулаками. — Вы только поглядите, правоверные! Некие головорезы, пренебрегая всеми наставлениями нашего великого пророка Мухаммада, бесчинствуют в городах и на дорогах. Я видел их: они готовы залить мир кровью для того, чтобы властвовать над нами. А зачем? Разве плохая у нас власть? Разве не чувствуем мы ее благодати повсеместно и ежечасно? Зачем втайне точить ножи? Неужели для того, чтобы снова разбойничьи шайки разгуливали по пустыням и степям и грабили и убивали?
Толпа замерла. Вопрос, обращенный к ней, был довольно неприятный: зачем ставить под сомнение власть всемогущего султана и его визирей? Какая в этом надобность? Но любопытно все же, кого имеет в виду этот дервиш и почему, собственно, он избрал местом своих разглагольствований именно этот базар?
И кто-то выкрикнул из толпы:
— Сам-то ты кто и что думаешь об этом?
Дервиш злорадно улыбнулся и чуть не разорвал одежду на груди своей:
— Я ничтожество, которое служит аллаху. Я вошь на этой земле. Я пыль пустыни. Вот кто я! А теперь скажу, что думаю, скажу без иносказаний, как учили меня в детстве. Душегубы, о которых говорю, — и вы это прекрасно знаете сами — асассины Хасана Саббаха. Это его наемные убийцы. Им ничего, кроме власти, не надо! И не думайте, что они очень уж чтут пророков. Это все россказни для благодушных. Это сказки для малолетних, для несмышленышей. Можете мне поверить! У них нет жалости, они ненавидят лютой ненавистью его величество, всех его визирей. И если угодно, и нас с вами ненавидят.
В толпе началось покашливание. Кое-кто предпочел удалиться, чтобы быть подальше от греха: сейчас этот дервиш ругает асассинов, а потом его вдруг занесет совсем в другую сторону. Кому охота ввязываться в этакие дела? Здесь наверняка присутствуют глаза и уши его величества, наверняка запомнят они всех, кто слушал странные речи о делах государственных… Вот почему надобно стоять подальше…
Между тем дервиш расходился вовсю: он клеймил жестоким проклятьем убийц, противников законной власти, превозносил мудрость его величества, заклинал всех, кто слышит его, чтобы прокляли асассинов и Хасана Саббаха…
— А ты их видел в глаза? — спросил дервиша мясник.
— Кого?
— Асассинов.
Дервиш расхохотался.
— Может быть, они за твоей спиною или перед тобою, — ответил дервиш. — Они, как вши, невидимы, но кусаются больно!
Мясник хотел было что-то возразить, но почел за благо промолчать.
— Ежели все, — продолжал дервиш, — ежели все вокруг повнимательнее осмотрятся, несомненно обнаружат присутствие асассинов, которых следует изловить и передать страже. Я слишком много перевидел их и знаю их душегубство.
Дервиш замолчал. И дал понять, что сказал все что хотел. Люди начали разбредаться, втихомолку обсуждая между собою услышанное.
А сам дервиш?
Он постоял немного на месте, потом двинулся нетвердой походкой туда, где варили говяжью требуху: ему хотелось есть.
В пустынном уголке базара, куда дервиша занесла естественная нужда, подошел к нему некий господин. Он преградил дорогу.
— Я слышал твои слова. О них уже известно главному визирю, — так сказал этот неизвестный господин. — Его превосходительство повелел передать эти деньги тебе, дабы ты достойно утолил голод и жажду.
И с этими словами неизвестный передал дервишу горсть серебряных монет. Дервиш мгновенно прильнул к его руке и поцеловал ее долгим, благодарственным поцелуем.
— Добрый человек, приходи вечером к дому его превосходительства главного визиря, — сказал неизвестный, — спроси Османа эбнэ Абубакара. Это буду я. А там увидишь и услышишь то, что пожелает всемогущий аллах.
Дервиш поклонился и еще раз поцеловал дающую руку.
— Передай нашему великому господину, — сказал дервиш, — эти слова из Книги: «В Твоей руке — благо. Ты ведь над каждой вещью мощен!»
— Передам, — пообещал Осман эбнэ Абубакар и исчез в базарной сутолоке.
Дервиш поворотился вправо и влево, осмотрелся и убедился в том, что нет поблизости свидетелей. И снова продолжил было путь, влекомый запахами требухи и жареного мяса. Но теперь он несколько изменил свое намерение, направив стопы в харчевню, где мясо и рис, где соленая рыба и фисташки, где подают настоящее масло из орехов.
Он шел, все еще горбясь и слегка стеная, как бы неся на своих плечах груз годов и тяжесть нелегкой судьбы. И борода его, такая белая и тонкая, покачивалась в такт шагам.
А кругом шумел базар. Мясники расхваливали почечные части баранов, призывали покупать дешевую говяжью требуху, зеленщики потрясали пучками изумрудных трав, мятных, острых, горьких, южане хвалили орехи, и соленую рыбу, и прочую диковинную снедь, добытую в океане.
Дервиш постоял немного на пороге харчевни, словно бы не решаясь войти, а на самом деле пытаясь выяснить, кто находится здесь: кто ест, кто блаженствует после сытного обеда, а кто незаметно наблюдает за посетителями.
Как бы искусно ни маскировался дервиш, в нем все-таки можно было признать асассина Зейда эбнэ Хашима, которого мы уже встречали в крепости Аламут у господина Хасана Саббаха.
26
Здесь рассказывается о сне, который привиделся Омару Хайяму
Это был сладкий сон. Как говорят в Хорасане, сладкий, как шербет. И пьянящий, как вино, сваренное на египетском сахаре. Вот какой это был сон!
Великий учитель Ибн Сина, говорят, утверждал в одной беседе с приближенными туранского хакана, что сон, приснившийся человеку, есть отражение яви, которая была или которая будет. То есть сон или сбывается (случается такое), или служит напоминанием о прошлых событиях. В последнем случае сон может быть также и предзнаменованием. Учитель говорил, что сон присущ людям, и чем они просвещеннее, тем более удивительными бывают сны. Вещие сны явление обычное, если только хорошенько разобраться в них.
Но кто скажет, какой мудрец откроет тайну этого сна?
Почему, например, Омару Хайяму не приснился судья судей имам господин Абу Тахир, который пригрел возле себя молодого ученого, и обласкал, и дал ему возможность углубиться в алгебру?
А почему не явилось в это утро хотя бы другое видение? Речь идет о правителе Бухары принце Хакане Шамсе ал-Мулке. Разве мало сделал для него добра? И не отсюда ли, из Бухары, еще дальше пошла слава об ученом Омаре Хайяме?
Нет, не приснился Омару Хайяму ни судья судей Самарканда Абу Тахир, ни бухарский принц. А явилась в сновидении некая туранка… Омар Хайям точно определил время, в которое приснился ему сон: перед самым восходом солнца, то есть перед тем, как вставать.
Некая сила, которую ученые индусы, живущие в горах, называют силою нервов и мозга, перенесла хакима в блаженные дни, проведенные в Самарканде. Как бы за занавеской прошли тени бухарского правителя, замечательного по уму самаркандского кади[40] и многих деятельных людей. Они прошли, словно бы уходя в небытие и не оставляя в сознании хакима никакого следа.
Та же самая сила нервов и мозга осторожно приподняла Омара Хайяма с ложа, и он поплыл, как по воде. Но это было не плавание, а скорее полет. Что-то сладостное подступило к гортани: то ли дух замирал, то ли пьянящий ветерок наполнял легкие. Всего несколько минут продолжался этот счастливый полет, и все та же сила нервов и мозга осторожно опустила хакима на изумрудную траву. Но дело не в цвете травы, схожей с изумрудом: сама трава была из настоящего изумруда. Каждая былинка выточена из этого драгоценного камня. Но она не ломалась. Нет, она мягко поддавалась тяжести и пригибалась к земле, как настоящая травинка.
И только вздохнул от такого блаженства хаким, как счастье его увеличилось вдесятеро: рядом с ним лежала туранка, любимая некогда хакимом. Это была молодая женщина, больше похожая на огонь, нежели на плоть, состоящую из мяса и костей. И, как настоящий огонь, умела она обжечь. Как огонь, умела она закалить своей любовью. Тот, кто однажды испытал ее страсть, навсегда оставался ее рабом, верным до могилы.
— О господин! — чуть ли не пропела красавица туранка по имени Ширин.
Хайям тотчас поцеловал колени ее, прекраснейшие из созданных когда-либо аллахом.
И было ему в то время двадцать три года. Был он ловок и красив, как джейран, и мужская доблесть его покорила не одну девицу из туранских степей.
Потом, воздав хвалу аллаху за неожиданную милость, он припал к грудям ее и пил из них некий сок, больше походивший на вино, чем на молоко.
Довольная Ширин обвила его шею руками. Но были это гибкие и сильные лозы, а не руки. И заглядывала Ширин в самую глубину его глаз…
Хайям был воистину заворожен. Хотел спросить: «Откуда ты, милая Ширин?» И не мог, ибо слова застревали в горле.
Он хотел знать: «Прошло столько лет, а ты все та же роза. В чем тайна сего?» И не мог: язык не повиновался ему…
И когда совершилось все по желанию Ширин, хаким проснулся и увидел зеленые кипарисы в окне. И небо за кипарисами увидел, и редкие зубья окрестных гор, и солнечный луч, розовый и горячий, на каменных вершинах…
Это было чудесное сновидение. Чтобы раскрыть его смысл, следовало определить, каково было положение главнейших светил в эту ночь.
Хаким собирался сделать это без промедления, хотя и не верил в те дни в небесные предопределения. Но бывают же порою минуты, когда мы слабее своих убеждений…
27
Здесь рассказывается о вечере, который навсегда останется роковым в памяти Омара Хайяма
Луна стояла высоко в небе, когда хаким покинул свой дом и направился к реке. Может быть, впервые в жизни он посетовал на необычайную лунность, которая нынче казалась совсем некстати. Правда, любовь не обходится без луны. Однако луна должна появляться в нужное время, но никак не раньше.
Хаким шел уверенной походкой. Невысок, негрузен, стройный и сильный… Он старался держаться в тени. Насколько это возможно…
Эльпи неохотно отпустила его. он сказал ей:
— Я же не впервые коротаю ночь в обсерватории.
— А сегодня на сердце неспокойно… — так сказала Эльпи.
И он было заколебался. Еще мгновение, и он, пожалуй, остался бы, но Эльпи отстранилась, поцеловав его.
— Иди, — проговорила она тихо. — Я буду ждать тебя всю ночь.
И он ушел.
У самой реки, которая серебрилась под луною настолько ярко, что казалась гигантским, тягучим сгустком голубого света, Омар Хайям пошел вверх по-над берегом. Это были довольно пустынные в ночное время места. Непреодолимая сила толкала хакима вперед, и он не думал ни о чем, кроме этой тюрчанки Айше. И хаким волновался так же, как волновался в двадцать лет. А может, даже больше. Он думал также и о той, которая осталась дома, но уколы совести были нынче легки, легче, чем когда бы то ни было…
За высокими глиняными оградами лаяли собаки. Иные просто скулили. Может быть, во сне. Хаким шел навстречу речным струям, субстанция которых нынче была сплошь лунною.
И вот наконец эта хижина. Это обиталище бедности и скудности, оболочка, как нельзя более естественная в этой жизни: за ее уродливыми формами скрывается сущий жемчуг.
Хаким стал в тени тутового дерева, слился со стволом. Вел себя как опытный меджнун: необузданно и одновременно осмотрительно.
Он размышлял:
«Там, за углом этой трухлявой хижины, дверь. За этой дверью, чуть подальше, еще одна дверь. Но не ошибиться бы, к Айше ведет именно вторая дверь. Впрочем, она сказала, что мать ее ночует у соседки. А почему? Сговор? Мать знает все и не предостерегает свою дочь, эту жемчужину? Или все тюрчанки такие легкомысленные? Или бедность толкает их на расчетливые свидания?.. А впрочем, какое все это имеет значение?.. Долго ли еще будет светить луна человеку по имени Омар Хайям? Долго ли будет бежать голубая река и ворковать по-голубиному?.. Хайям, неужели ты собираешься прожить более ста лет? Неужели ты можешь размышлять, когда за этой стеною сама Айше?..»
Хаким делает шаг, еще шаг и еще шаг. Это походка леопарда. Это шаги истинного меджнуна…
Луна отбрасывает на землю короткие, но густые тени. Оттого все окружающее, политое голубыми лучами, кажется особенно ярким. И сам хаким выглядит как бы отлитым из нефрита в своем прекрасном шерстяном одеянии и белой шелковой чалме, которая не шире обычной войлочной пастушеской шапки. И хакиму претит уж слишком любопытствующий, уж слишком нахальный свет, льющийся с неба. Он предпочел бы мрачную черноту…
У дверей постоял. Прислушался. Ему показалось, что кто-то дышит за ними, словно после быстрой пробежки. Ему почудилось, что и там, за тонкой деревянной перегородкой, бьется чье-то сердце, так же гулко как и его собственное.
Омар Хайям потянул на себя деревянную ручку, и дверь подалась. Она подалась легко и без скрипа. И черная полоска открылась, полоска шириною в два пальца и высотою от порога до притолоки. И из этой таинственной щели повеяло мускусом и жасмином. Он глубоко вдохнул эти запахи, и у него чуть закружилась голова.
Давно так не волновался. Женщины сделали его смелым и даже самоуверенным. Ему говорили, что он красив и статен. И слова свои подтверждали, подчиняясь всем его желаниям. Но сегодня он трусил. Как юноша, идущий на первое свидание.
Он еще раз прислушался: все было спокойно, собаки лаяли где-то далеко, река урчала по-прежнему, великий город спал спокойным и глубоким сном.
И тогда он рывком распахнул дверь, и лунный свет ворвался в черноту комнаты, которая была за дверью. И на пороге — или почти у порога — красовалась сама Айше в белом шелку от плеч до пят. Этот шелк подарил ей хаким, подарил, как и многое другое — багдадские духи и хорасанскую шерсть, нишапурскую бирюзу и хорезмские шелка.
Он шагнул в комнату и упал на колени перед нею. Она была красива, как неземное существо, и привлекательна своей земной плотью. Хаким обхватил ее бедра, а губами приник к животу ее. Она стояла недвижима, словно обнимали не ее, словно целовали жаркими поцелуями не ее, а другую. И жар поцелуев его проникал через нежную ткань шелка.
Он медленно опускался вниз. Его руки скользили по крепким ногам и ниже колен по икрам. И обхватили обе лодыжки, будто опасаясь, что Айше убежит. И приник он к великому роднику, прохладному и животворному, — к ногам ее. И целовал каждый палец. Целовал многократно.
Так они встретились в ее хижине — жалкой, убогой, единственным украшением которой была Айше.
И только потом, немного опомнившись, он прикрыл за собой дверь, а она помогла ему нащупать засов и тем самым прочно закрыть вход от непрошеных гостей.
В углу неярким светом мерцал светильник, тоже подаренный хакимом. И когда глаза немного привыкли к темноте после молочной белизны лунной ночи, он стал различать некие предметы домашнего обихода, а главное, увидел постель. Это была царская постель. Широкая, с большими подушками, щедро источающая запах жасмина. Белье сверкало даже в темноте, даже при слабом свете светильника. Оно было словно снег по чистоте и опрятности своей — чистейший снег на вершине Дамавенда.
И он приметил низенький круглый столик, вино и фрукты на нем, какие употребляют в Туране, и две подушки у стола.
Хаким сказал:
— Айше, я очень счастлив.
— Господин, — сказала вдруг осмелевшая Айше, — подкрепись вином и фруктами.
Она рассмеялась, и ему показалось, что это звенят переливчатые колокольчики исфаханской работы, серебряные с небольшой примесью бронзы, и пригласила меджнуна к столу. И когда они уселись на подушках, призналась:
— А я все-таки боюсь…
— Я тоже, — в тон ответил он. И вдруг, спохватившись: — А сюда никто не явится?
— Кто же? — ответила Айше. — Кто, кроме тебя и матери, посмеет переступить этот порог? А мать моя в гостях.
— Она все знает, Айше? — Омар Хайям и сам не понимал, зачем задает этот вопрос.
— Она сказала мне: вот настоящий мужчина, ибо трусит. — И снова рассмеялась все тем же смехом исфаханских колокольчиков. — А я решилась и почти не трушу.
Хаким снова повторил:
— Я очень счастлив. — А сам подумал: «Кто научил ее этим словам?»
Она налила вина. И они выпили: медленно, наслаждаясь вкусом его и ароматом, глядя друг на друга долгим, долгим взглядом и ведя разговор глазами.
И он сказал про себя: «Аллах, чем отблагодарить тебя? За все грехи мои и прегрешения, за богохульные мысли и стихи ты снова посылаешь подарок, воистину достойный самого правоверного из правоверных!» Подумал — и тут же опроверг себя: кто бы мог одарить этим лучшим из подарков, если бы не нужда — жестокая нужда, которая пригнала сюда из Турана трудолюбивую мать прекрасной Айше?
Хаким впал в задумчивость. Ему хотелось найти правильный ответ на волновавший вопрос. И как всегда, и на этот раз помогла женщина.
Айше сказала:
— Ты все думаешь о своих светилах и небосводе?
— Почему ты так решила? — удивился он.
— А о чем же еще? По-моему, только они в твоем сердце.
— Ты уверена? — задорно спросил он. И скинул с себя верхнюю одежду. Скинул и бросил ее в угол. Прямо на землю. И чалму свою кинул куда-то.
— Сними и ты, — попросил он ее.
Она ответила:
— Не сейчас.
И он покорился ей, схватил за руку и сказал:
— Объясни мне, Айше. Не сердись, но объясни. Почему я особенно счастлив нынче, этой ночью, здесь, у тебя? Может, этим я обязан твоей ворожбе?
— Возможно, — сказала Айше.
— Нет! — сказал хаким. — Если ты и ворожишь, то только глазами и телом… Только бедрами и ногами… Походкой своей и статью, умением разговаривать и обольщать жемчугом зубов и кораллом губ. Исфаханские поэты, у которых я заимствую эти недостойные тебя слова, могут сказать еще лучше. А я не умею… Я не знаю, что будет завтра, — продолжал хаким, — но сегодня я счастлив.
— А разве мало этого? — сказала Айше.
— О Айше! — воскликнул Омар Хайям. — Ты мудрее меня. Я просто волопас по сравнению с тобою! Налей и выпьем, Айше. Я хочу, чтобы заходила земля подо мною и светила небесные закружились в немыслимом хороводе!
Айше была мила и покорна, помня наказ своей матушки. Но независимо от советов доброй матушки она сердцем стремилась к этому очень привлекательному мужчине. Айше сказала:
— Эта ночь принадлежит нам, и ты вправе распорядиться ею по своему усмотрению.
— Аллах! — воскликнул Омар Хайям, восторгаясь умом молодой Айше. — Или ты действительно столь мудра, как мне кажешься, или ты весьма опытна и коварна!
На что Айше, это создание великой природы, ответила с величайшей рассудительностью:
— Скоро ты сам убедишься во всем. Отдалить или приблизить это время зависит только и только от тебя.
И снова поразился Омар Хайям ее воспитанности и женственности. И воскликнул, высоко подымая чашу:
— Да будет вечно такой моя Айше, какою представляется она нынче, этой лунной ночью, этой счастливейшей ночью в моей жизни!
Так говорил хаким и пил вино, любуясь Айше и не решаясь сорвать с нее шелковое одеяние. Он поднял кувшин, полюбовался им и сказал:
— Айше, я думаю, что и он некогда был меджнуном. Я вижу его глаза. Я вижу его губы, которые шептали нежные слова. А может быть, это была очаровательная девица? И она любила? И была любима?.. Пока гончар не превратил ее в этот кувшин.
У Айше расширились глаза, она прижала руки к груди, как бы обороняясь от чего-то дурного.
— О! Какие страшные речи ты ведешь, — прошептала она в страхе.
Хаким опустил кувшин наземь, чуть не разбив его. И вдруг содрогнулась земля. Вдруг раздался великий шум. Словно несчастный кувшин вызвал этот шум во всей вселенной…
И хаким и Айше замерли. А шум все продолжался. Он доносился откуда-то из-за реки. И в ночной тишине отзывался громоподобно.
— Что это? — испуганно проговорила Айше.
Омар Хайям прислушался. Нет, что-то творилось там, за дверью, в большом мире. Но что?
Шум то нарастал, то утихал, чтобы с новой силой громыхнуть в ночном Исфахане. Это был не гром. И не землетрясение. Это было нечто похуже: многоголосый шум толпы, шум несметного количества людей. Так может шуметь только вдруг разъярившаяся, одновременно выкрикнувшая проклятье тысячная толпа… Но что же это происходит под ночным небом?
— Я боюсь, — сказала Айше.
Он подумал: «Может быть, прорвало плотину на реке и волны бушуют совсем рядом?..»
— Неужели конец света? — сказала Айше дрожащим голосом.
Он подумал: «Может быть, налетел ветер пустыни?» Он сказал ей:
— Я все сейчас узнаю.
И отпер дверь. И снова оказался во власти голубых лучей. И сощурился — уж больно ярко светила луна!
На небе все было спокойно. Бесстрастно сияли светила. Небо зеленело подобно сочному лугу, который на берегах Зайендеруда. А на земле?
Омар Хайям оделся, вышел на улицу. Вдали за рекою пылал пожар. Огромное пламя, очень красивое на фоне зеленого неба, рвалось кверху. И оттуда доносился шум, похожий на шум океанского прибоя. Хаким определил, что наверняка горит в той стороне, где расположен дворец. Но не совсем в той: значительно правее дворца. И вдруг хакима охватывает страшная догадка: не дом ли это главного визиря Низам ал-Мулка? Не оттуда ли доносятся крики?
Улица начала оживать: сонные люди выбегали, что-то кричали, кого-то звали, кому-то отвечали…
— А вон еще! — выкрикнул кто-то высоким голосом.
И хаким увидел еще одно пламя поменьше того, которое за рекою.
Омар Хайям бросился к реке, чтобы получше разглядеть, где это занялся еще один пожар? И схватился за голову: неужели горит обсерватория?
Надо торопиться! Надо бежать в город и выяснить, что же происходит, откуда огонь и кто рычит многоголосым рыком?..
— Айше, — сказал он девушке, вернувшись в хижину, — что-то странное творится в Исфахане, Мне надо идти.
— И я с тобою, — решительно заявила она.
— Нет! — Хаким обнял ее. — Я полагаю, что здесь тебе будет лучше. Ну куда ты пойдешь в эту ночь? А я все разузнаю и вернусь.
Айше не противоречила. Поднесла ему чашу со словами:
— Я верю в твое счастье.
— Я тоже, Айше.
Омар Хайям выпил. Поцеловал Айше. А у самого перед глазами огонь, а у самого в ушах непонятные крики.
Вдруг кто-то постучался в дверь и громко позвал:
— Мой господин! Мой господин!
Это был голос привратника, голос Ахмада. Только один он знал, где искать хакима нынче ночью…
Омар Хайям вышел на зов и прикрыл за собою дверь.
— О господин! — чуть ли не плача, сказал Ахмад. — Несчастье, большое несчастье!
Хаким вдруг словно окаменел. Он подумал: «Жизнь человеческая на волоске, а меч смерти работает без устали. Что волосок против стали?» Хаким скрестил руки. И, устремив взгляд в звездное небо, сказал очень спокойно:
— Я слушаю тебя, Ахмад. Говори все по порядку… Я слушаю…
Ахмад снова воскликнул:
— Большое несчастье, мой господин!
— Ахмад! — голос хакима был тверд и повелителен. — Я хочу знать все. Говори не торопясь. По порядку.
Ахмад передохнул. Почему-то взялся за собственную шею обеими руками, словно пытался освободиться от чьей-то невидимой хватки. Хотя он и старался излагать все по порядку, но рассказ получался сбивчивым.
Хаким ни разу не прервал его.
А случилось вот что (со слов Васети и Исфизари, которые прибежали в дом хакима, чтобы оборонить своего учителя и друга): асассины напали на дом главного визиря. А напали они после того, как некий дервиш убил ударом ножа главного визиря. Его превосходительство Низам ал-Мулк погиб. Это был сигнал, и асассины, предводительствуемые неким Хасаном Саббахом, подожгли дворец визиря и окружили дворец его величества.
А этот сумасшедший Хусейн со своими сумасшедшими друзьями ворвались в дом и…
Тут Ахмад зарыдал.
— Дальше, — жестко приказал Омар Хайям.
— А дальше я увидел окровавленную Эльпи. Он убил ее и всюду искал тебя, о мой господин… А обсерваторию поджег… От бессильной злобы…
Ахмад еле сдерживал рыданья.
Хаким стоял спокойно. И, казалось, вовсе не дышал. Лицо его было бледное, точно восковое. А глаза пылали, как те два больших пожара.
Так стоял он. И Ахмаду, который не спускал с него глаз, почудилось, что на лбу хакима образовалась глубокая морщина, которой не было еще минуту назад.
Постепенно взгляд Омара Хайяма, устремленный вперед, становился взглядом человека измученного, взглядом человека, охваченного великим горем.
— Что делать? Что делать, господин? — вопрошал Ахмад.
Омар Хайям молчал…
Вместо эпилога
Об одном путешествии в страну Омара Хайяма
Под нами чернильная земля. Над нами чернильное небо. Мелькнет в иллюминаторе огонек и погаснет. И не сразу сообразишь, на земле это или на небе.
Наш самолет понемногу снижается. В полной южной тьме. И вдруг примерно с километровой высоты открывается вид на россыпь огней — белых, красных, зеленых. С каждой минутой они ярче и игривее. Огромное озеро огней среди чернильной темноты. Это Тегеран поздним вечером.
Еще несколько минут, и самолет стремительно мчится по бетонной дорожке Мехрабадского аэропорта.
Стоп! Я уже на земле великих поэтов, среди которых особыми гранями сверкает имя Омара Хайяма. Это он привел меня сюда. Это его земля и его народ. Между нами и его жизнью пролегли столетия. Но разве позабыт Омар Хайям? Кто не знает его? Какое сердце устоит против его искрометных рубаи? Омара Хайяма знает весь мир.
Этот человек посвятил себя математике и астрономии, считал себя учеником Абу-Али Ибн Сины и лишь на досуге занимался поэзией. Но обессмертила его поэзия. Прекрасная участь подлинного поэта, который стеснялся называть себя поэтом после Фирдоуси!
Омар Хайям с самой молодости не знал отдыха, великие проблемы математики волновали его. Впрочем, отдыхал он в часы поэтических размышлений. Но и это всего лишь иная форма труда…
Мехрабадский аэропорт в этот поздний час сравнительно спокоен. Но близкое присутствие трехмиллионного города все равно ощущается…
Тегеран, кажется, твердо взял курс на то, чтобы в недалеком будущем превратиться в супергород. Это, можно сказать, огромный оазис среди каменистой пустыни.
Сверху Иранское плоскогорье выглядит серо-желтым. Каждую травинку здесь надо поливать водой — прилежно, неустанно. Каждое дерево холят, как дитя. Не только Тегеран, но и Мешхед, и Исфахан, и Шираз кажутся оазисами. Это зеленые пятна на серо-желтой земле.
Великое достижение двадцатого века — автомобиль становится чуть ли не проклятьем. Это особенно заметно в Тегеране. Железный поток движется по городским артериям непрерывно, безудержно. И для человека почти не остается места. Иран выпускает пять типов машин отечественного производства. «Арии» и «пейканы» приметны повсюду. И скорости здесь ничем не ограничены…
Очень важно не растеряться в этом железном потоке, важно сохранять бдительность и спокойствие, все время быть начеку, реагировать молниеносно. К счастью, этими качествами обладают иранские водители. Это искусство у них почти на уровне циркового. Они невозмутимо врываются в стремительный поток и, хранимые аллахом, благополучно катят по улицам Тахте-Джамшид и Надери, по Тахте-Таву… Я гляжу на них и диву даюсь…
Давно позабылись караванные перезвоны, небо Ирана бороздят самолеты, по шоссе стремительно мчатся автомашины, но земля бескрайняя и суровая. Как в годы Хайяма…
Время пытается стереть все. Ему стойко противостоят человеческая память и культура. И тем не менее многое неясно в жизни Омара Хайяма. Он родился в Нишапуре и похоронен в Нишапуре. Его могилу с чудным надгробьем я видел и поклонился ей. Вокруг прекрасный сад, в котором ярко горят цветы. Хранитель мемориала подарил мне семена этих цветов, я их высеял в Абхазии, и теперь неповторимой расцветки живой ковер радует глаз абхазцев. Я взял с собою горсть земли, в которой погребен Омар Хайям.
Несколько лет тому назад прах Хайяма перенесли на нынешнее место, чтобы воздвигнуть величественное надгробье. При этом присутствовал садовый рабочий по имени Абольфазль. Он сказал мне:
— Я видел его… Это был серый скелет, лежащий прямо на земле. Когда к нему прикоснулись, он рассыпался. Теперь его прах под камнем.
В тринадцатом веке Нишапур подвергся нападению кочевых орд. Город был разрушен до основания. Было вырезано все население поголовно! Даже кошки и собаки и те были перебиты. С той поры Нишапур с трудом, но оправился. А небольшое поселение Нокан — в полутораста километрах отсюда — стало расти, и теперь это город Мешхед, столица Хорасана.
Днем в Мешхеде жарко. После полудня город замирает. И это время хорошо проводить в прохладных кинотеатрах.
А в Нишапуре, у входа в Хайямовский мемориал, посетителей ждет не менее прохладный, чем кино, ресторан. Здесь можно подумать о времени и поэзии, о жизни и смерти. Чтобы снова и снова согласиться с Омаром Хайямом: «В кредит не верю! Хочу наличными. Сейчас».
В молодые годы Омар Хайям жил в Бухаре и Самарканде. В двадцать семь лет он был замечен в далеком Исфахане. Главный визирь Малик-шаха Низам ал-Мулк пригласил молодого ученого в Исфахан. Здесь Омар Хайям провел более сорока лет. Здесь он задавался вопросом:
«Что там, за ветхой занавеской тьмы? В гаданиях расстроились умы…»И тут же находил ответ, полный глубокого философского смысла:
«Когда же с треском рухнет занавеска… Увидим все, как ошибались мы».Как лучше всего развернуться налево в Тегеране, если едешь в машине? Ждать, пока схлынет встречный поток? Но эдак можно прождать целый день, и безрезультатно. Но я, кажется, уразумел суть главного маневра при развороте: необходимо подставлять правый бок. Иными словами, надо смело врываться в поток, не думая об опасности. Лучше всего сразу, всем корпусом. Подобно тому как дети бултыхаются с разбегу в реку. Можно при этом и глаза закрыть, чтобы не бояться. Следует, очевидно, полагаться на реакцию водителей. Только и всего! И тогда вы совершите удивительный разворот. Как ни в чем не бывало…
А где делать разворот? Да в любом месте, где вам заблагорассудится! Это очень удобно. А риск, как известно, дело благородное…
Малик-шах распорядился построить обсерваторию для Омара Хайяма. По чертежам ученого и под его руководством. Построить в Исфахане — столице сельджукской империи. Сейчас от той обсерватории нет и следа. От эпохи Хайяма осталась только мечеть Джаме, купол которой вознесся на высоту тридцати пяти метров. Я поехал, чтобы полюбоваться кладкой стен и архитектурой древнего сооружения.
Горы, высокими зубцами стоящие вокруг Исфахана, и река Зайендеруд выглядели так же и во времена Хайяма. В их облике мало что изменилось.
А вот Исфахан растет и ширится. Численность его населения перевалила за полмиллиона. При Хайяме город был, конечно, гораздо меньше. Искусство чеканщиков, несомненно, уходит своими корнями в глубокую древность. Блюда, кувшины, гигантские вазы, причудливые светильники, серебряная посуда — все это поражает тонкостью работы, изобретательностью мастеров и великолепным вкусом их создателей.
Омар Хайям и его сподвижники собрали у себя наиболее точные инструменты: астролябии, квадранты — многие из них самодельные — засверкали медью на верхнем этаже обсерватории, изображавшем круг с азимутальными делениями.
С нашей точки зрения, все это довольно примитивно. Алидады, лишенные окуляров, давали немалый простор для ошибок. За счет чего же достигалась точность вычислений, которыми прославился Омар Хайям? Очень интересно ответил на это профессор Владимир Щеглов, директор Ташкентской обсерватории. Он сказал мне:
— Омар Хайям, как и многие его предшественники, в частности Архимед и Птоломей, производил многократные наблюдения. Скажем, тысяча наблюдений, тысяча вычислений! Все это уменьшало ошибку в тысячу раз. Секрет, как видите, прост.
Именно здесь, в Исфахане, Омар Хайям и его друзья составили календарь, более точный, чем тот, которым мы пользуемся сейчас. Это удивительно!
Над Исфаханом сверкают все те же звезды, на которые смотрел Омар Хайям. Они совершают все тот же путь в небесной сфере. И Зодиак прежний. Нынче разгадано многое из того, что находится «за ветхой занавеской тьмы». Но вслед за одной занавеской появляется другая. И так будет без конца. Омар Хайям это хорошо понимал…
Улица запружена от тротуара до тротуара. Железный поток машин неумолим: некуда ступить ногой. Но тут появляется некий молодой человек с велосипедом. На голове у него круглый поднос диаметром чуть ли не в метр. На подносе установлены тарелки, миски с едою на шесть персон. В руках такой же таз, но без тарелок и мисок.
Потомок Омара Хайяма недолго думает: его движения четки, а голова не отягощена проблемами мироздания…
Молодой человек нажимает на педали.
Его велосипед попадает в узкую щель меж двух машин.
Из этой щели аллах выносит его в другую.
Я уже вижу велосипедиста среди бушующей стихии.
Его поднос далеко. Он правит велосипедом без рук. Вон он уже впереди, метров за сто от меня. Выживет ли?..
И я слежу за подносом: он гордо блистает над неимоверно бурным потоком машин. И уверенно продвигается вперед…
Омару Хайяму была предоставлена прекрасная возможность заниматься наукой (поэзией — между делом). В Исфахане. Под покровительством главного визиря Низама ал-Мулка. При содействии ученых — его одногодков. Это были люди молодые. Они начали совместный путь, когда им было лет по двадцать семь. И шли вместе, рука об руку, разгадывая тайны мироздания.
Звездными ночами, когда Исфахан засыпал, молодые люди устремляли свой взор в бездонную глубину. Млечный Путь уже не казался причудливым поясом. Они понимали, что Земля шарообразна. И Солнце шарообразно. Той же формы и Луна. За их спиною стояли такие великие люди, как Ибн Сина, Бируни и Фирдоуси, вся жизнь которых прошла в трудах, которые оставили великие сочинения. Но стоять на месте невозможно! И поэтому Омар Хайям и его друзья не смыкали глаз в ночной тьме.
А еще волновали ученого и поэта параллельные линии. Те самые параллельные линии, которые послужили основой для всей Евклидовой геометрии. Напомню, как сформулировал постулат сам Евклид: «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы меньше двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых». А если углы равны двум прямым? Тогда линии параллельны. И они нигде не встретятся. Даже в бесконечности? А что такое бесконечность? Разве греки всерьез принимали бесконечность? То, что нельзя проверить измерением…
Омар Хайям подолгу обсуждает со своими друзьями эту проблему. Затем берется за решение ее. А решали ее ученые и за тысячу лет до него. И будут решать еще много веков после него. Пока не появятся Лобачевский и Риман… Сам того не подозревая, Омар Хайям близко подошел к проблемам, которыми будут заниматься и занимались они. В том самом месте своих изысканий, где допустил существование треугольников только со всеми острыми или только со всеми тупыми углами…
Звезды в Тегеране такие же, как в Нишапуре и Исфахане, Ширазе и Хамадане. Одно небо над Ираном. Оно располагает к мелодичному говору и к размышлениям. Так повелось со времен Ибн Сины.
Что там, за ветхой занавеской тьмы?.. Журналист из газеты «Кейхан» предрекает Тегерану незавидное будущее. Он именует себя скромно «футурологом-любителем». Тем не менее его выводы основываются на реальном положении вещей и, несомненно, выявляют наиболее зримые черты бурно развивающегося Тегерана. Журналист пишет, что если и далее сохранится нынешняя тенденция безудержного расширения города, если не будет необходимого, разумного планирования, если верх возьмут меркантильные соображения отдельных граждан, то «последствия будут катастрофическими». По мнению автора статьи, через двадцать лет Тегеран будет насчитывать двадцать миллионов жителей (против трех в настоящее время). Границы Тегерана с окраинами переместятся к городу Хамадану (это примерно в трехстах километрах к западу от Тегерана). Количество автомашин возрастет до пяти миллионов. Будет установлен возрастной ценз водителей — не менее двадцати одного года! Воздух будет загрязнен до крайности, потребление воды снизится из-за ее нехватки, возрастут случаи самоубийства на почве нервного перенапряжения. И так далее… Картина далеко не радостная, но, по-видимому, достаточно реалистическая…
Когда я бродил по тегеранским улицам и наблюдал бесконечную, казалось, совершенно бессмысленную стремительность хаотичного потока машин, мне порою слышались слова мудрого Омара Хайяма: «Ты жив — так радуйся, Хайям!» Если много столетий назад эти слова приносили утешение, то в наше время, на мой взгляд, они нуждаются в некой поправке в хайямовском стиле. То есть в мудром переосмыслении некоторых явлений нашей современности, чтобы будущее не оказалось столь уж мрачным, как это рисуется на страницах газеты «Кейхан».
Нишапур расположен недалеко от нашего Ашхабада и недалеко от афганского Герата. Из Мешхеда ведет сюда новое шоссе. Островерхие пики недалеких гор сопровождают вас почти на всем пути. Климат здесь континентальный: летом очень жарко, а зимою морозы достигают порою градусов тридцати.
Последние годы своей жизни Омар Хайям провел в Нишапуре, читая книги, размышляя над бытием. Научная работа была уже позади. Возможно, что здесь были написаны новые рубаи. Он жил в доме вместе со своей сестрой и ее мужем, Мухаммадом ал-Багдади.
Низами Арузи Самарканди оставил такой рассказ:
«…В городе Балхе на улице торговцев рабами в доме эмира Абу-Сада собрались хадже Омар Хайям и хадже имам Музаффари Исфизари. Я присоединился к ним. Во время беседы и веселия я услышал слова худжат ал-хакк Омара, который сказал: «Моя могила будет в таком месте, где два раза в году деревья будут осыпать ее лепестками цветов». Эти слова показались мне невероятными, но я знаю, что он не говорит пустых слов.
Когда… я прибыл в Нишапур, то прошло уже несколько лет с тех пор, как тот великий муж прикрыл лицо завесой из праха и мир лишился его. А я был обязан ему как ученик. В пятницу я отправился на кладбище и взял с собой одного местного жителя, чтобы тот показал мне могилу Хайяма. Мой проводник привел меня на кладбище Хайра, по левую сторону от Кашле. У основания садовой стены находится могила Хайяма. Абрикосовые и грушевые деревья из сада протянули ветви через стену, и на его могиле было столько цветочных лепестков, что под ними не было видно земли. Я вспомнил слова, которые слышал от него в Балхе, и заплакал, ибо нигде во всем мире, от края до края, я не видел равного ему…»
А вот свидетельство ал-Байхаки:
«Его свояк имам Мухаммад ал-Багдади рассказывает мне: «Однажды он чистил зубы золотой зубочисткой и внимательно читал метафизику из «Книги исцеления» Ибн Сины. Когда он дошел до главы о едином и множественном, он положил зубочистку между двумя листами и сказал: «Позови чистых, чтобы я составил завещание». Затем он поднялся, помолился и после этого не ел и не пил. Когда он окончил последнюю вечернюю молитву, он поклонился до земли и сказал, склонившись ниц: «О боже мой, ты знаешь, что я познал тебя по мере моей возможности. Прости меня, мое познание тебя — это мой путь к тебе». И умер».
Это случилось на восемьдесят третьем году его жизни.
Писатель XV века Яр-Ахмад Табризи в своем сочинении «Дом радости» сообщает о Хайяме: «У него никогда не было склонности к семейной жизни, и он не оставил потомства. Все, что осталось от него, — это четверостишия и хорошо известные сочинения по философии на арабском и персидском языках».
Скажем прямо: наследие немалое!
Наш известный исследователь творчества Омара Хайяма Магомед-Нури Османов и поэт Ахмед Табатабай читали мне рубаи Хайяма на фарси. Это было не раз и не два. Потом мы говорили о том, что и когда писалось: что в молодости, а что на старости лет. Но стихи Омара Хайяма сверкают одинаково: на них не отразились морщины поэта или удары усталого сердца.
Омар Хайям писал стихи всю жизнь. И не мог не писать. Ибо это было потребностью. Не мог он жить без стихов. Но при этом не думал о славе. По крайней мере, поэтической. У него была своя «настоящая» работа: математика, астрономия, философия. На досуге он составил свой гороскоп, и по нему ученые точно определили дату его рождения: 18 мая 1048 года. Когда восставшие исмаилиты убили и Низама ал-Мулка, и Малик-шаха и разрушили обсерваторию, Омар Хайям остался не у дел. И тогда его потянуло в родной Нишапур. Я полагаю, что это были горькие годы: Омар Хайям и в преклонные лета оставался Омаром Хайямом — полным жажды деятельности, большим ученым и поэтом. И тем не менее пришлось смириться: вольнодумная поэзия вызывала нарекания со стороны всего темного, реакционного. Враги поэта обличали его в богохульстве. Чтобы как-то парировать это грозное обвинение, он совершил хадж в Мекку и Медину. Это уже на закате жизни. А рубаи обретали новую жизнь и шли по рукам в многочисленных списках.
В Тегеране мне подарили издание Омара Хайяма, включающее триста восемьдесят два рубаи. Многие иранские ученые не шли далее шестидесяти — шестидесяти шести рубаи, полагая, что остальные принадлежат не Омару Хайяму. Я рад, что это издание рубаи по своему составу приближается к изданиям советских иранистов.
Я стоял у могилы Омара Хайяма и думал: сколько же рубаи написал великий поэт? Пятьдесят? Сто? Пятьсот? Или несколько тысяч? Известно, что Омар Хайям писал свои четверостишия на полях ученых трудов в часы раздумий. Известно также, что поэт не оставил свода своих стихов. До сих пор не найдена рукопись рубаи. Ученые тщательно сортируют стихи Омара Хайяма в поисках «подлинных» хайямовских произведений.
Однако самое главное и удивительное состоит в том, что стихи Омара Хайяма существуют. Ими зачитываются любители поэзии всех пяти континентов Земли. Я не видел еще человека, который не улыбнулся бы при имени Омара Хайяма и не воскликнул: «Величайший поэт!»
Недалеко от высокого надгробья Хайяма, среди цветов установлен на небольшом постаменте мраморный бюст поэта. Поэт не очень стар, но очень мудр. Он как бы говорит: «Зачем понапрасну ломать голову? Вам нравятся мои рубаи? Так читайте их на здоровье и прекратите бесплодный счет стихам». В самом деле: на десяток рубаи меньше — разве обеднеет Хайям? Это мы, его почитатели, понесли бы духовные убытки, ибо уже не можем без Хайяма. Он с нами всегда. Он наш поводырь в мире прекрасного и, если угодно, и в этом бренном мире. Без него было бы скучно, чего-то недоставало бы нам.
Я говорил себе в Нишапуре: кому этот памятник?
И не раздумывая отвечал: величайшему из поэтов Омару эбнэ Ибрахиму, по отцовскому прозвищу — Хайяму…
Часто спрашивают: почему Омар Хайям так много пишет о вине? Он очень много пил? На этот вопрос дал исчерпывающий ответ французский ориенталист Дж. Дармстетер еще в прошлом веке: «Человек непосвященный сначала будет удивлен и немного скандализирован местом, какое занимает вино в персидской поэзии… Вспомним, что Коран запрещал вино. Застольные песни Европы — песни пьяниц. Здесь же это бунт против Корана, против святош, против подавления природы и разума религиозным законом. Пьющий для поэта — символ освободившегося человека, попирающего каноны религии». Это целиком относится и к поэзии Омара Хайяма.
Шираз — город зеленый. От него до Персидского залива, что называется, рукой подать. Но лежит он на высоте почти тысячи семисот метров над уровнем моря. Ширазцы подвержены урбанизации не меньше, чем исфаханцы или мешхедцы. Однако зелени здесь, пожалуй, больше, чем где-либо в Иране, за исключением прикаспийских земель.
Звезды в Ширазе показались мне ярче, чем в Тегеране. Может быть, оттого, что центральная и южная часть Тегерана — в котловине и поэтому воздух менее прозрачен, чем в Ширазе.
Великое преклонение иранцев перед поэзией особенно чувствуется в Ширазе. Два великолепных мавзолея — Хафизу и Саади — достаточно красноречиво свидетельствуют об этом. Фонтаны, зелень, цветы, музеи — непременное окружение таких мавзолеев.
Я пошел поклониться и этим великим могилам. Было жарко. Воздух был раскален. Ветра не чувствовалось. Но цветы и струи фонтанов настраивали на особый лад, они воскрешали сладкозвучные стихи прекраснодушных поэтов, и зной как бы терял свою власть. Во всяком случае, так утверждал один иранский поэт…
Тегеран торгует весь день, замирая лишь после полудня часа на два, на три. Кажется, что торгуют все и торгуют всем — от спичек до автомашин и домов. Торговцы здесь степенные, без «восточного» зазывательства. До позднего вечера горят огни витрин. На знаменитом базаре нет толчеи. В универмагах прохладно и безлюдно. Глядишь на иного продавца, и кажется, что думает он скорее о тайнах мироздания, чем о торговых делах. Но это только кажется.
Значительно оживленнее в маленьких кафе. Здесь в большом ходу водяные кальяны, и городские новости обсуждаются в тихих беседах. Мне вдруг почудилось, что Омар Хайям где-то поблизости, но что Хайяму необходим свой стиль, что кондиционированный воздух, огромные вентиляторы, неоновый свет и автоскачки на бульваре Елизабет менее приличествуют Хайяму.
Но разве сила поэзии — истинной поэзии — зависит от уклада жизни? Разве село ближе к поэзии, чем город? Или наоборот?
Если на одну минуту стать на эту точку зрения, то чем объяснили бы мы тяготение к Омару Хайяму во всем мире? Нет, поэзия Хайяма не стала менее необходимой, хотя Тегеран и дыбится, изо всех сил взбираясь на склоны ближайших гор. Может быть, ее жизнелюбие, ее философская глубина и умная ирония сейчас еще ближе, еще понятнее и дороже, чем много веков назад…
На русский язык рубаи Омара Хайяма переводились не раз. И каждое новое издание буквально расхватывается любителями поэзии. А наша литература, исследующая творчество Хайяма, велика и разнообразна.
В полусотне километров к северу от Шираза находятся развалины Тахте-Джамшида — Персеполя, столицы древних персидских царей. Среди голых гор стоят каменные стены и колонны. О величии постройки можно догадываться.
Мне было интересно узнать поближе эту динамично развивающуюся страну. С удовольствием гулял я по новым улицам, которым всего один год от роду, с удовольствием смотрел на кварталы, которым тоже год. И клумбы радовали глаз, особенно потому, что цветы на них не так-то просто взращивать под палящими лучами. Живой Иран — сын своей многовековой истории и не менее любопытен, чем она сама.
Омара Хайяма нельзя отдавать прошлому. Это развивающаяся субстанция, ибо поэзия Хайяма — плоть от плоти народа. Куда бы вы ни пришли, в какой бы уголок Ирана ни приехали, на вас смотрит умный иронический взгляд Омара Хайяма. И вы непременно услышите его слова: «Ты жив — так радуйся, Хайям!»
Да, Омар Хайям жив и поныне. Он будет жить вечно, вековечно. Рядом со всем живым. Со всем, что движется вперед.
Тегеран — Москва,
1973 г.
Примечания
1
Хадж — паломничество в священные для мусульман места.
(обратно)2
Зороастр, или Заратуштра — мифический пророк.
(обратно)3
Шербет — сладкий фруктовый напиток.
(обратно)4
Меджнун — дословно: обезумевший от любви.
(обратно)5
Пирахан — нижняя рубашка.
(обратно)6
Хаким — ученый, мудрец.
(обратно)7
Дувал — глухая глинобитная стена.
(обратно)8
Динар — золотая монета.
(обратно)9
Джамшид и Фаридун — мифические правители.
(обратно)10
Алидада — вращающаяся часть угломерных геодезических и астрономических инструментов.
(обратно)11
Калям — тростниковая палочка, перо.
(обратно)12
Фарсанг — мера длины, равная пяти-шести километрам.
(обратно)13
Дервиш — нищенствующий мусульманский монах.
(обратно)14
Чанг — музыкальный инструмент.
(обратно)15
Барбат — музыкальный инструмент.
(обратно)16
Астрология — была распространена в древние и средние века. Астрологи при дворах правителей изучали положение звезд на небе, «предсказывая» судьбы людские.
(обратно)17
Дастархан, или суфра — трапезная скатерть, стол.
(обратно)18
Касыда — ода.
(обратно)19
Дирхем — серебряная монета.
(обратно)20
Алмукабала — математическое действие.
(обратно)21
Туран — области по правую сторону реки Амударьи.
(обратно)22
Хакан — тюркский правитель.
(обратно)23
Каба — верхняя одежда.
(обратно)24
Муфтий — ученый богослов, имеющий право выносить решения по отдельным вопросам шариата, священного права мусульман.
(обратно)25
Надим — образованный приближенный султана, шаха.
(обратно)26
Имам — мусульманский священнослужитель.
(обратно)27
Шиизм — одно из главных направлений в мусульманской религии.
(обратно)28
Суннизм — основное, ортодоксальное направление ислама.
(обратно)29
Исмаилиты — члены секты, выделившейся из шиитов.
(обратно)30
Дабир — делопроизводитель, секретарь при правителе.
(обратно)31
Сезам, или кунжут — масличное однолетнее растение.
(обратно)32
Газели — двустишные строфы восточного стихосложения, преимущественно лирические.
(обратно)33
Рубаб — щипковый музыкальный инструмент.
(обратно)34
Алиф — первая буква арабского алфавита.
(обратно)35
Ней — флейта.
(обратно)36
Дастархан, или суфра — трапезная скатерть, стол.
(обратно)37
Асассин — буквально: человек, накурившийся гашиша; имеется в виду фанатик-убийца.
(обратно)38
Стадия — древнегреческая мера длины, равная 177,6 метра.
(обратно)39
Фарси — общий литературный язык персов, таджиков и других народов Ближнего и Среднего Востока в средние века.
(обратно)40
Кади — судья.
(обратно)
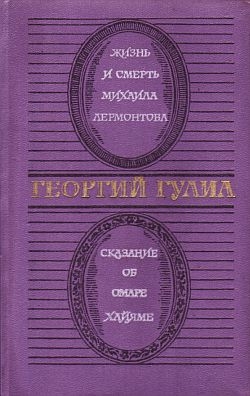




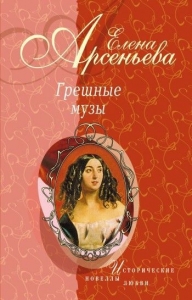
Комментарии к книге «Жизнь и смерть Михаила Лермонтова. Сказание об Омаре Хайяме», Георгий Дмитриевич Гулиа
Всего 0 комментариев