Великий государь
Глава первая Опала
Они стояли друг против друга как бойцы, готовые сойтись в рукопашном бою. Да силы были неравными. Царь Борис Годунов, усохший за последние три года, во всём уступал богатырской стати первого боярина России, князя Фёдора Романова. Князь-боярин стоял перед государем, возвышаясь над ним почти на голову. Широкие плечи развёрнуты, грудь полна мощи, а руки, которые он упирал в бока, таили бойцовскую силу. И атласный пояс под руками, затянутый по бёдрам, тоже был из тех, что повязывают бойцы перед схваткой.
Глядел Фёдор Никитич на Бориса Фёдоровича гордым и независимым взглядом тёмно-серых глаз, и голова его была высоко вскинута, отчего высокий лоб с крутыми надбровьями казался ещё выше. И стоило Фёдору сделать одно движение руками, схватить Бориса за грудь, он легко был бы распластан на мраморных плитах малого тронного зала, где случилось сойтись государю Борису Годунову и боярину Фёдору Романову, в прежние юношеские годы неразлучным друзьям.
Ан не дано было сойтись князю с царём в честном бою, потому как в сей час Борис не хотел этого боя, да и сила была в руках у него большая, чем у Фёдора. И царю нужно было лишь сделать лёгкий жест рукой, как два могучих царских рынды-телохранителя схватили бы князя и скрутили ему руки.
И сошлись они в середине малого тронного зала только потому, что царь Борис в присутствии множества вельмож, кои стояли за его спиной, был намерен обвинить боярина Фёдора Романова в измене и покушении на его жизнь. И с этой целью он собрал в свой дворец многих именитых думных бояр, князей, думных дьяков и архиереев, толпившихся в глубоком молчании и ожидавших развязки этого поединка.
Впереди толпы стояли бояре-князья Шуйские, Василий и Дмитрий, именитый боярин князь Фёдор Мстиславский, царский дядя боярин Семён Годунов и думный дьяк Василий Щелкалов. А за их спиной, стараясь быть незамеченным, стоял ключник боярина Александра Романова, брата Фёдора, Бартенев второй, главный свидетель обвинения.
Несколько дней назад чёрные слуги Разбойного приказа, который возглавлял боярин Семён Годунов, по навету Бартенева налетели на московские палаты князей Романовых в Китай-городе на Варварке, учинили обыск и нашли мешок кореньев — отравное зелье — в каморе у князя Александра и по приказу Семёна Годунова арестовали весь род Никитичей от мала до велика. В те же дни, как началось следствие, по всей Москве были схвачены все, кто по родству и свойству был близок к дому Романовых. Арестовали князей Салтыковых, Сицких, Черкасских, Шереметевых. Все они теперь сидели в кремлёвских тюрьмах и казематах, которые восстановил Борис Годунов после смерти милосердного царя Фёдора.
Царь Борис Годунов не спешил выносить приговор Фёдору Романову и его брату Александру. Он знал, что за него это сделают суд и Боярская дума, а все утвердят архиереи и патриарх. Но царю не терпелось унизить Фёдора Романова. Он жаждал увидеть, как спадёт с лица недруга гордыня, как тот слёзно будет молить о пощаде, о милосердии. «Да не дождёшься ты моего милосердия. Многажды был тобою уязвлён, теперь получи долг сполна», — подумал царь Борис и спросил Фёдора:
— Зачем вы, Романовы, искали моей смерти? Зачем посягали на жизнь царя и помазанника Божия?!
— Господь Бог свидетель, мы не искали тебе порухи, государь, — ответил Фёдор.
— Как же не искали? Вон твой слуга, коего ты отдал брату, скажет, как было дело. — И царь повернулся к своему дяде. — Дядюшка Семён, спроси у Бартенева, чьей волей он привёз из костромской вотчины отравное зелье, какого злого умысла для прятали коренья?
Бартенев не стал дожидаться, когда его переспросит об этом же боярин Семён, а вышел вперёд и ответил царю:
— Государь-батюшка, дал мне наказ ехать в костромскую вотчину князь Александр Никитич и говорил: воля моя и брата Фёдора Никитича привезти тебе из села Домнино коренья. И я привёз, а какие они — не ведал, потому как в мешке покоились.
Тут сказал своё слово боярин Семён Годунов:
— Ты говори всё изначально. Как ты попал на подворье Романовых?
— Они искали верного человека. Я им и показался. Да обмишулились, потому как я, раб Божий, верный слуга государя-батюшки...
Князь Фёдор не слушал. Он знал, что всё сказанное Бартеневым измышление и навет. Он знал также, что «проныр лукавый», как в душе называл Фёдор Бориса Годунова, пытался перехитрить себя. «Ведает же лукавый, что многие бояре лишь терпят его, — размышлял Фёдор, — и, чуя глухой ропот бояр, Бориска ищет от них защиту, дабы оградить себя от козней. О, лучшей защиты, чем опала, не найдёшь. И хитрости Бориске не занимать. Он же плевицами опутах и тайным надзором высветил всех, кого боится. Он вовлёк в сей надзор боярских холопов, и те доносят на своих господ. Он не случайно дал волю ушкуйникам и оборотням, выпустив их из тюрем. И теперь они шныряют-шастают по московским дворам, подслушивают, что говорят о царе, и несут всё Семёну или хватают хулителя, тащат в застенки. Достойно ли сие государя, — воскликнул в душе Фёдор, — когда он поощряет доносы и клевету — язвы, зараза которых поражает россиян. Все доносят друг на друга: и сын выдаёт отца, жена — мужа, брат — брата, отец — сына. И сколько же россиян невинно попали в пытошные башни, скольких разорили до наготы, подвергли тайным казням и пыткам. Господи, ни при одном царе, помимо батюшки Грозного, подобного не бывало!» — горестно вздохнул Фёдор Романов и опустил гордую голову.
Он ещё не знал свою участь, хотя и представлял горькой. А ежели бы ведал доподлинно, решился бы на самый крайний шаг, наказал бы гонителя своего рода и всех сродников лишением живота.
Голос Годунова отвлёк Фёдора от печальных дум.
— Теперь ты слышал, в чём вина твоя и твоих братьев и всего родства и свойства? — спросил царь Борис. — И есть у тебя один путь: покаяться, рассказать своему государю правду. Ты же не ищешь себе ни правёж на дыбе, ни позора, ни Лобного места. И я сему не хочу тебя подвергать.
— Ты — государь, и воля твоя как закон от Бога. Да ищу я лишь справедливости. Зачем мне желать себе худа, потому как мне ведома твоя судьба и день, когда ты преставишься. И сам ты сие ведаешь. Потому спрашиваю: зачем берёшь ещё один грех на душу и взял нас, Никитичей, и всех наших сродников под стражу, заточил в сидельницы? Коль несёшь правду, как помазанник Божий, вели повязать Бартенева-иуду, спроси его калёным железом, чью волю выполнял, вознося навет на Романовых. Тебе и скажет, что дядюшки твоего, боярина Семёна, потому как Бартенев у него на службе.
— Сам хулу несёшь на честного раба государева! — выкрикнул Семён Годунов.
— Помолчи, дядя, — строго заметил царь Борис. — Твоё слово впереди. — Он был недоволен дядей: князь Фёдор сказал правду, а она не должна была высветиться. Да сказанного не вернёшь, счёл царь, и теперь оставалось одно: подминать под себя Романовых, пока ликом не ткнутся в грязь, потому Борис Годунов закусил удила. — Ты о чести помни, Фёдор. Твой батюшка Никита завещал нам вместе хранить и честь и дружбу. Но ты попрал и то и другое. Потому наша правда от Бога и справедливость — тоже. Коренья нашли в романовских каморах, и ключи от камор в ваших руках. Вот и ответите за все злочинские умыслы сполна. — И царь Борис отвернулся от князя Фёдора, сказал боярину Семёну: — Отведи его на место пока, а там посмотрим. Как в пытошную вести — скажу.
Мужественный и стойкий Фёдор дрогнул. Он испугался не пытки, но унижения. Не было ещё в древнем роду Захарьиных-Кошкиных-Романовых, начиная от славного выходца на московскую службу из «прусс» Андрея Кобылы, кого-либо, кто бы подвергался позорным пыткам. Ему же, старшему сыну боярина Никиты Романовича Захарьина-Кошкина, уготована дыба, калёное железо, может быть, в хомуте погонят на Красную площадь.
В сей миг горькие размышления князя Фёдора прервал хриплый голос боярина Семёна Годунова:
— Эй, вы, — крикнул он стражам, — ведите его в земляную тюрьму! — И указал на Романова.
Дюжие мужики в охабнях, в бараньих шапках в мгновение ока заломили Фёдору руки, связали их сыромятиной и, накрутив концы ремня себе на руки, повели из дворца. Фёдор попытался сопротивляться, но стражи враз дёрнули ремни, и они впились в запястья, и показалось князю, что по рукам прошлись ножом.
Земляная тюрьма была огорожена дубовым частоколом. За ним зияли, как раны, глубокие ямы, перекрытые решётками. Романова привели к одной из них, освободили от ремней и столкнули вниз. Упал он удачно. Встал на ноги, посмотрел вверх: стражи закрыли решётку на замок и ушли. В этой яме — три на три аршина — он уже провёл две ночи, полные кошмара во сне и наяву. С вечера, лишь наступала темнота, из нор появлялись крысы — больше дюжины. И начиналась борьба. Твари прыгали на ноги, пытались добраться по одежде к лицу, кусали сквозь кафтан. Фёдор отбивался от них, сбрасывал с себя, топтал ногами, но тщетно. Они ловко избегали его сапог и снова нападали. Час за часом продолжалась борьба. Фёдору казалось, что он не выдержит этой схватки, упадёт на землю и отдаст себя на растерзание тварям. Однако в полночь крысы вдруг прекращали нападать на Фёдора, скрывались в норах и больше не показывались. В первую ночь князь Фёдор попытался забить норы глиной и в оставшиеся часы ночи ему удалось подремать и отдохнуть. Днём стражи спустили в яму лестницу и увели князя на допыт. Когда же к вечеру его привели в тюрьму и спустили в яму, всё повторилось. Твари вскрыли норы и снова набросились на князя Фёдора. Как он выстоял? От попытки понять это кружилась голова.
Что ожидало князя на этот раз? То ли третья кошмарная ночь в яме, то ли ещё более жестокое испытание в пытошных башнях Кремля. Он ходил по яме из угла в угол — пять шагов в одну сторону, пять — обратно. Это помогало ему успокоиться и поразмышлять над всем тем, что случилось с ним и с его близкими, попытаться выбраться из безвыходного, казалось бы, положения.
Невольно размышления завели его в юношеские времена. Он увидел себя и Бориса Годунова вместе. Оба они стояли пред лицом боярина Ники ты, отца Фёдора, и он читал им увещевательный устав о клятвенном союзе дружбы. Им надлежало жить по законам этого устава и быть царствию помогателями.
Но вечной дружбе рода Романовых с домом Годуновых не дано было окрепнуть. Едва зародившись, она начала разрушаться. «Проныр лукавый» нарушил клятву, кою давал отцу Фёдора, предал дружбу, потому как цель, кою выбрал честолюбивый Борис, исключала участие в её достижении кого-либо из Романовых.
Фёдор Романов вскоре узнал, о чём мечтал Борис Годунов и к чему стремился. Поначалу посмеялся над честолюбивым замыслом, а позже, когда царствовал сын Ивана Грозного Фёдор, князь Романов стал свидетелем того, как Борис примерял царскую корону.
Тут-то и взбунтовался Никитич, потому как усмотрел в действиях Годунова чёрные замыслы против рода Романовых. Как он мог мнить себя выше первых российских бояр, кои находились в близком родстве с царским домом, были уважаемы и любимы москвитянами и законно занимали самые высокие посты в государстве!
Самого Фёдора Романова, доброго и ласкового князя, любознательного и образованного человека и щёголя ко всему, знала вся Москва. Он тоже был честолюбив. Но ещё и твёрд нравом, терпелив и не подвержен мшеломству. Потому после кончины отца Фёдору дали чин боярина и он занял достойное место в Боярской думе.
Вражда, уже открытая, вспыхнула между Фёдором Романовым и Борисом Годуновым вскоре же после таинственной гибели царевича Дмитрия. Тогда вся Москва обвиняла в смерти девятилетнего сына Ивана Грозного правителя Бориса Годунова. Говорили в народе, что это он торит себе дорогу к царскому трону. Потому и посягнул на жизнь малолетнего престолонаследника.
В отличие от многих других вельмож, приближённых к царскому дому у Фёдора Романова было иное мнение о трагедии в Угличе. Он не отрицал вины Бориса Годунова в убийстве малолетнего отрока, но считал, что тем отроком был не царевич Дмитрий, а некто другой, из простолюдинов, купленный князьями Нагими. И имя того человека, который продал сына, называли — стрелец инвалид Матвеев, доведённый нуждой до отчаяния. Правда, поговаривали, что всё случилось не без участия оружничьего Богдана Вельского. Он в ту пору рьяно бился с родом Годуновых и даже называл себя русским царём Борисовским, по названию города Борисова, который построил, будучи в опале от правителя Годунова.
Сказывали, что Дмитрий в те майские дни девяносто первого года был отправлен в северные монастыри. Там он провёл одиннадцать лет, принял монашество и жил под именем инока Григория. Несколько лет он занимался переводом и перепиской греческих духовных книг и преуспел в благодатном деле.
Неожиданно шагавший по земляной яме Фёдор остановился. Его поразила мелькнувшая мысль о царевиче Дмитрии. А что, ежели боярину Семёну стало ведомо, как он, Фёдор Романов, вызволил с помощью патриарха Иова из-под Каргополя переписчика книг Григория — истинного царевича Дмитрия — и спрятал его в Чудовом монастыре? И теперь, когда боярин Семён прикажет пытать его, Фёдора, не выдаст ли он Дмитрия? И Фёдора прошиб холодный пот.
Сколько тревог и волнений пережил он, пока Дмитрия доставили в Москву, посадили в Чудовом монастыре за переписку книг, как берегли его от зорких глаз шишей. Тайно же инок Григорий приходил на подворье Романовых. И Фёдор вёл долгие беседы с ним, всё больше о прошлом и будущем. Там, впереди, они видели одно: Мономахов трон и его, Дмитрия, на том троне в царском венце.
И теперь, пребывая в земляной тюрьме, Фёдор понял, для чего понадобилось Борису тайно завезти на двор Романовых отравные коренья и оклеветать Никитичей. Это и дало повод взять под стражу весь род Романовых. А причина — страх потерять трон.
Конечно же, боярин Семён, который держал по всей России сотни шишей-доносчиков, пронюхал о том, кто приходил на подворье Романовых из Чудова монастыря, кто таился под именем инока Григория. Нет, то был не Отрепьев, сын захудалого дворянина, сие Фёдор готов был утверждать даже на Суде Божьем. Инок Григорий в миру был истинным царевичем Дмитрием. И теперь Фёдор страдал за него больше, чем за себя. Коль схватил Дмитрия боярин Семён, не увидит больше света белого страдалец.
Но не удалось чёрным слугам Семёна Годунова ухватить Дмитрия в Чудовом монастыре. Улетела птичка Божиим провидением. И вовремя. А как князь Фёдор осознал по поведению боярина Семёна, что царевич Дмитрий на воле, так и возрадовался, на колени опустился, молитву прочитал:
— Царю Небесный! Скорый в заступлении и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне и благословив укрепи и в совершение намерения благого дела рабов Твоих произведи: вся бо елика хощеши, яко сильный Богтворити можеши...
И возродилась в Фёдоре лёгкость душевная, какую испытывал в дни благоденствия, и не страшила тюрьма поганая и дыба неминучая. Дух Фёдора торжествовал. Вопреки всем проискам Бориса Годунова, он, Фёдор Романов, в сём рукопашном бою выходил победителем. «На воле Митенька, на воле! Мчит с сотоварищем иноком Григорием Отрепьевым в землю польскую, дабы там объявиться!» — торжествовал Фёдор.
— А как услышат о нём россияне, как встанут плечом к плечу стеною, да пойдут добывать трон истинному отцу своему, тут уж держись, «проныр лукавый», — говорил Фёдор, стуча кулаком по глиняной стене.
В тот миг, когда Фёдор в душевном порыве возносился в Царство Небесное и приготовился к каким угодно переменам в судьбе, над его головою открылась решётка, в яму опустилась лестница и страж велел князю подниматься наверх, повёл его, как счёл Фёдор, на правёж.
В пытошном каземате заплечных дел мастера готовились к работе. В подземелье стоял смрад, пылал горн, на нём калилось железо, на таганах кипела в котлах вода. Один из катов, увидев боярина Фёдора, улыбнулся ему, приветливо кивнул головой. Князь знал этого ката. Звали его Лучка, по прозвищу Тетеря. Ещё при Иване Грозном, когда Лучка только встал к своему ремеслу, его изловили тати, коих он порол кнутом, избили изрядно и лишили языка. Малюта Скуратов сказал Лучке, когда тот пожаловался на татей: «Ты есть тетеря. Потому и потерял язык». С той поры, а миновало сему лет тридцать, Лучка слыл самым жестоким палачом во всей Руси. Один демонский вид Лучки приводил его подопечных в смертельный ужас.
Тут же, в пытошной, у стола со свечой сидел ещё один не менее жестокий человек, боярин Семён Годунов. Хотя всем видом своим он был похож на благообразного пожилого россиянина с окладистой бородой, но нутро его выдавали узкие, чёрные и хищные глаза. Он заведомо ненавидел всех, кого приводили в пытошные казематы, как кровных своих врагов. Боярина Фёдора он сразу же словно хлыстом ударил, крикнул ему в лицо:
— На колени, тать!
Но Фёдор Романов был уже не тот, подавленный навалившейся на него бедой человек, каким чувствовал себя в первый день пребывания в тюрьме. Дух его окреп, и пред боярином Годуновым стоял истинно русский князь, гордый и несгибаемый. Он лишь спросил боярина:
— Видишь ли ты свою судьбу, выкормыш Малюты Скуратова?
И прозвучал сей вопрос так неожиданно, что боярин Семён опешил. Знал он, что Фёдор Романов якшался с ведунами-чародеями и мог ведать о роковом пороге любого смертного. И вздрогнул многажды свершавший злодеяния первый палач России. Но страх всегда пробуждал в Семёне Годунове слепую ярость, и он ещё громче крикнул:
— На колени, тать!!
Князь Фёдор продолжал стоять. Семён сделал знак Тетере, тот вмиг подскочил к князю и ударил его ногой в подколенья, и князь Фёдор упал. Тетеря придавил его за плечи к каменному полу. Но Фёдор не смирился с насилием. В свои сорок шесть лет он был ещё достаточно силён и не уступил Лучке. Он скинул руки палача с плеч и встал.
— Не смей прикасаться ко мне, кат! — крикнул он Лучке. И так же властно, словно отдавая повеление, сказал боярину Семёну: — Зачем достоинство боярина порочишь? Сам и пытай!
Боярин Семён не смотрел на князя. Он поднял руку и сказал Лучке:
— Ладно, Тетеря, мы ещё лишим спеси сего татя. Иди к делу.
Лучка медленно, словно медведь переваливаясь с ноги на ногу, ушёл в другой каземат, и в сей же миг оттуда донёсся нечеловеческий крик. Палач как перешагнул через порог в пытошную, так схватил раскалённый шкворень из огня и ткнул в спину привязанному к столбу страдальцу. Этим страдальцем был дворовый человек Романовых по имени Глеб. Лучка прижёг спину в новом месте, и Глеб заорал ещё истошнее. В эту минуту боярин Семён ввёл Фёдора Романова во второй каземат и сказал ему:
— Видишь, это твой Глеб-лабазник. Вот милостью просим его открыться, почему о зелье отравном молчал. Да будем пытать, пока не откроется. Ты слышишь, Глеб, вот твой боярин стоит, скажи, как он велел тебе молчать о кореньях. Он совестливый, отрицать не будет. Говори, и ты обретёшь облегчение участи.
Глеб лишь промычал глухо в ответ. И тогда Лучка сунул калёный шкворень между ног под ягодицы. И снова раздался истошный крик.
— Зачем невинного терзаешь? Ему ничего не ведомо о кореньях. Бога в тебе нет, боярин Семён, — сказал князь Фёдор.
— Вот и откройся, порадей за него. Ты ведь жалостивый, нищелюбец и милосердец. Ну, открывайся же, с какой метой коренья в стольный град привёз? — требовал боярин Семён.
Фёдор Никитич вновь ощутил душевное страдание. Не за себя, нет. Он отрешился уже от бренного существа своего и страдал за ближних, за холопов, коих немало увели со двора чёрные слуги Годунова, за всех невинных, коих изводили волею царя Бориса. Князь Фёдор не знал, что делать. Но какое-то движение в груди началось и побуждало к чему-то. К чему, Фёдор ещё не уразумел. А боярин Семён стоял над душой и требовал открыться, вынести себе приговор.
— Не жаль Глеба, так пощади инших. Все они, твои сродники, тут, у пытошных столбов. — И боярин Семён двинулся к другой двери. Стражи повели Фёдора Романова следом.
И то, что открылось опальному князю, повергло его в ужас. В подземелье были собраны все его четыре младших брата, вся близкая и дальняя родня. Со всех уже содрали одежды и привязали к столбам. Палачи ходили близ них и пробовали, хлёстко ли бьют плети, ударяли ими о каменные стены, о пытошные столбы. Средний брат, Михаил, богатырского сложения, увидев старшего брата, попытался оборвать ремни, коими были стянуты его руки за столбом, и тут же получил удар плети, на белой спине вспыхнул алый рубец. Князь Фёдор ринулся защитить брата, но стражи ухватили его за плечи, сдавили, словно тисками, и повели дальше, следом за боярином Годуновым.
Потом Фёдор Романов скажет, что истязание мужского тела ещё не повергает в крайний ужас того, кто за сим наблюдает. То, что он увидел в третьем каземате, и оказалось той гранью, за которую князь зацепился ногами и упал на колени. В том третьем застенке Семён Годунов собрал всех женщин, девиц и отроковиц, кои были в большом роду Романовых, и среди тех, кто был с ними в родстве и свойстве. Над всеми орудовали палачи, готовили их к пыткам. Десятки женских обнажённых спин увидел князь Фёдор. И среди них узнал по родимому пятнышку спину своей супруги боярыни Ксении. Он крикнул:
— Ксюша, Господи!
Она же повернула голову и умоляющим голосом позвала:
— Батюшка Фёдор Никитич, смилостивись над нами, Христом Богом прошу! Не дай надругаться катам!
И то, что будоражило душу князя Фёдора, прорвалось ясной и осознанной мыслью: «Ежели есть на нас вина, то допрежь всего на мне! Потому токмо мне и нести тяжкий крест!» И как всегда скорый на действие, Фёдор потребовал от боярина Годунова:
— Иди к патриарху и скажи: Фёдор Романов готов к покаянию. Да пусть приходит со святейшим и царь.
Боярин Семён зло прищурился, кунью шапку на глаза пониже осадил, сказал, как хлыстом ударил:
— Много чести требуешь, тать. Мне покайся, пока плети не заиграли в охочих руках, — упрямо гнул свою линию Годунов и крикнул: — Эй, слуги государевы, замахнитесь-ка!
И надломил боярин князя Фёдора:
— Веди к царю, ему покаюсь!
— Так-то оно лучше, — согласился боярин Семён. И задумался: то ли вести Фёдора к царю, то ли ждать в пытошной, ведь обещал прийти.
Так и было. Царь Борис появился в казематах сам. И патриарх Иов его сопровождал. Да не было в том случайности. Ещё прежде с глазу на глаз царь Борис велел своему дядюшке только устрашить пытками как ближних Фёдора Романова, так и его самого, лишь для острастки подвергнуть всех мужей кнуту. Надеялся царь Борис через это заставить-таки Романовых оговорить себя в преступном заговоре против него. И уж после того, как сия мера не поможет, то вздёрнуть на дыбу вначале князя Александра Романова, а там и других Никитичей, ежели будут упорствовать. Ой как хотелось Борису Годунову выместить злобу и ненависть на этих непокорных князьях, на любимце царя Ивана Грозного князе Фёдоре Романове. И сам царь Борис думал присутствовать в тот час, когда в пытошных запахнет жареным мясом, когда на белых спинах князей разольётся алая руда.
Всему помешал твёрдый стоятель за правду и справедливость, защитник истинных православных христиан, патриарх всея Руси милосердец Иов. Он через тайну исповеди узнал от Бартенева второго о том, что на род Романовых возведён поклёп. А как проводил с покаяния Бартенева, поспешил в царский дворец. Имени покаявшегося он не назвал, но сказал царю:
— Государь-батюшка, сын мой, ведома мне подоплёка вины Романовых, и за ту вину нельзя их подвергать пыткам. Так ты уж, государь-батюшка, запрети палачам касаться Романовых и их близких. Именем церкви и Всевышнего Господа Бога прошу. Да вознаградит Он тебя за милосердие.
Царь Борис высоко чтил патриарха Иова, помнил, что только ему обязан восхождением на престол. Это он, крепкий адамант православной веры, в год кончины царя Фёдора девять месяцев твёрдо стоял против князей Романовых, Шуйских и князя Мстиславского, кои покушались овладеть троном. И устоял пред натиском недостойных и венчал на царствие умнейшего россиянина. И царь Борис не уставал благодарить Бога и патриарха за великую милость к нему. И потому царь Борис не озлился на сказанное Иовом и прозвучавшее повелением. Он лишь спросил:
— Святейший владыко, почему я не должен посылать на правёж врагов моих? Они лишь получат по делам своим.
— Сие не так. И ты возьмёшь грех смертный на душу за невинно пролитую кровь. — И тихо, но твёрдо добавил: — Помни об Угличе, государь-батюшка. Его колокола ещё бьют набат.
Напомнив об Угличе, патриарх больно ударил царя Бориса, потому как со временем грех, взятый на душу за невинно пролитую кровь в том волжском городке, становился всё тяжелее. Узнал Годунов недавно и то, что будто бы царевича Дмитрия в ту майскую пору убить не удалось. И он где-то близко. Страх заковал душу и сердце Бориса в обруч, и теперь сей обруч сжимался после каждого напоминания о трагедии в Угличе. Вот и сейчас у Бориса Годунова перехватило дыхание и трапезная, где он встретил Иова, поплыла перед глазами. «Господи, доколь же меня казнить будут?» — воскликнул царь Борис в душе. Да справившись со слабостью, впервые, может быть, за время царствования прогневался на патриарха и сурово сказал:
— Святейший, ты молись о спасении моей души, а в государевы дела не вмешивайся.
Но патриарх не дрогнул.
— Многие годы я печалуюсь о твоей судьбе, о твоей душе. Да тому конец близок. Потому как дерзание твоё не против патриарха и церкви, но противу Господа Бога. Опомнись, сын мой. Подвигнемся в пытошную, остановим чинимый произвол.
— Повинуюсь воле Всевышнего. Тебя же ещё попрекну — сказал царь Борис и покинул дворец.
До земляной тюрьмы от царского дворца всего сто с лишним сажен. Вдоль дороги лежали высокие бунты брёвен лиственницы, гранит, камень — всё для нового храма Всех Святых, который задумал воздвигнуть Борис Годунов. Макет этого храма, в рост царя Бориса, уже стоял в дворцовой палате — красы невиданной, сказывали, великолепнее даже константинопольского собора Святой Софии. Да не воплотилась в жизнь мечта царя Бориса. Не позволил ему Всевышний соорудить сей храм, счёл Господь, что нет у Бориса на то права.
Переступив порог пытошной тюрьмы, царь Борис сказал патриарху:
— Вот мы пришли, а тут тишина благостная, никого правежом не пытают — Борис Годунов не заметил ни истерзанного палачами Глеба, ни крови на спине князя Михаила Романова.
Но патриарх Иов всё увидел.
— Творя земной суд, бойся суда Божьего, — тихо сказал святейший царю и проследовал в тот каземат, где держали женщин и где в сей миг был боярин Фёдор. Патриарх подошёл к нему.
— Знаю, сын мой, ты звал нас. Вот мы пришли, покайся, и государь проявит милость, — сказал Иов.
— Покаялся бы, святейший, да поклёп на себя возведу, потому как знаю, какого признания ждёт государь.
В сей миг к князю Фёдору подошёл царь Борис. Он посмотрел на Фёдора пустыми и безразличными ко всему глазами. На его лице лежала печать усталости и отчуждённости. И было видно, что жизнь уже ничем не радовала государя. И причиной тому был всё тот же царевич Дмитрий. Приблизившись к князю Фёдору, которого продолжали держать за руки стражи, царь Борис сказал:
— Ты есть раб Божий и не смеешь скрывать ничего, что во вред мне, помазаннику Божьему.
— Ты, государь-батюшка, услышишь моё откровение. Да пусть его услышит и святейший патриарх. А иншим и нет нужды...
— Внял твоему побуждению. — И повелел боярину Семёну: — Отведи князя Фёдора к алтарю Сенной церкви. — Фёдора повели, а царь Борис спросил патриарха: — Так ли ты хотел, святейший?
— Так, сын мой. Там, в храме, пред ликом Христа Спасителя, он не прольёт лжи.
Фёдора Романова привели в ближайшую от пытошных казематов церковь, в коей в разное время исповедовались государевы преступники.
Царь Борис велел стражам покинуть храм. Иов же удалил священника, и они остались втроём. Князь Фёдор опустился на колени, помолился и встал, продолжая креститься, заговорил:
— Пред ликом Отца Всевышнего скажу только правду и ни слова лжи. Коренья на моём дворе подмётные. И никто из рода Романовых никогда не мыслил отравить кого-либо зельем. Но ты, государь-батюшка, волен винить нас в другом. — Голос князя Фёдора звучал чисто, звонко и легко возносился под купол храма. — Род Романовых, и тебе это ведомо, имеет прав на царский престол больше, чем род Годуновых. И после кончины царя Фёдора кому-то из Романовых надлежало встать у кормила державы. Но ты, государь, обошёл нас. Да всё благодаря патриарху Иову, который оценил твой ум выше моего ума. Не отрицаю, святейший прав. Но твой век, государь-батюшка, недолог. — Князь Фёдор не спускал глаз с царя Бориса и говорил ему ту правду, от которой душа его стала леденеть. — Мне ведомо, что написано на скрижалях твоей судьбы. Тебе дано царствовать семь лет — ты сие знаешь, — а что надвинется за гранью, ведомо токмо Всевышнему. И потому, пока жив хотя бы один отпрыск рода Романовых, мы лелеем надежду встать на троне святой Руси. На том целую крест. — И князь Фёдор поцеловал поднятый Иовом крест.
Царь Борис побледнел как полотно. На его лице выступил пот Он готов был узнать какую угодно правду, но только не эту. Был день, когда он воскликнул перед ведунами, что будет рад надеть корону хотя бы на семь дней. Они же щедро подарили ему семь лет И вот уже половина отведённого судьбой срока миновала. И страх неведомого, скорее всего ужасного, угнетал царя Бориса с каждым днём сильнее. И чтобы найти выход из заколдованного круга и забыться, он всё больше скатывался на путь тирании. И всё повторялось так, как было в последние годы жизни царя Ивана Грозного. Царь Борис преследовал всех, кто даже в самом малом выражал свои мысли против него. Для этого он и завёл целую армию шпионов, доносчиков, клеветников, поставил над народом городовых, набрал сотни палачей. «Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести», — сказывали очевидцы.
Потому-то правда, выраженная князем Фёдором Романовым пред алтарём храма, оказалась для царя Бориса страшнее пытки, на кою он думал обречь своего недруга. Терпение царя иссякло, и он крикнул в припадке гнева:
— Досталь! Нет у тебя никаких прав. Волею Всевышнего я лишаю тебя и всех твоих сродников всего земного! Эй, стражи, — повернувшись к вратам храма, крикнул царь Борис, — взять его! Отведите сей же миг на правёж моим повелением!
Стражи подбежали к князю. Но в это мгновение проявил свою волю патриарх. Он встал перед Фёдором и защитил его.
— Изыдьте, досужие. — И повернулся к царю: — А ты, государь-батюшка, не чини суда неправедного и не поминай имени Господа Бога всуе, да будешь пребывать под его десницей.
Царь Борис и на патриарха замахнулся. Да увидев его суровый взгляд и каменную твёрдость в лице, и крест, который святейший поднял против него, словно отгонял беса, государь дрогнул и отступил. Он молча покинул храм, и в голове у него билась одна короткая мысль: «Я одинок! Я всеми покинут!»
Стражи взяли князя Фёдора за руки и повели из храма. Патриарх Иов тихо шёл следом. К нему подошёл услужитель архидиакон Николай и взял его под руку. Святейший думал в эти минуты о том, что настало время призвать Боярскую думу и архиереев к тому, чтобы они взяли судьбу Романовых в свои руки.
Глава вторая Ведуны
Близился второй год нового, семнадцатого столетия. Страх, который довлел над россиянами в конце прошедшего века, рождённый предсказаниями о великом Божьем гневе, уже развеялся. Конец света, как предвещали колдуны и ведьмы на площадях и папертях соборов и церквей, не наступил. И жизнь, постепенно одолевая страх последних лет, входила в свою колею. Но москвитян волновало всю весну и лето не только то, что их миновал гнев Божий, а страсти, которые разгорелись вокруг известного всей Москве рода Романовых.
Вот уже несколько месяцев дьяки Разбойного приказа строчили обвинения на братьев Никитичей в злочинстве против государя. А конца сему следствию не было видно. Москвитяне жалели Романовых. Возле их палат на Варварке ежедень собирались толпы горожан, судили и рядили на все голоса. И все надеялись, что царь Борис снимет наконец опалу с Романовых, выпустит их на свободу, а с ними и четверть Москвы сродников. Это была шутка, но горькая, по тюрьмам и правда томились в эту пору тысячи россиян. Ждали возвращения милосердных князей и сотни нищих, бездомных. У их ворот бедолаги часто находили короба с горячими и вкусными пирогами с потрохами и капустой. Сколько их, нищих, неимущих приходило утолить голод к княжеским воротам.
И почти каждый день на Варваркино торжище, что близ подворья Романовых, приходили ведуны Сильвестр и Катерина. И только слушали, внимали всему тому, о чём говорил народ, сами ни с кем не вступая в разговоры. К тому же они прятали свои лица, меняли свой облик. Ведун Сильвестр появлялся в старом охабне, каждый раз в другом, капюшон на голову натягивал, рыжей бороды не носил, а вместо неё пегий клин выставлял, зелёные глаза прятал под мохнатыми сизыми бровями. И Катерина ходила по торжищу, упрятав голову в платки-хустки так, что никто не мог увидеть её красивого лица, её огненно-рыжих кос и обжигающих, зелёных, как и у Сильвестра, глаз.
Знали Сильвестр и Катерина, что в Москву собрались многие холопы и дворовые люди, крестьяне из вотчинных сел и деревень рода Романовых, коих немало имелось по России. И ведуны искали средь них преданных Романовым людей, дабы в нужный час взять их в помощь, коя могла потребоваться. Катерине и Сильвестру помогал монах Яков, который до того, как принять постриг, долгие годы служил Романовым. Яков побывал во всех княжеских вотчинах, знал сотни холопов и крестьян, приписанных к княжеским землям. В тот день, как Катерине удалось встретить Якова да как разговорились, он сказал ей:
— Ведаю, благая Катерина, что тебе близок князь Фёдор, мой благодетель. И силу твою ведаю. Потому Христом Богом прошу порадеть за князя и спасти его от жестокого прикрута и опалы.
— Тебе спасибо, Яков, что сам радеешь и скорбишь за князей Романовых. Да помни, святой отец, о том, что судьба князя Фёдора в руках Божиих. И никто не волен изменить его участь. Но помни, Яков, и о другом, о том, что Всевышний проявит к князю Романову милость. Сие придёт не скоро, но сбудется, как на смену ночи приходит день. О том и говори всем, кто верой и правдой служит князьям Романовым. Их час придёт.
Увы, тогда и Катерина не ведала, что того часа придётся ждать многие годы. А пока впереди у Романовых лежал бесконечно долгий путь по терниям и страданиям.
К июню следствие по делу Романовых было завершено и состоялся приговор. Его вынесли за два месяца до того, как пришёл час проявиться истинному гневу Господнему, поразившему всю центральную Россию в августе 1601 года.
А тогда, накануне дня Святой Троицы, Пятидесятницы, среди москвитян прошёл слух, что к Романовым якобы будет проявлена милость. И москвитяне искренне обрадовались, возносили хвалу царю Борису. И как же велико было их огорчение и разочарование, когда на Духов день свершилось-таки в Москве чёрное дело — суд неправедный. И никому из окружения государя не ударило в сердце, в душу, что в Духов день Господь призывает всех верующих и паче чаяния помазанников Божиих помнить о главной заповеди, о любви к ближнему, о милосердии к покаявшемуся. Потому-то и послал Вседержитель на землю в сей День Святого Духа — Утешителя.
На этот раз Утешитель не явился к россиянам. Москва взбудоражилась. На улицах, на площадях толпы людей метались туда-сюда, искали сведых людей, служилых, кои рассказали бы о том, что случилось в Кремле, какую кару придумал царь Борис Романовым.
Пополудни возле Троицких ворот Кремля, из коих шёл путь на Пречистенку, появилась Катерина. Она по-прежнему таилась от чужих глаз. Одежонка на ней была старенькая, вытертый ситцевый платок с бахромами опущен почти на нос. В руках она держала корзину, в которой лежала разная огородная зелень. Затаившись близ ворот в углу под стеной, она зорко следила за каждым, кто выходил из Кремля. Долго её лицо ничего не выражало. Но вот вдали появился думный дьяк Андрей Щелкалов, дом которого был в ста саженях от Троицких ворот. Лицо молодой женщины оживилось, она побледнела, а зелёные глаза властно вскинулись на Щелкалова, и у него что-то сдвинулось в душе, он смотрел только на Катерину, окружающее исчезло из его внимания. Он шёл как слепой и шептал о том, что случилось в Кремле, какую кару Романовым вынесла Боярская дума и утвердил царь Борис. Всё это длилось лишь несколько мгновений. А когда Щелкалов миновал Катерину, он вновь увидел толпу людей, их возбуждённые лица, крики. Многие узнали его, требовали рассказать о судьбе Романовых. Но, отрезвев, он сурово отвечал настырным, что ничего не ведает о Романовых. Вырвавшись из толпы, он побежал и вскоре скрылся на своём подворье за высокими тесовыми воротами. На дворе он остановился передохнуть, а как перевёл дыхание, то ему показалось, что с ним ничего не случилось, никому и ничего он не раскрыл из тайного. А если бы его всё-таки спросили, почему он шёл по спуску словно слепой, ответил бы, что усталость взяла своё, потому как больше суток не знал покоя, не спал. И добавил бы, что спасибо неведомой страннице, коя привела его в чувство.
А «странница» уже затерялась в толпе и торопливо уходила в сторону Пречистенки. Но вскоре свернула к Москве-реке, там улочками взяла путь к Донскому монастырю.
Катерина не случайно пряталась от москвитян. Её знали многие. Она и её муж Сильвестр держали на Пречистенке большую лавку, торговали узорочьем, паволоками, благовониями — всем, что любили московские модницы. Да знали некоторые москвитяне, что Катерина и Сильвестр занимаются ведовством. Но одного почти никто не знал, того, что Катерина имела Божий дар ясновидения. И под её чары попал дьяк Андрей Щелкалов, глава Посольского приказа.
Теперь Катерина могла бы рассказать москвитянам о том, что их волновало в судьбе Романовых. Всё это она выведала у думного дьяка Андрея Щелкалова: который был в числе судей, вершивших неправедный суд над князем Фёдором Романовым, над его братьями и сродниками. Но нет, ей нельзя было открыться кому-либо. И показаться — тоже. Ей приходилось прятать лицо, и огненно-рыжие волосы, и манящие губы, и колдовской силы глаза, и дарственную стать. Всё, чем раньше любовались москвитяне, она спрятала от их взоров. Потому как стоило бы только одному шишу-доносчику узреть Катерину, как её бы схватили. И охотились за нею по воле главы Разбойного приказа боярина Семёна Годунова. Он давно искал её повелением царя Бориса. Было же много лет назад такое, когда Борис-правитель в поисках ведунов заехал под Можайском в деревню Осиновку и там нашёл предсказателей. И была среди них Катерина: приехала погостить у деда по матери. Она-то и открыла Борису Годунову его судьбу — семь лет царствования. А прошлым летом царю Борису показалось, что семь лет пробыть на троне — очень малый срок. Но больше Бориса беспокоило то, чего он не мог знать, что там дальше будет за семью годами. Он повелел своим слугам найти Катерину, привести её во дворец. Но Катерина не отозвалась на просьбу царя и слугам его не далась, напустила им в глаза туман и скрылась.
Царь Борис во гнев пришёл, велел разыскать её во что бы то ни стало, схватить и на правёж послать, дабы там открыла царскую судьбу за окоёмом седмицы лет. И слава Всевышнему, что в ту пору послал ей защитника от царёвой расправы, митрополита Казанского Гермогена. По его совету они тайно забрали всё ценное в своей лавке, и он же тайно отправил Сильвестра и Катерину в Казань. Там они и скрывались. Оттуда же митрополит послал ведунов в Москву узнать всё, что можно о судьбе Романовых, которых чтил.
Ведомо было россиянам, что митрополит Казанский Гермоген не признавал Бориса Годунова царём. И три с лишним года назад он и ещё два противника Годунова из пятисот выборных не подписали избирательную грамоту и не целовали крест на верность новому царю. И все они, митрополит Московский и Крутицкий Дионисий, архимандрит Псково-Печерской лавры Антоний и он, Гермоген, попали в опалу, были всячески притесняемы. Гермоген и без того был в немилости, потому как дружил с князем Василием Шуйским, к князьям Романовым относился с уважением.
И теперь, когда последние оказались в беде, Гермоген счёл долгом чести оказать им посильную помощь. И видел он ту помощь в одном, в побуждении царевича Дмитрия поскорее открыться народу. Только он, взойдя на законный престол по праву наследства, мог спасти Романовых.
Сам Гермоген не рискнул приехать в Москву. Знал, что о его появлении в стольном граде вскоре же будет ведомо царю Борису, а тот нашёл бы повод обвинить неугодного архиерея вкупе с князьями Романовыми. Потому и послал митрополит своих верных и преданных помощников с надеждой на то, что они сделают всё посильное им.
Сильвестр и Катерина пришли в Москву в конце апреля под видом торговых людей. И товар у них был достойный на возу — мёд и воск из заволжских лесов. Они остановились в посаде близ Донского монастыря среди ремесленников. Сами занялись ремеслом. Сильвестр купил небольшой дом по случаю, устроил при нём кузню, стал ковать немудрёную церковную утварь. Катерина вышивала пелены. А как обосновались, взялись за то, что наказал им сделать Гермоген. Им было велено увести из Чудова монастыря инока Григория, работающего у патриарха Иова переводчиком и книгописцем духовных книг греческого письма.
В начале мая Сильвестру удалось встретиться с Григорием. Пришёл Сильвестр к монастырю с коробом глиняных чернильниц и с ярославскими орешковыми чернилами к ним. Кому же как не монастырским писцам продать сей товар. Так и встретились инок Григорий с торговым гостем Сильвестром. И в келью Григорий привёл его. Там иноку гость из Казани сказал:
— Ведомо нам, что тебя опекали бояре Романовы, а почему, сам знаешь. Теперь же они в опале, и надолго. И пришло время тебе самому позаботиться о будущем.
— Сия забота и меня одолевает да не вижу начала, — ответил Григорий.
Сильвестр знал отца этого инока, видел его так же близко. И находил много сходства с батюшкой. Разве что черты были помельче, несли в себе нечто материнское, от красавицы Марии Нагой, последней супружницы Ивана Грозного. И потому Григорий был нраву покладистого, без побуждений к жестоким действиям. И те слухи, которые распускали по Москве ещё десять с лишним лет назад, были ложью. Тогда на улицах стольного града можно было часто услышать, будто бы Дмитрию лепили снежные чучела, а он рубил им руки, головы и приговаривал: «Так будет со всеми моими супротивниками, как стану царём, а первому отрублю голову Бориске Годунову». «Ложь сие, дикая ложь», — утверждал Сильвестр. И, побуждаемый жалостью к царевичу, сказал:
— Вот я пришёл к тебе, дабы вывести на путь, по коему должно тебе идти. Сей путь, запомни это, благословил митрополит Казанский Гермоген. Он и меня прислал к тебе.
— Говори, брат мой, — попросил инок.
— Слушай, страдалец. Найду я тебе верного товарища или сам провожу тебя в Киев. Там придём мы к воеводе князю Константину Острожскому, и ты откроешься ему. Он же объявит тебя по всем зарубежным державам. Потом мы уйдём в Северскую землю, там найдём Почаевскую обитель и явимся в неё. И отдашь ты себя на попечение архимандрита Геласия. Он же пошлёт во все российские города и земли иноков, кои повсюду будут открывать тебя. И тогда ты придёшь в славный город Путивль. И будет он твоей названной столицей до поры. А как встанет близ тебя войско и рать народная, так пойдёшь на Москву за троном.
— Господи Боже, как стройно всё у тебя. Да исполнится ли сие?
— Ты под защитой Всевышнего.
— А коль исполнится, быть тебе моим первым советником! — воскликнул обрадованный царевич Дмитрий.
Они ещё поговорили, и, расставаясь, Сильвестр сказал:
— Мы уйдём с тобой в день благословенного князя Дмитрия Донского. Ты придёшь к вечеру в посад Донского монастыря и в доме близ южной башни найдёшь меня, именем Игната. В ночь и уйдём.
— Приду, ежели смогу, — не очень уверенно ответил Дмитрий. — Ворота на ночь в Кремле ноне закрывают.
— Тогда днём уходи. Вот ты купил у меня орешковых чернил, а деньги, скажешь, не всё отдал. И понесёшь их, ежели что, — наставлял Сильвестр. С тем и ушёл.
А накануне чествования Дмитрия Донского случилось то, чего инок Григорий больше всего боялся. Шиш-доглядчик из своей же монастырской братии усмотрел на груди Григория царский крест. Видел он подобный в сокровищнице Ивана Великого. Многим показывал тот крест боярин Семён Годунов, дабы шиши знали, кого искать. И предостерёг Всевышний инока Григория в одном: разбудил его в тот миг, когда шиш исподнюю рубаху на его груди распахнул. Случилось сие в час отдыха после полуденной трапезы. Схваченный за руку монах отделался шуткой, а вскоре скрылся из обители. Инока Григория словно огнём обожгло: донесёт. И он, не мешкая, собрал в суму кой-какие вещички, спрятал её под сутану и пришёл к игумену, показал деньги, отпросился из монастыря:
— Избавь от греха, преподобный отец, обещал ноне принести долг.
— Иди, раб Божий, да к вечерней молитве вернись, — велел игумен и благословил: — Во имя Отца и Сына...
И Григорий покинул Чудов монастырь, покинул Кремль, в стенах которого в молитвах и труде провёл два года и в который думал вернуться в подобающем его праву звании. Он благополучно добрался до Донского монастыря, нашёл в посаде дом Сильвестра.
Ведун уже приготовился к дальней дороге. Сам он тоже оделся в монашеский наряд. Катерина уложила в две сумы дорожные припасы: хлеб, колобушки, кокурки с запечённым яйцом, вяленого мяса, луку, соль, баклагу с вином — всё, что давало возможность путникам не заходить в города и сёла, дабы не оказаться в руках приставов. Перед заходом солнца, пока заставы были ещё открыты, Сильвестр и Григорий покинули Москву.
В тот же вечер в Чудов монастырь пришли люди Разбойного приказа, дабы заковать в железа татя, укравшего царский крест. Они самочинно вошли в дом с монашескими кельями и стали искать инока Григория. Но пришёл архимандрит Пафнутий и спросил людей Семёна Годунова:
— Зачем вы гневите Бога и чините смуту в обители?
— Мы по государеву делу. Где инок Григорий?
— Его нет в обители, он отпущен в город и скоро вернётся. — Но что-то подсказало Пафнутию, что Григорий больше уже не появится в монастыре, и он порадовался за инока.
Люди Семёна Годунова ждали Григория всю ночь да так и не дождались. Утром они обо всём доложили боярину Семёну. Гневный и яростный, он примчал в монастырь и набросился с руганью на Пафнутия:
— Поднимай свою братию, преподобный, и пусть она обыщет всю Москву и приведёт ко мне татя! А не найдёте, быть тебе, потакатель, на Белоозере.
Спустя день так всё и случилось. Вопреки воле патриарха, Пафнутия лишили сана и сослали в Кириллов монастырь на Белоозеро.
Всё это Катерина вспомнила по пути к Донскому монастырю спустя несколько недель, как покинули Москву Сильвестр и Григорий. «Да вознаградит тебя, отец Пафнутий, Всевышний за милость к страдальцу Григорию», — шептала Катерина, поднимаясь от Москвы-реки на Якиманку. Она спешила, зная, что вот-вот вернётся из дальнего похода Сильвестр. Из Москвы он ушёл вдвоём с Григорием, но в пути к ним присоединились два инока Донского монастыря, Варлаам и Мисаил. Сильвестр и его спутники привели Григория в Киев. Там Сильвестр и Григорий пришли к палатам князя Константина Острожского и ведун поручил инока слуге князя Богдану, который был истинным православным христианином и служил не только князю, но и русской церкви. Это был богатырь. За утренней трапезой он съедал молочного поросёнка, гуся, кусок говядины, головку сыра, три хлеба и всё это запивал жбаном сыты. Потом с нетерпением ждал обеда.
Двор князя Острожского служил пристанищем для всех, кто ненавидел латинскую ересь. Инок Григорий не проявлял к ней любви и потому оказался под надёжной защитой. Досадно было Сильвестру то, что в пору их появления князь пребывал в отъезде. И Богдан не знал, когда тот вернётся. Но слуга заверил ведуна, что отведёт гостя к князю в тот же день, как князь вернётся. И Сильвестр покинул Киев с чистой совестью. В пути он нигде не задерживался и вернулся в Москву в тот день, когда Катерина встретилась близ Кремля с думным дьяком Андреем Щелкаловым. И теперь Катерина и Сильвестр сходились у Донского монастыря. И надо же быть такому подошли к дому минута в минуту. Сильвестр вёл на поводу усталого коня гнедой масти, купленного им в Киеве, и сам еле тянул ноги.
Катерина откинула с головы старенький ситцевый платок, раскинула на плечи вьющиеся волосы и, улыбаясь, ждала Сильвестра. Увидев Катерину, он забыл об усталости и поспешил к ней навстречу. И они сошлись. Сильвестр обнял Катерину, спросил:
— Вижу, ты в горести и куда-то ходила. Что тебе ведомо о Романовых?
— Как я по тебе изошлась, любый. А была я близ Кремля и видела дьяка Щелкалова...
— И что он? Романовых осудили? Казнь? Дыба? Ссылка? — торопливо спрашивал Сильвестр.
— Ведаю одно: Романовы пойдут в изгнание.
— Господи, но сие не самое страшное. Век Бориса сочтён. И тогда...
Катерина посмотрела на мужа печальными глазами, и он увидел в них боль души.
— Тебе ещё что-то ведомо?
— Вижу за окоёмом страдания непосильные... Вижу жальник и три креста над кладуницами трёх братьев Романовых. А кто останется жив, пока не ведаю.
— По-твоему, в Волчьи пустыни их? — тихо спросил Сильвестр.
— Туда, — ответила Катерина и сама спросила: — А ты всё ли исполнил?
— Всё. Да за туманом не вижу, как у него впереди...
На Катерину и Сильвестра уже смотрели посадские бабы, ребятишки кружили близ коня.
— Что ж мы тут слупами стоим, — сказала Катерина и направилась к дому на подклете и с высоким крыльцом.
Отдых Сильвестра после дальней дороги был недолгим. Исполнив волю митрополита Гермогена, Сильвестр подумал, что хорошо бы проведать, в какие земли погонят Романовых или хотя бы одного из них — старшего брата Фёдора.
Катерина согласилась с мужем. И ранним утром в день мученика Лукиллиана ушли к Кремлю, дабы узнать, когда опальных погонят из Москвы. И узнала всё в конюшнях Разбойного приказа. Там уже во множестве были приготовлены крытые возки и каждый из них был снабжён цепью, на коей сидеть преступнику, дабы не сбежал в пути. Катерина искала среди конюхов можайского земляка. Его там не было, но она узнала, что конвой с осуждёнными покинет Москву с наступлением ночи. Не мешкая, Катерина вернулась в посад. Сильвестра нашла в мастерской, где он ковал подсвечники.
— Что там, люба? — спросил Сильвестр.
— Суд и расправа у нашего царя скорые. Нынче в ночь и погонят сердешных, — ответила печально Катерина.
Помолчали. Сильвестр ещё постучал по пластине меди, лежащей на наковальне. А Катерина подошла к огню и сосредоточенно смотрела на него. Зрачки её зелёных глаз сузились до крапинок, но к огню, или от огня к глазам, протянулись два луча. И Катерина увидела то, что раньше не давалось ей. На язычках пламени горна светился образ князя Фёдора в одеянии архиерея, но с патриаршей панагией на груди. На голове у него не было ни митры, ни клобука. А на губах под опрятной русой бородой играла улыбка. Да и глаза излучали радостный свет. «Господи Боже милостивый, спасибо, что открыл истину!» — воскликнула в душе Катерина. А как погасло видение: ясновидица тихо сказала Сильвестру:
— Родимый, я видела князя Фёдора. Через плечо омофор и панагия на груди. Быть ему патриархом всея Руси, как наречено пятнадцать лет назад.
Ёкнуло от ревности сердце Сильвестра. Знал он, что до замужества Катерина любила князя Фёдора. Не осталось от него сокрытым и то, что вспомнила она в сей миг берёзовую рощу на берегу Москвы-реки за Звенигородом и хоровод обнажённых дев в полуночную пору на Ивана Купалу. Сильвестр видел, как девы разбежались от костра по роще и как Катерина попала в объятия князя Фёдора, как он подхватил её на руки и унёс в глубь леса под вековой дуб, и там свершилось таинство их сближения. Тогда-то Катерина и сказала молодому князю, что ждёт его в будущем. И теперь в языках пламени Катерина всё увидела вновь, возвращаясь к языческой поре юности. Сильвестр и своё в памяти ворошил. Было такое, когда и он подбирался тайком к девичьим хороводам, и не однажды умыкал юных дев и отдавался вместе с ними во власть бушующей молодой плоти. И ему ли упрекать Катерину в том, что он не первым познал радость близости с нею. Да вот теперь они уже многие годы торжествуют вдвоём, потому как в этой женщине, рождённой в пламени, огонь любви к нему разгорается с каждым годом сильнее. Сие он знал точно.
Сильвестр подошёл к Катерине, обнял её со спины, прижал к груди, и они долго смотрели на огонь вместе и видели общее — себя в природном естестве. Молча они ушли из кузни и вошли в избу. И там, в уединении, дали волю своей горячей страсти. Ловкие руки Катерины раскинули на ложе чистые простыни. Потом же она скрылась за печью, сняла одежды, обмыла тёплой водой груди, живот и всё ниже, и пока натиралась благовониями, побуди ла раздеться Сильвестра. И он совершил обряд чистоты. Катерина ждала его на ложе, нежилась в ожидании мужа. И он опустился рядом. Он поцеловал её девичьи груди и жаждущие губы и счастливые, пламенеющие глаза. Он готов был утонуть в своей возлюбленной семеюшке и смеялся и ликовал. Да Катерина, горя от нетерпения, побудила Сильвестра спрятать детородный уд в материнском лоне. И они предались забвению. И одному Богу было ведомо, сколько времени они блаженствовали, и казалось, что конца не было видно их жажде близости. И было похоже, что они забыли обо всём на свете. Ан нет. Всё было проще и мудрее. Они свершали свой ритуал пред долгим расставанием. Так уж у них повелось в течение всех лет супружеской жизни, потому как помогало беречь себя в разлуке от бесовского наваждения. А дело у них всегда оставалось главным.
И когда день склонился к вечеру, Катерина собрала Сильвестра в дорогу, как и прежде, положила в дорожную суму всё, что нужно путнику в долгом пути по диким местам. И про чистое исподнее бельё не забыла, и баклагу с вином уложила, чтобы поддерживать в пути силы.
Расставались они в тот час, когда на землю опустилась ночь. Они увидели слева серпик народившейся луны и оба подумали, что это к удаче. На прощание Сильвестр сказал:
— Как вернусь, помчим в Казань. Ксюшеньку хочу обнять и подержать на руках, в глазыньки посмотреть.
Катерина легко ударила мужа по плечу:
— Господи, зачем травишь душу. Уж я-то и вовсе извелась по доченьке. Но в благости Ксюша, хранимая отцом нашим Гермогеном.
Сильвестр поцеловал Катерину, молча поднялся в седло и, не оглядываясь, покинул двор. Конь ступал тихо по мягкой земле, и никто не слышал, не видел: как ведун в какой раз покинул ночью свой дом.
Катерина ещё постояла у крыльца, закрыла конюшню и поднялась в дом, моля Бога о том, чтобы сохранил в пути ищущего истину, и прочитала молитву о путешествующих.
Глава третья Изгнание
Князь Фёдор Романов знал, за кого молить Бога о сохранении жизни. Он не сомневался ни минуты в намерении царя Бориса лишить его живота. Будь на то воля Бориса, он бы не только его, Фёдора, отправил на плаху, но и всех братьев послал бы на казнь, а прежде всех отрубил бы голову князю Александру. Но Всевышний лишил царя Бориса той воли и наградил ею вдвойне патриарха всея Руси Иова-боголюбца. И когда на совете Боярской думы боярин Семён Годунов сказал, что злоумышленники братья Романовы заслуживают казни, что, казнив их, государь заслужит благодарность россиян, когда царь Борис встал, руку поднял, призывая Боярскую думу к вниманию и хотел уже сказать невозвратное слово, сидевший рядом с царём патриарх тоже встал и поднял патриарший посох, трижды стукнул и властным голосом произнёс:
— Именем Господа Бога слушайте, дети мои, слово архиереев русской православной церкви. Мы, радетели за душу помазанника Божия царя Бориса, склонны к тому, чтобы наш государь всегда был милосерден и не казнил неправедно, но миловал во благо себе и державы. Грех Романовых очевиден, отравные зелья попусту не хранят. Но мера их греха такова, что заслуживает токмо отлучения от града престольного и покаяния в молитвах. Вижу одну праведную меру: удаление Романовых в дальние обители, дабы там очистились от дьявольского промысла и обрели Господа Бога в душах. Инших сидельцев, по родству и свойству близких к Романовым, милостью согреть царской и отпустить по домам с Богом.
Святейший хорошо знал право церкви, право патриарха — духовного отца всех россиян. И потому был твёрд и добился своего: смертные приговоры не были вынесены Боярской думой. Она хотя и утвердила обвинение Романовых в том, что они пытались достать царство, но согласилась с патриархом: сослать виновников в отдалённые монастыри и скиты. В одном Дума не вняла голосу первосвятителя. Вместе с родом Романовых ссылались князья Сицкие, Черкасские, Лыковы, Салтыковы, а с ними многие из дворовой челяди.
Князь Фёдор Романов был приговорён к пострижению в монахи и ссылке в Антониево-Сийский монастырь Двинской области, в дикие северные места. Жена Фёдора. Ксения, тоже была пострижена в монахини и сослана в Заонежье. Два брата Фёдора ссылались в Пермскую землю. А богатыря князя Михаила отправили в тюрьму сибирской Наробы и там приковали цепями к стене.
Царь Борис не пощадил даже малолетнего сына Фёдора Романова Михаила, коему в эту пору едва исполнилось четыре годика. Его отлучили от матери и сослали в Вологодскую землю вместе с князьями Черкасскими.
Вскоре же после приговора всех осуждённых спешно и тайком, в ночную пору вывезли из Москвы и под конвоем погнали в места заточения. Но как не были хитры и осторожны слуги царя и дьяки Разбойного приказа, им не удалось провести россиян. У Романовых и их сродников в Москве оказалось много сторонников и друзей. И видели приставы конвоя, как за ними шли до застав сотни москвитян. Когда же горожане спрашивали, куда гонят опальных, приставы отвечали и не скрывали, в какую землю держат путь. И только приставы, которые сопровождали возок с Фёдором Романовым, вели себя неприступно, и кое-кто из москвитян получил плетей. Сильвестр не показывался конвою на глаза и сопровождал его в отдалении до Дмитрова, до Калязина, до Мологи. За Молотой, когда конвой шёл уже берегом Шексны, с Сильвестром случился казус. Он уже вывел коня с постоялого двора, чтобы ехать вслед за конвоем. Но к нему в этот миг подъехали два стрельца и один из них, уже в годах, с сивой бородой, потребовал от ведуна:
— Ну-ка назовись! Да не лухти!
— И назовусь, — не дрогнув, ответил ведун. — Да ежели ищете рудого, то скачите вслед ему, там и увидите близ конвоя.
А пока стрельцы переглядывались меж собой, недоумевая, Сильвестр покинул постоялый двор и лёгкой рысью двинулся по дороге на север. Он ехал и думал о том, кто выследил его. И вспомнил, что в Дмитрове видел Бартенева второго. А тот знал, кто такой Сильвестр, и поди донёс, кому следует. И теперь его ищут. Да вот уже и нашли. Что ж, решил Сильвестр, пока он не узнает, куда гонят князя Романова, не свернёт с пути, даже если за спиной будут стражи.
Так и ехали весь день: Сильвестр — впереди, а за ним на расстоянии в двадцать сажен — стрельцы. Вот уже и Шексна ушла влево. Дорога вкатилась в мрачный еловый лес, где за каждым деревом можно было скрыться. Но Сильвестр спокойно продолжал путь, и, похоже, стрельцов это устраивало. Они были уверены, что это и есть сам Сильвестр, коего они ищут, и теперь сочли, что он у них в руках. Они разговаривали меж собой, и каждое их слово на лесной дороге, словно по трубе, долетало до ушей Сильвестра.
К вечеру молодой стрелец проявил беспокойство.
— Улизнёт он от нас, дядя Кузьма. Заарканить бы...
— И заарканим. — Старый стрелец знал, кто такой Сильвестр, и побаивался его. Потому и не торопился «арканить». — Вот как вызнаем, куда путь держит: ежели пойдёт на Антониево-Сийский — берём в хомут, а нет, так пусть идёт с Богом на все четыре стороны.
Эти слова старого стрельца пришлись по душе Сильвестру. Выходило, что он не больно-то рьяно служил царю Борису.
Лесная дорога, наконец, выбежала на простор и пролегла через огромный луг, по которому изредка поднимались островки кустарника. Прямо перед собой, почти на окоёме, Сильвестр увидел конвой, сопровождающий князя Фёдора, которого гнали, Сильвестр теперь это знал, в Антониево-Сийский монастырь. И подумал ведун, что ему нет нужды следовать за конвоем до реки Сия, а разумнее вернуться в Москву. И когда миновали луг, и сумерки спустились на землю, и кустарник потянулся вдоль дороги, Сильвестр призвал на помощь благих духов и попросил их опустить на землю туманы, окутать её. И они вняли голосу блаженного ведуна. Из кустарников на дорогу, словно молочная река, пополз густой белый туман. Он был такой плотный и так внезапно надвинулся, что Сильвестр вместе с конём растаяли в нём мгновенно. Но он не погнал коня вперёд, а резко свернул в сторону и скрылся за купинами кустарников, замер. Цокот копыт на дороге остался.
Стрельцы в сей миг переполошились. И старый Кузьма крикнул:
— Удерёт, шельмец! Слышишь, помчал?
— Слышу, дядька, слышу!
— Догнать! Схватить! Заарканить! — сполошно кричал Кузьма.
И ретивые стрельцы вслепую помчались неведомо куда.
Сильвестр дождался, когда утихнет стук копыт, повернул коня назад, выехал на луговину и там свернул вправо. Видел он, как ехал лугом, вдали селение на косогоре. Там Сильвестр и решил найти пристанище на ночь.
По летней поре конвой, сопровождающий Фёдора Романова, двигался медленно. В каждом селении, кои изредка попадались на пути, стражники на сутки останавливались, отдыхали сами и давали князю размять ноги. Его выпускали из возка, и он прогуливался час-другой под надзором стражей, а на ночь его вновь сажали на цепь. Князь страдал от унижения, но был терпелив и хранил молчание. К месту назначения конвой добрался лишь к празднику святой иконы Владимирской Божьей Матери. В этот день по дороге, ведущей в Антониево-Сийский монастырь, шли богомольцы. На берегу озера Михайлова они садились в большие лодки, и монахи доставляли их на Антониев остров. Там, в церкви Святой Троицы, звонили колокола, звали христиан на богослужение.
Когда конвой прибыл к монастырю, князь Фёдор выбрался из возка в угнетённом состоянии духа. Его не радовало торжество в честь Богородицы, он не замечал тихой прелести северной природы. Его, сильного и деятельного человека, дальний путь и бездействие довели до отупения. Он не поднимал глаз, не хотел обозреть красу первозданного края. А она здесь торжествовала всюду. Само озеро Михайлово окружали хвойно-берёзовые леса. Но белостволых красавиц было больше, и лес был светел, как храм в праздничный день.
Монастырь едва виднелся вдали. Высились крепостные стены и сторожевые башни по углам, за стенами поднимались две церкви, каменная и деревянная. Кто-то из стрельцов даже позавидовал князю Фёдору, проча ему благую жизнь в монастыре. Но Фёдор не питал надежды на это. Он знал, что ждёт опального вельможу в монашеской среде. Князя посадили в большую лодку-завозню, за вёсла сели стрельцы, ими командовал десятский Матвей. Стрельцы гребли неумело, вразнобой ударяя вёслами по воде, десятский на них зло ругался.
Крутая тоска подступила к самому горлу Фёдора, перехватила дыхание. Увидев вокруг себя зелёные воды, князь почувствовал боль в сердце. Злая воля разрывала его жизнь на две половины, на прошлое, которого у него уже нет, и на будущее, которое лежало во тьме. Всё, что связывало его с Большой землёй, с Москвой, с близкими, оставалось на удаляющемся берегу, а впереди — постриг в монашество, чужое имя, убогая келья — всё, чему противилась его деятельная и общительная натура. И никто не мог открыть князю окно в завтрашний день, никто не мог сказать, сколько лет ему суждено провести в заточении. А то, что ему грозило заточение, а не обычная монашеская жизнь, он знал доподлинно. Стражи во главе с десятским, что были поставлены при нём, везли грамоту Разбойного приказа и повеление царя содержать осуждённого князя Фёдора Романова в оскудении злобном, в каком должно пребывать татю. А царские повеления в монастырях блюлись строго. Так повелось издавна: когда государи преследовали кого и ссылали в монастыри, там им не было милости.
Так оно и было с князем Фёдором. Едва он сошёл на берег, как стражи взяли его за руки, заломили их и при стечении многих богомольцев повели за монастырские стены. Там же десятский Матвей вручил игумену Арефу, который вышел встречать москвитян, грамоту. Ареф прочитал её, печально посмотрел на князя и боярина Фёдора Романова, о роде которого знал многое, и молча направился в церковь. В церкви Ареф распорядился принести ножницы, монашескую сутану, клобук и другую одежду. Ножницы он вручил десятскому Матвею. И тот, мучимый совестью, со словами: «Ты уж меня прости, боярин», не поднимая на князя глаз, велел поставить его на колени. И тут Фёдор проявил непокорство, взбунтовался против насильственного пострижения. Легко оттолкнув от себя стрельцов, бросился бежать из храма, но во вратах храма наткнулся на других стрельцов и в грудь ему была наставлена сабля. Десятский со стрельцами подбежали к нему, схватили и после короткой схватки одолели, повели к амвону, и там Матвей, забыв о муках совести, набросился на Фёдора, занёс ножницы.
Но в сей миг Ареф воскликнул:
— Остановись, воитель!
Матвей удивлённо глянул на игумена:
— О чём скажешь? Обряд нарушаю?
— Нарушаешь, сын мой. Ему слово, — и Ареф показал на Фёдора. — Сын мой, тебе жить в обители, хочешь ли ты моей рукой постриг?
— Милостью прошу, — ответил Фёдор.
— Повторяй же, — повелел Ареф и начал читать обеты нестяжания, целомудрия и послушания.
Князь Фёдор всё послушно повторил и подставил игумену голову. Ареф взял ножницы и отстриг с головы князя пук волос.
— Да нарекаешься отныне, сын мой, именем Филарета. Приемли и не взыщи.
После этого Фёдора переодели в монашеские одежды и повели из церкви в низкое деревянное строение, где располагались монашеские кельи. В конце длинных сеней перед Фёдором распахнули окованную полосами железа дубовую дверь, подтолкнули его в полутёмное помещение и закрыли за ним двери, лишь звякнула дверная задвижка.
И Фёдор-Филарет оказался в келье, похожей на тюремную сидельницу.
В келье не было ни образа, ни лампады. И скудно: скамья, на ней — тюфяк из рядна, набитый мхом — и всё убранство.
Фёдор-Филарет опустился на скамью, прибитую к стене, и застыл, словно мёртвый. Да мёртвый и есть. Потому как дух его был сломлен и растоптан сапогами годуновских стражей. И нетуже в миру Фёдора Никитича Романова, первого российского боярина, князя, племянника царицы Анастасии, первой жены Ивана Великого, а есть инок Филарет человек неведомой впредь судьбы. Осознав всю горечь положения, смирившись с новым именем, Филарет долго сидел без дум и желаний, не ощущая слёз, которые стекали на бороду. Прислонившись к стене, он впал в забытье. Сколько он пробыл во тьме, сие сокрыто, но когда пришёл в себя, то увидел в келье двух старцев-иноков. Они принесли лампаду и образ архангела Михаила, хранителя душ православных христиан. Образ и лампаду они повесили в передний угол на кованые гвозди, зажгли фитилёк лампады, помолились и молча ушли. Но вскоре вернулись, принесли кувшин с водой, ломоть ржаного хлеба, луковицу и соли в деревянной солонке. С Филаретом они так и не заговорили, но пока были в келье, он слышал их монотонное и неразборчивое бормотание молитвы. Исполнив своё дело, они покинули келью. И снова двери были заперты на задвижку.
Так начиналось заточение Филарета. В первые дни его выводили лишь по утрам на общую молитву и на хозяйственный двор, где позволяли колоть дрова. Всё остальное время суток он проводил в келье, и долгое время его никто не тревожил, лишь раз в день ему приносили скудную пищу и воду всё те же два молчаливых инока-старца. Да Филарет и не замечал, кто к нему приходил. Но он не замечал и главного, пожалуй, самого страшного — своего духовного опустошения. В келье он не молился Богу Потому как забыл все молитвы, не осенял себя крестным знамением и не испытывал в этом нужды. Он даже пищу принимал с полным безразличием.
В эти первые дни и недели заточения Филарета произошли немалые перемены и в жизни Антониево-Сийской обители. Её ворота были закрыты для богомольцев. И у ворот теперь вместе с монастырскими привратниками несли караул московские стрельцы с огненной зброей в руках. Монастырь стал тюрьмой, и всем монахам и даже игумену Арефу не разрешали разговаривать с иноком Филаретом.
Всего этого Филарет не знал. Но позже, когда постепенно успокоился, смирился с обстоятельствами жизни, увидел, в каком состоянии неприязни приходили к нему иноки-старцы, он понял, в какое оскудение быта он вверг своим появлением монастырскую братию. Монахи порицали Филарета. И лишь однажды один из иноков-старцев, посещавших его келью, страдающий за Филарета, несущего тяжкий крест опалы, нарушил запрет молчания, принёс ему молитвослов и коротко сказал:
— Пробудись, брат мой, читай и моли Всевышнего о милосердии.
Потом Филарет скажет, что ежели бы не эти слова ободрения, изошёл бы он тоскою и наложил на себя руки, потому как побуждение к тому приходило не раз.
В тот день перед сном Филарет впервые встал на колени пред образом Михаила-архангела и сперва как-то робко, будто впервые, а потом всё усерднее стал молиться. И пробудилась память, он вспомнил каноны и молитвы, да больше те, с которыми в трудные минуты жизни обращался к Господу Богу. И первым каноном, коим откликнулась его душа на призыв инока-старца, был канон покаянный.
— О, горе мне грешному, — молился страстно Филарет — Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне, даждь ми, Господи, слёзы, да плачусия дел моих горько...
И пролились слёзы облегчения, на душе стало светлеть, и, дабы сохранить проблески обновления, Филарет вознёс к небесным Святым Духам канон покаяния Ангелу Хранителю:
— Всё помышление моё и душу мою к Тебе возложи, хранителю мой. Ты от всякие мя напасти избави...
Наступила глубокая ночь, а Филарет всё молился, и память его очистилась от замутнения, все молитвы, кои он выучил в отрочестве, открывались ему, как на страницах книги. И очищалась душа его от всякой бесовской скверны, от жестоких и безрассудных побуждений, от злобы и жажды выместить ненависть на преследующих его. И уже под утро, встав с колен на одеревеневшие ноги, он тут же упал на скамью и, прошептав: «Господи, спаси и сохрани», — уснул в сей же миг, и так крепко, как никогда не спал последние месяцы жизни.
И было в том благостном сне Филарету явление многоликое. Да первым сошёл к нему архангел Михаил — хранитель и заступник. Поначалу Филарет засомневался: он ли? Но потом узнал его. Он увидел, что архангел препоясан и сабля на боку висела, потому как служил он у Всевышнего в архистратегах. И крылья виднелись у архангела за спиной. Всё, как и положено иметь Святому Духу. Он же сказал Филарету:
— Зачем, сын Божий, забыл о своём заступнике? Сколько дён и ночей провёл в келье, а только ноне преклонил колени и помолился пред образом моим.
— Прости и помилуй, заступник-хранитель, — взмолился Филарет. — Грешен и пребывал во власти бесов.
— Слушай теперь во благо спасения. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумлением твоим. Истинно любящий Бога презирает славу, богатство и все утехи мира считает за ничто. Проси Всевышнего быть всегда с тобой. И Он будет страдать с тобою вместе, и ты обретёшь блаженство.
— Внемлю тебе, ангел-хранитель и архистратег Всевышнего. Но враг попирает меня и озлобляет и поучает всегда творить своя хотения. Но ты, наставник мой, не оставь меня погибающим, — умолял Филарет архангела Михаила.
— Аминь! — ответил Святой Дух и улетел, лишь шелест крыл отметил его полёт.
Ещё и пот с лица не успел смахнуть Филарет после беседы с архангелом Михаилом, как послышался тонкий, взывающий о помощи детский голосок. Филарет в сей же миг узнал своего Мишеньку, а тот кричал в ночи: «Батюшка, спаси, родимый!» Голос прозвучал близко, а тот кричал, будто бы на речке погибал. И Филарет ринулся спасать его. Ан не тут-то было, вырос пред ним десятский Матвей. «Не пущу! Не велено!» — зыкнул он. «Сынок там, сынок на погибель брошен!» — и ответ — нацеленный в грудь бердыш. Матвей был ловок и силён, прижал Филарета к стене древком бердыша, потребовал: «Деньги давай, а там иди!»
Филарет взялся искать по карманам деньги, а там одни камни. В сей миг голос Миши оборвался на полуслове: «Батюшка, спа...» И десятский Матвей развёл руками, в голубых глазах даже слёзы появились: «Я же говорил, деньги давай». Филарет сказал: «Вот возьми», — и раскрыл ладони, в которых держал камни. Там же по десять ефимиков лежало. «Звона, благо какое! — воскликнул Матвей. — Спасу я твоего сына!» — и убежал.
Матвей показался Филарету лукавым бесом. Он опустился на колени перед свечой и зашептал: «Господи милостивый, зачем Тебе понадобился мой сынок? Верни его мне, милосердец. Я обездолен, лишён воли и семеюшки! Оставь мне сынка: Всемогущий». Да перестал стенать, потому как почувствовал, что на плече у него лежит чья-то рука. Посмотрел он влево — никого, вправо глянул — рядом ведунья Катерина сидит, такая же молодая, как много лет назад в лесу за Звенигородом. «Не печалуйся, князь любый. Сон тебе неверный пришёл, — сказала ласково Катерина. И рукой провела по лицу Филарета. — Видишь сынка, он рядом с княжичем Иваном Черкасским сидит за трапезой». — «Вижу, вижу, Катенька! Дай Бог тебе здоровья. Да ты всё тако же молода и красива, как в ту пору...» — «А я и есть из той поры. — И Катерина снова провела рукой по лицу Филарета. — Ты вот чему внимай, князь любый, приласкай Матвея. Денег ему пообещай и дашь, как тебе их пришлют тайно. Он же страдает от бедности и жалостивый». «А что сие даст, Катюша?» — спросил волнуясь Филарет. «От доброты своей солнце увидишь. И людей подобных себе найдёшь, добротой одарённых. Душа в покой придёт, как в храм дорогу обретёшь, как руками к работе прикипишь». «Смогу ли я подняться?» — печально спросил Филарет. Катерина ещё раз рукой провела по лицу Филарета. «Сможешь. Видишь дуб вековой, под коим я нарекла тебе будущее. Всё и сбудется, как с верой и стойкостью по жизни пойдёшь. Всё через терпение придёт». Филарет ещё дубом любовался, себя и Катерину под ним видел. А она встала и тихо ушла, дверь скрипнула.
В тот же миг Филарет проснулся, со скамьи поднялся, за ручку двери ухватился. Она была крепко закрыта. И стало Филарету жутко от всего, что пришло ему во сне. Но по здравом размышлении он понял, что сон, пришедший в ночь на четверг, вещий и страшного в нём ничего нет, наоборот: уж коль явилась Катерина и всё расставила по своим местам, то так тому и быть. К тому же Мишеньку, сыночка, показала и княжича Ивана — тоже. Как тут быть в сомнении и печали?
И Филарет встал на утреннюю молитву. Пока молился, за маленьким оконцем пробился рассвет и в силу пошёл, ночи-то по северу в эту пору ещё короткие. Филарет подумал, что в монастыре уже не спят, и постучал в дверь. Но никто не отозвался. Спустя немного ещё раз постучал. К двери, похоже, подошёл стрелец, спросил:
— Чего тебе?
— Слушай, родимый, позови десятского Матвея, Христом Богом прошу!
Стражник не ответил, но шаги его удалялись долго. Прошёл, может быть, час или два, Филарет не знал времени, и вовсе неожиданно для него загремел засов, дверь распахнулась, на пороге возник Матвей.
— Вот я пришёл. Что тебе нужно? — Матвей не смотрел на бывшего боярина, а взирал на образ Михаила-архангела.
— Войди в келью, служивый, и двери закрой, — попросил Филарет.
Матвей вошёл в каморку, дверь закрыл, к косяку прислонился.
— Ноне сон мне пришёл, — начал Филарет, — явилась в келью ясновидица Катерина и сказала о тебе. Ты, говорит живёшь в бедности, потому как чадами обременён и службой тяготишься, не мздоимствуешь, ибо совестлив. Да говорит Катерина: помоги ему из нужды вылезти, а он тебя на солнце выпустит. Говорю истинно. — И Филарет перекрестился. — Правда ли сие, Матюша?
— Дивно сказал, — удивился десятский и признался: — Что уж там, всё сие есть правда. Да проку ни в твоём, ни в моём откровении не вижу.
В Филарете вспыхнул тлевший природный дар умения попросту обращаться с кем угодно.
— Полно, Матюша, я за добро всегда добром плачу. Царь-батюшка меня не совсем разорил, и други верные есть, кои помогут. Потому и тебе окажу помогу, избавлю от маяты нищенской, слову моему поверь. Я вот ожил после нонешних явлений и работать хочу во благо Господа Бога. Потому и прошу: прояви ж милость.
— Знаю твоё слово, боярин, и верю. Да ведь меня живота могут лишить лютой казнью, ежели волю тебе дам.
— Передай сие Арефу, вместе помаракуйте. А я с острова — ни ногой! — заверил Филарет.
Матвей долго о чём-то туго соображал, сказал же коротко:
— Ладно, жди моего слова. — С тем и ушёл.
И Филарет стал ждать этого «слова». Но дождался его не скоро. Да верил, что Матвей сделает для него посильное. И потому ожидание было деятельным. День заднем он учил молитвы, запоминал их. А однажды ранним утром у Филарета появилось желание написать свою молитву. Были сомнения: как дерзнуть на подобное, не порочно ли сие желание? Попросил Всевышнего просветить ум и остановить от ложного шага. Всевышний молчал. И Филарет принял сей знак за одобрение, попросил принести ему бумаги, чернил, перо. А как получил всё, взялся сочинять молитву. Давалась она трудно. Филарету ещё не хватало душевного равновесия. Однако он был упорен. И однажды ночью в его душе зажёгся невечерний свет и осветил всю жизнь Филарета, все его деяния. Они были разные, да высветились и такие, кои вели к греховности. Филарет понял, что есть у него только один путь — к покаянию и очищению. Должно вымолить у Всевышнего прощение за всё, к чему толкали бесы, за блуд и измену супружеским узам, за бранное слово, за рукоприкладство, а прежде всего за тьму грешных мыслей, за слабость веры, потому как многажды открывал своё сердце демонам и всякой другой нечисти. Обо всём этом Филарет излил душу коленопреклонённо, пред иконой и лампадой.
— Господи! Не знаю, что просить у Тебя! Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя! Отче! Даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред Тобою. Сердце Тебе моё отверсто. Ты зришь нужды, которые я не знаю, зри и сотвори по милости Твоей. Порази и испепели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Нету меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь. — И Филарет многажды сделал земные поклоны, и продолжал изливать душу, ощущая всем существом своим её полноту молением. — Милосердный Господи! Пошли благость Твою в грешное сердце моё, да испепелит сила Твоя Божественная всякое терпение в нём по благоволению Твоему! Нищ и убог есмь, но Ты помози мне. Аминь!
Филарет не озирался на тёмные углы кельи, но знал, что в сей миг там пребывают Святые Духи, архангел Михаил-хранитель и архангел Рафаил-целитель, и радовался тому, что они посетили его в час очищения. И продолжал разговаривать с Всевышним:
— Многомилостив Господи! Сподобь нас Божественного дарования святой молитвы, изливающейся из глубины сердечной, собери рассеянный ум мой, дабы всегда стремился он к Тебе, Создателю и Спасителю своему, сокруши разженные стрелы лукавого, отторгающие нас от Тебя, угаси пламень помыслов, сильнее огня пожирающий нас во время молитвы, осени нас благодатию Пресвятого Духа Твоего, дабы до окончания нашей греховной жизни Тебя Единого любить всем сердцем, всею душою и мыслию, и всею крепостью и в час разлучения души нашей от бренного своего тела. О, Иисусе Сладчайший, прими в руце Твои души наши и помяни нас егда приидеши во Царствии Твоём. Аминь!
В сей миг предельного напряжения, когда закончил складывать свою молитву, Филарет впал в забытье. И тогда архангелы Михаил и Рафаил подошли к иноку, взяли его под руки, помогли встать и вывели из кельи на монастырский двор. Следом за Святыми Духами шёл десятский Матвей.
Стояла августовская полночь. Звёздное небо то тут, то там прочерчивали души проживших в чистоте деяний, теперь почивших и возносящихся в Эдемов Рай.
Филарет вздохнул полной грудью, ощутил несравнимое ни с чем чувство свободы и заплакал от счастья, так исстрадался он по свежему воздуху ночной поры. Он был уже один, архангелы его оставили.
Монастырь спал. Филарет неторопливо направился к деревянной церкви, дабы возблагодарить Бога. Он был спокоен и уравновешен. И возблагодарив Всевышнего за подарок судьбы, он помолился за спящих иноков Антониево-Сийского монастыря, попросил Спасителя, чтобы послал обители мир и благодать.
Инок Филарет ещё не ведал, что с этой августовской ночи, принёсшей неисчислимые беды россиянам, начинался новый отсчёт его жизненного подвига. И по всей державе люди ещё пребывали в неведении своего сурового будущего.
А в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое августа случилось то, чего Русь не испытывала никогда в своей многовековой истории. Над центральной Россией разверзлись тверди небесные, повалил снег и ударил мороз. И все поля, луга, сады, огороды, леса, реки заковало льдом. Три дня шло умирание природы, которая к этому времени была готова одарить россиян богатым урожаем. Когда же через три дня мороз схлынул, снега и льды растаяли, стало очевидно, что державу ожидает великая беда — небывалый голод.
...Усердно помолившись, Филарет вышел из храма и увидел стоящего на паперти Матвея. Он смотрел на Филарета открыто и с уважением. Романов подошёл к нему, и Матвей сказал:
— Зачем ты сокрыл от меня, как просил воли, что за тобой святые силы стоят?
— Сын мой, хвала себе — великий грех, сатаною внушаемый.
— Ты теперь гуляй вольно по островам, кои на озере есть. О том просили меня Святые Духи, кои явились мне ноне в ночь. Да с ними была блаженная, обликом огненно-рыжая.
— Что она тебе поведала?
— Токмо показалась. Да ведома она мне. И потому прошу тебя, боярин, о милости. Накажи ей, дабы сына мово Антона-отрока в услужение взяла.
— Накажу, как из Москвы человек придёт. И во благо Антону-отроку желание твоё проявилось. Теперь же иду твоим словом волей дышать.
И Филарет сошёл с паперти, направился к роще.
Глава четвёртая Исцеление
В послушании и молитвах прошли три года заточения Филарета Романова в Антониево-Сийской обители. В эти годы Филарет много читал, познавал истоки христианской веры. Он смирился с тем, что судьба уготовила ему сан священнослужителя. И потому хотел быть сведым во всём, что связано с православной, греческого закона церковью. В монастыре он нашёл много книг об этом. Находились и такие, которые были написаны во времена Киевской Руси или привезены в Киев из Византии, а теперь каким-то чудом оказавшиеся в северных краях России.
Чтобы прочитать книги греческого письма, Филарет постиг греческий язык. И был доволен тем, что узнавал историю православной христианской религии по первоисточникам. Он познал труды богослова, философа и историка, известного церковного сочинителя Михаила Пселла, жившего в одиннадцатом веке. Сочинения архиепископа Солунского Евстафия «Рассуждения о необходимости исправлений в монашестве» открыли ему глаза на многие стороны монастырского быта. За прошедшие годы заточение Филарета стало терпимым. Годуновы о нём, похоже, забыли, и никто не притеснял его монастырской свободы. Матвей получил обещанное вознаграждение. Привёз деньги келарь монастыря, который ходил в Москву с обозом мороженой рыбы. Катерина, которую келарь нашёл, передала ему не только деньги, но выполнила другую просьбу Филарета, взяла в услужение сына Матвея Антона и попросила Сильвестра учить его торговому делу. В Москве они в ту пору не задержались, снова уехали в Казань.
В начале второго голодного лета Матвей со стрельцами был отозван в Москву. И теперь за Филаретом по поручению игумена Арефа надзирали только монастырские служки. Он им не доставлял хлопот, потому как был самым послушным и исполнительным монахом и проявлял много рвения в служении Господу Богу.
Однако в Филарете подспудно ещё многое оставалось и от прежнего удалого князя Фёдора Романова. Переболев из-за отлучения от мирской среды, он сохранил жизнелюбие. А его человеколюбие проросло христианским милосердием. Он болел душой за каждого страждущего. Князь Фёдор был любознательным в постижении учёной премудрости, и Филарет не растратил сей дар, но умножил его.
Однажды Филарет задумал узнать, с чего начинался Антониево-Сийский монастырь. И дотошно исполнил своё желание. Он нашёл в монастыре старцев, которые хранили предание об основателе обители преподобном Антонии и в часы свободные от бдения и молитвы они рассказывали Филарету доподлинную жизнь подвижника. И Филарет возлюбил Антония, свершившего подвиг во имя веры.
В миру Антоний, именем Андрей, был сыном земледельца из села Кехты, кое лежало в тридцати верстах от Архангельска. С детства у него пробудилось влечение к живописи, и он пристрастился писать иконы. А повзрослев, после кончины родителей, ушёл в Новгородскую землю, там вступил в услужение к боярину, который держал иконописцев. В дворне боярина он встретил милую девушку и соединился с нею в церкви венчанием. Да недолгим был путь рабы Божьей Аглаи по земной юдоли. Господь взял её к себе за ангельскую кротость. Андрей пред алтарём поведал, что видел, как душа его любимой супруги вознеслась в Царство Небесное. Овдовев, Андрей принял обет безбрачия и служения Богу. Он вернулся в родную Кехту роздал бедным имущество: кое осталось от родителей, и ушёл искать обитель, чтобы принять там постриг.
Однажды, после долгого дневного пути, Андрей уснул в лесу под разлапистой елью и во сне увидел святого мужа. Тот сказал ему: «Ведаю, ты хочешь посвятить себя служению Богу. Иди в Пахомьеву пустынь. Зри на главную ночную звезду и придёшь на реку Кену». Андрей поверил в сновидение и отправился в путь, всё на север по Полярной звезде. Добрался до реки Онеги, вышел к реке Кене и там нашёл Пахомьеву пустынь. Порадовался, потому как без явления святого мужа блуждал бы во тьме лесов.
Как исполнилось тридцать лет, Андрей принял монашеский сан и взял себе имя Антония. Нраву неугомонного, он искал место для подвига. И пробыв в Пахомьевой пустыни совсем немного, уговорил двух иноков, Иоакима и Селесандра, и ушёл с ними в дикие леса. Остановился вначале на реке телексе и основал там пустынь. Три подвижника за зиму срубили церковь во имя Святого Николая Чудотворца, поставили зимник.
Филарет искренне восторгался подвигом подвижников и не ведал ещё, как обернётся всё то, что он узнавал о преподобном Антонии. Но за радение о святом старце он уже ощущал благо: монахи относились к Филарету почтительно.
О новой церкви на реке телексе прослышали в округе. И потянулись к ней богомольцы. Многие же остались в пустыни, приняли иночество. И зародился новый монастырь. Да крутого нраву оказались крестьяне ближней к монастырю деревни, не дали земли монахам под хлебопашество. Антоний осердился на них и ушёл. На прощание сказал: «Живите ни голо, ни богато».
Он добрался до реки Сии, здесь нашёл озеро Михайлово с островами. Ему полюбилось это озеро, окружённое светлыми лесами. В печальной красе озера было что-то таинственное. В нём водилось множество рыбы, была и красная — кумжа. Узрев вдали большой остров, Антоний решил до него добраться и заложить там новый монастырь. А пока построил на берегу озера келью и жил в ней. А как пришли однажды к озеру богомольцы, так нашёл среди них доброхотов и послал их к великому князю всея Руси Василию Ивановичу с прошением возвести на острове Михайлова озера монастырь.
Ещё не ведая, чем закончился поход северян в Москву, Филарет догадался, что великий князь Василий Иванович, отец Ивана Великого, благословил доброхотов. Так оно и было. Прислал великий князь Антонию грамоту жалованную и церковной утвари воз на обзаведение. То-то было радости у Антония. Да тут же он по льду перешёл на остров и принялся рубить церковь в честь Святой Троицы.
Антоний стоял игуменом основанного им монастыря тридцать семь лет и преставился в 1557 году, спустя год после рождения Фёдора Романова. И зародилась у Филарета жажда отметить своё пребывание на острове хотя бы малым подвигом в честь преподобного Антония.
Неподалёку от монастырского острова поднимались два малых острова — Дудинцы и Падун. Сказывали Филарету старцы, что на Дудинце два года прожил отшельником сам Антоний. И было это в ту пору, когда он отказал братии встать над ними игуменом. Антоний ушёл на остров по льду, взяв с собой лишь топор и суму с харчами. Там срубил келью. А пока рубил, жил в землянке. К нему многажды приходила монастырская братия, просила его вернуться в монастырь, избавить их от сиротства. И каждый раз Антоний отказывался встать над братьями. И лишь спустя два года его упросили вернуться в обитель и быть среди братии простым иноком. И Антоний вернулся.
Да вскоре же услышал в ночи плач монашеский: просила братия Всевышнего вразумить Антония встать игуменом. Он же внял этому плачу, взял на себя отцовские заботы. И простоял преподобный Антоний игуменом до конца дней своих, почитаемый и любимый братией.
Добравшись в лодке до острова Дудинцы, Филарет нашёл келью. Она уже подгнила местами, но жить в ней ещё можно было. Осмотревшись, Филарет выбрал неподалёку холм, с коего далеко всё окрест виднелось. Место для часовни пришлось по душе, и инок взялся рубить лес, заготовил дубовых колод на поставы. А вскоре положил на них первый тоже дубовый венец часовни в честь преподобного Антония.
Филарет работал усердно. Вставал он чуть свет, а по летней поре северному дню и конца не видно, заря с зарею сходятся, и не выпускал топора из рук, пока из монастыря не приезжали служки и не привозили ему пищу. Покончив с трапезой, Филарет снова брался за топор, рубил углы, выбирал пазы в тяжёлых сосновых брёвнах. Часовня росла споро, и к осени стены её поднялись под кровлю. И подгоняло Филарета честолюбие. Хотелось ему утвердить своё имя в Антониево-Сийском монастыре. Знал инок, что в том его желании таился грех, а совладать с ним не мог, но молился усердно.
Ещё в молодости князь Фёдор Романов узнал, что честолюбие есть родовое достояние всех Захарьиных, Кошкиных, Романовых, начиная от князя Андрея Кобылы. Да сию толику в ту пору Фёдор не считал греховной. Ему же лично быть всегда в числе первых меньше всего помогала сия родовая черта. Заслугой тому были ум и деловитость Романова. В отличие от многих московских сверстников, у Романова не было ни лукавства, ни пронырства, дабы достичь державных высот, но во всех деяниях торжествовала честь. Он не позволял себе кого-то оттолкнуть с пути, и уж тем паче — перешагнуть чё рез кого-то, как сие делал Борис Годунов.
И здесь, в монастыре, желание быть во всём первым, но по чести, не осталось незамеченным. После того как Филарет поставил на острове Дудинцы часовню, игумен Ареф приблизил Филарета к себе, и на четвёртом году пребывания в обители он был рукоположен в сан священника.
После трёх голодных лет Россия вновь ожила. И снова из Москвы стали следить за ссыльными Романовыми. И грамоты поступали в места их заточения, в коих приставам приказывали «береженье держать большое». Но приставы, корысть имея, чинили Романовым многие мерзости. В Антониево-Сийский монастырь они только наезжали, да и то изредка. Но всякий раз, видя чинное житьё священника Филарета, они, однако, искажали суть его поведения и докладывали дьякам Разбойного приказа чёрную ложь.
В марте 1605 года явился в обитель некий мздоимец Щёкин. Он добивался, чтобы Филарет отдал ему нательный золотой крест. Но Филарет не поощрил кощунства пристава Щёкина. Уехал пристав ни с чем, а боярину Семёну Годунову нажаловался: «Живёт старец Филарет не по монастырскому чину, всегда смеётся неведомо чему и говорит всуе про мирское житьё, про птицы ловчие и про собаки, какой в мире жил, а к старцам жесток, лает их и бить хочет, а говорит старцам Филарет: увидят они, пинков впредь будет».
Когда эта ложь доходила до Филарета, сие не угнетало его, он только улыбался и был выше той клеветы. Да была в грамотах приставов и доля правды: давно вышел он из уныния и радовался жизни. Филарет предвидел время перемен. Он хорошо помнил, сколько лет отвели ведуны Борису Годунову на царствие. Однажды, после вечерних молитв, Филарет высчитал, что роковая черта на пути Годунова пролегла через апрель 1605 года. Филарет не сомневался, что за этой чертой Годунова ждёт не отлучение от трона, а скорая смерть. Причин этой убеждённости Филарет не ведал и мысли о том считал кощунственными, греховными, много молился, дабы изгнать беса, толкающего на грех. И ничего не помогало. Филарет радовался каждому минувшему дню, торопил приход апреля. Ругая беса: ах какой упрямец, Филарет улыбался. Что ж, у него было на то основание. Слишком жестоко расправился царь Борис с родом Романовых. За проведённые в изгнании годы в Антониево-Сийском монастыре Филарет узнал немало печального и трагического о судьбе своих братьев. Келари монастыря, кои ходили за товарами в Москву и далее, приносили немало разных слухов. Они же известили Филарета о том, что в Наробе от мук и голода скончался средний брат, богатырь Михаил. Он все пять лет был прикован к стене камеры цепями, и кормили его только овсом и чечевицей. В зиму пятого года келари принесли новую жестокую весть. Неведомо как, сказывали они, погиб второй брат Филарета, погодок Александр. Пропал и Василий, умница и гулёна. Филарет страдал за братьев, молился Всевышнему, просил, чтобы взял их души в Царство Небесное. Здравствовал пока лишь младший брат Иван. И о нём просил Филарет Господа Бога, чтобы сохранил ему жизнь.
Дошли до Филарета вести и о том, в каком жестоком притеснении отбывали заточение князья Черкасские, при которых возрастал сын Филарета Миша-отрок. Мальчик много болел. Приставы часто запугивали его страстями, он рос нервным и трепетал от каждого шороха.
Не было у Филарета причин жалеть царя Бориса. И потому он молился Господу и просил Его исполнить начертанное судьбой. Для себя Филарет в случае кончины царя Бориса желал лишь одного: поскорее увидеть родных и близких, вернуться в родовой дом, вздохнуть полной грудью свободы — вот и всё. В нём не было желания пуститься в какие-либо дворцовые игры-интриги. Знал Филарет, что монашеский клобук, прибитый к его голове, не снять и он лишён права быть царём. А если бы не клобук... Он же, Филарет, в родстве с покойным царём Фёдором, всё-таки брат двоюродный. Да сказывали, что, умирая, царь Фёдор завещал престол старшему Романову. Теперь сие кануло в Лету. Потому и вынашивал Филарет желание увидеть на престоле российском царевича Дмитрия. Филарет уже знал, что Дмитрий объявился в Северской земле. Знал и то, что Дмитрий собрал войско в Путивле, что многие воеводы к нему прибились и бояре, дворяне, служилые люди крест ему целовали. Вскоре же и новые вести прилетели на Михайлово озеро: Дмитрий отправился в поход на Москву, дабы взять по праву принадлежащий ему трон. Сказывали, что шёл Дмитрий споро, почти не встречая сопротивления царского войска. Оно, рать за ратью, переходило на сторону Дмитрия. В Москве по этой причине весь царский двор, а прежде всего царь Борис, пришли в панику, в стольном граде стояла неразбериха, хаос.
Новые вести приносили Филарету не только монастырские келари и богомольцы. За три ночи до Светлого Христова Воскресения пришёл в полночь к Филарету Дух святого Учителя покаяния Ефрема Сирина и спросил Филарета: «Страдаешь ли ты душою за царя Бориса?» «Страдаю», — ответил без сомнений Филарет. «А сердце твоё отверзает его?» «Отверзает», — честно сказал Филарет. «Вот он преставился в день святого Мартина-исповедника, ушёл без покаяния и причащения Святых Тайн. Как мне быть, Учителю покаяния?»
Удивился Филарет тому, что мудрый Ефрем Сирин просит у него совета. Ответил: «Помолись за раба Божия Бориса, и я помолюсь. Да тщетно: гореть ему в геенне огненной». — «Всё так, — согласился Ефрем Сирин. — Да он помазанник Божий, и ангелы-судьи сказывают, что ему быть в чистилище. Но не возьмёшь из ада, потому как покаяния не было». — «И не тщись брать, Учитель, пусть пройдёт очищение в преисподней через все круги ада». — «Оно так и будет, — согласился Святой Дух. — Прощай, страстотерпец». — И Учитель обернулся голубем, улетел.
Пятнадцатого апреля 1605 года на утренней молитве в каменной церкви Пресвятой Богородицы к Филарету подошёл игумен Ареф.
— Брат мой во Христе, ноне ночью в час бдения ястреб в часовню влетел и упал на амвоне замертво. Спросил я преподобного Антония, к чему бы сие. Он же велел колоколами попечаловаться. А кто преставился, не поведал. Посоветуй, как быть?
И Филарет попросил прощения у Отца Предвечного. Арефу же дерзнул ответить:
— Звони в колокола, преподобный отец. Вчера преставился государь всея Руси. — Самому Филарету стало жутко от сказанного. Что, ежели всё обернётся не так, как усмотрел? «Ан нет, не я усмотрел, а Святые Духи сокровенное донесли. Как им не верить?! Так и от Господа Бога можно отшатнуться!» — сурово упрекнул себя Филарет. И утвердил сомневающегося игумена: — Звони, брат мой во Христе, звони!
И по утренней заре над Антониевым островом, над озером и вдали над лесами и рекой Сией разнеслись плачевные звоны. Никто в обители не знал, по ком звонят колокола, потому как ни Ареф, ни Филарет никого не просветили.
Звонарь изливал колокольную печаль долго и усердно. И сей звон был услышан в далёком селе Звозы, и там старенький священник сам поднялся на маленькую колоколенку и сам ударил в стопудовик, тоже стал звонить-печаловаться.
Да было же в тот апрельский день Иверской иконы так, что от первопрестольной Москвы покатились плачевные звоны на все четыре стороны света и в тот же день достигли северных земель. И уже к вечерней молитве долетели до Антониево-Сийского монастыря, и обитель узнала, что умер царь Борис Годунов.
Перед вечерней трапезой игумен Ареф при стечении всей братии трижды поцеловал Филарета и сказал:
— Брат мой, ты был чтим мною в иноках и в священниках. Ныне склоняю голову пред тобой за чудотворную силу. Преподобному Антонию я поверил с сомнением. Ты укрепил мой дух. Да хранит тебя Господь Бог долгие лета.
Филарет внимал словам Арефа с благодарностью. От него он не испытывал притеснений за все годы пребывания в монастыре. Да пришло время расставания. И бывший князь-боярин Фёдор Романов в сердечном порыве опустился на колени и поцеловал руку игумена.
— Спасибо, отец преподобный, ибо я есть твоими молитвами и заботами. В том твоё милосердие ко мне.
В ночь с пятнадцатого на шестнадцатое апреля, когда шло празднование Светлой Седмицы сплошной и в монастырской церкви состоялась всенощная, Филарет не сомкнул глаз. Он много молился с братией, пел псалмы, каноны, покаянный к Господу Иисусу Христу и молебный Пресвятой Богородице и Ангелу Хранителю.
И в эту благостную ночь за молитвами и пением к Филарету пришло очищение и исцеление от греховных мыслей, от чёрной ненависти к Борису Годунову. Он прощал усопшему рабу Божьему все его грехи, все злодеяния, причинённые роду Романовых. Он прощал Борису и то, что тот захватил трон неправедным путём, оттеснив его, Фёдора, от трона, как наследника царя Фёдора по материнской линии — по кике.
На рассвете, который наступил рано, Филарет тихо вышел из храма, из монастыря и долго бродил по острову, размышляя о том, что ждало его в будущем. И пришёл к твёрдому убеждению и намерению остаться на всю отпущенную Всевышним жизнь священнослужителем. Только служение Богу и его детям, россиянам, может дать человеку ощущение всей полноты бытия, счёл Филарет. Как важно в этом суровом мире, в державе, повергнутой в смуту, дать страждущим надежду на вечное блаженство в Царстве Небесном после праведных трудов на грешной земле.
Но жаждая служить Господу Богу, Филарет не думал заточить себя в монастырских стенах. Он хотел быть священнослужителем белого духовенства. Ничто земное ему ещё не было чуждо. И он слишком любил жизнь такою, какая она есть. Он любил семью, детей. Где-то за Белоозером была в ссылке его жена. Он тосковал по своей Ксении-костромичке. В прежние годы кто-то пускал слухи, что его, Фёдора, оженили на Ксении силою, дабы унизить достоинство князя с родством низкого происхождения. Ан нет, не удалось недругам опорочить князя-боярина. Ксения была дворянкой уважаемого костромского рода Шестовых. И всю жизнь они прожили в согласии и детей нажили, коих без любви не обретёшь.
Мысль о детях всегда глубоко ранила Филарета. Одних уже не было в живых, умерли во младенчестве, другие — неведомо где. О двух дочерях до него так и не дошли никакие слухи за время пребывания в монастыре. Сумеет ли он собрать их под своё крыло, как вернётся из ссылки? Ещё Филарета волновало разорение. Ежели ему не вернут того, что силою отторгнул-изъял Борис Годунов, то он — нищий.
Много загадочного и неразрешимого возникало перед Филаретом в последние дни жизни в обители. Не было у него и ответа на главный вопрос: встанет ли на российский трон царевич Дмитрий? Не благословил ли Борис Годунов на царство своего сына Фёдора? Ой как не желал последнего Филарет. И с нетерпением ждал из Москвы новых вестей. А их всё не было и не было. Но вот в день Радуницы — поминовения усопших — пришли в монастырь богомольцы и поведали то, чего так боялся Филарет. Они принесли весть о том, что сына Бориса Годунова, семнадцатилетнего Фёдора, венчали на царство.
Филарет сник духом. Не ждал он себе милости от младшего Годунова, да больше от его окружения. Надо думать, считал Филарет, Семён Годунов останется при власти и за ним — Разбойный приказ.
Но после богослужения и поминовения усопших к Филарету на исповедь подошёл молодой торговый гость, с живыми карими глазами и, как показалось Филарету, очень похожий на десятского Матвея. «Не сын ли стрельцам?» — подумал Филарет. И не ошибся.
— Отец преподобный, батюшка мой, десятский Матвей, шлёт тебе низкий поклон, — тихо прошептал он. — Велено тебе передать, чтобы ждал скорого облегчения. Царевич Дмитрий стоит в Серпухове.
— Вести отрадные. Спасибо, сын мой. Да хранит тебя Господь в пути и в ночи. Как твой батюшка мается?
— Истинно мается. Матушка и два моих братца да три сестрицы от моровой язвы умерли в голодные годы. А батюшка постригом озабочен, от мирской маеты уйти надумал.
— А ты как?
— Дай Бог долгих лет жизни тётушке Катерине и дяде Сильвестру. Их заботами в Казани торговому делу учился при владыке Гермогене.
— Как он, достойный воитель?
— В силе пребывает и в Москву отбыл.
Филарет был благодарен судьбе за то: что послала ему Антона, будто родного человека встретил. И провожал его с грустью. А после отъезда Антона две недели никаких новых вестей не приходило. Да была надежда у Филарета на то, что их принесут богомольцы на день Святой Троицы — праздник Пятидесятницы — явления Духа Божия в церкви. К сему дню стекались православные христиане из многих селений северной земли, расположенной на сотни вёрст от монастыря. Филарет корил себя за то, что ждал богомольцев с нетерпением, но избавиться от него не мог.
И пришёл День Святой Троицы, большой Господень праздник. Было погожее солнечное июньское утро, северная природа торжествовала. С полуночи три больших лодки-завозни едва успевали перевозить жаждущих помолиться Господу Богу, Сыну Божьему и Святому Духу. Среди богомольцев вновь был Антон. Он сходил за товарами в Тверь и принёс оттуда короб вестей. Филарет не стал ждать часа исповеди, а позвал Антона в камору за алтарём, там приласкал и спросил:
— Чем порадуешь, сын мой?
— Скажу, отец преподобный, прежде одно: царевича Дмитрия уже царём величают. Многие бояре и иншие вельможи ходили в Серпухов и там крест ему целовали. Ещё добавлю к сему: те же бояре, а допрежь Прокопий Ляпунов рязанский, руки приложили к царю Фёдору и живота его лишили. С ним и царицу Марию, ещё боярина Семёна. Нет их ноне в живых, Царство им Небесное. — И Антон перекрестился.
— Царство Небесное, — повторил Филарет, осмысливая новину. Да ощутил боль: зачем новые невинные души загублены, Фёдор, Мария. «Едине Создателю, упокой Господи, душу раба Твоего Фёдора и рабы Божьей Марии», — подумал он. И попросил Антона: — Ты побудь в обители, пока приставы придут. Вместе и вернёмся в Москву.
— Многие лета тебе, отец преподобный. — И Антон низко поклонился Филарету. — Вещает сердце, что батюшку здесь дождусь. Он сюда мыслил прибыть.
И прошло ещё две недели. А в день празднования всех русских святых в монастырь явилось московское посольство, во главе которого стоял князь Иван Катырев-Ростовский. И привёл послов десятский Матвей. Была радость встречи. И были слёзы горести по убиенным и сгинувшим в ссылке князьям Романовым. В церкви Пресвятой Богородицы прошло торжественное богослужение в честь освобождения Филарета от опалы. И по просьбе Ивана Катырева-Ростовского игумен Ареф отслужил панихиду по всем россиянам, которых свёл в могилы в последние годы Борис Годунов. А потом состоялось прощание монастырской братии с Филаретом. Провожали его с большими почестями. Постарался об этом сам игумен Ареф. Он же сказал вещие слова:
— Вижу тебя, брат мой, первосвятителем всея Руси. И приду в Первопрестольную в день возведения на престол.
Через два дня после праздника Филарет и Ареф свершили постриг Матвея, он занял келью Филарета. И москвитяне покинули Антониево-Сийский монастырь. Расставаясь с обителью, Филарет прослезился. Многое она дала ему в понимании земного бытия, от многого исцелила. Пока плыл по озеру, душа его рвалась обратно. Нечто подспудное подсказывало ему, что он вступал на новый тернистый путь.
Так оно и было.
Глава пятая Явление слуг сатаны
Над Россией встал новый царь. Он взошёл на московский престол 25 мая: в день третьего обретения главы Иоанна Предтечи. О том новый царь не ведал. Да и некогда было ему заглядывать в святцы, потому как был озабочен другим. Он бы и почтил праздник вниманием, собор посетил, если бы не тьма забот. Эти заботы выстроились пред ним в ряд лицами польских взаимодателей и доверенными других лиц, которым новый царь был тоже многим обязан. Одни требовали долг от имени воеводы киевского князя Константина Острожского, другие от имени польского князя Адама Вишневецкого, третьи защищали интересы усвятского старосты Яна Сапеги и пана Юрия Мнишека, будущего царского зятя. Это они устилали коврами путь новому царю от Путивля до Москвы, до трона. И теперь всем им нужно было уплатить долги из российской государственной казны. Да беда не в этом. Новому царю пока не жалко было русского достояния. Он знал, что Россия сказочно богатая держава и её запасов не исчерпать вовек.
Вступив на московский престол и впервые опустившись на царское ложе, где почивали великие государи, новый царь с трепетом подумал, что эта дерзость ему даром не пройдёт, что обман его вскоре всплывёт и россияне беспощадно посчитаются с ним. Совесть его не угнетала, потому как он знал, на что идёт. Знал и в ту пору, когда обитал в приживалах у добросердного князя Константина Острожского. Он первым принял на себя заботу о царевиче, оттеснив слугу князя, несмышлёного Богдана. Ещё пребывая в Чудовом монастыре, он открыл, как мылись в бане, истинное лицо инока Григория через крест о котором всем шишам говорил боярин Семён Годунов. Но сын мелкого дворянина, он был большой пролазой и не побежал уведомлять главу Разбойного приказа, утаил то, что открыл, и ждал своего часа. И сей час настал. Подслушав разговор царевича Дмитрия с Сильвестром в келье, он в тот же день купил на торжище коня и покинул Москву, взял путь на Киев. Добравшись до палат князя Острожского, он повёл себя загадочно, не открывал своего истинного лица, лишь сказал: «Зовите меня сын Иванов».
Увидев Дмитрия под опекой Богдана, сын Иванов отшил туповатого слугу от царевича и постарался не допустить Дмитрия до князя, ежели он вернётся раньше времени. Он поселил гостя в своей каморе, в большом низком помещении, где жила челядь князя. На другой день к вечеру сын Иванов принёс в камору вина, браги и устроил угощение. Сам сын Иванов почти не пил, но щедро поил Богдана и Дмитрия. Когда царевич сник от хмельного и уснул, сын Иванов нашептал Богдану, что перед ними лежит недруг и враг князя Константина. Богдан простодушно поверил. Но когда Богдан отлучился по нужде, сын Иванов снял с Дмитрия крест, скоро собрался в путь и покинул камору. Он пришёл на конюшню, оседлал коня и уехал навстречу князю Острожскому, надеясь встретить его на пути из Варшавы. Он ехал сутки не смыкая глаз, не удаляясь от шляха, дабы не пропустить кортеж князя и не разминуться. Судьба оказалась к нему милостива. И когда он уже падал на гриву коня от усталости, появился кортеж князя. Сын Иванов предстал перед воеводой усталый, запылённый, горестный. Он смело поднялся к князю в карету и со слезами на глазах рассказал ему обо всём том, что случилось с ним за прошедшие двое суток, тоном оскорблённого достоинства открылся князю и поведал свою судьбу.
— Милостивый государь, злой рок выгнал меня с твоего подворья. Да будет тебе ведомо, князь, что я, сын Иванов, истинный сын царя Ивана Васильевича Грозного. Вот мой крест, — и он распахнул перед Константином кафтан, исподнюю рубаху, — надетый мне в день крестин. Я покидаю твой двор потому, что там появился самозванец, именем Григорий Отрепьев, сын костромского дворянина, ликом схожий со мной. Он преследует меня всюду. В Москве, в Чудовом монастыре он подслушал наш разговор с ведуном Сильвестром и теперь явился на твоё подворье, дабы оговорить меня. — Князь слушал внимательно, не спуская проницательных глаз с лица сына Иванова. Он же стойко выдерживал этот взгляд, и у него не дрогнула на лице ни одна чёрточка. И князь, считая себя душеведом, поверил, что пред ним истинный царевич. — И я покинул твоё подворье, да не мог уехать от тебя, мой благодетель, не простившись.
— Куда же ты путь держишь, царевич? — спросил князь Константин.
— Явлюсь в Варшаву и буду просить защиты у короля Сигизмунда. Верю в его доброе расположение к России и знаю, что он чтил моего батюшку.
— Держать не смею, царевич, а помочь тебе готов, дам провожатых, как подобает, ссужу денег на первый случай и на обзаведение одеждой тебе подобающей.
— Век буду благодарить тебя, дорогой князь, и сторицей верну долг. — И «Дмитрий» поклонился Константину. Потом же, понизив голос, сказал: — Поведаю тебе, князь, малую тайну Отрепьева: он страдает богомильской ересью и всюду сеет её семена.
— Господи, спасибо, что открыл сие! — воскликнул противник всякой ереси. — Да я живота лишу осквернителя моего подворья! — И заспешил: — Ну, попрощаемся до встречи в Москве! — Князь Константин обнял сына Иванова и трижды поцеловал, смахнул с глаз набежавшую слезу, выбрался из кареты, позвал молодого вельможу и распорядился: — Андрей, возьми с собой двух воинов и денег сто червонцев у казначея и проводи сына Иванова до Варшавы. Там и представишь его государю-батюшке Сигизмунду. Сие есть русский царевич Дмитрий, сын Ивана Великого!
Дворянский сын Андрей оказался расторопным, и спустя несколько минут он и два всадника уже сопровождали сына Иванова.
Бывший писец, служивший в Чудовом монастыре под именем Григория, а в миру Юрий Отрепьев, сын Иванов, был дерзок, хитёр и осторожен. Он и не думал пока идти с визитом к королю Сигизмунду, но повернул коня в Сандомир и велел Андрею представить его вначале воеводе Яну Сапеге, а ещё вельможному пану Юрию Мнишеку. Так он вскоре оказался под заботливой опекой двух известных всей Польше вельмож. И из Сандомира начался его победный марш к московскому трону.
О судьбе истинного царевича Дмитрия он ничего не знал, не слышал. Да не сомневался в том, что князь Константин Острожский сдержал своё слово. О крутом, а подчас жестоком нраве князя ходили легенды. Сказывали, что в его огромных владениях, в замке, в лесных дачах Полесья сгинул не один десяток иезуитов и иных еретиков, кто утверждал, что Сын Божий произошёл не только от Отца Господа Бога, но и от Святого Духа. И о судьбе царевича Дмитрия можно было только гадать. Что и делали все те, кого интересовала его судьба, до наших дней.
У Лжедмитрия судьба складывалась иначе. Пока она благоволила ему. Но это не избавило его от животного страха. И появился сей страх в тот же день, когда переступил порог царского дворца в Кремле. Каждый час, каждый день он боялся разоблачения. Но дерзостью одержимый, он даже подсмеивался над собой: «О, ежели разоблачить до исподнего и дальше, то каждый россиянин скажет, что пред ними человек не царского роду-племени, не от корня Даниловичей, долгой и знаменитой многими подвигами династии российских князей, государей. Скажут, это вор, поправший Христовы заповеди: не убей, не укради, не обмани». Он же всё сие совершил, дабы захватить российский престол. Как же дерзнул сей молодой человек с грустно задумчивыми глазами на смуглом лице, с пегой бородкой, некрасивый, роста ниже среднего, с большой сизой шишью близ носа под левым глазом, как он дерзнул захватить великий российский престол? Сие оставалось загадкой.
Но россияне умели разгадывать и не такие хитроумные узоры просто. Они сказали, что сей самозваный царь продал сатане душу, дабы в обмен получить трон и корону русских царей. Вкупе с сатаной чего не достигнешь, утверждали они. И было у них на то основание, потому как нашлись москвитяне, которые видели истинного Дмитрия в услужении у патриарха Иова переписчиком книг. И был он по внешности другим. Они помнили хорошо сложенного, среднего роста юношу с белым цветом лица и тёмными волосами. Да, возле носа у него была примета, но всего лишь малая коричневая бородавка, а не сизая шишка. Ещё говорили очевидцы, что у него были белые длинные кисти рук, речь же была смелой и походка его, манеры держаться носили царскую отлику.
Неприятности для Лжедмитрия начались на второй же день его пребывания в Кремле. Лишь только он появился на Красном крыльце царского дворца, чтобы сказать своё слово москвитянам, как из толпы горожан, подступившей к самому крыльцу, раздался громкий возглас:
— Россияне, сей царь не есть Дмитрий! Царевича Дмитрия я знал, встречался с ним в Чудовом монастыре, как к брату архимандриту Дионисию приходил!
Лжедмитрий растерялся, но царедворцы, стоявшие с ним рядом, защитили его и воодушевили.
— Это поп-растрига, мшеломец! — крикнул князь Рубец-Мосальский. — Повели схватить его и казнить!
И Лжедмитрий велел рындам взять крикуна и отсечь голову принародно, чтобы другим не было повадно ложь измышлять.
Ан москвитяне не дали в обиду астраханского священника, дерзнувшего открыть истинный лик царя. Сплотились перед рындами и не пустили их к смельчаку.
— Грех тебе начинать царствие с казни! — крикнул мастеровой с Кузнецкого моста.
— Ну погодите, я до вас доберусь, смутьяны! — крикнул царь.
Разговор его с москвитянами так и не возник, и царь поторопился уйти во дворец.
А времени добраться до «смутьянов» у Лжедмитрия не оказалось, потому как каждый день до глубокой ночи нужно было присутствовать на приёмах, балах и пирах в честь своего воцарения. Ещё каждый день он раздавал награды, имения, земли всем новым фаворитам, подписывал дарственные грамоты. Он и не помышлял о державных делах, озабоченный только тем, чтобы угодить своим благодетелям — польским вельможам. Иноземцы католической веры окружили царя так, что никому из русских бояр, князей именитых родов не было к нему доступа. Однако князей Нагих Лжедмитрий не забыл. Ведь там, в Угличе, жила его «мать», царица Мария. Ещё Лжедмитрий приблизил к себе князя Фёдора Мстиславского и князя Василия Шуйского, смирился с их присутствием в своей свите. И ещё как-то князь Василий Рубец-Мосальский, фаворит Лжедмитрия с Путивля, выбрав удачную минуту, шепнул царю, чтобы он проявил милость к роду Романовых и их сродникам.
— Или ты запамятовал, царь-батюшка, что Романовы тебе родня по кике? — сказал он.
— Запамятовал, князь Василий. Да видишь сам, какая прорва дел привалила, — бойко оправдался Лжедмитрий. Сам же подумал, что они-то как раз в Москве и не нужны ему.
Однако за род Романовых в эти дни волновался не только князь Рубец-Мосальский, а и москвитяне. И Лжедмитрий подумал об этом, спросил князя Василия:
— Не знаешь ли, куда упрятал их Бориска?
— Допрежь ведаю, где старший Никитич заточен.
— Тогда моей волей шли за ним посольство. А мы тут подумаем, где ему впредь пребывать. — Сердце у Лжедмитрия забилось в тревоге, потому как Никитичи не станут взирать на него так преданно, как взирал князь Рубец-Мосальский.
В тот день, как Рубец-Мосальский собирал «послов» и наставлял их, к Лжедмитрию пожаловал князь Василий Шуйский. И, обуреваемый тайной корыстью, укрепил опасение царя.
— Ты, батюшка царь, вызволи Никитичей и инших Сицких, Черкасских из ссылки, но в стольный град не торопись пускать. Смуты вокруг и без них пропасть. И то пойми, — Шуйский многозначительно поднял палец, — не приведи Господь, ежели у Никитичей возникнут сомнения.
У Лжедмитрия были основания прислушаться к совету князя Василия Шуйского, и он решил всё исполнить так, как подсказал хитрый князь.
Князю Катыреву-Ростовскому было поручено доставить старшего Романова во дворец Ивана Грозного в селе Тайнинском, а прочих пока расселить в Ярославле и Твери. А пока князь Катырев-Ростовский ходил в Антониево-Сийский монастырь, жизнь в Москве становилась всё более бурной и неуправляемой.
Царь Лжедмитрий уже открыто пренебрегал русским обществом и жил в окружении поляков, литовцев и римских иезуитов. Он вёл переписку с польским королём Сигизмундом Вазой, каждую неделю слал письма своей невесте Марине Мнишек, посылал гонцов с благодарственными грамотами папскому нунцию в Польше Рангони. И даже писал самому папе римскому, только что вставшему на престол Павлу V. Он добивался у папы разрешения жениться на католичке Марине Мнишек и, выполняя волю россиян, окрестить её в русскую православную веру. Вмешательство папы потребовалось Лжедмитрию для того, чтобы укротить неуступчивого митрополита Гермогена, который был против брака Лжедмитрия на католичке. Царь вытащил на свет божий опального митрополита Рязанского Игнатия Грека, нарёк его патриархом, при попустительстве которого надумал обмануть русских архиереев при крещении Марины и во время его венчания с полячкой. Игнатий Грек заверил Лжедмитрия, что всё сделает, как царь пожелает. Лжедмитрий вновь обрёл благодушие, но ненадолго.
Как-то после затянувшегося до глубокой ночи пира царь уже под утро ушёл в опочивальню и забылся в тяжёлом сне. И явился к нему во плоти польский богослов и философ Пётр Скарга. Встал он возле ложа, руку протянул. И Лжедмитрий проснулся, сел в испуге, спросил:
— Кто ты? Что тебе нужное.
— Не пугайся, царь. Я твой духовный отец, — сказал Пётр Скарга. — Ведаю, что против тебя умышлен заговор, — начал богослов. — Ноне же арестуй князя льстивого с хитрыми глазами. И братьев его возьми в железа. А как с ними поступать, думай сам. — И Пётр Скарга удалился из опочивальни неведомым путём.
Лжедмитрий так больше и не уснул. Он стал перебирать в памяти все лица вельмож, искать среди них того, кто льстил ему без меры и у кого хитрые глаза. Но то лицо, которое грозило ему смертью, не проявлялось... А страх нарастал. Лжедмитрий уже видел, как ворвались во дворец заговорщики, как рвались в его опочивальню, размахивали оружием. Лжедмитрий встал, оделся, саблю в руки взял и затаился у дверей, готовый защищать свою жизнь. Наступил рассвет, царь подошёл к окну, дабы посмотреть, нет ли заговорщиков близ дворца. Но двор был пуст. Лжедмитрий прислонился к оконному откосу, закрыл глаза и куда-то поплыл. И в сей миг пред окном возник человек. Смотрел он на Лжедмитрия льстиво и плутовски. И услышал Лжедмитрий голос: «Ты, батюшка, вызволи из ссылки Романовых, но в стольный град их не пускай». Царь открыл глаза и возблагодарил неведомо кого за то, что помог высветить лик заговорщика. И был им князь Василий Шуйский.
Терзаемый страхом, Лжедмитрий поднял стражу, призвал к себе польских воевод, велел им послать в палаты Шуйских солдат и арестовать всех братьев-князей.
Поляки исполняли такие повеления быстро, но попросили, чтобы с ними к Шуйским шёл кто-то из русских вельмож и предъявил им обвинение. Лжедмитрий оказался в затруднительном положении: не мог же он обвинить князей Шуйских только на основании того, что пришло ему во сне. И он призвал на помощь князя Рубец-Мосальского. Василий уже давно привык к тому, чтобы выдавать сны за явь: ложь за правду. Он и глазом не моргнул, заявил:
— Ты, государь-батюшка, не сомневайся. Есть злой умысел у князя Василия против тебя. Доподлинно сие ведаю. Он уже давно дорогу торит к трону.
— Вот ты и пойдёшь с обвинением, — повелел царь.
Князь Рубец-Мосальский колебался недолго. Рисковый мшеломец, он давно позабыл о понятии чести и благородства. Потому сказал:
— Исполню твою волю государь. — И, помедлив, добавил: — Милость, однако, прояви, Пошехонье мне отпиши за верную службу.
Лжедмитрию эта сделка ничего не стоила, и он с лёгким сердцем проявил сию милость.
— Иди же за бунтовщиками, а придёшь, получишь жалованную грамоту.
В тот же день князей Шуйских взяли под стражу, заключили в пытошные башни. Младших братьев Василия, Дмитрия и Ивана, пороли кнутами, добиваясь признания в заговоре. А князя Василия допрашивал сам Лжедмитрий.
— Ты зачем мне льстил и омывал лицо моё елеем? Говори, что замышлял против меня и кто ещё с тобой в заговоре. Да не мешкай, а то братцев засекут в застенке.
Князь Василий молчал, скорбел о братьях и думал, кто предал его. Да, он замышлял заговор, но ещё ничего не сделал, чтобы осуществить его. Он вёл разговор всякими полунамёками лишь с Фёдором Мстиславским. Неужели он в поисках корысти себе выдал его? Шуйский так углубился в свои думы, что не слышал, о чём спрашивал Лжедмитрий. Тот, наконец, взорвался и схватил князя за грудь, стал его трясти:
— Что молчишь? На дыбу рвёшься? Пошлю! — кричал царь.
Так и не добившись никакого признания, Лжедмитрий покинул пытошные казематы. Вернувшись во дворец, он повелел созвать Земский собор. И мешкать не велел, дал всего два дня на сборы. Россияне посмеивались: месяц надо, дабы кликнуть выборных со всей державы и увидеть их в Москве. И говорили, что всё это балаган для отводу глаз. Но обеспокоились за судьбу Шуйских. У именитого боярского рода было немало сторонников в Москве, и они не думали так легко отдать Шуйских на расправу бессудную.
Однако подобие земского собора вскоре сошлось на первое заседание. Это были в основном московские вельможи, преданно служившие Лжедмитрию. Царские угодники смотрели ему в рот, когда он с пылом говорил про заговор и про то, как Господь помог ему уличить Шуйских.
— Вот и спрашиваю вас, земцы, какого наказания достойны тати, задумавши покупаться на жизнь законного царя?
Дабы угодить царю, «земцы» приговорили Шуйских к лишению живота на плахе. И скорая бессудная расправа над князьями Шуйскими свершилась бы. Но вмешались священнослужители. Большим клиром пришли они в Грановитую палату, где заседали земцы, и привёл их за собой митрополит Гермоген. Он же пригрозил Лжедмитрию поднять москвитян в защиту оговорённых князей Шуйских.
— Нет у тебя воли, государь, российские корни рубить, — подойдя к трону и стукнув посохом, сурово сказал Гермоген. И продолжал: — Церкви судить Шуйских, а не угодникам. Милуй сей же час, не жди себе худа, пока народ во гнев не пришёл. — Гермоген подошёл к окну, распахнул его. — Слышишь, как гудит Красная площадь?
В палату и правда хлынул шум, похожий на рокот моря. Да и под окнами палаты уже собрались толпы москвитян. И дрогнул Лжедмитрий, знал, каковы россияне, когда поднимаются на бунт: всё сметают на своём пути. Сказал митрополиту Гермогену:
— Иди утихомирь народ, а мы тут подумаем.
— Нет, один не пойду. Идём вместе, государь, и ты сам скажешь россиянам, что отменяешь смертную казнь.
К Лжедмитрию подошёл князь Рубец-Мосальский и ещё кто-то из царедворцев. Они шёпотом говорили что-то царю, убеждали его, а он на глазах у Гермогена побледнел, поднялся с трона и пошёл к выходу, появился на Красном крыльце Грановитой и крикнул:
— Россияне, с чего бунтовать вздумали?! Вот, говорю вам и вашему Гермогену, что Шуйских милую, живота их не лишаю, но отправляю в ссылку, дабы Москву не мутили. Идите же на Красную площадь и там скажите люду, чтоб шёл по избам. — И повернулся к Гермогену: — Видишь, я крови не ищу. Теперь им говори и ты в ответе за покой в Москве. — С тем и покинул Красное крыльцо.
Гермоген же следом поспешил.
— Ты, государь, будь милосерден во всём. Посему дай повеление служилым пустить в Москву Романовых и инших опальных от Годунова. Зачем свою опалу накладываешь?!
Лжедмитрий побаивался казанского митрополита, которого и Годунов боялся, и пошёл на уступку.
— Я подумаю о них. Да не подталкивай меня. — Лжедмитрий сказал это искренне. Романовы, и особенно Фёдор, очень беспокоили его. Знал царь, что одного слова Фёдора, сказанного с Лобного места, будет достаточно, чтобы москвитяне стащили его с трона. И после долгих раздумий, колебаний Лжедмитрий решился на встречу с Фёдором, дабы заручиться его поддержкой или хотя бы молчанием.
Через три дня Лжедмитрий в сопровождении малой свиты и отряда польских драбантов покинул Москву. Знал царь, что Филарет Романов уже пребывал в селе Тайнинском, как и было ему намечено. На беседу с Филаретом царь ушёл один. И никто не знал, о чём Лжедмитрий и Филарет беседовали. Покидая Тайнинское, Лжедмитрий выглядел расстроенным. То, что Филарет не стал допытываться, как и почему он, Отрепьев Григорий, захватил трон не по праву, это Лжедмитрия порадовало. Выходило, что признавал его царём. Но словно в уплату за признание потребовал вернуть Шуйского с пути в ссылку, отдать имущество и восстановить в чинах и званиях. Лжедмитрий пообещал выполнить волю «сродника», но и Филарета вынудил на уступки.
— Ты, отец преподобный, в таком случае посиди пока в Ростове Великом. Выпрошу тебе у архиереев сан митрополита, епархия будет под тобой.
— На то твоя воля, государь.
— Вот и договорились. С тем и прощай.
Приезд Лжедмитрия в Тайнинское не был для Филарета неожиданным. За день перед тем приезжали в село Сильвестр с Катериной. Явились по наказу Гермогена с просьбой выручить Шуйского и его братьев. И Катерина дала понять Филарету, что царь пойдёт на уступки. И теперь, проводив царя, Филарет долго ходил по тайнинскому дворцу, думал о состоявшейся встрече с Григорием Отрепьевым. Но как-то подспудно всё время пробивались воспоминания о молодости, многое в которой было связано с Тайнинским. В этот дворец, построенный для приёма высоких гостей, молодой князь приезжал не раз. Тогда он служил в свите царя Ивана Грозного. Здесь он был свидетелем встреч Ивана Великого с королями Польши и Швеции, с крымским ханом и римским иезуитом Антонием Поссевиным.
Но, избавившись от воспоминаний о далёком прошлом, Филарет вернулся в мир нынешний. О личности нового царя Филарета просветили Сильвестр и Катерина. Да и князь Иван Катырев-Ростовский многим удивил его. Потому, когда Филарету сказали, что царь едет в Тайнинское, он был удивлён дерзостью государя. Зачем понадобилось Лжедмитрию увидеть того, кто знал подлинное лицо самозванца? Уж не хотел ли царь добиться от него свидетельства о том, что он есть подлинный царевич Дмитрий? И уж конечно Лжедмитрий повезёт Филарета в Москву, в Кремль и заставит его сказать о том, что царь истинный наследник престола при стечении множества вельмож, иноземных послов. Знал же Филарет, что в Москве уже мало кто считал царя истинным царевичем Дмитрием. Дошло до Филарета и то, что первым распустил слухи о самозванстве князь Василий Шуйский.
И при встрече с царём Филарет ни словом, ни намёком не вселил в него надежды на то, что, ежели, даст Бог, ему доведётся быть в Москве, он, Филарет возвестит о том, на что надеялся царь. Потому и душевной беседы у них не получилось — Филарет пошёл на уступки лишь для того, чтобы избежать новой опалы, Лжедмитрий — дабы заставить Филарета молчать. На том они и расстались.
Совесть Филарета, однако, не дремала. И она повелевала ему ехать в Москву и там свершить то, что надлежало исполнить честному россиянину... По этой причине Филарет не спешил уезжать в Ростов Великий. А чтобы знать хоть что-то о московской жизни, попросил князя Ивана Катырева-Ростовского съездить в столицу. Князь уехал неохотно, обещал вернуться через три дня, но не приехал. Филарет ожидал его с нетерпением, надеясь на то, что тот привезёт вести о родных.
Чтобы как-то скоротать время, Филарет проводил его в обществе хранителя дворца, престарелого князя Михаила Катырева-Ростовского, дяди молодого князя Ивана. Они много беседовали о прошлом, но их воспоминания были окрашены в чёрные тона. Почему-то всплывали всё больше мрачные стороны жизни той поры. Наверное, накладывало отпечаток на беседы то, что оба они были свидетелями многих злодеяний Ивана Грозного.
— Господи, я и в могилу уйду с неотвязным явлением, — жаловался князь Михаил. — Никак не могу забыть, как царь-батюшка распял на дубовом кресте думного дьяка Ивана Висковитого. И за что, за одно неугодное слово... В тот день Москва была кровью залита. Триста лучших москвитян были невинно замучены, кого варом облил, кому на плахе голову... Я попытался убежать, чтобы не зреть то злодейство, но царь-батюшка ухватил меня за шиворот, сказал: «Зри себе в науку».
Князь Иван Катырев-Ростовский вернулся из Москвы лишь через неделю. Особыми новостями не порадовал, их не было, всё больше печальные. Но когда вручал Филарету грамоту Патриаршего приказа о назначении на Ростовскую епархию, то проявил чуть ли не восторг.
— Отныне ты, чтимый нами Фёдор Никитич, возведён в сан митрополита! С чем и поздравляю, владыко! — И князь Иван низко поклонился.
Но эта новость не зажгла свечи радости в душе Филарета. Не хотел он получать святительский сан из рук лжецаря, а тем паче с участием самого себя в этой сделке. Филарет спросил:
— Чьей же волей мне пожалован сей высокий сан? Уж не Игнатий ли Грек сподобился милость проявить?
— Вот уж чего не ведаю, о том не скажу. Да поди архиереи за страстотерпие твоё воздали, — ответил князь. — И ты прими сей дар судьбы не сумняшеся. Истинно говорю, пришло время быть тебе владыкою.
Так и не ощутив какого-либо душевного подъёма от неожиданного возвышения: Филарет принял сей дар, сочтя, что без воли Всевышнего сего бы не случилось. Понял он и то, что в Тайнинском ему больше делать нечего.
На другой день Филарет собрался в путь, простился с князьями Катыревыми и покинул временное пристанище. Ещё через день он был в Ростове Великом.
Филарет бывал в прежние годы в этом маленьком уездном городке, который когда-то в пору расцвета был стольным градом Ростовского и Ростово-Суздальского княжеств. Ему нравилось великолепие великого града. Его соборы, церкви соперничали не только с суздальскими, ярославскими, владимирскими, но и с московскими. Любил Филарет ростовские колокольные звоны, которые своими высокими и сильными звуками окрыляли душу.
Второй список грамоты Патриаршего приказа был доставлен в Ростов Великий раньше, чем там появился Филарет. И потому ростовские священнослужители и уездный губной староста успели подготовиться к торжественной встрече митрополита, к проводам в Троице-Сергиеву лавру на отдых престарелого митрополита Феоктиста.
После торжеств жизнь в Великом Ростове потекла в церковном бдении, но тихо и мирно. Филарет объехал все приходы епархии и стал сам вести службу в кафедральном Успенском соборе Ростовского кремля. Его богослужения собирали множество прихожан, чего в прежние годы ростовчане не знали, проповедями Филарета заслушивались.
Митрополит Филарет был желанным гостем во всех именитых семьях города, как в боярских, дворянских, так и в купеческих. Он был образованным человеком, знал латынь, много читал, и беседовать с ним, слушать его доставляло удовольствие каждому. Дома в вечерние часы Филарет добирал то, что не успел познать в Антониево-Сийском монастыре — изучал историю христианской церкви.
К своему немалому удивлению, он нашёл в старых княжеских палатах ростовских князей книги греческого письма, и были среди них знакомые ему церковные сочинения века Комнинов Михаила Пселла. Этот сочинитель написал прекрасное толкование книги «Песнь Песней», главы из которой о Великой Святой Троице и о Иисусе Христе Филарет выучил наизусть. Ещё Филарет нашёл книги времён императоров Палеологов и среди них опять-таки знакомое сочинение Григория Палма «Об исхождении Святого Духа от одного отца». Спустя несколько лет эта книга поможет Филарету выстоять в борении с богословом иезуитом Петром Скаргой, когда возникнет спор о ереси богомильской, кою Скарга проповедовал.
Но чтение книг, многие часы, проводимые на службе, не избавляли его от тоски по родным и близким. Он с нетерпением ждал тот день, когда бы в его палатах сошлась вся семья, когда смог бы увидеть жену Ксению и желанного сына Михаила. Так незаметно пролетел почти год, когда до Ростова Великого долетели вести о больших потрясениях в Москве. Князь Василий Шуйский вновь возглавил заговор против Лжедмитрия. И на сей раз ему удалось достичь задуманного. Царь Лжедмитрий был убит. Случилось сие семнадцатого мая. А в двадцатых числах мая в Ростов Великий примчались брат Филарета князь Иван и князья Трегубов и Трубецкой, зятья Романовых. Встреча была шумной, радостной. Ведь все они не виделись без малого шесть лет. Да едва облобызавшись, едва отдышавшись, князья потребовали от Филарета, чтобы он собирался в Москву.
— Дорогой владыко, ты у нас за отца-батюшку, и в Москве нам без тебя быть нельзя, — начал князь Дмитрий Трубецкой. — Потому мы одни не уедем.
— Москва мне желанна, дети мои, да места своего в ней не вижу. А тут я при службе, — буднично ответил Филарет.
— Но брат мой родимый, — воскликнул нетерпеливый князь Иван, — нужда в тебе там, потому что новая опала нам грозит Да и тебя здесь царь Василий достанет Недоволен он, что ты получил сан митрополита по воле самозванца, а мне дадено боярство.
Филарет задумался, к медовухе прикоснулся — сидели за трапезой — и пришёл к мысли, что брат Иван и зятья правы. Нужно ему вернуться в Москву, дабы восстановить положение Романовых, добыть роду прежнее влияние при царском дворе, восстановить порушенное родовое гнездо. Придя к такому решению, Филарет успокоил гостей:
— Будет по-вашему, дети мои. Ежели нынче не постоим за себя, то и впредь нам не встать во весь рост, — заявил Филарет. — Да и Шуйского нужно в постромки взять-поставить, дабы не казнил без вины, как было при Годунове.
Филарет встал, вышел из-за стола и размышлял вслух о всём том, что волновало его. Глаза у Филарета горели огнём, помолодели, и все увидели прежнего, гордого и независимого, князя. Да, сила в нём была скрытная. Он не считал себя старцем, завершающим жизненный путь. В свои пятьдесят один год он жаждал жизни. И потому, не оглядываясь на прошлое, ринулся в бурное море смутной Москвы, России. Но Филарет не хотел порывать связи с Ростовской епархией. Он оставлял место митрополита за собой и, как сказал клирикам, покидал Ростов временно.
В Успенском соборе по поводу отъезда Филарета состоялся молебен. На нём собралась вся ростовская знать, была прочитана молитва о путешествующих и митрополиту пожелали скорого возвращения. Пожелание священнослужителей оказалось пророческим, потому как Филарет не задержался в Москве и меньше чем через год вернулся в Ростов Великий.
А пока Москва встретила Филарета большим многолюдьем, оживлением жизни, бойкой торговлей. Москвитяне приходили в себя после разгула в городе польских пособников Лжедмитрия. Романовское подворье на Варварке, где при Лжедмитрии стояли три месяца и бесчинствовали иезуиты, действом князя Ивана было приведено в порядок. При Лжедмитрии, спустя три месяца его царствования, подворье и палаты были возвращены Романовым. Филарет немало думал по этому поводу. Выходило по его здравом размышлении, что царь Василий и впрямь мог проявить к Романовым немилость, потому как Лжедмитрий оказал им многие почести, ну прямо-таки как отец родной. Как ни кинь, а у Шуйского, ненавидевшего Лжедмитрия, было основание проявить немилость и к его приближённым.
Одно утешало Филарета. Вступая на престол, Василий Шуйский подписал подкрестную запись, в которой дал клятвенное обязательство никого не карать без вины. А ежели судить виновных, то истинным праведным судом по закону, а не по усмотрению.
«Целую крест всей земле, — было написано в подкрестной записи, — на том, что мне ни над кем ничего не делать без собору, никакого дурна».
Филарет знал, что родом Романовых и во время правления Лжедмитрия не было совершено никаких чёрных дел против царя и России. И потому он вскоре забыл о своих первоначальных волнениях. Но жизнь в столице текла бурно и что ни день приносила новые огорчения, новые тревожные вести. Спустя несколько дней после приезда Филарета пришёл к нему брат Иван с новиной, кою добыл, как он сказал, от верных людей. Сказано было ему, что царь Василий собирал московских архиереев, и на том совете шёл разговор о патриархе. Он же отстранил от патриаршества неугодного ему Игнатия Грека. «Мне не нужен духовник, который служил самозванцу, — заявил при этом царь. — Потому ищите достойного». И были названы на том совете лишь два имени: митрополита Казанского Гермогена и митрополита Ростовского Филарета.
— Да сказывали, что твоё имя, братец, назвал сам царь, — частил Иван. — Дивно. Да ты-то что думаешь по сему поводу?
Филарету тоже показалось всё произошедшее в Кремле дивным. Выходило, что Шуйский сделал попытку примирения с Романовыми. Удивился, да не поверил, что желание Шуйского видеть на престоле церкви его, Филарета, есть искреннее. Царь Василий был больше хитрый, чем умный. И как позже выяснилось, он лишь заигрывал с Филаретом, дабы усыпить свою совесть. Помнил пока царь Василий, что многим обязан своему восшествию на престол Филарету Романову. Быть бы ему в ссылке, ежели бы Филарет не вмешался в его судьбу. Но ещё больше Шуйский был обязан митрополиту Казанскому Гермогену. Царю надо было благодарить Бога за то, что по его милости Гермоген отвёл руку самозванца с топором, занесённым над Василием Шуйским.
Может, царь Василий всё-таки хотел отблагодарить прежде его, Филарета, рассуждал митрополит. И возражал себе: как мог Шуйский советовать архиереям возвести на престол церкви Филарета, ежели он не мог стать духовным отцом государя по своим внутренним убеждениям, о которых царь Василий знал. И потому Филарет счёл окончательно движение царя Василия всего лишь игрой в примирение. А Филарет не хотел принимать участия в этой игре. Знал он, что Шуйский не исполнит обетов не карать без вины, и потому остерегался дать ему повод для опалы. Он пребывал в Москве без службы, без дел, не появлялся ни в Кремле, ни в городе и утешался воспитанием сына Михаила, проводил с любознательным десятилетним отроком полные дни, пытался избавиться от душевного расстройства, возникшего с возвращением из ссылки бывшей жены Ксении, а ныне инокини Марфы. Схима разлучила их. Марфа отнеслась к этому покорно и стойко и не проявляла никакого желания возобновить супружескую жизнь. Филарет понимал её, ни в чём не принуждал, но душевные страдания его порою становились нестерпимы. Он казнил себя за свой характер, за свои чувства, но ничего не мог с собой поделать, потому как Ксения оставалась ему желанной. И потому стал жалеть, что так легко поддался уговорам и покинул Ростов Великий, с нетерпением ждал тот час, когда мог бы вернуться туда.
Ждать исхода задуманной хитрой игры царём Василием Филарету пришлось недолго. По державе поползли слухи, что царь Дмитрий не был убит, что по воле Всевышнего он был спасён, а убит был человек лишь похожий на него. Дабы пресечь эти слухи, царь Василий принял меры для их опровержения. Он призвал в Кремль мать Дмитрия, царицу Марию Нагих, а ныне инокиню, и повелел ей принародно признаться, что её сын убит девятилетним отроком и что Лжедмитрия она признала за сына подневольно. Ещё царь нашёл монаха Варлаама, который в своё время общался с Григорием Отрепьевым и повелел ему:
— Всё опиши в признании и будешь читать всюду с папертей церквей и соборов.
И Варлаам написал извет, в коем доказывал тождество Лжедмитрия с Гришкой Отрепьевым. Но о том, что сам Варлаам шёл почти до Киева с царевичем Дмитрием, он умолчал.
Признания Варлаама и свидетельства Марии Нагих о Лжедмитрии царю Василию оказалось мало. Тут-то и завершилась игра царя Василия с митрополитом Филаретом. Царь позвал митрополита во дворец. В разговоре с ним был ласков, обходителен. Много спрашивал о том, как жил в изгнании да как устроился в Москве. И со слезой в голосе отметил:
— Да вижу, владыко, в унынии пребываешь.
— Печалуюсь от расстройства жизни, — неопределённо ответил Филарет.
Он вёл себя сдержанно. Удивился тому, как за прошедшие несколько лет, что не видел Василия, тот неузнаваемо изменился. Он стал ещё ниже ростом, совсем облысел и глазами вовсе плох был. Но в хитрости преуспевал. И походя пускал её в оборот.
— Ты уж не обессудь, владыко Филарет что не добился тебе патриаршества. Иереи заартачились. С чего бы? Да ты их знаешь. Им больше мил Казанский митрополит Но я ещё постою за тебя, — утешал царь.
Филарет ответил Василию учтиво:
— Я благодарен Всевышнему, что он не оставляет меня милостями.
— Ну коль так, то и мне легче, — вздохнул царь. — А позвал я тебя, дабы исполнил мою просьбу. Возьми кого тебе нужно и сходи в Углич. Там достань мощи царевича Дмитрия, привези их в Москву. А пока ходишь, я поборюсь с иереями: токмо тебя вижу патриархом и моим духовным отцом.
Филарету в эти минуты было стыдно за государя. Он страдал оттого, что в каждом слове Василия сквозила ложь, изворотливость. И потому поспешил откланяться:
— Я исполню твою волю государь, привезу мощи отрока, убитого в Угличе. А потому не мешкая уезжаю. — И, считая, что во дворце ему больше делать нечего, покинул ещё резко пропитанные смоляным духом новые дворцовые палаты царя Шуйского.
Филарет умел действовать быстро и без суеты. Он взял себе в помощь князя Ивана Катырева-Ростовского, двух священнослужителей из Кремля, ещё церковных служек троих, своих холопов с подворья несколько, и на другой день карета и пять возков укатили из Москвы. Путь в Углич был хорошо проторён. И на третий день посланцы Москвы прибыли в вотчину князей Нагих.
Углич в эти годы являл жалкое зрелище. Жизнь здесь, казалось, вымерла. Редкие горожане ходили словно ночные тени, не поднимая к солнцу глаза. Торговли не было, никто не строился, не занимался ремёслами. Трагедия пятнадцатилетней давности всё ещё давала себя знать.
Унылая жизнь в Угличе не располагала к долгому пребыванию в нём. Филарет собрал в храм угличских священников, пригласил губного старосту, и в их присутствии услужители собора изъяли гроб с мощами отрока, убитого на крыльце княжеского дворца. Филарет заведомо знал, что в домовине лежат мощи не царевича Дмитрия, а иного отрока. Он велел вскрыть гроб и утвердился в этом ещё раз. В истлевшей руке убиенного сохранились лесные орешки, коих у царевича Дмитрия не могло быть по той причине, что в тот роковой день он вернулся с богослужения и в руке держал просвирку. Об этом Фёдору рассказывала кормилица Ирина перед тем, как её взяли на пытки.
Отслужив просительный молебен в угличском соборе, Филарет ушёл в обратный путь. А пока шёл до Москвы, там начались загадочные беспорядки. На Тверской улице разбушевалась толпа горожан. В руках у многих были подмётные листы. Как и откуда они попали к горожанам, никто не знал, все утверждали, что подобрали их на земле. Размахивая ими, горожане шли к Кремлю и кричали, что царь Дмитрий избежал смерти, жив и здоров.
— Он снова собрал войско! Снова идёт на Москву! — кричал детина с Ямского поля.
— Слава царю Дмитрию! слава! — неслось над толпой.
Приставы пытались разогнать толпу но им это не удавалось. Со всех улиц в неё вливались новые потоки, и она лавиной выплеснулась на Красную площадь. Она заполнилась от края и до края, над нею стоял несмолкаемый гул. В толпе нашлись и защитники царя Василия. Они шумели больше других и всем поясняли:
— Да знаете ли вы, кто писал эти подмётные письма? Сие дело опального Филарета Романова. Он хлопочет о сроднике.
И трудно было объяснить ход беспорядка. Да он потому и необъясним.
Ан кто-то во всём хорошо разобрался. И владельцем той сведой головы был сам царь Василий Шуйский. Потому как он, изощрённый в хитрых делах, заварил сию кашу дабы бросить тень на ни в чём не повинного митрополита Филарета. Москвитяне же всё разжевали позже и назвали сие дело тёмным. Но суть его вскоре высветилась, род князей Романовых вновь попал в опалу теперь уже от царя, который и году не прошло, как клялся на кресте без вины опалы своей не класти.
Клевреты царя Василия действовали споро. Навстречу Филарету, который был где-то на полпути от Углича, послали команду во главе с князем Дмитрием Шуйским. Он именем царя отстранил Филарета от порученного дела и велел не мешкая и не появляясь в Москве удалиться в Ростов Великий, пребывать там, доколь царь Василий не проявит милость.
Филарет не взбунтовался против новой неправедной опалы и помолился Господу Богу за то, что защитил его от более жестокой царской «милости».
Путь до Ростова Великого Филарет совершил в полном одиночестве. Он сидел на облучке крытого возка и в руках держал вожжи, но коня не погонял и на дорогу, казалось, не смотрел. Его взгляд был устремлён под ноги коня, он прислушивался к цокоту копыт и слышал, как они вызванивали размеренно и чётко одно слово: са-та-на, са-та-на. И перед Филаретом возник образ властелина тьмы. Он был космат, клыкаст, в веретьяном кафтане и препоясан саблей. Вокруг него увивались слуги — все дьяволята, сатанята, а среди них резвились три брата Шуйских: сам царь Василий и князья, средний Дмитрий и младший Иван. «Оно так и есть, происками сатаны добыл себе престол Василий. Да век твой, князь тьмы, грядёт недолгий. Примешь ты срамную смерть в назидание всему роду твоему на века», — подумал Филарет и дума та оказалась пророческой. Он оторвал взор от дороги, от конских копыт, посмотрел на поля, на перелески, на чернеющую вдали деревеньку, услышал над ржаным полем песню жаворонка, Божьей птахи, и на душе у него посветлело.
Глава шестая Противостояние
Ростов Великий жил в царствие царя Василия так же тихо, как и многие прежние годы подобало жить малому уездному городку. Как всегда, горожане были неторопливы, лишь по утрам кое-кто из них спешил на торжище в торговые ряды, занимавшие квартал близ кремля. Да торжище в эту пору было скупым, к исходу зимы и вовсе пустовало, потому как из окрестных деревень никакого подвозу продуктов не было. А из дальних селений, из той же суздальской, богатой дарами земли, крестьяне и купцы ничего не везли по той причине, что всюду по дорогам гуляли шайки разбойников.
Россия пылала в огне междоусобицы. И никто из россиян не мог представить себе конца смуты. Трижды Москва пребывала в опасности быть захваченной врагами. То мятежные отряды Ивана Болотникова почти достигли стен кремля и были остановлены в нескольких верстах от неё, под селом Коломенским, загородной царской вотчиной. То второй Лжедмитрий обложил Москву, как медведя в берлоге, перерезал все дороги, кроме одной — на Рязань, кою удерживали царские войска. То поляки попытались вновь ворваться в Москву, а как не удалось, пошли гулять по России, грабить города и сёла русские.
Всё это в Ростове Великом знали и переживали за судьбу державы, да что там скрывать, и за свою тоже. Но острее многих других ростовчан переживал за судьбу России митрополит Филарет. Он отчётливее иных россиян понимал, в какую пропасть катилась держава, какая разруха ожидала её в будущем. Братоубийственная война никому и никогда не приносила блага.
Прислушиваясь к событиям в Москве и близ неё, Филарет не понимал хода событий и многое не признавал за разумные действия. Да и как можно было понять разрушительное равнодушие к судьбе России самого государя. Филарету хотя и не довелось стоять воеводой во главе войска, но он понимал, что царь Шуйский, побив Ивана Болотникова, победы над ним не достиг. А мог бы, встав во главе войска. Нет же, в разгар битвы он наблюдал за нею из кремлёвского дворца. К тому же пребывал в сонном состоянии. А нужно было гнать-добивать Ивашку до полного уничтожения мятежников. Сказывают, что царь Василий уповал на промысел Божий. Но Господь отвернулся от Шуйского, и Болотников вскоре оправился от ударов царского войска, зализал раны и овладел Тулой. Тут уж Филарет мог определённо сказать, что царскому войску не взять этой крепости ни штурмом, ни осадой, за мощными стенами стояла Тула.
Ещё более печальное размышление посетило Филарета в тот день, когда он узнал, что второй Лжедмитрий овладел селом Тушино, кое находилось в десяти верстах от Москвы, и коршуном навис над стольным градом. Тут и малому дитя понятно, что Тушино следовало немедленно очистить от воровского войска или зажать его там в хомут. Но и к Тушинскому вору царь Василий проявил равнодушие. Гермоген, которого избрали патриархом, требовал от царя Василия послать на Тушино сильное войско и воеводою над ним поставить умницу и очень смелого молодого князя Михаила Скопина-Шуйского. Истинно утопил бы сей воевода тушинских татей в Москве-реке. Но нет, не проявилось такое побуждение у царя Василия. Одно потворство сторонникам самозванца оказывалось. Каждое утро десятками, сотнями уходили из Москвы в Тушино многие москвитяне, а больше имущие, и никто на заставах их не задерживал. Их прозвали перелётами, потому как они, отслужив день второму Лжедмитрию, вечером возвращались в родные московские стены. И как показалось Филарету, царь Василий день за днём накликивал себе новую беду. Да по-иному и не обозначишь поведение государя.
Случалось так, что Филарет приходил в гнев и слал на голову царя Василия с амвона собора анафему. Было так, когда митрополит узнал, что царь отказал в помощи защитникам Троице-Сергиевой лавры. Она стояла от Москвы на пути к Ростову Великому. И ростовчане хорошо знали, как там трудно было защищаться трём тысячам монахов и мужиков из окрестных деревень против тридцатитысячного войска поляков, которым командовал умный и дерзкий гетман, усвятский староста Ян Сапега.
На каждом богослужении Филарет молил Всевышнего о защите Троице-Сергиевой лавры. И знал митрополит, что Господь Бог не оставлял её без помощи. Да утверждали прихожане, коим приходилось бывать близ лавры, что на крепостных стенах среди её защитников видели самого архистратига архангела Михаила. «А то как бы без него малыми силами стоять против орды», — добавляли убеждённо ростовчане.
В те грозные для России дни к Филарету не раз приходила мысль о том, чтобы укрепить Ростов Великий, дабы выстоять, как подойдёт к городу враг. Но Филарет не успел исполнить свой замысел. Поляки уже разбойничали северо-западнее Москвы. Они постучались в ворота Твери, да получили от тверчан добрую нахлобучку. И от Твери их отряды двинулись в сторону Ярославля, Переяславля, Ростова Великого.
Филарет со священниками вышли на улицы города, призывая горожан к тому, чтобы готовились защищать свои дома от поляков. Но из домов выходили больше женщины, дети, старики. Горожан, способных держать зброю. в Ростове Великом не было, всех их забрали в войско, сперва царь Борис Годунов, потом Лжедмитрий, теперь вот царь Василий. Близ кремля собрались старики, отроки, калеки, ремесленники, несколько торговых людей. Они просили Филарета позволить им укрепить хотя бы стены кремля.
— За ними и выстоим, как подойдут ляхи, — заявили ростовчане.
Оценив силы собравшихся, Филарет с горечью отметил, что непосильно им исправить разрушения веков, но благословил на подвиг.
— Делайте посильное, дети мои. Да помните, что у нас есть твердыня от врагов — наш с вами собор.
В эти же дни из Москвы пришли в Ростов Великий суровые вести, которые касались прежде всего Филарета. И они оттеснили заботы митрополита о защите города от разбойных отрядов поляков. Пришёл в палаты Филарета бывший холоп Романовых, который в день кончины боярина Никиты Романовича отпросился на богомолье и ушёл странствовать по монастырям России. Филарет помнил Якова ещё крепким молодым мужиком. Теперь же стоял перед ним старец.
— Князь-батюшка владыко, прислали меня добрые люди поведать тебе о горе в вашем роду, — начал рассказывать Яков.
Филарет же остановил его, отвёл в трапезную, накормил. Лишь после этого велел продолжать.
— Говори, сын мой Яков, с чем пришёл.
— Говорю, владыко. Беда пришла в ваш дом. Князь Юрий Трубецкой, а ещё князья Иван Катырев да Иван Троекуров вели войско под Калугу, кое дал им царь Василий, и пустились в заговор против государя. Да заговорщиков предали. Им удалось бежать в стан самозванца. Сие случилось в майские дни, а ноне... — Яков замешкался.
— Говори, сын мой, не коснея.
— Ноне все твои сродники толпою ушли в Тушино и поклонились вору.
— Господи, что же их подвигнуло на это? Кто вынудил? — воскликнул Филарет Да ответ ему был ясен: виною всему был сам царь Василий.
— И кто ушёл? Ты видел их? — спросил Филарет.
— В стане самозванца я не был. Ан слышал, что ушли князья Сицкие и Черкасские. Ещё князь Дмитрий Трубецкой, с ними же Засекины и князь Борятинский. О господи, горе нам! — Яков замолчал и заплакал, отвернулся.
— Что же они там делают? — ещё не осознав случившегося, спросил Филарет.
— Служат батюшка-владыко, служат самозванцу. Самозванец и есть. Ведь я же сам видел, как боярский сын Валуев застрелил из мушкета того, кого за Митеньку приняли.
Филарет отправил Якова отдыхать, а сам до глубокой ночи не находил себе места, всё ходил, думал. И думы его были крутые. Пришёл бывший князь и первый боярин России к мысли о том, что его большая родня выступила не за самозванца, а прежде всего против царя Василия, запятнавшего себя на троне многими грехами. Понял Филарет что началось противостояние всего окружения романовского рода окружению царя Шуйского. И было очевидно, что биться предстоит до последнего дыхания, пока кто кого под корень не подрубит. И ему, Филарету, старшему ноне в роду Романовых, не быть в стороне, не спрятаться за святительскими одеждами, а как былинному иноку Пересвету ждать своего часа, дабы сойтись с Шуйским впритин. Что ж, он готов к той смертельной рукопашной схватке. Ему и живот не жаль для торжества правды. А правда за Романовыми и кто с ними. И потому, как только упущениями царя Василия Россия была ввергнута в новое самозванство и междоусобие, противники Шуйского сочли своим долгом подняться против него. И никто из Романовых не может быть приверженником Лжедмитриев, потому как не по их воле возникло и первое, и второе самозванство. Романовы берегли и готовили на престол истинного Дмитрия. И ежели бы не злочинство «проныра лукавого» Бориса, ноне на троне восседал бы истинный царь Дмитрий, потомок рода Калитиных, и не было бы опалы Романовых, не было бы царя Бориса, царя Василия, а Россия бы не впала в великую смуту.
В полночь Филарет встал на молитву. И тут неожиданно его обожгла мысль о том, что теперь настало самое время достать трон новому законному государю, племяннику царевича Дмитрия, князю Михаилу Романову. Мысль эта показалась Филарету крамольной, греховной, и он просил Всевышнего проявить к нему милость, избавить от крамольного наваждения. Но тщетны были его мольбы, мысль, словно гвоздь, всё глубже и глубже впивалась в его сознание. Она же привела Филарета к неотложному шагу. Он счёл, что будущего престолонаследника нужно уберечь от всех злодейских происков, спрятать его там, где бы никто не нашёл.
Филарет действовал решительно и быстро. Лишь только Яков отдохнул, он снарядил сего верного человека в Москву, дал ему коня, возок, денег, а в помощники в пути — церковного служку. Якову же дал строгий наказ:
— Ты, сын мой, исполни моё повеление. Как примчишь в Москву, иди на наше подворье и скажи старице Марфе, чтобы не мешкая уезжала в Костромскую землю, там скрылась бы вместе с сыном Михаилом понадёжней. И тебя Христом Богом прошу идти с ними. Да при случае подай мне весточку, как всё будет.
Яков уехал тотчас, как получил наставления от Филарета. А побуждения Романова оказались своевременными, мысль — провидческой. Позже юного Михаила Романова искали многие клевреты Василия Шуйского. Они и в Ростов Великий приходили, шастали в городе и в ростовских монастырях. Но судьбе было угодно уберечь юного князя от происков царя Василия. И Филарет часто повторял: «Благослови душе моя Господа из псалма — так и не забывай всех благодеяний Его».
Но своей судьбы Филарет пока не ведал. Она же приближалась к крутому перелому.
В конце октября, по восьмому году нового века большой отряд поляков из войска Яна Сапеги хитростью ворвался в Тверь, разорил её, взял в плен архиепископа Тверского Феоктиста и двинулся на Ярославль. В пути к отряду поляков пристали повстанцы Переяславля-Залесского и побудили поляков взять Ростов Великий. Сами они издавна враждовали с ростовчанами, якобы из-за того, что в былые времена они перехватили у переяславцев княжескую власть в крае.
Переяславцы привели поляков к Ростову Великому и сказали им: «Живут тут просто, городу оберегания нет». Так оно и было. Враги ворвались в город без труда. Жители города к тому часу почти все убежали из домов, спрятались в лесах, ушли в Ярославль. А те, кто не смог уйти от врагов, скрылись в Успенском соборе, уповая на Господа Бога и на митрополита Филарета. Поляки погуляли по домам, по палатам, ограбили их и после обложили Успенский собор. Они притащили тараны и после многих попыток вышибли железные врата, ворвались в храм. И началась резня беззащитных женщин, детей, стариков.
Митрополит Филарет, который готовился вместе с ростовчанами предать себя огню, не успел свершить сей подвиг. Но, подняв в руке тяжёлый медный шандал, смело пошёл на врагов, призывая остановить разбой и кровопролитие. Но польские воины скопом навалились на митрополита, вырвали из его рук шандал и вытащили из собора. На паперти с него сорвали святительские одежды, лихой гусар стащил сапоги. Над Филаретом поставили конных воинов и велели гнать его в Тушино, дабы публично казнить вместе с архиепископом Феоктистом.
Стоял ноябрь, шёл густой и мокрый снег. Конвой двигался по дороге, разбитой повозками и конскими копытами, грязь, смешанная со снегом, доходила Филарету до щиколоток. Митрополит страдал от холода, от болей в замерзающих ногах, всё тело его постепенно коченело. Но он шёл мужественно и не просил милости у врагов. Его гнали весь день и вечер. Лишь к ночи поляки остановились в какой-то разорённой деревушке. Филарета затолкнули в пустой хлев, заперли. Ночь была ужасной. Остатки одежды на Филарете были мокрыми, а к ночи, когда ударил мороз, замёрзли, и сам он постепенно замерзал. Кой-как прикрывшись старой соломой, Филарет вознёс к Всевышнему молитву о спасении, постепенно согрелся и обрёл спокойствие и веру в то, что ужасы не будут длиться вечно.
И ранним утром в судьбе Филарета произошли перемены. Переяславцы, возвращаясь из Ростова Великого домой с награбленным добром, тоже остановились в деревне. Они же и сказали полякам, что тот, кого гонят босым в Тушино, приходится царю Дмитрию тушинскому двоюродным братом, и попросили оказать ему честь. Переяславцы дали для Филарета старый кожух, татарскую меховую шапку, казацкие сапоги и штаны. Филарета одели, посадили в сани и повезли дальше.
Всё, что случилось с митрополитом Филаретом в последующие дни и недели, напоминало ему затянувшийся кошмарный сон. Его словно опутали колдовскими мерзостями. События, которые водоворотом захватили Филарета, трудно было пересказать. Одно хорошо врезалось в его память, это то, как он заболевал. На другой день после того, как его прогнали десятки вёрст босым по снегу, он ощутил в теле опаляющий жар, его лихорадило так: что тряслось всё тело, а голова раскалилась, словно её держали на огне. Потом он впал в забытье, и к нему пришло явление. Пред ним появился некий дьяк именем Андрон, нарядил его в святительские одежды, посадил в карету, запряжённую в четвёрку резвых коней, и лихо помчал в Тушино. Там же, у «царского дворца» будто бы его встречал сам Лжедмитрий II, и была при нём огромная свита, бояр, дворян, служилых дьяков и архиереев разного чина. Когда кони остановились у крыльца, царская свита закричала что-то величальное. А он, Филарет, вместо того чтобы отвечать на приветствия, будто бы схватил конскую бадью и взялся поливать всех водой. Тут и сродникам досталось, князьям Черкасским, Трубецким, Троекуровым. И дальним по родству и свойству перепало, коих Филарет никого в лицо не знал. И так Филарет разошёлся, что дьяк Федька Андронов, первое лицо у Лжедмитрия, вынужден был самого Филарета поливать холодной водой.
Потом пришли другие видения. Будто бы он беседовал с самим самозванцем. А как он завёл беседу о московском патриаршем престоле, проча его, митрополита, в первосвятители, Филарет вновь разбушевался и опрокинул на голову Лжедмитрия жбан с вином. После этого показались Филарету письмена на лбу самозванца: «Аз есмь попович Матюшка Верёвкин из Стародуба». А пока Филарет читал письмена, лжецарь подмигивал ему и говорил: «Ты молчи о том, что прочитал, молчи! Я же тебя на престол посажу, патриархом будешь над христианами». Тут Филарет плюнул в него, а лжецарь успел закрыться талмудом и закричал: «Ратуйте, убивают!»
И явился Федька Андронов, схватил Филарета на руки и прошёл с ним сквозь стену в избу, где баба мылась в корыте, и бросил Федька свою ношу в другое корыто с водой, крикнул: «Мойся тут добела». Сам под печкой спрятался. Филарет плескался в тёплой воде, а в избу собрались его сродники и запели хором:
Филаретушка, родименький, Надень митру патриаршую, Встань-восстань на престол, Нас лаской-милостью одари.Пели и охаживали. Из корыта достали, холстом окутали, а поверх холста святительские одежды натянули. И митру надели, и панагию на грудь повесили, посох святого Петра в руку вложили и повели в церковь Святой Троицы. Там на трон усадили, и священник, ликом на Федьку Андронова похожий, молитву зачал из триоди постной «В неделю мытаря и фарисея». «Твоими молитвами, Богородице, избави мя от всякие нечистоты». Филарет извернулся и пнул Федьку ногой. «Не богохульствуй!» — крикнул он, сам с трона во тьму полетел.
В кошмарах и во тьме беспамятства Филарет провалялся на топчане в деревенской избе несколько дней. Его зять, князь Юрий Трубецкой, и князь Иван Катырев-Ростовский все эти дни провели близ постели больного, лечили как могли, в баню носили, через хомут пропускали, бесов берёзовыми вениками изгоняли. Они пытались увезти его из Тушина в костромскую вотчину, но им не удалось убежать. Всё тот же вездесущий Федька Андронов оказался недреманным оком и в самый последний момент пресёк побег и поставил возле избы, где лежал Филарет, стражу.
Время и могучий организм Филарета сделали своё дело, он пошёл на поправку Ему больше не досаждали кошмары, но то, что случилось с ним наяву во время кошмаров, оказалось страшнее их. Пребывая в бессознательном состоянии, он дал уговорить себя стать патриархом И волею Лжедмитрия был наречён первосвятителем всея Руси. И теперь он для кого-то — глава Русской Православной Церкви. На самом же деле лишь лжепатриарх.
Осмыслив всё, что с ним случилось, Филарет упал духом и готов был на отчаянный греховный шаг. И чтобы смыть позор лжепатриаршества, решил предать себя смерти, ежели не удастся убежать из Тушина. Но то и другое было исполнить трудно. Грустно и смешно было Филарету оттого, что он, патриарх, находился под надзором дьяка Федьки Андронова и его недреманных стражей. И тогда Филарет положился на волю Божью и с усердием читал молитвы. И спасительная сила молитв вернула ему жажду борьбы.
— Господи, приношу себя в жертву Тебе! Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою, Создателю и Спасителю, сокруша разжённые стрелы лукавого, отторгающие нас от Тебя!
Когда же наступило душевное облегчение, он подумал: «Видимо, так Господу Богу угодно. Он что ни делает, всё к лучшему». И Филарет приступил к первосвятительским делам. Он написал грамоты в епархии, которые волею Лжедмитрия II отошли от московского патриаршего престола, и призывал к укреплению Христовой веры, просил иереев вселить в верующих надежду на скорое замирение в державе. В своих грамотах Филарет ни в чём не способствовал самозванцу, не шёл против патриарха Гермогена. Филарет был уверен, что его грамоты дойдут до первосвятителя и он поймёт их, как должно понять.
А дела в тушинском лагере обострялись. И всё по той причине, что поляки всюду начали терпеть неудачи и урон в войске. Насмерть стояла Троице-Сергиева лавра. Архимандрит Дионисий сам не сходил с монастырских стен, стрелял во врагов, а случалось, брал в руки саблю, но больше творил крестом и словом, вдохновляя защитников.
Жители северных городов перестали платить полякам дань. И первыми воспротивились иноземцам горожане Устюжины Железнопольской. За ними встали белоозерцы. Сопротивлялись полякам даже деревенские общины, кольями прогоняли заготовителей скота и хлеба. Жители села Загорье, ведомые атаманом Лапшой, построили за селом крепостицу и вступили в бой с отрядом гетмана Лисовского. Один за другим уходили из-под власти самозванца города Вологда, Галич, Кашин, Старицы. Все эти вести Филарет получал из первых рук, от тех, кто приходил в Тушино и по заведённому Филаретом порядку приходил к нему на исповедь. Филарет старательно собирал вести о всём, что происходило в ближних от Москвы областях. Он строго наказывал своим сродникам делать то же самое. Филарет считал, что в будущей открытой борьбе с самозванцем хорошее знание событий в державе сыграет свою роль.
Вскоре Филарет узнал об осаде Сигизмундом III Смоленска и послал смолянам грамоту, в коей воодушевлял их на борьбу и стойкость, кою проявляли иноки Троице-Сергиевой лавры. Чуть позже судьбе было угодно поставить Филарета во главе великого посольства, с которым он ушёл под Смоленск, на переговоры с Сигизмундом.
В польском лагере были недовольны действиями Филарета. Гетманы Ян Сапега и Лисовский требовали заточить его в тюрьму. В неменьшей степени гетманы были недовольны и действиями своего короля. И неспроста. Ян Сапега сам готовился к захвату Смоленска. Усвятский староста рассчитывал вернуть Смоленщину себе: которая одно время принадлежала ему В тушинском лагере страсти бушевали всё сильнее. В эту пору главнокомандующим у лжецаря был гетман Рожинский. Он обращался с самозванцем как с холопом.
— Ты сидишь на троне нашей волей. И не перечь нам, пока терпим тебя, — твердил Рожинский каждый раз, когда Лжедмитрий пытался упрекнуть поляков за разбой в державе.
Среди польских гетманов согласия тоже не было. Ян Сапега, заметив, что Рожинский пытается перехватить у него власть, не мешкая услал его в лагерь к Сигизмунду.
— Пойдёшь и скажешь королю, чтобы дал тебе войско. И ты пойдёшь в Ярославль, освободишь из плена Юрия и Марину Мнишек. Ещё потребуешь от короля жалованья за все годы пребывания нас в России.
— Помилуй, ясновельможный гетман, откуда королю взять почти восемь миллионов золотых рублей. Самим нужно добывать золото, оно рядом. Потому говорю: пора идти воевать Москву, — возразил гетман Рожинский. Он был бледен, остронос, и в маленьких серых глазах светился лихорадочный огонь.
— Вот даст король войско, и возьмёшь столицу, — ответил гетман Ян Сапега. — Ещё к доктору сходи, болен ты, — посоветовал староста.
Гетман Рожинский вынужден был уехать под Смоленск, да и не вернулся оттуда, потому как король Сигизмунд приласкал гетмана, дал ему большое жалованье и поручил вести осаду Смоленска.
Филарет молил Господа Бога о том, чтобы Он невозвратно углублял распри в польском стане. Да всё больше недоумевал и гневался на то, что царь Василий Шуйский поддерживал с королём Сигизмундом добрые отношения, заискивал перед ним. Странно, но Шуйский прислушался к советам Сигизмунда не вступать в сговор со шведами. А ведь помощь шведов нужна была России как раз для борьбы с поляками. За это польский король обещал русскому царю добиться замирения тушинцев с москвитянами и чтить истинную православную веру.
Коварные замыслы и происки короля Сигизмунда раскрыл патриарх Гермоген. Он действовал решительно и добился полного развала тушинского лагеря. В своих грамотах, которые приносили в Тушино священнослужители, он призывал истинных христиан к борьбе против засилия католиков. Грамоты возымели действие на многих московских вельмож. Они покидали самозванца. Филарет тайно благословлял их. А всех своих сродников изгонял из Тушина гневным словом.
И пришло время, когда из русских близ Лжедмитрия II остались только несколько сотен казаков во главе с атаманом Иваном Заруцким да проныры, нравом близкие к дьяку Федьке Андронову, которому выпала судьба испить до дна горькую чашу разочарований в своём кумире.
Но поляки пока ещё плотно окружали самозванца и в Тушине их стояла тьма. Лжедмитрий II пытался разобраться в том, что происходило вокруг него, призывал к себе Филарета и вначале жаловался на свои неудачи, на жестокий рок, а потом обвинил его в развале лагеря.
— Это ты потворствуешь вельможам и наставляешь их на бегство. Я тебя накажу. Я отдам тебя в руки дьяков Федьки Андронова и Пашки Молчанова. Бойся! — кричал самозванец.
— Твоей угрозы не боюсь! Ты дышишь на ладан! Уходи в Стародуб, пока жив. И талмуд не забудь прихватить.
Дерзкие слова Филарета потрясли самозванца. Он пришёл в ярость, позвал стражей и велел посадить патриарха в подвал.
Филарета увели, бросили в каменный подклет. Но грозное слово священнослужителя оказалось вещим. Оно породило в лжецаре панический страх. И сей страх побудил его бежать из Тушина. Он позвал к себе атамана Ивана Заруцкого и повелел:
— Поднимай войско! Ноне же уходим в Калугу. Там будет моя столица.
Заруцкий лишь улыбнулся лихо. Ему надоело сидеть без дела да быть в зависимости от поляков: хотелось воли.
— Подниму казаков, государь. Собирайся и ты, государь. В ночь и уйдём, — заверил лжецаря красавец-атаман. Калуга и его манила.
Морозной ночью, когда в Тушине все спали, самозванец в сопровождении казаков покинул свою «столицу».
Но поляки ещё днём узнали от Федьки Андронова о том, что задумал Лжедмитрий II. Они не одобрили его действий. Им самозванец был ещё нужен, с ним они думали вступить в Москву. И Ян Сапега ещё с вечера выставил на пути самозванца засаду, большой отряд гусар во главе с полковником Волюцким. И когда в полночь на дороге появились беглецы, полковник Волюцкий с гусарами встали на их пути. Поляк не хотел проливать кровь и мирно сказал Заруцкому:
— Ты, атаман, гуляй вольно со своими казаками, а царю Дмитрию не гоже бегать от трона. Ему возвращаться с нами...
Лжедмитрий схватился за саблю, коня на полковника двинул и, призывая на бой Заруцкого, замахал саблей. Но гусары, что стояли близ Волюцкого, вмиг лишили неумелого бойца оружия, вышибли из рук саблю, схватили его, стащили с коня и бросили в сани.
Заруцкий наблюдал за действом поляков равнодушно. Самозванец дав но надоел ему. Не отвечая на призывы того о помощи, Заруцкий подал казакам знак рукой и тронул коня. Поляки расступились перед ним и перед казаками. Заруцкий продолжал путь на Калугу.
Три дня Лжедмитрия держали под стражей во «дворце», но позже ослабили надзор. Он же в ночь на шестое января десятого года переоделся в крестьянскую одежду, спрятался в санях под соломой, кои приготовил ему шут Кошелев, и благополучно скрылся из Тушина, убежал-таки с Кошелевым в Калугу.
Филарет, которого поляки ещё раньше освободили из-под стражи, был очевидцем бегства самозванца, но и пальцем не пошевелил, дабы задержать его.
Вскоре же в стане поляков началось замешательство, суетня. Лишь только Яну Сапеге доложили, что самозванец убежал, он пришёл в ярость и, несмотря на то что стояла морозная глухая полночь, отправил полковника Януша Тышкевича с отрядом гусар в погоню, чтобы схватить Лжедмитрия и вернуть в Тушино.
— Без него не появляйся, — предупредил Тышкевича Сапега.
Однако стародубский проныра как в воду канул, и Тышкевич вернулся ни с чем, покорно отдал себя на милость усвятского старосты.
События в январе десятого года накатывались волнами. И самые крутые валы, казалось Филарету, вздымались над Тушино. Сразу после бегства самозванца из «столицы» вора стали уходить все, кто служил ему. Одни возвращались в Москву, им на заставах дорога была открыта, другие убирались подальше от царя Василия, дабы в своих вотчинах пересидеть смутное время. Филарет благословлял их в путь. Но в Тушине ещё немало осталось россиян, которые перешли на службу к полякам. Михаил Салтыков, получивший от лжецаря боярство и исправно служивший ему, теперь состоял советником при Яне Сапеге. Остался при поляках с отрядом воинов и Касимовский хан Ураз-Махмет. Немало оставалось в Тушине и духовенства — безместных попов, которые притулились к патриарху и ждали от него милостей и мест в приходах.
Филарет же не хотел видеть их у себя на службе, знал их погрязшие в греховности души. Он собрал всех священнослужителей и сказал им:
— Я не могу одарить вас милостью, хлеба дам, а службы дать не в силах. И на самозванца не лелейте надежд. Отныне нет его власти на Руси. Молитесь Господу Богу о прощении грехов и возвращайтесь в родимые гнёзда, пока Господь не прогневался на вас. Такова воля Божия, да исполним её не сумняшеся.
Филарету возразил Михаил Салтыков, который пришёл на совет незваным. Князю уж никогда не отмыть грехов пред москвитянами, считал Филарет и не выпросить милости у Господа Бога за свои измены.
— Ты, владыко, не толкай нас в хомут. Знаю, что скоро царём на Руси будет польский король Сигизмунд. Ему и послужим верой и правдой. Знай к тому же: всё, чему учишь россиян, ноне будет ведомо гетману Яну Сапеге. Берегись!
Воспротивился Филарету и князь Василий Рубец-Мосальский. Его измены тоже были ведомы москвитянам.
— Иди сам на поклон к царю-шубнику, — сказал Василий Филарету. — А нам пора готовить послов к королю Сигизмунду и просить его на царство. Вот и весь сказ.
Федька Андронов хотя и не был на совете, но всё узнал в тот же день от Салтыкова и Рубец-Мосальского. И злостью налился:
— Вновь вздыбился Филаретка! Ну, да обуздаю, не впервой!
В тот же день три нечестивца явились к Яну Сапеге. Верховодил Андронов. Он и выложил усвятскому старосте:
— Ты, ясновельможный пан-гетман, прими меры и сделай укорот владыке Филарету. С его благословления россияне покидают Тушино. А они нам нужны.
Скорый в своих действиях Ян Сапега во всём разобрался одним махом, приказал Андронову:
— Иди к полковнику Волюцкому, пусть поднимет гусар и арестует всех недостойных нашей милости.
Андронов исполнил приказ Яна Сапеги с усердием. Он побежал к полковнику Волюцкому, встревожил его, словно на пожар. И через несколько минут Филарет и все, кто находился близ него, были арестованы. Их объявили пленниками войска польского.
Глава седьмая Свет в колодце
Второго февраля, в день Сретения Господня, поздним вечером стражники-поляки пустили в каменный подклет человека. Он принёс пленникам пищу. Раздав ржаные лепёшки всем по очереди, подошёл к Филарету и прошептал на ухо:
— Я Игнат-москвитянин. Пришёл спасти тебя, владыко. Надень мой кафтан и треух, иди, и тебя выпустят стражники. За твоими палатами — лошадь и сани. Уезжай не мешкая, путь открыт.
Филарет же ответил ему:
— Вот ты принёс хлебы и раздал их, и я получил свою лепёху. Зачем же мне, сытому, уходить и оставить братьев во Христе врагу на поругание? Уведи их, и я уйду последним.
— Тогда тебя лишат живота.
— На всё воля Божия.
— Иного случая не будет, — рассердился Игнат. — Завтра вас погонят в Литву. Не мешкая и уходи!
— Тебе пора уходить, — вставая с соломенного ложа, сурово сказал Филарет — Я тебя узнал, ты пособник Федьки Андронова. Уходи, не желай себе худа!
— Но-но, потише. А не то заткну зевало!
— Своё успей закрыть. — И Филарет с силой толкнул Игната к двери, крикнул: — Эй, стражи, зачем татя пустили?
В подклет заглянул польский воин, схватил Игната за руку и вытянул вон.
В сей час Федька Андронов с пособниками готовился к тому, чтобы убить Филарета при попытке к бегству. И ждал лишь Игната. Он прибежал дрожащий от страха, упал Андронову в ноги.
— Побей меня, думный дьяк, волю твою не исполнил!
— Пёс поганый, убирайся с глаз долой! — И Андронов пнул Игната ногой, крупно зашагал к просторному рубленому дому.
А наутро пришёл за Филаретом полковник Волюцкий, вывел его на свет Божий и привёл к Яну Сапеге. Близ гетмана стояли князь Михаил Салтыков и Федька Андронов. Он смотрел на Филарета наглыми глазами, будто не было за ним никакой подлости.
— Вот патриарх Филарет. Я же говорил, что он жив и здоров, — сказал Федька, обращаясь к Сапеге.
— Вчера ты говорил, что он болен и немощен, — заметил полковник Волюцкий.
— И было сие. Недуги часто посещают его.
— Федька, изгони беса из нутра, — сказал Филарет.
— Вот он уже и ругается. — И Андронов засмеялся, бороду вскинул.
— Хватит, — оборвал его Ян Сапега. — Теперь мы сами услышим его. — Гетман подошёл к Филарету, спросил: — Ты пойдёшь вольно послом к нашему королю Сигизмунду?
— У меня нет нужды к нему, — ответил Филарет.
— Но мы велим тебе, — продолжал Ян Сапега. — Ты попросишь его от имени русской церкви, её архиереев, её прихожан, чтобы он отпустил на царство российское своего сына, ежели сам не желает.
Филарет удивился и подумал: кому могла прийти в голову сия кощунственная мысль, позвать вьюношу-католика на престол великой державы, глянул на Салтыкова и уличил его в измене России.
— Проклят будешь во веки веков, князь-извратник, — бросил он Салтыкову гневно.
— Слушай меня, россиянин, — потребовал Сапега. — Ты скажешь королю, что его просят всей землёй, от имени Думы и от имени всех христиан. Народу вашему нужен новый царь, мудрый и великодушный.
— Никому не дано присваивать чужое. Разве ты знаешь, чего желают россияне? Ты же отнимаешь у них желание, — заявил непокорный россиянин.
— Много раз я слышал сие. Спрашиваю тебя, пойдёшь ли вольно послом? Ежели не пойдёшь, тебя и всех твоих попов погонят как стадо, — выходя из себя, изрёк Сапега.
— Всё в руках Божьих, но вольно я не пойду. — И Филарет повернулся к двери и тихо вышел.
— Мы желали тебе блага, но ты, онагрь, ищешь себе беды! — крикнул вслед Филарету гетман. И приказал страже: — В подвал его!
В тот же день под Смоленск из Тушина ускакала небольшая группа всадников, сопровождающая две кареты. В каретах важно сидели «послы» — князья Михаил Салтыков и Василий Рубец-Мосальский и бывший кожевенник, а ныне думный дьяк Федька Андронов в сопровождении верзилы Молчанова. Послы везли королю Сигизмунду договор, который составил тушинский боярин Михаил Салтыков. Следом за послами Ян Сапега счёл нужным отправить пленного Филарета. Через два дня, как уехать послам, из Тушина выехали крытые сани, запряжённые парой бахмутов. В санях сидел Филарет в потёртом овчинном охабне. Сопровождал митрополита конвой из семи гусар. Старший конвойный вёз королю Сигизмунду грамоту, в которой усвятский староста Ян Сапега советовал королю открыть ворота в Смоленск именем патриарха Филарета.
А каким-то часом раньше Тушино покинул верный роду Романовых дворовый человек, младший брат Якова. Родион не жалел ног и весь путь до Москвы пробежал, скоро явился на подворье князя Ивана Романова, рассказал ему о мытарствах старшего брата.
— Батюшку Филарета поляки в полон погнали. Обоз на Смоленск пошёл, слышал я, через Звенигород. А стражей при нём седмица.
— Спасибо, верный друг, спасибо, — поблагодарил князь Иван Родиона. — Теперь уж моя забота брата-батюшку выручить. Да и ты с нами иди, если хочешь.
— Хочу.
— Тогда беги к князю Дмитрию Трубецкому, пусть собирает седмицу боевых холопов и сам в путь приготовится. А я заскочу к нему.
Родион поблескивал голодными глазами. Князь Иван догадался об этом и сам сбегал на кухню, принёс говядины, хлеба, сказал:
— Не обессудь уж, по дороге и поешь.
Князь Иван действовал споро. Он поспешил в избы, где жили холопы, собрал молодых да ловких человек двадцать и велел им готовиться в путь:
— Соберите харчей дня на три, возьмите сабли, пистоли, всё спрячьте. Коней оседлайте, а как будет смеркаться, покинем Москву.
Февральские сумерки наступили рано. И вот со двора Романовых группами по три, по пять всадников выехал отряд боевых холопов. Князь Иван велел им, минуя стороной Смоленскую заставу, собраться близ Донского монастыря. Сам в сопровождении двух холопов поспешил к князю Дмитрию Трубецкому. Вскоре два отряда объединились и взяли путь на Можайск, дабы от него идти на перехват польского отряда.
Князь Иван вёл своих воинов без передышки всю ночь и на следующий день был вблизи Можайска. В город он не вошёл, но затаился с холопами в зимнем лесу у дороги из Звенигорода. И не мешкая отправил Родиона в Можайск, узнать, есть ли там поляки и не прошёл ли конвой из Тушина. Родион вернулся как завечерело. Был доволен и порадовал князя Ивана.
— Ляхов в городе нет. Батюшку Филарета ещё не провозили.
Князья Иван и Дмитрий погадали, где могли быть поляки с пленником, и ни к чему путному не пришли. Оставалось одно — ждать. Оседлали две дороги — от Москвы и от Звенигорода. И провели в засаде сутки, но напрасно. Князь Иван упрекнул Родиона:
— Может, ты обмишулился? Что как поляки погнали его не в Смоленск, а в Калугу?
— Всё слышал верно. Гетман Сапега так и сказал: гоните их в стан под Смоленск, — ответил Родион без сомнения.
— Вот оказия, — расстроился князь Иван.
И москвитяне простояли три дня и три ночи. Согревались в шалашах из хвои, близ кострищ, спали вполглаза, но не голодали, лишь маета душевная одолевала. Князь Иван трижды посылал людей в сторону Волоколамска и Шаховского в надежде там обнаружить следы Филарета. Однако и конвой и пленник будто в воду канули. И пришлось возвращаться несолоно хлебавши.
Какова же была радость Ивана Романова и его свояка князя Дмитрия Трубецкого и всех боевых холопов, когда на Смоленской заставе им сказали, что два дня назад в Москву, в сопровождении звенигородских мужиков, вернулся Филарет Романов.
Случилось то, чего больше всего боялись поляки. На лесной дороге за Звенигородом на поляков напали партизаны-ополченцы. Ляхи и оглянуться не успели, как дюжие мужики с кольями расправились с ними. И не было убитых, но были побитые и пленные поляки. Их быстро угнали в лес, и на дороге вновь наступила тишина. В лесу староста партизан накинул на Филарета овчинный тулуп и сказал ему:
— Мы тебя знаем, владыка, лиха тебе не желаем. Ты служил нам, но не самозванцу. Ноне же отвезём тебя в Москву, живи в мире.
— Да вознаградит тебя Всевышний, староста. Скажи, за кого мне Бога молить?
— Молись за Миколу с братией.
— Славный воин, бей ворогов во имя Господа Бога и матушки России. Аминь.
Вскоре же несколько вооружённых мужиков и Филарет на трёх санях уехали в Москву. Поляков же угнали в леса, неведомо куда.
На пути к столице Филарет пребывал в угнетённом состоянии духа. Поймут ли его архиереи, не обвинят ли в иудином грехе? Не упрекнут ли как клеврета самозванца? Как убедить их, что он был озабочен одним: судьбой Русской Православной Церкви. Да, здраво поразмыслив, пришёл к убеждению, что ему надо идти к архиереям с искренним покаянием. А покаянную голову меч не сечёт.
Филарет Романов и ополченцы Миколы приехали в Москву на рассвете тусклого февральского утра. Стражи строго расспросили их, кто откуда, и лишь после этого открыли решётки-ворота. Как миновали заставу, Филарет решил ехать в кремль, к патриарху на покаяние. Но ополченцы не согласились.
— Не с руки нам, — заявил рыжебородый мужик. — Да и ты, боярин, устал-измаялся. В бане бы тебе не мешало попариться. Там и духом воспрянешь.
Филарет внял совету, и вскоре его доставили на своё подворье.
Дворовые встретили владыку с воплями-причитаниями, засуетились суматошно. Кто-то побежал топить баню, кто-то на кухне скрылся, трапезу готовить да будить близких. Старый дворецкий Романовых повёл ополченцев кормить-поить, конюхи лошадей распрягали.
Вымывшись в бане, Филарет попросил найти князя Ивана, сам же прошёл в опочивальню, нашёл чистый лист бумаги в ларце под аналоем и написал патриарху Гермогену несколько слов о том, чтобы смилостивился принять с покаянием. А пока дворовый человек бегал в патриаршие палаты, Филарет сел в трапезной к столу и впервые за многие дни поел по-человечески. Он посетовал, что князя Ивана нет в палатах, и никто не знал, где он. Как трапезу закончили, вернулся дворовый человек и принёс ответное слово.
— Он же сказал: пусть владыко придёт к обедне в храм Покрова на рву. Там, говорит, ноне буду вести службу.
В сей день в церквах и соборах шло торжественное богослужение в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Филарет пришёл в храм до начала богослужения. От его подворья до храма было каких-то сто с лишним сажен. Он не хотел быть узнанным в пути и надел чёрный охабень с капюшоном, под которым, словно в шалаше, спрятал своё лицо. В храме ждал патриарха с волнением. Но Гермоген появился из алтаря неожиданно и сразу же нашёл глазами Филарета, увидел обращённое к нему лицо и мольбу во взоре. Несмотря на то что Гермогену шёл восьмидесятый год, он был ещё прям и крепок, и сила в глазах светилась мощная. И Филарет порадовался за первосвятителя, с терпением стал ждать, когда патриарх позовёт его.
Филарет усердно молился и просил у неба одного, чтобы честный и суровый Гермоген понял его. И когда Филарет ещё дома писал, что, дескать, боится царя-батюшки, сие было не совсем правдой. За себя он не боялся, страдал из-за того, что мог накликать новые опалы на близких. А вот Гермоген всегда вызывал в нём душевный холодок страха. Неистовый правдолюбец лишь взглядом своим приводил малодушных в трепет.
Служба заканчивалась. Гермоген подозвал услужителя, что-то тихо сказал ему и кивнул головой в сторону Романова. Услужитель скрылся за боковой дверью алтаря и вскоре появился близ Филарета.
— Владыко, идите за мной, — сказал он тихо и повёл Филарета в помещение за алтарём, там оставил его, сам ушёл в алтарь. Гермоген завершал читать Нагорную проповедь:
— Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны крепкие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся...
Услужитель вернулся к Филарету и позвал его в алтарь. Гермоген закончил чтение и встретил появившегося в дверях Филарета:
— Подойди ко мне, брат во Христе.
Как давно не виделись эти два истинные христианина, два россиянина. Тогда избирали на царствие Бориса Годунова. И первым, кого постигла опала нового царя, был митрополит Казанский Гермоген. Он дерзнул отказать Годунову в своём доверии и не подписал избирательную грамоту. В те дни Фёдор удивился дерзости бывшего казака. Сам он не посмел дерзнуть и подписал грамоту, хотя и сделал это вопреки своей совести. И теперь Филарет понял, что тогда, двенадцать лет назад, он выкопал между собой и Гермогеном ров, через который так и не перебрался. Потому в ожидании решения своей судьбы не питал надежд на благополучный исход, покорился ожидающей его участи.
Гермоген не спешил сказать своё слово. Его жгучие тёмно-карие глаза, казалось, высвечивали всё нутро Филарета. Под этим взглядом человеку невозможно скрыть свои чёрные замыслы. И Гермоген увидел то, что не рассмотрел бы простой смертный. Он узрел, что в Филарете нет лжи, нет чуждых ему помыслов. И патриарх сказал словами Нагорной проповеди:
— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят — И повторил: — Подойди ко мне, брат во Христе.
Филарет не заставил повторять приглашение трижды, но, подойдя, опустился на колени.
— Милости прошу твоей, святейший, принять моё покаяние. Грешен многажды, но бесам не служил.
— Ведаю твоё рвение за святую Русь. Ан ведаю и то, что бесы тебя путали, толкали в пропасть.
— Путали, святейший, одолевали происками. Да Всевышний указал мне путь истинный. И было покаяние. И к тебе пришёл не сумняшеся.
Патриарх не спешил поднять Филарета с коленей. В душе у него благостно вызванивали колокола, потому как узрел он пред собой россиянина, способного на многие подвиги во имя отечества. В сей час Гермоген видел то, что ожидало Россию в будущем. Тернистый путь державы, страдания народа, кровь, слёзы, мор, глад — всё неумолимо надвигалось. Ещё он видел то, что казалось ему страшнее всего: нашествие иезуитов, католиков, иноземных солдат, кои скопом попытаются поработить россиян, отторгнуть их от православной христианской веры, навязать еретическую. Сия вера уже насаждалась слугами папы римского и его пособниками — ляхами. Искони российская Смоленская земля уже попала под иго католиков. Кто же встанет против засилия католиков-еретиков на Руси, ежели отторгать от служения православной вере таких мужей, как Филарет? «Нет, брат мой во Христе, тебе опалы от меня не будет», — подумал Гермоген и взял Филарета за руку, помог встать.
— Верю, что шёл не сумняшеся и каждый твой шаг правдив, — согласился патриарх. — Потому призываю тебя помолиться во здравие Катерины-ясновидицы, твоей заступницы. Она открыла мне движение твоей души. И я принимаю твоё покаяние во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
— Аминь, — повторил Филарет.
Гермоген прошёл к скамье, сел и показал место рядом. И когда Филарет тоже сел, заговорил:
— Теперь внимай каждому слову с усердием. Конца нашим страданиям не вижу. Но ведаю о больших переменах. Ежели они скоро нахлынут и Россия устоит в них, то наступит время благоденствия. Пока же наш удел — борьба за святую Русь. Потому откроюсь: жду твоего подвига во имя державы.
— Повелевай, святейший, готов служить не щадя живота. Укажи моё действо.
— Ноне пока молись Господу Богу и с терпением жди. Грянет час и позову. А повелеваю ноне одно: береги сына Михаила. Иншего не скажу.
Филарет склонил голову, стиснул зубы. А так хотелось спросить о «пишем», но не посмел. Встал, так как понял, что пора уходить. Сказал, прощаясь:
— Да хранит тебя Всевышний, святейший. А я иду за тебя молиться. — Гермоген осенил Филарета крестом, и они расстались.
Расставшись с патриархом, митрополит поспешил на своё подворье, закрылся в опочивальне и долгое время не выходил. Он думал о том, что произошло в его судьбе после встречи с патриархом Гермогеном. Казалось, на первый взгляд ничего не случилось. Но подспудное течение событий дано видеть не каждому. Филарет их видел. Он знал, что совсем недолго оставалось царствовать Василию Шуйскому. Бездеятельный царь, который не желает видеть, что держава катится в пропасть, народу не нужен. Что за этим последует Филарету тоже было ясно. Россияне захотят найти достойного царя-батюшку, который сможет вывести Россию из смуты, сможет защитить её от нашествия чужеземцев.
Затворничество Филарета прервалось возвращением из похода под Можайск князя Ивана. Он был возбуждён, радовался, смеялся, рассказывал, как четверо суток провели в лесу.
— Да кто ведал, что лесные мужички шустрее оказались, — посетовал князь Иван. — Слава Богу за милость, ты, брат-батюшка, вижу, здоров и духом не сник, но светел, — в какой раз обнимая старшего брата, шумел молодой князь.
— Светел, братец, угадал. Да всё милостью первосвятителя Гермогена. За него молю Бога.
В этот же день поздним вечером в палатах Филарета появились братья Дмитрий и Юрий Трубецкие, которые всё ещё скрывались от царя. Они принесли весть, коя подтвердила опасения Филарета.
— Царь Василий вовсе свихнулся умом, — начал Юрий, — затеял переговоры с королём Жигмондом. Тайные послы под Смоленск пошли. Надумал Шуйский в угоду полякам отдать трон Жигмондам, кому, неведомо.
Филарет только головой покачал, вспомнив, как Ян Сапега принуждал его идти на поклон к Сигизмунду.
— Совсем плох Василий, коль в сговор с поляками пошёл, — согласился Филарет.
— Ещё самозванец в движение пришёл, — продолжил рассказ брата князь Дмитрий. — Калугу покинул с большим войском, вновь Москву обкладывает.
Позже всё так и было. Лжедмитрий II, не встречая большого сопротивления царских войск, взял Серпухов, Коломну, Каширу и от Каширы повернул к Москве. Но царь Шуйский как и прежде бездействовал. После того как его брат князь Дмитрий потерял в битве с поляками под деревней Клушино почти сорок тысяч воинов, Шуйский боялся выпустить из Москвы последние тридцать тысяч войска. Царь уже никому из своих воевод не доверял. Он был угнетён духом и особенно впал в уныние после внезапной смерти племянника, князя Михаила Скопина-Шуйского. Прошёл слух, что князя Михаила отравил князь Дмитрий Шуйский. И Филарет в этот слух поверил.
Одного пока не знал Филарет того, что против царя Шуйского замышлялся заговор. Да вскоре и об этом ему стало известно.
Принесла сию весть в палаты Романовых ясновидица Катерина. Когда слуги доложили о гостье, Филарет почувствовал слабость в ногах. Он опустился в кресло и не сразу велел слуге звать гостью. В сей миг его осенила мысль о том, что ежели Катерина переступит порог его дома, тотчас возникнет вихрь, в котором оживёт-закружит её всё прошлое и, чего доброго, в сердце вновь вспыхнут прежние чувства. Помнил же он, как подобное случилось четыре года назад в селе Тайнинском, куда Катерина явилась также неожиданно, дабы предупредить его о приезде Лжедмитрия. Тогда их встреча продолжалась не больше десяти минут. И поодаль сидел в возке её муж Сильвестр. Но ведь случился же взрыв в груди Филарета, когда он увидел свою несравненную возлюбленную. Верил Филарет что годы не изменили облика Катерины. И её ярко-зелёные глаза поди всё так же горели ведовски-притягательно. Потому нужны ли ему были новые сердечные тревоги? Однако Филарет вовремя опомнился и велел слуге привести к нему Катерину.
— Пусть войдёт раба Божия, — сказал он, как бы отгораживаясь этими словами от всего мирского, от того, что когда-то двадцать пять лет назад было между ними.
И Катерина вошла в малую палату, где Романовы принимали гостей по-домашнему. Филарет не узнал её, потому как гостья не сняла шубы и платка, скрывающего её лицо. К тому же день был тусклый, а свечи не зажигали.
— Владыко Филарет, не обессудь, что явилась незваная. — И Катерина подошла к митрополиту, склонила голову.
— Во имя Отца и Сына... — и словно споткнувшись, сказал то, чего от себя не ожидал: — Катюша, скинь шубу и платок, видеть тебя хочу, свет мой.
— Господи, чего боялась, всё тем и обернулось! — воскликнула Катерина.
Филарет же словно окунулся в молодые годы, а вынырнув из них, всем существом жадно потянулся к женщине, которую нежно любил. Он помог Катерине снять шубу, и за платок взялся, и тронул рукой пук волос, гребень вытянул, волосы распустил, разгладил. И в палате стало светло от золотистой косы, будто в неё заглянуло солнце.
— Ну вот, ну вот, так и есть, ты прежняя. — И взмолился: — Господи милостивый, прости старого греховодника!
— То-то и оно, что старый греховод. Седина в голову, а бес в ребро. — И Катерина звонко, как в молодости, засмеялась. И лицо её, по-прежнему прекрасное, осветилось чувством, которое Филарет знал. И он понял: время оказалось бессильным. И теперь лишь сан священнослужителя встал непреодолимой стеной между ними. Да и на сан Филарет махнул бы рукой, ежели бы Катерина не оказалась сильнее его. Она погасила вспыхнувший в душе огонь.
— Владыко, охладись, — сказала тихо.
— Господи, я увидел свет, но помоги мне, Господи, не зреть его! Помоги не желать жены ближнего своего! — взмолился Филарет.
— Вот и славно, вот и хорошо, владыко. Теперь же послушай, о чём поведаю.
— Внимаю, дочь моя. — Последние два слова Филарет выговорил с трудом, словно наступив себе на горло. Этими словами он возводил стену между собой и Катериной, как ему показалось, очень прочную, на самом же деле зыбкую, коя вскоре же рухнет.
— Я пришла к тебе, владыко, чтобы сказать, что близок день, когда царя Василия отторгнут от трона и над ним свершат постриг Всё это увидела моя Ксюша. Тебя же прошу не встревать в заговор. Спросишь, почему? Так вспомни, что было сказано тебе двадцать четыре года назад.
— Внял твоему совету, ангел хранитель. — И Филарет поклонился.
— Вот и всё, о чём должна была поведать. До свидания, владыко. — И Катерина взялась за шубу.
Но Филарет остановил её:
— Не обессудь, прошу, останься, вкуси со мною пищи. Дай отогреться душою, дочь моя, близ твоего очага.
Катерина усмехнулась, посмотрела на Филарета жалостливо, по-женски и согласилась побыть за столом. Они просидели долго и выпили вина. Катерина рассказала, как ей живётся-служится у патриарха в домоправителях и как они жили в Казани.
— Он для нас больше чем отец родимый. Мы за ним как у Христа за пазухой. Но страшно мне, владыко, вижу его мучительный конец, а сказать не могу. Да ежели бы и сказала, проку мало. Он не свернёт со своего пути. — На глазах у Катерины навернулись слёзы, она смахнула их и с грустной улыбкой продолжала: — Устала я, владыко, от постоянных видений того, что ждёт завтра-послезавтра близких мне... — И в этот миг она сочувствовала Филарету, ибо уже видела, как он идёт к Сигизмунду во главе великого посольства, как претерпевает лихие мучения и невзгоды в польском плену. Катерина погасила это горькое видение, с улыбкой сказала: — У тебя, владыко, всё будет хорошо.
Катерина ушла поздним вечером. Дворовые проводили её до кремлёвских ворот.
А Филарет в этот вечер долго не ложился спать, потому как вспомнил всё, что было связано с Катериной. Воспоминания были отрадные и отвлекли его от мыслей о заговоре против Шуйского, о его судьбе. И всё же избавиться полностью от этого он не мог Филарет не проникся жалостью к Василию Шуйскому. Он считал, что тот заслуживает уготованной ему участи. Россияне его не любили. Он не оправдал их надежд, не избавил державу от смуты, но умножил бедствия. Он только заигрывал с народом и обманывал его. Россия устала от царя Василия. И потому, как сие казалось Филарету, когда низложат его, то россияне печаловаться не будут.
Глава восьмая Избрание Владислава
У Филарета было много поводов размышлять и беспокоиться о том, что ждало Россию завтра. Никто того дня ещё не определил, когда грянут перемены. Но всё говорило о их приближении. Силы, способные низложить Шуйского, в Москве были. Однако Филарет удивился тому, что во главе заговора встали рязанские братья бояре Ляпуновы, знаменитый воевода, старший, Прокопий, и отчаянно дерзкий и смелый в делах Захар. «Что ж, эти своего добьются, — сделал вывод Филарет. И продолжал размышления: — Шуйского низложат, а дальше что? Кого народ крикнет-позовёт на царский трон? Ведь нужен государь сильной руки, державного ума, твёрдого характера, имеющий родовое право на трон». Тут ныне выходил в первый ряд князь Иван Романов. Он, как и Филарет, был в родстве с царём Фёдором. И ближе родства ни у кого из других россиян не было. Но Филарет не льстил себя надеждами на то, что россияне позовут Ивана Романова. Да, он мужественный, добрый, но не государственного ума муж. А по горячности нрава наломает дров, и не соберёшь. Куда уж ему на державный трон!
На каких-то перекрёстках прошлого сходились-пересекались пути великокняжеских и царских родов с родами князей Мстиславских и Голицыных. И о том, чтобы отдать корону и трон князю и боярину Фёдору Мстиславскому, шёл разговор ещё после смерти царя Фёдора И дворец князя стоял в Кремле, из опочивальни до трона можно было добежать в исподнем белье. Да, у Фёдора Мстиславского тоже, как и у Ивана Романова, полёт был невысок, не окинуть ему своим оком державы, не увлечь её за собой к благополучию.
И оставался один князь Василий Голицын. Что там говорить, был он на голову выше многих государственных мужей. Его знали и уважали в иноземных державах и считали умнейшим послом. Он и военным стратегом был. Князь, боярин, воевода — куда уж там более. Да знал Филарет, что боярский клан не выдвинет Василия Голицына в число искателей престола. А причин две: зависть и родовое равенство многих бояр. Тут и Салтыковы, и Черкасские, и Сицкие, и Бутурлины могли претендовать на трон. Да мало ли на Руси именитых княжеских и боярских родов. Те же бояре рязанцы Ляпуновы, чьими руками уготована жестокая участь царю Василию.
И оставался последний, достойный российского престола, князь-отрок Михаил Романов. И теперь становилось ясно Филарету, почему так настойчиво требовал Гермоген беречь сего отрока от злоумышленников. А среди них больше всего были заинтересованы отторгнуть от престола Михаила Романова поляки. И родилась у них эта потребность совсем недавно, в феврале-марте, когда, сначала тушинское правительство помчалось под Смоленск просить королевича Владислава на российское царство, а потом начались тайные переговоры царя Шуйского с королём Сигизмундом. И всё о том же: бесхребетный Василий просил на трон России юного Владислава.
И всё же Филарет надеялся на то, что россияне крикнут Михаила Романова, потому как сей юный князь, внук почитаемого в России боярина и князя, народного заступника, дворецкого Ивана Грозного, был чтим россиянами именно за это. Да Филарет не обижался да россиян. Всё у них шло от истинной душевной привязанности. И в трудные дни, когда россияне встанут перед выбором, он не будет стучать себя в груди и взывать к сердцам и душам москвитян, чтобы они подняли на трон его сына. Нет, он останется в тени. И уж когда свершится воля Господа Бога, может быть, он, отец царя, встанет рядом с ним, дабы помочь в управлении державой, а сие ему ноне посильно.
Пока Филарет пребывал в затворничестве и в думах, судьба царя Василия Шуйского была решена. По свидетельству историков прошлого всё было так: «Пока Иван Никитич Салтыков, тушинский коновод, вёл переговоры с Жолкевским по поводу избрания Владислава, Василий Голицын, хлопоча о своих интересах, пытался войти в отношения с Ляпуновыми, а другие бояре, вступив в сношения с самозванцем, но не добившись от него достаточно существенных обещаний, пришли к следующему заключению: ни Василия, ни Дмитрия».
Но кому же тогда быть царём? Из лагеря в Коломенском, где стоял в эту пору Лжедмитрий II, несколько голосов ответили: Ивану Петровичу Это было имя Яна Сапеги на русский лад. Усвятский староста не раз порывался посягнуть на русский престол. Но братья Ляпуновы его ни во что не ставили и все круто повернули к развязке. Встретились в своих палатах, поговорили.
— Давай-ка, братец Захар, вершить неизбежное, — сказал старший брат Прокопий, богатырь телом и духом.
— Да уж приспело времечко, — согласился горячий Захар. — С чего начнём, родимый, поди уведомим Ивана да Михаила Салтыковых, дабы вкупе..
— Вот и скачи в Москву с малым отрядом. Я же следом выступаю.
Братья действовали решительно и споро. В Москве сплотили единомышленников и, как задумали, 17 июля на заре подняли набатом москвитян, сами же двумя отрядами в несколько сот воинов явились на Красную площадь. С неё вломились в Кремль, увлекая за собой горожан, разметали царскую стражу и возникли пред царём Василием во дворце. Захар Ляпунов подбежал к царю с обнажённой саблей.
— Сходи с трона, шубник, снимай венец! — крикнул Захар.
Шуйский, видавший такие зрелища и зря перед собой лишь двух бояр да людей низкого происхождения, показал большую твёрдость.
— Эй вы, тати, покиньте дворец, не желайте себе худа! — крикнул он и взялся за кинжал.
Но вытащить его не успел, потому как Захар коршуном подлетел к нему и схватил за руку словно клещами. Крикнул царю:
— Не тронь меня, не то своими руками разорву на куски!
Василий отпустил кинжал, и Захар забрал его. Подошёл Прокопий.
— Чего время тянуть, сходи-ка с трона, Васька, — потребовал боярин.
— Не ты меня ставил, не тебе отторгать, — заявил Шуйский. И всё смотрел на двери, всё ждал своих защитников. Они не являлись.
А мятеж набирал силу. Но навстречу мятежникам вышел патриарх Гермоген в сопровождении священнослужителей и бояр. Выйдя из Кремля, он остановился и, пытаясь перекричать гудевшую толпу, призвал москвитян к благоразумию:
— Вы же не тати, не ляхи-вороги! Зачем подняли руку на законного государя?!
Но против патриарха выступил Фёдор Мстиславский, приказал своим холопам:
— Уведите его в Кириллов монастырь, нечего его слушать. Дело решённое, и Шуйскому больше не быть царём.
События в Кремле развивались своим чередом. Царю Василию не дано было больше держаться за трон.
— Раз ты не в силах сойти сам, то я тебе помогу, — заявил Захар и взял Василия на руки, понёс из дворца.
Царь закричал благим голосом:
— Пусти, тать, сам пойду!
Захар поставил Василия на ноги и взял под руку, повёл из дворца, из Кремля, в Белый город, в родовые палаты князей Шуйских. Там же люди Ляпуновых взяли под стражу братьев царя, Дмитрия и Ивана. И сами братья долго ещё не покидали подворья Шуйских.
Ещё два дня шла борьба с Гермогеном, который требовал, чтобы Шуйскому позволили отречься от престола по закону. Но спустя два дня Ляпуновы завершили начатое дело окончательно. Они позвали с собой князей Волконского, Мерина, Засекина, Тюфякина, нескольких священнослужителей, монахов и толпой явились на подворье Шуйских, вломились в палаты, схватили Василия Ивановича за руки, и пока Захар Ляпунов крепко держал его, князь Иван Салтыков стал читать за Шуйского монашеские обеты, а князь Тюфякин свершил постриг.
На дворе тем временем появился крытый возок, Василия Ивановича вывели из палат, посадили в него, укрыли пологом от посторонних глаз и под стражей отвезли в Чудов монастырь, там сдали под надзор архимандрита.
В тот же день к Филарету пожаловало множество вельмож. Явились не только родственники, князья Трубецкие, Черкасские, Троекуровы, Лыков и Шереметев, но и те, кто в годы опалы отвернулись от Романовых. Пришёл князь Дмитрий Мезецкий, ещё думные дьяки Василий Телепнев и Томила Луговской — все прилежно служившие царю Борису Годунову. Гости были возбуждены, много говорили, спорили, у каждого имелось своё мнение по поводу будущего державы. Все хотели замирения междоусобицы, прекращения смуты, изгнания поляков с русской земли. Однако никто не знал, как всё это сделать.
Филарет не понимал, зачем вдруг нагрянули к нему гости. Но после того как было выпито не по одному кубку вина и медовухи, князь Дмитрий Мезецкий направил разговор в то русло, ради чего и пришли вельможи. Он же сказал красно, как умел сие:
— Мы ноне вольные люди, нет над нами государя, который изжил сам себя. Но обретя свободу от клятвы, нам нужно подумать о детях своих, россиянах. Они не могут быть в сиротстве, им должно иметь царя-батюшку. И настало время о нём порадеть. Потому говорю: утвердите себе уполномоченного всей земли. Ежели жребий падёт на меня, скажу, чему быть далее, о чём мыслю.
Бояре, князья, думные дьяки выпили ещё вина и выразили доверие князю Мезецкому.
— Благословляем тебя, князь Дмитрий, сказать то, что замыслил, — сказал князь Юрий Черкасский.
— Говорю, — начал князь Мезецкий. — Мысль моя сводится к тому, что в сей смутный час нам не нужно искать царя у себя, потому как нет среди нас мужа, способного навести в державе мир и покой. Потому надо звать на царство российское мужа из другой державы.
Услышав сие предложение, Филарет потемнел лицом. Знал он о движении в пользу Владислава, и хотя князь Мезецкий не назвал его имени, было очевидно, что на него и упадёт выбор собравшихся. Ещё Филарет удивился тому, что чуждый кругу Романовых человек дерзнул в присутствии собравшихся сделать такое предложение. И митрополит возразил:
— Думал ты о Владиславе, князь Дмитрий. Так ведь и Шуйский его звал. Ему было наплевать на то, что с Владиславом хлынут на Русь католики и иезуиты. А ты-то к чему нас толкаешь? Потому отклоняю твой совет говорю: ищите царя меж собой.
— Искали и не нашли, — ответил Филарету Фёдор Шереметев. Потому как народ абы кого не примет. Крикнет Мстиславского, а россияне ему откажут, будут звать Голицына, и снова буза возникнет. А Владислава мы обратим в свою веру.
— Вот как примет крещение, тогда и зовите. Ему же ведомы ваши потуги.
— Владыко Филарет мы устали от самодержцев. Тирания Грозного, проказы Годунова довлеют над нами, хитрость и разврат Шуйского отвратили россиян от своих царей, — с жаром заговорил князь Мезецкий, — а мы хотим, чтобы русский народ очистился от злобы и ненависти, кою питал к домашним. Мы хотим позвать царя из державы, где народ живёт вольнее, где есть науки, просвещение, где выше дух благочестия, культуры. Вот почему мы зовём Владислава.
— Однако опомнись, князь Дмитрий, — возразил князь Черкасский, — о каком благочестии ты говоришь?! Или забыл, что поляки при Лжедмитрии лошадей в московских храмах держали? Как можно такое простить?
— И верно, — подтвердил князь Лыков. — Поганили нашу веру ляхи.
— Многое мне непонятно в вашем поведении, вельможи, — продолжал Филарет — Не пойму, зачем вы у меня сей разговор повели? Говорю вам как перед Богом, слышать ваши речи мне тошно. Скажу и другое: испокон на Руси государя выбирали архиереи с первосвятителями, а бояре и прочие слушали их суд. Зачем же не позвали к себе Гермогена, Дионисия, Ефрема, прочих достославных отцов церкви? — Филарет говорил сурово, попрекающе, и у многих проросла тревога в душе: а ну как сам пойдёт к народу и спросит, кого он хочет назвать царём. И случится то, чего здесь многие боялись. Народ единым духом назовёт отрока князя Михаила Романова — душу чистую и непорочную. Такого царя народ ждал давно. А россияне, и это знали собравшиеся, способны на то, чтобы помочь юному царю укрепить державу.
Собираясь на подворье Романовых, вельможи рассчитывали получить поддержку от Филарета. Ведь все эти «перелёты» в Тушино чтили его как патриарха. И теперь, пока Гермоген ещё радел за Шуйского, Филарету, по их мнению, сам Господь велел подать свой сильный голос и встать на патриарший престол. Ан выходило, что обмишулились: Филарет пел с Гермогеном в одну дуду. И ждали, что Филарет вот-вот крикнет гневно и выгонит всех с позором из палат.
Но Филарет усмирил в душе гостей бушующие страсти и, будучи дипломатом в большей степени, чем собравшиеся, нашёл мирный исход дела и всех привёл к полюбовному решению.
— Вот что, дети мои, пока вовсе не впали в заблуждение, исправьте свой не благой порыв. Идите к Гермогену и архиереям и заручитесь их словом, просите, чтобы повели народ на Девичье поле, дабы там россияне выразили свою волю, быть или не быть иноземному королевичу царём на Руси. Идите с миром, а я помолюсь за вас. — Сказав это, Филарет покинул трапезную.
Вельможи ещё кое время судили-рядили о предложении Филарета, а потом сошлись во мнении, что без благословения патриарха их затее грош цена. И, выбрав достойных мужей во главе с князем Мезецким, обязали их идти на поклон к Гермогену.
Потом к Филарету приходила Катерина и рассказала, как они уломали Гермогена дать согласие звать на престол Владислава и как патриарх отторг от верховодства князя Дмитрия Мезецкого и отдал предпочтение князю Василию Голицыну. Катерине бы попечаловаться вместе с Филаретом, потому как сия весть его не радовала, но привела в уныние. Ан нет, она была весела и беззаботна. Филарет рассердился:
— Не доводи меня до греха, дочь моя, зачем нечистую силу тешишь, а меня в тоску вгоняешь?!
— Слушай, владыко, — с улыбкой заговорила Катерина, — и прости меня, грешную, что дерзить тебе вздумала. Да любо мне тебя сердить. Потому без сутаны тебя хочу видеть, Фёдором назову, Федяшей, на утехи способным.
— Окстись, дочь моя, — осеняя крестом Катерину и пятясь от неё, воскликнул Филарет.
— Да уж не проси, не отступлюсь. Люб ты мне, как в молодости. Да и старости в тебе нет, есть сила богатырская, есть желание и тоска по близости. — И вовсе вплотную подошла Катерина к Филарету, в глаза ему заглянула, заиграла своими, обжигающими, разум затуманила Филарету, огонь в груди зажгла.
И Филарет поддался её чарам, в блаженном тумане взял её за руку, приник к ней губами да и повёл свою возлюбленную в глубину своих палат.
— Голубушка, разрушу, разрушаю стену, кою воздвиг меж нами. Возьму на душу грех, ежели сие грех, приголублюсь к тебе. Да Бог простит прегрешение.
— И не сомневайся, любый, нет в том греха. Мы идём с тобой на прощальный пир, мы прольём с тобой слёзы расставания, потому как долгие годы не свидимся. Так угодно судьбе. Сказано святейшим, ты уйдёшь главою великого посольства.
Всё это и многое другое Катерина говорила уже в опочивальне, на ложе, греша и молясь о прощении греха.
А Филарет в эту ночь благодарил Всевышнего за то, что послал к нему несравненную и самую прекрасную женщину, за то, что не погасил в его сердце любовь к ней, за то, что испытал блаженство, кое будет питать его дух долгие годы грядущих страданий.
Катерина ушла из палат Романовых только ранним утром. Дворецкий проводил её глухим путём через сад к Москве-реке. На прощание Катерина подарила ему перстень и попросила:
— Ты уж, батюшка, сохрани нашу тайну. Да больше нам с Фёдором Никитичем не суждено свидеться.
По пути в патриаршие палаты Катерина вымаливала прощение у законного супруга, который был в сей час в дороге к Смоленску. Шёл туда, чтобы проникнуть в осаждённый город, передать архиепископу Смоленскому грамоту Гермогена, чтобы подняться на стены в ряды защитников и простоять на них до исходного часа.
Филарет в это время стоял на коленях перед иконостасом и молился, прося прощения у Всевышнего, у Сильвестра и ругал самого себя за греховодство. Разум его пробудился от наваждения, и он счёл, что по священному писанию должен строго наказать себя. Но знал он и другое: сей грех был искуплен за многие годы отлучения от жены, от любимой женщины. Он был пострижен в монахи вопреки его вольнолюбивой натуре. И всё же Филарет изгонял из себя беса. Он велел жарко натопить баню и ушёл бороться с соблазнителем. И пока парился, нещадно избивал себя голиком, а не веником, обливал ледяной водой. И как показалось Филарету, бес был изгнан. Но душевное умиротворение осталось, и ночь накануне Успения Пресвятой Богородицы запомнится ему на всю оставшуюся жизнь.
Семнадцатого августа, после долгого затворничества, Филарет вышел из палат и пешком отправился на Девичье поле, куда стекались москвитяне и где, знал Филарет, назовут ноне имя нового царя. Всматриваясь в лица москвитян, Филарет не видел в них ни радости по столь важному событию, ни неприязни, отторгающей иноземца. Похоже, что россияне устали от всякой борьбы, от выражения каких-либо чувств и были ко всему равнодушны. Так оно и было.
Когда на возвышении в центре Девичьего поля появились бояре, князья, дворяне, священнослужители и князь Василий Голицын при общей тишине прочитал договор с польской державой о том, что россияне зовут на престол королевича Владислава, народ встретил это полным молчанием. Но вот князь Голицын прочитал особые условия:
— Мы заявляем, что прежде чем вступить в царствование, королевич Владислав должен исполнить нашу волю и принять русскую православную веру, креститься по нашему обычаю. Без оного ему не быть царём.
И над полем впервые прокатился гул одобрения.
— Мы требуем, чтобы все польские войска покинули русские земли, — нёс слово россиянам князь Голицын.
И только теперь россияне вышли из состояния равнодушия, над полем стоял неумолчный гул, прорывались выкрики: «Долой ляхов!»
Но в этот день никто в России ещё не ведал о коварных замыслах польского короля Сигизмунда. А Жигмонду, как его нарекли россияне, уже самому захотелось немедленно овладеть троном и побыть в роли государя великой державы. Всё это россияне узнают потом, а пока смирились с волею вельмож и присягнули на верность будущему царю Владиславу.
Странно, однако. Филарет не испытывал от всего, что увидел и услышал, никакого волнения. Он больше взирал на чистое небо и молился Всевышнему, просил его не допустить на престол России чуждого духу россиян царя.
Через несколько дней в Москву съехались выборные от многих областей державы. Всех их пригласили в Успенский собор. Туда же позвали Филарета.
Сошлись, чтобы утвердить волю народа. Митрополит был свободен от какого-либо угнетения духа. И причиной его спокойствия было предсказание ясновидицы Катерины. Он верил ей без сомнений. А она сказала, что вся суета вокруг Владислава — напрасная маята. Видела она на престоле России лик юного россиянина.
И потому стоя в огромной толпе, заполонившей Успенский собор, Филарет думал и беспокоился не о том, что вершилось в соборе, а о своём сыне Михаиле, как он там пребывает в тайных местах Костромской земли.
Но вот в Успенском соборе началось то главное событие, ради которого собрались выборные от всей земли. На амвоне, в торжественном одеянии появился патриарх Гермоген, и наступила тишина. На клиросах тихо запели певчие. И сам патриарх прочитал благодарственную молитву. Выглядел Гермоген усталым, словно долгое время пребывал в тяжёлом борении, да так оно и было. Голос его, обычно мощный, звучал вяло и тонко. После молитвословия Гермоген вдохнул в себя новые силы и начал говорить чётко, громко, выделяя каждое слово.
— Братья во Христе, православные россияне, церковь наша готова надеть венец на избираемого вами королевича Владислава, ежели он отречётся от католичества и примет православную веру. Посему благословляю вас на посольский поход в польскую землю. Да скажете королю Жигмонду, чтобы отпустил своего сына в Москву и наказал принять нашу веру. Идите, люди, от всей земли русской, но не посрамите её!
Этот наказ россиянам прозвучал строго и убедительно. И голос Гермогена был полон властной силы. Высказав будущим послам всё, что должно им совершить, благословил:
— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!
И снова на клиросе послышалось пение. В него включились певчие в самом храме, и оно звучало мощно, торжественно, словно гимн.
Глава девятая Великое посольство
Пока россияне ждали нового царя, патриарх Гермоген волею Господа Бога собрал всех именитых бояр, князей, дьяков, кои заседали в Боярской думе, и приговорил им избрать из своего круга правительство из семи мужей. И такое правительство родилось, и россияне назвали его Семибоярщиной. Рьяно взялось правительство за дело. И первым деянием Семибоярщины были сборы посольства к королю Сигизмунду. Правители торопились. Особо настаивали на скорой отправке послов князья Фёдор Мстиславский и Иван Воротынский. Но проявляли они не свою волю, а действовали по команде гетмана Жолкевского, который тайно прислал в Москву своих людей. Однако полного согласия у Семибоярщины не было. Член правительства князь Иван Романов доказывал на заседании в Грановитой палате:
— Нет нужды в послах. Жигмонд не отдаст нам своего сына. Да нам он и ни к чему. Москву нужно уберечь от поляков, кои подбираются к ней. Вон гетман Жолкевский уже в селе Хорошеве сидит. В семи верстах. Эко!
Фёдор Мстиславский никогда не питал добрых чувств к Ивану Романову: молод, настырен. И потому Мстиславский урезонивал его круто. И глухой трубный голос его наполнял Грановитую палату:
— Ты, князь, молод чинить нам помехи. Мы выполняем волю патриарха. Потому говорю: посольству быть и оно пойдёт. Твоя же супротивность нам ведома, и не желай себе худа!
Той порой дьяки Посольского приказа, под присмотром князей Андрея Голицына и Бориса Лыкова, составили списки тех, кому идти под Смоленск.
И первыми в этом списке значились митрополит Филарет, князь Василий Голицын и боярин Захар Ляпунов. А далее за этими именами значились в списках ещё 1242 мужа разных сословий, представляющие почти все области России.
Когда Авраамий Палицын зачитал сей список правителям, князь Романов вновь взбунтовался:
— Одумайтесь, державные головы! Не бросайте Русь в разорение! В иные годы и трети того не отправляли в иноземные державы!
— Да пойми ты, голова садовая, король Жигмонд должен знать, что мы всей землёй просим! — возразил князю Ивану князь Трубецкой.
Иван Романов не успокоился, помчался домой, уведомил Филарета:
— Брат-батюшка, эко надумали: тыщу триста послов шлют к ляхам! Сие не посольство, но шествие рабов в стан победителя!
— Истинно говоришь, брат мой. Рабы и есть, как к ханам в орду ходили. Я такого посольства не поведу.
— К патриарху нужно идти, он образумит тупые головы.
— Твоими устами да мёд бы пить, — согласился Филарет.
На другой день с утра он отправился в Кремль. В пути встретил князя Василия Голицына и спросил его:
— Не ты ли надоумил собрать такую ораву послов, кою нам с тобой вести?
— Плохо подумал обо мне, владыко. Правители закусили удила, и теперь их понесло невесть куда, и не остановишь. Худо ещё и потому, что с нами идёт князь Иван Куракин, слуга поляков, — посетовал князь Василий.
— Вот я иду к патриарху, и ты иди со мной. Что он скажет, тому и быть.
Гермоген ещё не ведал того, что замышляли правители. А когда выслушал Филарета и Голицына, задумался. Да пришёл к мысли о том, что затея Семибоярщины не лишена злого умысла. В самом деле, размышлял он, великое посольство не удивит короля Сигизмунда, он только порадуется затее московитов. Сам же и десятой доли послов не пожелает увидеть, а примет в лучшем случае пять-десять человек в своём полевом шатре. Тогда, спрашивается, зачем сие представительство от «всей земли российской?».
— Вижу, дети мои, замысел правителей в том, чтобы очистить Москву от неугодных им мужей. Токмо так сие открывается. Да нужно посмотреть списки, дабы мысль окрепла.
— Святейший, мудрость твоя нам ведома. И мы в согласии с тобой, — ответил князь Голицын. — Потому веди нас в Грановитую, там и откроем истину.
Гермоген понимал, что вольность и безрассудство семи бояр дорого обойдутся державе. Гетман Жолкевский, который стоял в двух часах ходу от Москвы, как только узнает, что из стольного града ушли почти пять тысяч россиян, способных защищать стольный град, тотчас двинет своё войско, дабы захватить город.
И подумал Гермоген, что глава вредной затеи — князь Фёдор Мстиславский. Это он с первого же дня, как встал у власти, подмял под себя другие головы правителей, верховодил над ними и вёл двойную игру с ним, патриархом. И нет поди силы, способной заставить Мстиславского творить дела во благо державы. Гермоген знал, что повлиять на князя Фёдора он не может, разве что в его воле предать отступника анафеме. Патриарх и князь-боярин всегда были недругами. Мстиславский не скрывал этого и при всяком удобном случае пытался ущемить главу церкви. Но святейший всегда ставил интересы отечества выше личных амбиций и потому сказал:
— Идём же в Грановитую. Да пусть сумасброды не ждут милости. Наложу клятву!
И они отправились в главный Кремлёвский зал, где полными днями пребывали правители. Гермоген нашёл всех, кроме князя Фёдора Шереметева, который тоже не был в согласии с Мстиславским и его единомышленниками.
— Заблудшие овцы, — начал патриарх, поднявшись на возвышение, — я пришёл сказать, чтобы образумились и не творили безрассудное. Токмо врагам нашим на руку ваша затея, отправить под Смоленск столь неразумно сбитое посольство. Проводите в путь седмицу умнейших, и дело с концом.
Фёдор Мстиславский сдерзил отчаянно, но без страха перед отцом церкви:
— Ты, святейший, стар, и тебе пора токмо молиться Господу Богу, но отойти от державных дел.
— Не дерзи, раб Божий. Это тебе пора уйти в вотчину и там пасти гусей. А ты творишь неразумное и вводишь русскую землю в конфуз. Виданное ли дело, чтобы посольством шла тьма!
— Так мы приговорили, так и будет, — твёрдо заявил князь Мстиславский. — Тебе же, князь Василий, и тебе, митрополит Филарет, скажу: вам великая честь оказана. И потому собирайтесь с Богом в путь, а святейший за вас помолится.
Гермоген погрозил наложить-таки на правителей клятву. Но они не сдались. И вскоре по Китай-городу, по Белому городу, по подворьям многих земель, кои имелись в Москве, начались сборы в дорогу. Собиралась армия. Только одной прислуги, возничих, писцов, стражников, боевых холопов набралось больше четырёх тысяч. Готовились тысячи лошадей, колымаг, рыдванов, телег, крытых возков. На телеги было положено тысячи пудов хлеба, круп, мяса, рыбы, сена, овса. Знали же послы, что никто их в польском стане не накормит и нигде ничего в округе не купишь. Все селения ляхи давно ограбили. И дабы не голодать, надо было везти весь припас с собой. К тому же никто не знал, на какое время послы покидали Москву. Явно же не на неделю, но на месяцы. Да так оно и вышло.
В Москве во время сборов было беспокойно. Москвитяне, привыкшие к многому необычному, такого чудачества не видывали. На улицах собирались толпы горожан, судили-рядили, выпытывали у посольской челяди, куда они «навострили сани», уже не бегут ли из Москвы, кою поляки обкладывали. В городе появились шайки разбойников, случилось много грабежей, особенно в ночь накануне отъезда. И немало послов остались без съестных припасов и тягла.
Посольство покидало Москву в день Рождества Пресвятой Богородицы. Уходили под звон множества московских колоколов. Провожал послов и главный колокол державы «Лебедь» на Ивановой колокольне. Перед выездом в Архангельском соборе состоялся молебен. Но патриарха в храме не было. Послов благословили в путь другие архиереи. Посольский поезд растянулся на несколько вёрст. И когда Филарет и князь Голицын въезжали в Кунцево, то последняя повозка была ещё на Поклонной горе.
Великое посольство выехало из Москвы в благодатную пору бабьего лета. Под колёсами экипажей и повозок стелилась накатанная и ещё пыльная дорога. Над поездом стоял гомон, крики, слышались песни. Для многих, кто отправился в путь, это было необычайное событие, особенно для молодых парней из челяди да боевых холопов.
Митрополит Филарет и князь Василий Голицын ехали в одной карете. Поначалу они долго молчали, пребывая в своих думах. Да было над чем подумать каждому из них. Правители наказали им добиться согласия Сигизмунда отдать в Россию своего сына. Казалось, задача совсем простая. Так Мстиславский и сказал: «Поклонитесь всем посольством королю Жигмонду, и он благословит Владислава идти царём великой державы». Однако эта кажущаяся простота таила много загадок. Но и нелепости явные просматривались. Чего-чего, а сие Семибоярщине было непростительно. Как мог князь Василий Голицын просить усердно короля Сигизмунда о милости благословить сына, ежели сам вынашивал мечту добиться Мономахова трона? И только бы сказали москвитянам тогда на Девичьем поле, дескать, зовите в цари князя Василия Голицына, и был бы он уже царём. Право же, размышлял Филарет, Всевышний лишил правителей разума, коль послали человека, который ну никак не поусердствует в пользу Семибоярщины и Владислава. Зачем же тогда вся затея с посольством?
А разве глава Семибоярщины князь Фёдор Мстиславский не знал интересы Филарета и всех Романовых, всех их сродников? Хорошо, его, Филарета, Мстиславский исключал. А есть ли у него причины отрицать князя и боярина Ивана или княжича Михаила? «Ой, княже Мстиславский, не наградил тебя Господь прозорливостью», — пришёл к выводу Филарет.
И всё-таки загадка оставалась неразгаданной. Патриарх Гермоген не назвал бы всуе после низложения царя Шуйского имени нового государя, сына Филарета — Михаила Романова.
Трудно всё это было объяснить, считал Филарет. И конечно же правители были в тумане и разум их был подчинён мощной силе иного мужа. Им без сомнений был Гермоген. Он благословил в поход Филарета, князя Голицына, боярина Ляпунова, твёрдо веря в то, что они и слова не скажут в пользу королевича Владислава. Вот она и разгадка. Филарету полегчало.
В этой сложной игре Филарет искал своё место. И он готов был к открытой борьбе с Семибоярщиной, ведущей Россию к новым страданиям. Избавить россиян от страданий — вот суть борьбы. А для этого нужно найти достойного великой державы государя, нужно изгнать с русской земли иноземцев. Ясно же, что Владислав и пальцем не шевельнёт во благо россиян. Кто-то из русских вельмож уповал на Сигизмунда, дескать, он наведёт порядок в России. Но вот уже более десяти лет Сигизмунд не может вразумить своих ясновельможных панов и прекратить междоусобицы, терзающие польский народ. Сказывали, что Сигизмунд к тому же первый мот в Европе. А то, что бездарен в военной справе, так это показала осада Смоленска.
Все эти горькие размышления навевали на Филарета печаль и досаду. Солнце с запада для России не светило. А если бы и светило, то не согрело бы души россиян отеческой заботой. Всё равно они пребывали бы в сиротстве.
За Гжатском спокойное движение посольства вдруг нарушилось. В голову поезда прискакали три мужика-возницы и с криками: «Ляхи напали! Ляхи грабят!» — осадили коней возле кареты митрополита. Один из всадников соскочил с коня и выдохнул Филарету, который открыл дверцу кареты:
— Батюшка-владыко, ляхи хвост нам отрубили, а сколько возов с харчами в лес угнали, и не ведаем! Что нам делать, владыко?
Покачал головой Филарет, заступника Бога вспомнил, а сказал по-воеводски:
— Вооружитесь дрекольем, вилами и топорами, бердыши у кого есть возьмите да погоняйте ляхов по лесу, как волков. Далеко они не ушли. Помните: ляхи наши вороги!
Россиянин всё понял, поклонился Филарету, на коня лихо вскочил, крикнул своим: «Айда!» — и умчал обратно.
Князь Василий словно проснулся, из кареты выскочил резво.
— Коня мне! — крикнул он своим холопам. А увидев Захара Ляпунова, и его позвал: — Боярин, поедем на досмотр. — И Филарету сказал важное: — Вот оно, началось наше противостояние с Сигизмундом. И надо сбивать челядь и холопов в отряды, оборону держать.
Подошёл Захар Ляпунов. Он был гневен, ругался:
— Чёртово отродье, мало им шестого года! Ну да напомним!
Василию и Захару подали коней, и они в сопровождении небольшого отряда воинов ускакали в конец поезда. Филарет же велел передать всем возницам по цепочке, дабы погоняли коней с расчётом засветло добраться до Вязьмы.
На пути до Смоленска польские «фуражиры» ещё дважды пытались напасть на посольство, но каждый раз их встречали кольями, вилами, огненным боем, они оставляли на дороге раненых, убитых и скрывались в леса.
Русские разбили становище на левом берегу Днепра. А чтобы поляки знали, кто встал близ них, Филарет послал князя Андрея Черкасского, летописца-келаря Авраамия Палицына, ещё трёх дьяков Посольского приказа уведомить поляков о прибытии русских послов и узнать, когда король Сигизмунд их примет.
Но польский король Сигизмунд, однако, не поспешил принимать россиян. Для этого у него оказалось несколько причин. И перво-наперво он выразил претензию о том, что не там, где следует, разбили лагерь. С посланниками встретился гетман Рожинский.
— Пока не встанете лагерем на правом берегу Днепра, близ нашего войска, нам нет до вас дела, — заявил он спесиво.
— С какой стати нам быть на правом берегу? Нам и перебираться не на чём, три лодчонки всего, — возразил гетману князь Черкасский.
— Ставьте мост или паром сплотите, — ответил Рожинский, с тем и проводил посланников.
Услышав такое предложение Сигизмунда, главы русского посольства задумались. Там, куда прочил поставить русский лагерь король, стояло польское войско. Выслушав князя Черкасского, Филарет сказал:
— Зачем нам такое соседство? Россиянам сподручнее стоять на своём берегу.
Поразмышляли скопом, прикинули так и эдак: не увидели резону переправляться на правый берег. И воевода Захар Ляпунов выразил желание сам сходить в польский лагерь.
— Я найду что сказать Жигмонду, — заявил Захар.
— Горяч больно, дров наломаешь, — заметил князь Голицын.
— Мы не за милостыней пришли. Мы Жигмондову сыну Россию отдаём. По такому делу ему бы к нам на поклон идти, — ответил Захар.
— Ишь как ты повернул! Ан нет, пока мы в просителях и надо уважить короля, — сказал своё слово князь Иван Куракин.
Однако Ляпунова поддержал Филарет:
— Иди, боярин, токмо и впрямь не наломай дров. С собой же возьми опять же князя Андрея и Авраамия.
Ляпунов с сотоварищами ушёл в польский лагерь, и не появлялись они в русском стане два дня и вестей от них не было. Чего только не передумали Филарет и князь Василий.
— Поди не удержался горячая голова, надерзил-таки королю наш послан ник, — размышлял князь Василий.
Однако Захару не довелось дерзить польскому королю. Узнав от Рожинского, что за птица боярин Ляпунов, Сигизмунд сказал:
— Не хочу видеть сего разбойника. Коль Шуйского стащил с трона, так и к Владиславу руки потянет. Где он сейчас? — спросил король гетмана.
— В деревне избу облюбовал, — ответил Рожинский.
— Поставь стражу возле, а через два дня выпроводи, — повелел король гетману.
Когда Захар Ляпунов вернулся, Филарет собрал многих послов на совет и спросил их:
— Скажите, почему Жигмонд навязывает нам свою волю? Мы же пришли со своей.
Князь Василий Голицын, зная посольские тонкости, возразил:
— Истина за Сигизмундом. Пока мы не послы, но непрошеные соседи. Потому придётся смириться с требованием Сигизмунда.
— Нет истины за Жигмондом! — воскликнул боярин Захар. — Нам с князем Черкасским было худо два дня. Вас же посадят в подклеты на недели и месяцы. Я в польский лагерь не пойду.
Послы долго спорили и всё-таки согласились с Филаретом и Захаром Ляпуновым стоять на левом берегу Днепра. И прошло ещё несколько дней в переговорах о том, где стоять русскому лагерю. Король упорно звал россиян на правый берег. Но Филарет и его сотоварищи твёрдо отстаивали свою свободу. Они укрепили стан, выставили посты и наладили быт по законам войны. А как укрепились, день за днём посылали в польский лагерь группу за группой, и каждый раз новых посланников. Однако все они возвращались ни с чем. Тогда вновь напросился в польский лагерь Захар Ляпунов. Князь Голицын отказывал воеводе. Но Филарет исполняя только ему ведомые расчёты, позволил Ляпунову и Черкасскому идти к польскому королю. Верил он, что Сигизмунд пожелает принять упрямого боярина. Так и вышло.
Лишь только Ляпунов появился в польском стане, короля об этом тотчас уведомили.
— Ну, приведите его ко мне, посмотрю, чего стоит сей упрямый онагрь, — сказал Сигизмунд.
Захара и князя Черкасского допустили к королю. Увидев русского богатыря, Сигизмунд подошёл к нему, ткнул пальцем в грудь.
— Ты что, устрашить меня рвёшься, рыцарь? — спросил король.
У Захара на устах было дерзкое слово, но он удержал его под замком да сказал не менее остро:
— Другое меня заботит, государь. У нас кормов мало, потому как твои люди ополовинили обоз и зимовать нам на Днепре не с руки. Так ты уж не косней, приглашай послов, да вкупе и поговорим тебе же во благо.
Сигизмунд понимал по-русски и сам сносно говорил. Отметил, что сей богатырь не напрасно выпущен на поединок: силён, умён и остёр. Но в расчёты короля пока не входил приём послов на переговоры. Тем более что веской причиной затяжек посидеть за столом было как раз то, что Сигизмунд хорошо знал о сути переговоров, чего потребуют послы-россияне. А у него не было для них благоприятного ответа. Имелась и ещё одна причина затяжки переговоров. О ней он и сказал Захару Ляпунову.
— Я позову вас, как только из Москвы примчит гетман Жолкевский. — Король выделил слова «как только из Москвы».
Захар переглянулся с князем Черкасским. У него на лице застыло удивление: как это — из Москвы? Ляпунов же не удивился, зная, что поляки стояли под Москвой и в ясную погоду видели колокольню Ивана Великого. Спросил, однако:
— Какими же путями твои люди в Москве появились?
— Такова моя воля. Ею и вошли в ваш стольный град, — гордо ответил Сигизмунд. — К тому же не могу я принять тысячу двести послов в своём шатре. Вот как возьму Смоленск, так и приглашу вас всех во дворец воеводы.
— Зачем тебе воинов губить безрассудно? — заявил Ляпунов. — Вот как станет твой сын царём на Руси, смоляне сами распахнут врата.
— Знаю смолян. Непокорство им всласть. Да ждёт их суровая кара. — Сигизмунд смотрел на Ляпунова всё с большим интересом и позвал его: — Иди ко мне в войско. Гетманом сделаю, армию дам. — И пожаловался на своих вельможных панов-гетманов. — Ленью мои гетманы обросли и воевать не хотят.
Ляпунов не проявил сочувствия королю и служить у него отказался.
— У тебя, государь, и солдаты ленивые. Не желаю над ними стоять.
Смоленск, однако, сдаваться на милость Сигизмунда не думал. Стены его для польских воинов оставались неприступными. К этому времени из Москвы появился гетман Жолкевский, которого с таким нетерпением ждал Сигизмунд. Потому причины тянуть приём послов были исчерпаны и Сигизмунд оказался вынужден начать переговоры. Но он обставил их многими хитроумными рогатками. И на первую встречу даже не пригласил митрополита Филарета — главу посольства. Он боялся Филарета, был наслышан о его несговорчивости, какую тот проявлял ещё в Тушине. Знал и о крутом нраве этого родовитого вельможи. В ответ на этот шаг короля князь Василий Голицын заявил: «Никаких переговоров не будет без главы посольства».
Посредником на сей раз между королём и русскими послами был находчивый гетман Жолкевский, державный муж, но больше храбрый воин. Он явился в стан москвитян и вёл себя так, словно распоряжался своими солдатами.
— Знаю, воля ваша источилась. Потому говорю: король готов вас принять, но ему лучше знать, кого он желает видеть. Он не желает видеть Филарета Романова.
— Тогда и нас Сигизмунд не увидит, — заявил князь Голицын.
Не добившись своего, гетман Жолкевский пригрозил:
— В таком случае сидите тут до весны. — С тем и уехал.
Прошла ещё неделя пустого сиденья русского посольства на берегу замерзающей реки. Но снова появился в русском стане гетман Жолкевский. Сигизмунд разрешил пригласить на переговоры Филарета.
— Да пусть с малой свитой приходит. Больше десяти человек не приму, — наказал король гетману.
Филарет не принял условий Сигизмунда. Он предполагал взять с собой не меньше как двести человек, считая, что всем послам, наконец, нужно заняться делом, а не зеленеть от безделья в шатрах. И заявил гетману Жолкевскому:
— Мы пришли просить короля Жигмонда всей землёй. А то к чему бы нам идти из Москвы великим посольством.
Станислав Жолкевский откровенно признался:
— Нам такую ораву и накормить-то нечем.
И снова начались хождения из лагеря в лагерь, пустые переговоры, а за всем этим — явное нежелание короля Сигизмунда принять русских послов. Король стоял на своём твёрдо: примет только десять человек. Филарет не сдавался.
Наступила зима. Днепр заковало льдом. В русском стане на исходе были съестные припасы. Филарет посылал в Москву гонцов, требовал слова о возвращении посольства. Но Семибоярщина отказала. Наконец Сигизмунд пошёл на уступки, дал согласие принять семьдесят человек. Филарет принял это условие. Вместе с князем Голицыным он отобрал вельмож, писцов и прочих нужных людей, и в конце ноября послы двинулись за реку в польский лагерь.
Послов приняли в большом отапливаемом шатре. Были накрыты столы, на них стояло довольно скудное угощение, вино. Когда все подошли к столам, гетман Жолкевский предложил выпить за дружбу и замирение. А пока Станислав говорил, в Смоленске раздались пушечные выстрелы и в польский лагерь полетели ядра. Смолянам ответили польские канониры. Завязалась перестрелка. Ядра разрывались где-то совсем близко, в шатре началось волнение. Но пришёл король, он был спокоен и начал свою речь:
— Вот вы пришли ордою в мой лагерь и вместе со смолянами устрашаете меня, требуете отдать вам моего сына. Зачем же мне покоряться вашей воле? Велите смолянам открыть ворота и прекратить стрельбу. Тогда и поговорим.
— Мы горожанам не указ. Покиньте нашу землю, и наступит замирение, — начал в ответ Филарет. — А сына твоего Владислава россияне готовы признать царём и зовут занять российский престол.
— Но Владиславу ещё рано вставать царём на великое царство. Потому российский трон принадлежит мне, ибо меня тоже звали на царство.
— Ведаем, звали, но не россияне, а тушинские сидельцы. Сие же не есть народ нашей державы, — ответил Филарет. — И грамоты избирательной на тебя нет государь польский.
— Ничего, скоро сия грамота будет. Вот гетман Жолкевский отбывает в Москву и привезёт её.
Филарет понял, почему Сигизмунд устраивал проволочки с переговорами и какую интригу задумал осуществить. И стало ясно теперь, что сию игру затеяли московские правители, отправив в стан поляков многих российских вельмож, кои не желали видеть на российском престоле ни королевича Владислава, ни короля Сигизмунда. Теперь там, в Москве, найдётся немало доброхотов — тушинских перелётов, кои служили Сапеге и Рожинскому. Они подпишут любую избирательную грамоту, а все усилия великого посольства — тщетная маята. В груди у Филарета всё закипело от гнева, но он сдержался и не сказал того, что не положено говорить послу. Однако озадачил Сигизмунда:
— Запомните, ваше величество, непременно одно: на той грамоте должно быть имя первосвятителя Гермогена, а без его подписи та бумага для россиян не указ.
— Но ты, митрополит, ещё не всё посольство. — И король обратился к другим послам: — Что скажешь ты, князь Голицын, и ты, князь Куракин? Вот все вы послы, что скажете? Ну говорите же! Вот ты, князь Тюфякин...
Послы молчали. Даже князь Василий Голицын замешкался с ответом. Тюфякин же смотрел на Филарета. Митрополит видел этот просящий взгляд и знал, чего добивался от него Тюфякин, но не помог тому, считая, что здесь каждый должен опираться на свою совесть. Так бы послы и отделались молчанием, но нарушил тишину неукротимый воевода Ляпунов:
— Мы здесь не по своей воле. И то, что говорили, шло от имени России. И владыко Филарет молвил то, что велели сказать россияне. У нас патриарха чтят как царя и как духовного отца.
— Но вам нужен муж, который бы достойно управлял государством. Вот я и буду таким государем. Говорите же своё.
— От имени всех и говорю, — начал князь Василий Голицын. — Шли к нам в Москву королевича Владислава. А для сего изъяви свою волю в грамоте, и мы будем удовлетворены, уйдём домой.
Гетман Жолкевский, более сдержанный, чем король, и розмыслом побогаче, что-то тихо сказал Сигизмунду. Тот закивал головой и даже улыбнулся. И сказал послам:
— Хорошо, я не сержусь на вас, что вы исполнительны и тверды. Я дам согласие Владиславу выехать в Москву и быть царём. Но при условии, ежели он сам этого пожелает.
— Мы рады твоему согласию, ваше королевское величество, — ответил князь Голицын. — Но спросите сына, согласен ли он принять новую веру?
Сигизмунд глянул на Жолкевского. Тот кивнул головой.
— И об этом спросим — ответил король.
Пока говорили другие, Филарет думал. Он вспомнил ещё одно напутствие патриарха Гермогена.
— К тому же предупреди сына, государь, что крещение принимать ему в Смоленске от архиепископа Сергия, — твёрдо сказал Филарет.
— Эко размахнулись послы! — воскликнул король. — Да кто же откроет ворота в крепость, кто распахнёт врата кафедрального собора для Владислава?!
— Смоляне и откроют когда ты уйдёшь с войском с русской земли.
— Ты, митрополит, дерзишь мне. Я стою под Смоленском потому, что это мой город. И пока не возьму его, пока примерно не накажу смолян за бунт, моё войско будет стоять здесь.
— Добре, государь, стой. Но тогда твоему сыну придётся креститься в Москве, как испокон крестились великие князья и цари. Обряды у нас полные, чистые, купели серебряные, крёстные матери и отцы — достойные, — зачастил Филарет.
— Скажу, скажу о ваших претензиях, — отмахнулся от Филарета король. — Пусть крестится в Москве, ежели пожелает.
— Ещё предупреди, — продолжал Филарет, — что ежели он надумает жениться, то пусть не ищет себе невесту католической веры. Мы сами найдём ему будущую царицу православного христианского обычая.
Сигизмунд промолчал. Он подумал, что великое посольство, во главе которого стоит такой твёрдый блюститель державных интересов и церковных канонов, как митрополит Филарет, будет несговорчиво во всём, что затрагивает интересы России. И потому надлежало подумать о том, как избавиться от этой помехи. Сигизмунд тихо поговорил с гетманом Жолкевским и, наконец, ответил россиянам:
— Я обещаю вам, послы: всё, о чём вы просите, будет мною передано королевичу Владиславу. Ещё обещаю послать в Краков гонцов не мешкая. Уйдут ноне же. Как вернутся, продолжим беседы.
Митрополит Филарет прикинул, что русскому посольству предстоит пребывать в напрасном ожидании ещё недели две. И потому решил немедленно сократить на две трети посольство, дабы оставшиеся не голодали. Когда же Филарет сказал на пути из польского лагеря послам, что намерен делать, все поддержали его. Никому из россиян не хотелось терпеть лишения и голод в стане близ польского войска, всем хотелось поскорее вернуться в Москву, в свои палаты.
Глава десятая Король Сигизмунд
Польский король Сигизмунд III никак не мог сложить в гармонию свои замыслы и возможности их исполнения. Он давно мечтал покорить Московию, присоединить её к великой Польше. На то у него не было достаточно войска, потому как в стране шла междоусобица и вельможные паны, князья, гетманы были озабочены защитой своих владений или захватом чужих, то пустовала королевская казна, потому как все деньги от доходов уходили на бесконечные балы, торжества и прочее. Сигизмунд уже и не помнил, когда у него было достаточно денег. Он даже обращался с поклоном к папе римскому Павлу V и просил у него на войну с «азиатами» сорок тысяч талеров. Но папа Павел V послал ему вместо денег под Смоленск шпагу, освящённую в Ватикане в день Рождества Христова. И потому обширные замыслы Сигизмунда к концу 1610 года мало-помалу угасли. Ещё год назад он надеялся легко покорить Смоленск, считая, что эта крепость и недели не выстоит перед его героическим войском. Но войско оказалось отнюдь не героическим и не умело, а скорее, не хотело штурмовать крепостные стены. В течение года королевским канонирам не удалось даже проделать брешей в каменной преграде. Польские пушки только гремели страшно, но против русских стен оказались бессильны.
Год спустя всё ещё самоуверенный король пустился завоёвывать Московию с помощью дипломатии. Его послы в Тушине обольщали бояр, и это не пропало даром. Наступило самое время идти к столице России, потому как войско гетмана Жолкевского со дня на день могло войти в этот город. Тут-то как раз и возникли помехи. Россияне «всей землёй» попросили Владислава на московский трон. Да и избрали его с крестным целованием. И дело оставалось за небольшим: въехать тому в Москву и сесть на трон. Тут-то Сигизмунд и восстал против решения россиян, испугался, что сын с высоты московского трона и над ним встанет. И во время последней встречи с гетманом Жолкевским король так и сказал:
— Пока я жив. Владиславу нечего посматривать в сторону Москвы. Я пойду туда, я буду царствовать. Тебе же, гетман, повелеваю ехать к войску, поднять его и войти в столицу, ждать меня там.
И тогда Жолкевский ускакал к Москве, дабы выполнить волю короля. Примчав в стан войска, всё ещё располагавшийся в селе Хорошево, он собрал полковников и приказал им поднимать полки, двигаться к стенам Кремля. Однако скорая весть о том, что войско Жолкевского без особых помех, но с помощью предательства захватило Москву, привела короля Сигизмунда в некоторое замешательство: одно дело рассуждать о захвате российского трона и совсем другое осмелиться сесть на него. И Сигизмунд подумал о том, что ему прежде всего нужно как-то избавиться от великого посольства русских. Мысль об этом не давала королю покоя ни днём ни ночью. Он забыл о том, что обещал своему народу покорить Смоленск до наступления зимы. Сигизмунд потерял покой. И уже сразу после первой встречи с русскими послами понял, что хотя их и прислала Семибоярщина, они проводят не линию правителей, выполняют не их поручение. За послами стояла другая сила, более мощная, чем Семибоярщина. Сигизмунд понял наконец, что главы посольства не желают видеть на русском троне ни его, Сигизмунда, ни тем более королевича Владислава. И хотя это были тайные помыслы россиян, Сигизмунд легко о них догадывался. Но вот кто воодушевлял Филарета и других послов на противодействие Польше, об этом Сигизмунд пока не знал, сие для него оставалось загадкой. Он даже сделал предположение, что за спиной Филарета и нет тех сил, в угоду которым он действовал, но сам он главное лицо в борьбе как против него, короля Польши, так и против Владислава. Не случайно же Филарет не проявлял к будущим властителям России никакой почтительности.
Измучившись в догадках о тайне мощи Филарета, Сигизмунд позвал на совет богослова и философа Петра Скаргу, который пребывал в его лагере после московских злоключений.
Избежав милостью Гермогена русского плена во время восстания россиян против первого Лжедмитрия, Пётр Скарга поспешил убраться из России, но на пути у него оказался Смоленск, и Скарга пришёл в общину католиков и жил среди них, сочинял свой новый богословский труд. Но когда город был окружён поляками и смоляне стали голодать, он ушёл из общины и упросил стражей выпустить его из города. Россияне во второй раз оказали ему милость. Он же, ненавистник православия, забыл о том, что хотел удалиться от мира и провести остаток дней в пустующем замке под Мариненбургом, пришёл к королю Сигизмунду, дабы служить ему, войти в Смоленск с победителем и там обратить всех православных христиан в католиков.
Вскоре Пётр Скарга вошёл в круг приближённых короля. Сигизмунд не раз слушал проповеди богослова, беседовал с ним на философские темы. Королю нравилось неистовое служение богослова католической вере. Именно от Петра Скарги Сигизмунд узнал впервые историю католичества в Польше и был приятно удивлён тому, что католичество стало государственной религией благодаря усилиям польского короля.
— О, сей король Мешко не пожалел казны, чтобы всюду в государстве поставить костёлы. И он сам строил первый храм в Познани, был каменщиком. И уже при Мешко папа римский Бенедикт VII распростёр свою милостивую руку над Польшей, благословил её всюду за пределами державы добиваться торжества католической веры. И Мешко, выполняя волю папы, отправился с войском в Киевскую Русь, дабы там добиться торжества благой веры. Но увы, — продолжал рассказывать Пётр Скарга, — великий князь Владимир успел в эти же годы ввести на Руси православное христианство, что есть еретическое зло. Приди Мешко на год раньше, быть бы Руси католической державой.
Король Сигизмунд сожалел об этом не меньше философа-богослова.
В те дни, когда начались переговоры с прибывшим из Москвы посольством, Сигизмунд на какое-то время забыл о Петре Скарге. Но на первую встречу с Филаретом позвал его. А после неудавшихся, по мнению короля, переговоров, после бесплодных размышлений он пригласил Петра Скаргу на ужин и спросил:
— Вот ты слышал, о чём у нас шла речь с Филаретом Романовым?
— Слышал, ваше величество.
— И что тебе показалось?
Пётр Скарга припомнил разговор на приёме послов и сказал:
— Послы вели себя странно. Они делали не то, что им велено. Они не хотят, чтобы на престоле России был иноземец.
— Но они же просили Владислава!
— Они только назвали имя твоего сына, как претендента на трон. Но и его не ждут в Москве.
— Открой же сию загадку, — попросил Сигизмунд.
Богослов и король сидели в шатре, у стола, на котором были яства, вино. Пётр хотя и был тощим, ел и пил много и жадно, всё это без церемоний. Отпив из кубка в очередной раз вина, стал рассказывать:
— Мне довелось встретиться в Москве с русским первосвятителем Гермогеном. Другой такой личности сегодня в России нет. Он истинный пастырь-вождь россиян. Его слово для них как от Бога. И он питает к католикам лютую ненависть. Потому не жалеет сил, чтобы ты, ваше величество, и твой сын никогда не встали на русский престол. И пока он жив, вам не достичь успеха.
— А что есть митрополит Филарет? Он же, сказывали, в опале от Гермогена с того часа, как в Тушине сан патриарха принял. Они же недруги.
— Да, недруги. Но это не мешает им стоять за Россию рядом. Ещё в ту пору, когда избирали царём Бориса Годунова, Гермоген выступил против него. А Филарет, в ту пору князь Фёдор Романов, спустя два года встал на сторону Гермогена.
— Странный этот Романов. Он же принял сан патриарха от самозванца и вопреки воле Гермогена.
— Это Дмитрий второй хотел приласкать Филарета, ведь родня. Увы, безуспешно. Филарет был покорен Гермогеном и стал его единомышленником с того часу, как Гермоген назвал имя Михаила Романова, сына Филарета, будущим престолонаследником.
— О, теперь мне всё ясно, святой отец. Благодарю, благодарю! — воскликнул облегчённо Сигизмунд.
— И только смерть отрока Михаила может нарушить планы Гермогена. Только смерть, — повторил Скарга.
— О! — удивился Сигизмунд без меры. И тихо согласился: — Да, да!
Будучи человеком настроения, Сигизмунд сию же минуту был готов на самые крутые меры против Филарета, отпрыска которого кто-то прочил на русский престол. Он теперь знал своего врага и готов был бросить тому вызов. Оставаясь по духу воином, Сигизмунд не был благородным рыцарем и не испытывал угрызений совести. Потому он направил все свои силы для того, чтобы добыть победу любыми путями. Его возбуждённый ум уже искал повод для того, чтобы арестовать Филарета. И вскоре после беседы с богословом Сигизмунд нашёл-таки повод.
Король послал своё войско на новый, неведомо какой по счёту штурм Смоленска. К этому времени уже были сделаны подкопы под стены крепости, в них заложили порох, и когда десятки польских орудий ударили по крепости, сапёры отправились к пороховым зарядам. Польские воины подтащили к стенам сотни штурмовых лестниц. Но штурм вновь не удался. Смоляне разгадали замысел врага, сделали свои подкопы под стены и унесли порох. А когда польские воины после канонады ворвались в отдельных местах на крепостные стены, их сметало оттуда словно вихрем. Воинов охватывал ужас, в панике они падали в ров, сшибали тех, кто поднимался по лестницам. Многие поляки кричали: «Там сатана, там дьявол!»
Командиры, которые гнали воинов на штурм, видели на стенах среди защитников города огромных огненно-рыжих воинов. В руках у них были палицы, и этими палицами богатыри сметали врагов со стен. Огненно-рыжие воины возникали всюду, где только поляки поднимались на стены. Никто из полковников, из командиров отрядов сам не поднимался по лестницам, и воины после первых попыток овладеть крепостью даже под страхом смертной казни не шли на штурм. Войско Сигизмунда захлебнулось в страхе. Как солдат ни погоняли, они, добежав до крепости и глянув вверх, панически убегали.
Сам король Сигизмунд поскакал на коне на выстрел мушкета и промчал вдоль стен крепости с полверсты, дабы увидеть тех, кто посеял в его войске ужас. И он увидел лишь одного огненно-рыжего богатыря, который появлялся то тут, то там. Тот неведомый русский воин вызвал страх и в душе короля. Какой же силой обладал сей воин, подумал король, ежели никто не мог устоять перед ним, ежели его одного сочли за целую рать. И Сигизмунд поспешил удалиться от стен подальше. А чтобы узнать суть явления, тотчас послал в стан русских послов гонца и велел явиться князьям Ивану Куракину и Василию Тюфякину, коих знал, как своих поклонников.
Ещё и день не угас, а в польский лагерь примчал на коне князь Тюфякин. Король послал его к крепостным стенам:
— Иди, князь, и посмотри, кто там нагоняет на моих воинов страх, какую нечистую силу взяли смоляне в помощь.
Князь Тюфякин выполнил волю короля и, вернувшись, сказал:
— Ваше величество, видел на стене колдуна Сильвестра. Он многолик и страшен.
Сигизмунд, не произнеся и слова в ответ, повернул коня и со всей свитой ускакал в лагерь. Возле своего шатра дождался, когда подъедет Тюфякин, спросил его:
— Кто над тем колдуном властен?
Князь Василий Тюфякин задумался, бороду потеребил, соображая, что к нему пришёл миг удачи и он может теперь хоть в малом досадить главному послу, Филарету, которого недолюбливал за праведное слово и дело. Это же он, Филарет уличил его однажды в приверженности к католикам. Теперь сам будет уличён в сговоре с нечистой силой. Знал Тюфякин, что митрополит многими нитями связан с ведуном Сильвестром, а пуще — с его женой. Тут и другое подворачивалось князю: Жигмонд даст ему возможность уйти из посольства домой. Нет у него силы калеть зиму в шатре или в грязной крестьянской избе, пора в тёплый терем. И, прищурив без того узкие монгольские глаза, князь негромко сказал:
— Есть над тем колдуном господин. Он в русском стане среди послов, а как его имя, запамятовал.
Король не настаивал, чтобы князь постарался вспомнить имя властелина над колдуном, слез с коня и позвал князя в шатёр. О чём Сигизмунд и Тюфякин разговаривали, осталось тайной. Но в тот же вечер князь велел своим холопам не мешкая собираться в путь. В глухую полночь, когда русский стан спал, князь Тюфякин и его челядь покинули свои шатры и ушли из лагеря прямой дорогой на Москву. Это были первые беглецы из великого посольства. Позже, с наступлением сильных морозов, их оказалось сотни.
А на другой день утром, когда в русском стане ещё не знали о бегстве князя Тюфякина, король Сигизмунд пригласил к себе Филарета. Его попытались сопровождать Авраамий Палицын и Захар Ляпунов, но посланец короля строго заявил, что Филарет должен явиться один. Лишь только посол был допущен в королевский шатёр, как Сигизмунд встретил его крепким словом:
— Ты, владыко митрополит, дерзок, и прибыл в мой лагерь с одной целью: требовать от меня уступок. Я готов тебе уступить во многом и даже сыну повелю не покидать Польши. Но и от тебя требую уступок. Повели своей властью смолянам открыть ворота города. Войду в Смоленск, и волос не упадёт с голов горожан.
— Моей власти над смолянами нет, — твёрдо ответил Филарет. — Над ними властен Всевышний. Вот его и проси о милости.
— Пока я прошу тебя, владыко. Но бойся, как стану требовать.
— Я слуга Божий, и пугать меня нет смысла, ваше величество.
— В том и суть, что ты не Божий слуга. Вчера ты видел, как мои воины бежали от стен крепости, видел, сколько осталось их во рву бездыханными. Ответь же, почему сие случилось? Пока тебя под городом не было, смоляне трепетали предо мной. И город я не взял силой только потому, что жалею своих солдат.
— Отвечу, почему вчера не удался штурм твоему войску: у тебя нет достойных воевод, кои научили бы солдат брать крепости. Или запамятовал урок стояния под Троице-Сергиевой лаврой?
— Я сам воевода над войском и знаю, чего стоят мои гетманы и солдаты. Вчера крепость пала бы, не прояви ты своего коварства.
— Помилуй Бог! Чем я пред тобой грешен, государь польский?
— Тем, что ты в сговоре с нечистой силой, и она злодействует твоей волей.
— Истинно говорю, государь, и Господь тому свидетель: никогда не якшался с нечистой силой. Вот те крест! — И Филарет осенил себя крестом.
— Ты лжец! — Сигизмунд встал с кресла, подошёл к Филарету, медленно и с яростью произнёс: — Ты в одной упряжке с колдуном Сильвестром и ведьмой Катериной. Двадцать пять лет назад ты продал им душу, и оттого они тебе служат. Они спасли тебя от казни при Годунове, они ведут твоего сына на трон!
Филарет дрогнул. Да, он связан с этими ведунами-ясновидцами четверть века. Но мало кому известно, что они блаженные и над ними властелином не сатана, но Всевышний. Однако сие невозможно доказать тем, кто не пожелает слушать правду. Так было уже, когда он, Фёдор Романов, доказывал царю Борису свою непричастность ко всему, что было связано с найденным на его подворье отравным. И теперь Сигизмунду легко взять его в хомут, увести на погибель. Но этого нельзя допустить, он ещё нужен россиянам. И Филарет смиренно спросил:
— Что тебе надобно, государь?
Сигизмунд видел душевное борение митрополита.
— Требую одного, — тихим, но торжествующим голосом начал Сигизмунд, — чтобы ты собрал своих послов, шёл с ними к стенам крепости и повелел смолянам открыть ворота и выдать колдуна Сильвестра. Ты заверишь смолян, что когда мои воины войдут в город, то получат от меня только милость.
Под ногами у Филарета медленно заколыхалась земля. Он опустил голову, дабы убедиться, так ли это. Твердь земная оставалась непоколебимой. И Филарет понял, что это он теряет над собой власть и впадает в глум, что его толкают на предательство смолян, мужественно защищающих город, на заклание достойного похвалы россиянина. Да, смоляне поверят ему и послам, кои будут рядом с ним, и распахнут городские ворота. Но он был твёрдо убеждён, что горожане не выдадут Сильвестра и что поляки не помилуют их за это, разорят дома, надругаются над верой, над жёнами, учинят разбой и казни. И дух истинного россиянина взбунтовался в Филарете, и он хотел было крикнуть Сигизмунду о том, что никакая сила не толкнёт его на иудин грех. Но в последний миг другая, благоразумная сила остановила его от неверного шага, бросавшего его на копьё, на что угодно, от чего россиянам блага не будет. И он всё с тем же смирением сказал:
— Государь польский, я подумаю над твоим повелением. Оно бы и не гоже исполнять россиянину твою волю, да крови боюсь. Дай мне два дня.
— Даю, думай. И побуди послов к исполнению моей воли. Но помни, что все вы отныне мои заложники и ежели будете супротивничать, всех вас ждёт горькая участь. А пока ты волен, иди. — И Сигизмунд отвернулся от Филарета.
Прошло два дня. Сигизмунд провёл их беспокойно. Что-то подсказывало ему, что Филарет играл с ним, хитрил, скрывая свои замыслы. Так и случилось, что через два дня от русских не было ни ответа, ни самих послов. Сигизмунд пришёл в негодование, крикнул гетмана Рожинского и велел ему идти в русский стан и силой привести Филарета. Но в этот час из Москвы прискакали гонцы от гетмана Жолкевского и принесли весть о том, что воля короля исполнена, что его войско вошло в Москву и заняло Китай-город и Кремль.
Радости Сигизмунда не было предела. Он собрал всех вельможных панов, кои находились в лагере, полковников, хорунжих и объявил им о победе над русскими, о том, что польское войско в Москве, и повелел в честь знаменательного события устроить пир.
Вельможные паны и сам король всегда любили попировать, и торжество затянулось на несколько дней. Сигизмунд в эти дни забыл о Филарете и об осаждённом Смоленске. Он действовал как истинный царь всей России, писал указы и отправлял их в Москву. Он разослал приглашения многим русским вельможам и пригласил их под Смоленск. В эти же дни многие послы из великого посольства переметнулись в стан Сигизмунда, увёл их за собой князь Иван Куракин. Король щедро наградил всех перебежчиков землями и званиями. Досталось и тушинским его радетелям. Князь Михаил Салтыков получил во владение давно желанную вотчину, область Вегу. Был награждён землями и князь Василий Рубец-Мосальский.
Вести из Москвы прибывали в королевский лагерь каждый день. Не все они были приятными. Королю не понравилось, что вместе с гетманом Жолкевским командовал московским гарнизоном и гетман Гонсевский, бывший посол Польши в России. Он не вернулся на родину, когда сложил посольские полномочия. Но, чувствуя свою вину перед Сигизмундом, Гонсевский в каждом послании радовал короля новыми деяниями во славу Польши. Король одобрил рвение и то, что Гонсевский открыл во дворце Годунова костёл для воинов и паломников-католиков. Королю пришлось по душе и то, что гетман очистил Китай-город от купцов, мелких торговцев, многих незнатных вельмож, отдал их дома и палаты польским панам. Гонсевский хорошо знал нрав москвитян и запретил им носить оружие, сбиваться в ватаги, бродить по городу с наступлением темноты. Одобрив все эти меры Гонсевского, Сигизмунд выразил в своём послании ему благодарность и милостиво простил все прошлые грехи.
От множества благих вестей Сигизмунд пребывал в благодушии. Он уже не гнал своих воинов на штурм Смоленска, не докучал Филарету и сам не отзывался на его призыв о продолжении переговоров. Он был доволен тем, что великое русское посольство тает, как снежный ком под лучами солнца. Хотя знал, что солнце тут ни при чём, а вот тёмные ночи помогали беглецам. Каждую ночь сторожевые польские посты, расставленные вокруг лагеря русских, вольно пропускали всех, кто уходил на восток. И к концу декабря из посольского стана сбежало более двух тысяч человек. Ни Филарет, ни Голицын, ни Ляпунов, сколько ни пытались, не сумели остановить бегство. Да они и сами понимали тщетность их сидения под Смоленском. Стан русских голодал, страдал от морозов и болезней. Филарет и Голицын пытались разместить свой народ в ближних селениях, но там мало что досталось русским — все избы занимали поляки. И приходилось спасаться в землянках.
Король Сигизмунд грубо нарушал все законы о послах, не проявлял о них никакой заботы, не помогал пропитанием. Он всячески притеснял их и угрожал пленением. И случилось так, что эту угрозу он вскоре выполнил.
Из Москвы к послам доставили грамоту от правителей России — Семибоярщины. И было сказано в ней, что послы во главе с Филаретом и князем Голицыным обязаны служить верой и правдой королю Сигизмунду. И все повеления короля для них неукоснительны, как закон. Список этой грамоты, сказывали, был сделан князьями Михаилом Салтыковым и Василием Рубец-Мосальским. Получив его, Сигизмунд позвал к себе многих послов и предъявил им московскую грамоту. Филарет же, внимательно прочитав грамоту вслух, сказал:
— В ней нет силы, государь польский. Она без подписи патриарха Гермогена. Не приложил к ней руку первосвятитель.
— Зачем нам подпись служителя, коего нет в патриархах. Отныне на престоле русской церкви святейший Игнатий, ведомый вам.
— Сие ложь, государь польский. Ведомо нам, что Игнатий в Вильно.
Сигизмунд не смутился, оттого что его ложь раскрыли. Да, Гермоген ещё стоит во главе церкви. И всё-таки Сигизмунд решил заставить этих упрямых россиян служить Польше. Сорвав досаду крепким польским словом, Сигизмунд пригрозил послам:
— Отныне никто из вас не покинет лагерь без моего позволения!
Прошло несколько морозных дней. Между лагерем поляков и станом русских началось противостояние. Рожинский докладывал королю, что русские ставят от реки частокол, что окружили себя постами и все холопы вооружены. Сигизмунд принял это известие как вызов ему и пришёл к мысли о том, что пора всё русское посольство подвергнуть пленению. Но некоторое время ещё выжидал, искал повод. Допустил оплошность Захар Ляпунов. Глухой ночью он выдвинул на московскую дорогу своих верных холопов и велел им перехватывать всех гонцов, кои скакали из Москвы к Сигизмунду. И в ту же ночь на рассвете люди Ляпунова заарканили двух конников, а третьему удалось скрыться. Пленили русского и поляка, привели к Ляпунову. Воевода допросил их с пристрастием, вытряхнул из одежды, а с нею и то, что искал — грамоту. И было написано в ней о том, как Гермоген хлестал словами Михаила Салтыкова, когда тот пришёл просить патриарха, чтобы он подписал послание королю Сигизмунду. Салтыков писал: «Гермоген сказал, чтобы король дал своего сына на Московское государство, и королевских людей всех вывел из Москвы, и чтобы Владислав оставил латинскую ересь и принял греческую веру, — к такой грамоте я руку приложу, и прочим властям велю приложить, и вас на то благословляют. А писать так, что мы все полагаемся на волю короля, того я и прочие власти не сделаем, и вам не повелеваю, и если не послушаете, то наложу клятву: явное дело, что по такой грамоте нам пришлось бы целовать крест королю».
Прочитав сие послание, Захар Ляпунов поспешил к Филарету, но лишь только вышел из избы, как на него навалилась орава польских воинов. И, несмотря на то что Захар отчаянно сопротивлялся, ему скрутили руки и повели в польский лагерь. Впереди шёл польский гонец, которому удалось ускользнуть от холопов Ляпунова. Сигизмунд понял, что это и есть тот повод для пленения русских, коего он ждал. И на Рождество Христово 1610 года русское посольство окружили плотной стеной польских воинов, и сам король Сигизмунд, появившись в русском стане, повелел считать всех россиян пленниками. Но королю этих мер оказалось мало. И он велел арестовать Филарета и князя Василия Голицына и содержать под стражей в польском лагере. И в ночь на третий день Рождества Христова в избу, где обитали митрополит и князь, ворвались уланы, и старший из них сказал:
— Именем короля, вы арестованы.
Филарет не удивился. Он ждал этого часа. Собрав кой-какие личные вещи, он прочитал свою молитву: «Господи! Не знаю, что просить мне у Тебя! Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Милосердный Господи, прими в руце Твои души наши и помяни нас, егда придеши во Царствие Твоём».
В сей же час королевские уланы принялись за обыск в избе, всё перекопали, перевернули, но, не найдя, что искали, увели пленников.
В польском лагере Филарета и Голицына замкнули в старом овине, и они просидели там больше месяца. Стражи охраняли их круглые сутки и менялись по часам. У россиян не было никакой связи с внешним миром. Но король Сигизмунд получал на них ложные доносы, и по одному из них будто бы Филарет и князь Голицын написали письмо воеводе Шеину в Смоленск и просили его так же твёрдо стоять против поляков, как стояли до сих пор. И ещё будто бы в том письме было обращение Филарета к колдуну Сильвестру: «Рази польских еретиков как можешь. Сему тебя не учить».
После этого навета король Сигизмунд велел привести к нему Филарета и Голицына и человек десять вельмож из посольского стана. Всех их долго держали на морозе и пронизывающем ветре. Послы пытались подойти к митрополиту и князю, но стражи их не подпускали. День уже клонился к вечеру когда пришёл гетман Рожинский и повёл россиян в дом к королю, вновь оставил ждать на ветру. Послы топтались, хлопали себя по спине, дабы согреться, и вспоминали о блинах. Была Вселенская родительская суббота, и до Седмицы, сырной масленицы, оставалось два дня. Наконец, гетман ввёл россиян в дом. К ним вышел король. Он был хмурый, смотрел зло.
— Я позвал вас для того, чтобы вы шли на вечерней заре к городским стенам и потребовали от воеводы Шена впустить моих послов на переговоры, — сказал Сигизмунд.
— Всё уже переговорено, зачем толочь воду в ступе, — заявил князь Юрий Черкасский. — Ты бы, ваше величество, отпустил митрополита и князя.
Король словно не слышал князя Черкасского, продолжал:
— Мои послы скажут смолянам, что отныне я их царь.
Филарет не сдержался, полез на рожон:
— Ты, государь польский, никогда не будешь царём над смолянами. Ежели ты пленил послов, какой милости ждать от тебя горожанам. Мы скажем им, чтобы они по-прежнему стояли крепко.
— Вольно же тебе расстаться с Россией, митрополит, — жёстко сказал Сигизмунд. — Источилось моё терпение. Нонче же отдам повеление угнать тебя в гиблые места.
— Ваше величество, не клади опалу на главу посольства, не попирай за правду — вступился за Филарета князь Василий Голицын.
Король ещё пуще вошёл в гнев:
— И тебя, князь, погонят в те же места! И все вы мои пленники, все заложники до той поры, пока не взойду на московский престол.
Поняв, что послы не выполнят его повеления, Сигизмунд приказал арестовать всех послов. Они были заперты в маленькой гнилой избушке и просидели в ней под стражей всю Масленицу, Великий пост и Светлое Христово Воскресение. Перед Пасхой их вовсе не кормили три дня. В эти дни королевские войска снова пошли на штурм Смоленска. И были взорваны пороховые мины. Да был ещё страшный взрыв. Поднялась в небо и рухнула привратная башня. Её взорвали сами смоляне, и под её руинами погибли не меньше сотни поляков, кои разрушали ворота. Смоляне и на этот раз отстояли город, но дорогой ценой.
Странно, но после неудачного штурма король Сигизмунд почему-то смягчился к пленным послам-россиянам. На Пасху он прислал им кусок говядины, четырёх гусей, семь кур, тетерева, старого барана и двух ягнят. Хотя послы и были голодны, но на еду не набросились, а поделили её на несколько дней. Среди польских вельмож нашлись добрые души и тайно прислали пленникам жбан вина. Вскоре же после Светлого Христова Воскресения Филарета, Голицына и десять вельмож из посольства посадили в крытые телеги и под большим конвоем погнали в Польшу. По разговору конвойных послы догадались, что их везут в Вильно. Но вскоре конвой разделился и одних повезли в сторону того древнего города, а митрополита Филарета и князя Голицына — в неизвестном направлении.
Глава одиннадцатая Катерина
В ночь накануне Пасхи Катерина не смежила глаз. И всегда так бывало в прежние годы. Да в полночь ровно, как дню Христова Воскресения народиться, пришло к Катерине видение наяву. Она ещё служила у патриарха Гермогена домоправительницей, но ведала, что скоро этому служению придёт конец. Потому как поляки, вновь заполонившие Кремль, как было пять лет назад, искали повод, дабы расправиться с Гермогеном. А князь Михаил Салтыков и дьяк Федька Андронов давно уже притесняли святейшего. Он терял свою власть, потому как кремлёвский клир священнослужителей поляки разогнали, Патриарший приказ — тоже, в здании устроили казарму, и всему православию в Кремле близился конец.
И вот в полночь вошла Катерина в трапезную, дабы зажечь свечи перед киотом, и увидела, что из-за киота рука к ней протягивается с горящей свечой. Знакомая до боли левая рука Сильвестра без мизинца. И голос его возник: «Не пугайся, Катенька, это я, Сильвестр. Токмо ты прости, что не показываюсь. Ноне я ушёл от тебя».
— Господи, как же ты ушёл, Сильвеструшка, коль здрав, — воскликнула Катерина и за руку взяла его. Да с рукой-то из-за киота только два оранжевых крыла показались. Катерина так и обомлела, руку выпустила, а крылья взмахнули и полетели, унося руку. Ан вот уже и не рука это, а лик Сильвестра.
«Прощай, Катенька! Сказал Всевышний, что мне возноситься пора!» — донеслось до Катерины, и лик Сильвестра скрылся за стенами трапезной. И трепетно забилась душа Катерины, и сердце сжалось болезненно. Опустилась она на табурет и заголосила по-бабьи, и слёзы обильно текли, падали на свечу, которую она взяла у Сильвестра. Воск стекал ей на руку, обжигал, но она не чувствовала боли. Наконец, не помня как, она встала, поставила свечу в подсвечник, снова опустилась на табурет, прислонилась к стене, и в тот же миг сознание покинуло её, она опустилась во мрак. Но недолго пребывала в нём. Лишь только упала с табурета, как сознание вернулось к ней. Она поднялась на ноги, подошла к киоту, опустилась на колени и принялась молиться. А за молитвой увидела то, что хотела видеть.
Пред её ясновидящим взором открылся полуразрушенный город, дым пожарищ застилал его улицы, дома. Шло сражение. Враги лезли на стены, ломились в ворота, грохотали взрывы, разрушая крепостные стены. Близ ворот она увидела Сильвестра. Лицо и грудь его были в крови, в руках он держал факел. Вот он вбежал в привратную башню, и через мгновение в небо взметнулось пламя, сторожевая башня вздыбилась и рухнула на ворота, накрыв каменными глыбами врагов. Там же, под грудами камня, остался и её Сильвестр.
Сколько времени Катерина стояла на коленях перед киотом, неведомо. Она молилась, и плакала, и снова молилась. Но вот за её спиной послышались шаги, стук посоха об пол, и видение города исчезло.
В трапезную вошёл Гермоген, спросил Катерину:
— Что случилось, дочь моя?
— Христос Воскресе, святейший, — тихо молвила Катерина, вставая.
— Воистину Воскресе, — ответил Гермоген. Он подошёл к Катерине и трижды поцеловал её. Она ответила ему тем же. — Ты плакала. Какое горе надвинулось?
— Святейший отец мой, вчера в Смоленске погиб Сильвестр. Токмо что явился ангел с его душой и улетел с нею в Царство Небесное. — И Катерина вновь заплакала.
Гермоген прижал её к себе, положил руку на голову, произнёс:
— Господи милостивы, упокой душу раба Твоего Сильвестра. А ты, дочь моя, попечалуйся. Я же помолюсь за вас.
— Святейший, но ты забыл, о чём я просила, — напомнила Катерина.
— Держу в памяти, славная.
— Уйдём же, отец мой! Есть ещё время. Я уведу тебя из Кремля. — Катерина взяла Гермогена за руку. — Уйдём! Не сироти россиян. Потому как ляхи тебя погубят.
— Я ещё поборюсь с ними здесь, на холме. А тебе уходить нужно сей же час. Помни о дочери, береги её. Ещё исполни мою просьбу: сходи в костромскую землю, предупреди Ксению Романову и князя Михаила, чтобы укрылись за стенами Ипатьевского монастыря. И сама приди с ними в монастырь, скажешь архимандриту Донату моим именем, дабы уберёг юного князя как зеницу ока от всех напастей. Донат крепкий стоятель за веру и помнит подвиг Троице-Сергиевой лавры. И коль сподобится, пусть тоже постоит за Русь. И сие скажешь моим именем. Иди, дочь моя, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. — И Гермоген осенил Катерину крестом.
Катерина не уходила, смотрела на патриарха глазами полными слёз.
— Отец, ежели останешься, я больше тебя не увижу.
— Сие и мне ведомо. Ты возьми мой капитал, он невелик, но поможет тебе. — И, поцеловав Катерину в лоб, он ушёл из трапезной.
Катерина ещё постояла немного и словно тень ушла на свою половину. Она нашла в себе силы собраться в путь. Как велел Гермоген, высыпала из ларца в холстинку золотые деньги, завернула узел в чистый сарафан, всё уложила в дорожную суму вместе с другой одеждой. Не забыла упрятать драгоценные украшения, оделась попроще и покинула патриаршие палаты, в которых провела без малого шесть лет Выйдя из палат через «чёрную» дверь, она вошла в придел Сенной церкви, а из неё по тайному ходу вышла в ров за Троицкой башней, пробралась вдоль кремлёвской стены до плавней через ров и скрылась на Пречистенке.
Она вернулась в свой дом в тот час, когда князь Михаил Салтыков, дьяк Федька Андронов, ещё дьяк Молчанов и дюжина польских солдат пришли к патриаршим палатам, взломали парадную дверь и по-разбойничьи ринулись искать патриарха. Уже находясь во дворе своего дома, Катерина вновь заплакала, теперь по Гермогену, потому как ведала о его жестокой участи.
Все прошедшие шесть лет, пока Катерина и Сильвестр не жили в своём доме, за ним присматривал безместный поп, потерявший и семью, и дом во время первого польского нашествия. Батюшка Иван был ещё крепок, но к службе уже остыл, к тому же, горюя об утраченном, заливал своё горе вином. За домом и лавкой батюшка Иван досматривал прилежно, ухаживал за садом, Катерина ему платила за это, и он не бедствовал, не голодал.
Ноне, в честь Воскресения Христова, батюшка Иван усердно помолился, истопил печь, сварил полбы, наварил репы, говядины истушил и теперь сидел за столом, вкушал яства и попивал бражку. Катерину он встретил ласково, говорил с распевом, окая по-ярославски. Щуплый, с козлиной бородкой, всегда услужливый, батюшка Иван не знал, куда посадить хозяюшку, суетился, ахал, охал. Да тут же улыбка его погасла и голос осёкся, как рассмотрел в свете свечи Катерину.
— Господи Боже, лицом-то ты вовсе потерялась, матушка. Аль беда какая прихлынула?
Катерина опустилась на скамью возле печи и тихо выдохнула:
— Прихлынула, батюшка Иван.
— Никак Сильвестра твоего захлестнула?
— Его, окаянная...
Батюшка Иван забормотал молитву об убиенном, истово перекрестился, налил в глиняную баклажку браги, вложил её в руку Катерины.
— Остудись, матушка, помогет. — Сам повернулся к образу Николая Чудотворца и стал снова молиться.
Наступило утро Светлого Христова Воскресения. Над Москвой с рассветом вознеслись колокольные звоны. Сколько радости, веселья, благодати приносили на Русь эти звоны в сей большой всенародный праздник. Ноне же колокола звонили то тускло, то взрывались набатом, то гудели плачевно, как по усопшим. И не было благовеста, не звонили колокола «во всея». И эти звоны раздирали души россиян на части, приневоленных допущением Семибоярщины вновь жить под пятою ненавистных ляхов.
Пасха в этот год выдалась ранняя. Мартовский день был холодный, ветреный. Над куполами церквей и соборов метались тучи чёрного воронья, его крики порою заглушали звон колоколов. Катерина никогда ещё не видывала такой мрачной Москвы. Временами Катерина срывалась с места, дабы сбегать в Кремль и узнать, что там с патриархом. Но она гасила это делание, зная, что палаты уже пусты или заняты поляками, что Гермоген уже упрятан в подвале Чудова или Кириллова монастыря. Так и было: правители России и польские захватчики приговорили его к заточению за отказ подписать грамоту-обращение к россиянам, дабы не замышляли всенародного восстания против ПОЛЯКОВ.
В полдень Катерина сходила на богослужение в церковь Покрова Богородицы. Вернувшись домой, поела по принуждению батюшки Ивана. И всё маялась и маялась душой, печалуясь за погибшего Сильвестра, за подвергнутого заточению Гермогена, за дочь Ксюшу, коя пребывала в руках чужих людей в селе Тайнинском. Сердце её разрывалось. Она готова была мчать в Смоленск, дабы предать земле прах Сильвестра, но понимала, что не найдёт этот прах под развалинами крепостной башни. Материнское сердце влекло её в Тайнинское, чтобы укрыть своим крылом дочь. И в то же время над всем довлел долг перед Гермогеном, который повелел ей уберечь от ворогов юного князя Михаила Романова. Но и туда, в костромскую землю, ей нелегко было двинуться, потому как не смела она посмотреть в глаза Ксении, супруги Фёдора Романова. Грешна была перед нею Катерина до малого мизинца на ноге. Но долг выполнить последнюю волю Гермогена оказался сильнее угрызений совести. И пасхальным вечером Воскресения Христова Катерина дала батюшке Ивану денег, чтобы купил коня и крытый возок. Да зная, что нелегко будет сделать такую покупку, велела ему выражать просьбу именем патриарха.
— Ему окажут милость, — провожая Ивана на поиски коня, напутствовала батюшку Ивана Катерина.
Уйдя сразу же в ночь, он вернулся лишь к вечеру другого дня. Аж в Кунцево удалось ему сделать торг, купить молодую и резвую кобылу и крытые сани.
Катерина к этому времени уже собралась в путь, стала прощаться с домохранителем. Деньги отсчитала по уговору. Он же деньги не принял и сказал:
— Ты, матушка Катерина, не обессудь, не могу я оставаться доле в твоей избе.
— Аль обидела чем? — удивилась Катерина.
— Иншая причина, матушка. Да ты поди ведаешь её. — Катерина пожала плечами. — Ведаешь, истинно, — упорствовал батюшка.
Ясновидица опустила вниз глаза, устыдившись того, что сразу не призналась. Видела она Москву в дыму и пламени. И многих уже предупреждала, чтобы уберегались от беды.
— Куда же ты пойдёшь, батюшка? — спросила Катерина.
— А с тобою, матушка, с тобою. Я те пригожусь. Да и конём в пути кому-то править нужно.
— Господи, а ты, батюшка, тоже не прост. Увидел, что теплится во мне желание взять тебя. Да подумала: стар для дороги.
— Э-э, матушка, да я по этим дорогам колёсиком катаюсь, колёсиком, — пропел батюшка Иван.
А как наступила ночь, Катерина и поп Иван тёмными улицами и переулками Земляного города покинули Москву и взяли путь на Кострому. Дорога — привычное дело для Катерины. Пол-России исколесила она в прежние-то годы. Да одно дело по мирной земле ехать и совсем другое — в лихолетье. Не всякий торговый человек отважится отправиться в путь в одиночку или вдвоём. Собирались обозами, стражей нанимали, двигались только днём, от селения к селению. Но Катерина осмеливалась странствовать даже одна, потому как знала свою силу. И передвигалась она по дорогам чаще всего по ночам. Знала она, что тати в лихолетье и сами-то не очень любят шастать ночью. У них и днём нет помех на глухих дорогах, и простору хватает... Ещё знала она, что в пути рядом с нею всегда есть Святые Духи. То Михаил-архангел, архистратиг и защитник христиан, сопровождал её, то Илья-пророк, покровитель простых людей, укрывал её своим могучим крылом. Да была в Катерине своя, особая сила, о которой сама она не ведала. Но та сила открывалась татям и они боялись её больше всего. Так было и на сей раз.
Село Мирославль, раскинувшееся по берегу реки Ухтомы, Катерина и батюшка Иван покинули в густых сумерках, рассчитывая к утру добраться до деревни Коблуково. А в том Мирославле, в избу, где остановились отдохнуть на день Катерина с Иваном, два раза в течение дня заходил молодой матёрый мужичище. Хозяйка назвала его Прохором, ещё лешием и татем, да всё шёпотом, озираясь на углы. И приглянулись Прохору дорожные сумы Катерины. Догадывался он, что в них есть чем поживиться.
И лишь только сани Катерины скрылись в вечерней дымке, заткнул Прохор топор за пояс под шубу, вышел на лесную тропу, коя шла в укорот дороги, и близко к полуночи встал на пути Катерины с топором в руке. Вывернув шубу наизнанку и закрыв лицо треухом (только лохматая борода торчала — и есть леший), топором заиграл, словно ложкой. Вот и лошадь, и сани ночных путников показались на лесном повороте. Прохор за кустом укрылся, зверем затаился, дабы прыгнуть в последний миг. Но когда до путников оставалось несколько сажен, будто струя лесного пожара обожгла Прохора, и он выронил из рук топор. Волосы под треухом у него зашевелились, душа леденеть стала. А путники уже рядом, вот и мимо проехали. Прохор же глаза треухом закрыл, в снег головой ткнулся, потому как обожгло его пламя-сияние, кое исходило от Катерины. И понял Прохор, что, будь он истинно лешием, не одолеть бы ему святой силы. Так он и просидел на корточках, пока конь и сани не скрылись за новым лесным поворотом.
Катерина раскрыла истинное нутро Прохора ещё в Мирославле, когда он во второй раз зашёл в избу. Загадала наказать его, как встретит его на большой дороге, а в пути забыла о нём. И быть бы ей под топором злодея, но небесные силы защитили её. Так и добрались Катерина и батюшка Иван без приключений до Костромы. Да как потом выяснилось, ко времени.
Той же дорогой, но сутками позже двигался в костромскую землю отряд поляков в тридцать сабель и несколько русских воинов, посланных с поляками князем Михаилом Салтыковым. Было им приказано гетманом Гонсевским разыскать в костромской земле княжича Михаила Романова и его мать инокиню Марфу и похитить их или предать смерти.
Гетману Гонсевскому было хорошо известно, что на пути к российскому престолу королевича Владислава есть лишь одна преграда — племянник царя Фёдора, и в силу обстоятельств, наследник престола. И чтобы заслужить милость короля Сигизмунда и королевича Владислава, Гонсевский решился ещё на одно злодеяние.
На костромской земле сходились две силы.
В Костроме Катерина первым делом наведалась к воеводе боярину Михаилу Бутурлину. Сказала ему:
— Батюшка воевода Михаил, я принесла слово патриарха Гермогена князю Михаилу Романову. Открой его место мне.
Дворянское гнездо Шестовых было известно многим костромичам. И воевода таки подумал, почему эта посланница Гермогена не спросила у кого-либо из горожан, а явилась к нему. И понял он, что тут кроется не просто интерес, а государственное дело. И спросил боярин Михаил Катерину:
— Есть ли нужда у тебя скрывать причину поиска вотчины Шестовых?
— Не выпытывай, батюшка воевода. Велено мне сохранить слово патриаршее в тайне, — открылась Катерина.
Бутурлин чтил и высоко ценил Гермогена. И не впал в амбицию. Хотя и почувствовал ущемление воеводской чести: не захотел патриарх доверить ему тайну. Однако задумался, пытаясь разгадать причину интереса к княжичу Михаилу Романову.
Катерина по-своему поняла состояние воеводы.
— Прогони сомнения, батюшка. Движение патриарха во благо России. Да помни: близок час, когда тайное станет явным.
Вязаный полушалок скрывал лицо Катерины. Да и сумеречный мартовский день мало освещал палаты воеводы. И Бутурлин никак не мог рассмотреть лицо стоящей перед ним женщины. Спросил:
— Как тебя звать, гостья?
— Катерина. Я домоправительница патриарха.
Бутурлин подошёл к ней поближе, присмотрелся, головой покачал.
— Не узнаю. Ты бы показалась, платок скинула, — попросил воевода.
— Отчего же не открыться, — согласилась Катерина и скинула с головы полушалок, огненно-рыжую косу на грудь переложила, зелёными глазами блеснула.
— Вот и узнал тебя. Довелось мне зреть твой лик во время венчания царя Василия. Тогда ты обожгла меня своими глазами.
— Да и как не ожечь, батюшка воевода, коль греховные мысли тебя одолевали, — улыбнулась Катерина.
— Каюсь, думал тогда, какая ты есть в чистоте телесной. Теперь вот по-иному смотрю — старею, матушка ясновидица.
— Оно так. Время нам не подвластно.
Воевода позвал дворецкого. Вошёл пожилой худощавый человек в синем кафтане. Михаил велел ему накрыть стол, а как ушёл, попросил:
— Расскажи, любезная, как там в Москве. Когда же пищи вкусим да человека твоего накормим, да конь отдохнёт, так и отправлю в путь.
За трапезой Катерина многое поведала о событиях в Москве, рассказала о порядках, заведённых ляхами, о том, что поляки готовятся к встрече короля Сигизмунда.
— Сам он уже нарёк себя царём всея Руси.
— Ан россиян-то не спросил. Да мы ему скажем русское слово, — усмехнулся воевода.
Поведала Катерина и о том, что Москва голодает, что на патриарха, стоятеля за православную веру, гонения идут.
— Князь Михаил Салтыков, извратник и предатель, а ещё дьяк Федька Андронов издеваются над ним, как хотят, и с ножом уже подступали к святейшему. Требуют, чтобы Владислава звал без крещения.
Об одном умолчала Катерина, о том, что Гермоген уже заточен в Чудов монастырь. Потому как в сие время воеводе не нужно было знать того. Да и сама она пыталась убедить себя в том, что патриарх вольно пребывает в палатах. Но себя ей не удавалось обмануть.
Как трапеза подошла к концу, Михаил открыл место пребывания князя Михаила Романова:
— Поезжай в село Домнино, что в семи верстах за селом Рябинино. Там, в родовом именье Шестовых, и найдёшь княжича. И провожатых тебе дам, стрельцов.
— Спасибо, батюшка воевода, не откажусь от военных людей, потому как ведаю, что по дорогам шастают тати-разбойники. — А согласилась на провожатых потому, что не хотела обидеть воеводу.
Он же попросил Катерину остаться в его палатах на ночь и отдохнуть. Но знала, что ей надо спешить, и отказалась.
— Ты, батюшка воевода, не печалься, мы ещё свидимся.
Кострому Катерина покинула в сумерках. Её возок сопровождали десять стрельцов. И Катерина расслабилась, укрылась меховым пологом и уснула. В Домнино она приехала в полночь. Село встретило её тишиной. Но потом появились собаки и с лаем провожали конников до барской усадьбы.
Палаты дворян Шестовых — большой деревянный дом с мезонином — стояли в старом парке в стороне от села. Усадьба охранялась сторожем с собакой. Большая лохматая овчарка бросалась чуть ли не на шеи коней стрельцов. Сторож подошёл к саням, нацелил на попа Ивана бердыш.
— Кто такие, что нужно? — спросил он.
Катерина выбралась из саней, сказала сторожу:
— Иди передай барыне, что приехали из Москвы от патриарха.
В это время в окнах дома затеплился свет, и вскоре двери открылись и на крыльце появился дворовый человек с фонарём и инокиня Марфа. Чутко спала старица, потому как жила в предчувствии беды.
В прежние годы Катерина никогда не встречалась с женой Фёдора Романова Ксенией. Теперь сходились, и у Катерины на душе скребли кошки, стыд мутил душу.
— С чем приехали, кто такие? — спросила Марфа.
— С миром, матушка, с миром. Да в дом пусти, там и поговорим, — ответила Катерина.
Видя поодаль стрельцов и рядом — женщину, Марфа сказала:
— Входи, коль с миром.
Катерина вошла в освещённую свечами прихожую и остановилась у по рога, испытывая неловкость. Марфа взяла у дворового фонарь, осветила им лицо Катерины. Рассматривала её пристально. И Катерина присмотрелась к ней, увидела и то, что было снаружи, и что внутри. Стояла перед нею женщина в годах, с поблекшим лицом, много выстрадавшая. Ведунья затруднялась сказать, почему красавец-князь, умный и образованный, женился на этой дворяночке. Но чуть позже Катерина поняла, что в молодости Ксения была как привлекательна, да прежде всего душевной красотой. Да и с лица, когда ведунья смыла с него морщины, разгладила кожу, оживила большие карие глаза, с волос паутину седины сняла, стан обкатала до девического, то увидела другую Ксению, милую, сердечную, да не каждому доступную. Однако Катерина прервала своё занятие, потому как инокиня догадалась, почему гостья рассматривала её так пристально.
— Матушка Марфа, — сказала ведунья смущённо, — я с посланием от патриарха Гермогена. Прими меня и выслушай.
Марфа провела Катерину в горницу, усадила возле тёплой печи, сама вышла, распорядилась разместить и накормить стрельцов и попа Ивана, после пришла, села рядом и спросила:
— Зачем тебя прислал святейший?
— О твоём сыне печётся первосвятитель.
— Он и раньше не оставлял нас своими заботами, и здесь мы по его воле.
— Верно. Да нынче и тут отроку грозит лихо.
— Куда же нам? Может, в скит какой, за Волгу?
— Просит вас патриарх укрыться за монастырскими стенами в Ипатьевской обители. И слово его я несу архимандриту Донату. Там будет надёжно. И город поляки не враз одолеют, и в стены монастырские лбы разобьют.
— Оно бы и хорошо под защитой Всевышнего и под недреманным оком воеводы, — согласилась Ксения, — токмо из-за нас иные пострадают.
— Ноне пол-России страдает. А нам мешкать не следует Вот разве княжича не спросили...
— Тут место моей воле, — твёрдо ответила Марфа. — Как повелю, так и будет — Она сидела, низко опустив голову, глаза были почти закрыты тёмным кашемировым платком, смотрела на Катерину лишь изредка, бросая острые взгляды. И Катерина поняла их смысл. Захолодела у неё душа, стыд ожёг лицо, за то, что она, полюбовная девка, отважилась явиться пред ликом Богом данной Фёдору супруги. Но, оставаясь отчаянной и дерзкой, Катерина побудила сказать то, о чём не каждая на её месте отважилась бы выслушать.
— Ты, матушка княгиня, держишь слово, да опасаешься выпустить его. Грешна я пред тобой многажды. Потому говорю: ударь меня, а я стерплю.
Ксения руки на коленях сцепила, словно удерживая их от вольности. Но расцепила-таки и медленно подняла правую руку, да сбросила с головы тёмный платок, лицо подняла, тихо сказала:
— Чего уж там. — Лицо её было мягкое, всепрощающее. — Как бы не схима, может, и попрекнула бы. Теперь же я Христова невеста. И нет у меня обиды на тебя. Да и стоишь ты того, чтобы Фёдор тебя любил. Когда он приходил от тебя, то и со мною был ласков. Мы оба будто возвращались в молодость. Знаю почему: твоя сила возвращала нас к весне. А однажды, как под опалу нам попасть, я попросила Федю открыть тебя, какая ты есть... Откровенен он был во всём. И я простила ему вольности. Что уж там, по первости плакала в подушку. А он журил меня: полно, матушка Ксюша, меня на дюжину хватит, а ты жалкуешь. Я ему про Бога и грех, он же мне своё: дескать, ты тоже от Бога...
К горлу Катерины подступил острый комок, и она не справилась с ним, заплакала, оттого что увидела в глазах Ксении что-то материнское. И не было у неё на языке бранного слова мужу-гулёне. Слёзы текли вольно, очищающе.
— Ну полно, полно, — тихо уговаривала Ксения Катерину. — Нет на тебе греха предо мной. Знаю, не только усладу давала Фёдору, но и спасала его не раз.
— Господи! Услышь меня, грешную, прошу Тебя, милосердного, послать матушке Ксении благости на все долгие дни жизни! — воскликнула Катерина и уткнулась инокине в плечо.
Она же гладила её по спине и тихо шептала:
— И тебе пусть Господь пошлёт все блага бытия.
А на лестнице, ведущей в мезонин, уже давно стоял юный князь Михаил. Он долго слушал женщин не шелохнувшись. Лицо, обрамленное мягкими, слегка вьющимися русыми волосами, было по-детски милое и сонное. И сам он, весь тонкий, стройный, был похож на юную девушку.
Ему-то довелось видеть Катерину и он знал, кто она, кем приходилась его отцу. Знал и не осуждал. Всё это походило на чудо. А чуда не было. Из глубины веков пробивалось в россиянах языческое начало, когда мужчине-воину было дано жить не с одной женой, но со многими, примером тому был великий князь святой Владимир. Постояв так, не шелохнувшись, юный князь поднялся вверх и скрылся в мезонине.
Всё выведав у Катерины и посетовав на то, что святейший Гермоген прочит её сына в цари, Марфа-инокиня распорядилась, чтобы дворовые люди не мешкая собирались в путь. Всё в доме Шестовых закружилось, засуетилось. И спустя два часа после полуночи небольшой обоз покинул село Домнино, взял путь на Кострому. Несколько стрельцов дозором мчали впереди обоза.
Сутки спустя, также ночной порой, в Домнино въехал отряд поляков и русских, преданных им. Отряд окружил дом Шестовых, и воины ворвались в него. Дом был пуст Пошастав по покоям, распахнув все каморы, кладовые, подполья, амбары, враги никого не нашли, но догадались, что усадьба покинута недавно. Кто-то из шустрых россиян заглянул в русскую печь и нашёл в ней тёплые горшки.
— Не ушли они далеко, айда шукать! — воскликнул шустрый.
Хорунжий, что привёл отряд, созвал своих воинов и велел им искать след. Но когда враги вышли на двор, то поняли, что никаких следов не найдут: шёл густой, последний мартовский снег. Бросив грязное слово, хорунжий приказал воинам поднять всю деревню и заставить крестьян показать путь, каким ушли обитатели усадьбы. Через несколько минут деревня огласилась криками ругани, боли, отчаяния. На улице появились крестьяне, которых выгнали из изб и погнали к барскому дому. Когда всех согнали, хорунжий подтолкнул шустрого.
— Скажи им, чтобы показали путь беглецов. Не покажут — деревню сожгём!
Шустрый был скор в исполнении польской воли, крикнул крестьянам:
— Вот я и говорю: будете молчать и не укажете, куда ваши баре скрылись, красный петух пойдёт гулять по вашим избам!
На площади в ответ — ни звука. Лишь у кого-то на руках заплакал ребёнок. Шустрый закричал:
— Эй, донцы, идите палить избы. Что там воду толочь в ступе!
Казаки засуетились: кто-то побежал в конюшню за соломой, кто-то добывал огонь. И быть бы Домнину сожжённым, да вышел из толпы крестьян старый человеке белой окладистой бородой.
— Нездешний я, из соседней деревни, вчера к свату пришёл. А как из своей избы выходил, то видел Марфу-инокиню с дворней, как они через нашу деревню проезжали.
— Куда путь из твоей деревни, на Кострому? — спросил шустрый.
— Ан нет, в скиты, в лесную глухомань, — ответил старик.
Шустрый передал весь разговор хорунжему и спросил его:
— Какая твоя воля, Панове?
— Посади его на коня, и пусть ведёт нас, — распорядился хорунжий. Шустрый велел найти коня, сам подошёл к старику, присмотрелся. Он был ещё крепок, смотрел на шустрого без страха, с вызовом.
— Смирись, — сказал ему резко шустрый, — да скажи, как звать!
— Скажу, а ты запомни: я есть Иван Сусанин.
Вскоре отряд покинул Домнино, взял путь на деревню Колобово. Миновав её, отряд скрылся в лесной чаще по дороге, которую проторили лесорубы, вывозя зимой лес на постройки. Колобовские мужики видели, как отряд во главе с Иваном Сусаниным пропал в лесной глухомани. Мужики удивлялись, куда мог повести Сусанин поляков и казаков, но ответа на свой вопрос не получили, не от кого было, потому как и враги, и Иван Сусанин будто в воду канули.
Той порой инокиня Марфа, её сын и вся дворовая челядь были в это время уже в Ипатьевском монастыре, под защитой мощных крепостных стен и двух сотен монахов, умеющих держать оружие.
А Катерина, выполнив волю патриарха, вдруг почувствовала такую усталость, какой отродясь не испытывала. Она попросила батюшку Ивана найти ей пристанище. И когда расторопный поп снял ей в городе светёлку, Катерина еле добралась до неё и, не раздеваясь, упала на ложе и проспала почти сутки. Проснувшись, она долго лежала в раздумье и надумала остаться в Костроме, потому как нигде и никто не ждал её, кроме доченьки. Да и к ней Катерина пока не могла поехать. А потому она решила купить в Костроме дом и послать батюшку Ивана за Ксюшей, надеялась пережить в городе смутное время.
Батюшка Иван обрадовался решению Катерины и пообещал ей:
— Я, матушка, ноне же найду тебе хоромину. Господь тебя надоумил во благо, и потому побежал.
— Смотри, не разори меня с хороминой-то, — попросила Катерина.
Три дня поп Иван бегал по городу, искал-присматривал что-то такое, дабы угодить ведунье. И нашёл на Съезжей улице близ Волги небольшой рубленый дом с садом и сторговал его.
Дом Катерине понравился. Она поселилась в нём и отправила батюшку Ивана под Москву в село Тайнинское за Ксюшей. И всё пошло бы хорошо, да как-то заявился к ней незваный гость — сам воевода Михаил Бутурлин. Пришёл он не тайком, дабы ухватить добычу, но открыто. Не было у него причин прятаться, потому как ходил вдовый. Посмотрела на него Катерина и отметила, что он изменился за эти несколько дней, минувших после их первой встречи: бороду укоротил до края, глаза ожили, искрились. На нём был охабень на бобровом меху, кармазинный кафтан, шапка кунья воеводская. Вошёл он в горницу, на передний угол перекрестился, где пока было пусто, и Катерине ласково сказал:
— Истинно говорю тебе, что ты ясновидица, в чём сомнение имел. Доложили мне, что через сутки в Домнино тати польские пришли, усадьбу перевернули, мужиков побили, Ивана Сусанина взяли, дабы путь князя указал. Да сказывал посыльный, что молодые охотники пошли к утру за ними следом, два дня догоняли и нашли только прорву болотную открытую на долгой тропе через топи. Там и следы татей кончились. Похоже, что сам батюшка Сусанин сгинул и врагов погубил.
— Царство небесное мученику за православную веру, — перекрестилась Катерина.
Михаил Бутурлин горницу оглядел, в боковушку заглянул, в кухню зашёл, там печь осмотрел холодную, вернулся, сказал:
— Ты, ясновидица, будто на постое: ни стола, ни стула, ни образа. Да и голову склонить негде.
— Обживусь.
— Знамо. Токмо и день жить без приклада, без утвари маятно. — Боярин Михаил подошёл к Катерине, руку на плечо положил, глаза её поймал и тихо продолжал: — Ты вот что, свет-Катерина, в свои палаты я тебя не зову, а вот дом, что от сестры девы остался и в наследстве у меня, дарю тебе за службу матушке России и будущему царскому дому. Ведаю теперь, почему ты князя Михаила спасала. В Москве его царём нарекли в минувшее воскресенье.
Катерина легко, боярин даже не заметил этого, освободилась от его руки, у стены встала.
— Спасибо, воевода-батюшка, за добрую весть. Ещё спасибо за награду. Токмо у тебя и задняя мысль есть. Заноза в твоё сердце попала, и ты ждёшь, когда я вытащу её, — не спуская с него своих зелёных глаз, смело говорила Катерина, — а у меня рука отсохнет, ежели я её трону. Завтра девять дён будет, как супруг мой Сильвестр живота лишился. Мне молиться за него положено за упокой души, панихиду отслужить. Вот и весь сказ, батюшка-воевода.
Боярин опустил голову, сказал покаянно:
— Прости меня, грешного, святая душа. Бес попутал и на беспутные мысли толкнул. Токмо вот уже три года вдовствую-мытарюсь, а ты и впрямь как заноза с той поры, как во храме увидел тебя.
И Катерина пожалела этого честного человека, дала ему надежду:
— Наберись терпения, батюшка-воевода. Излечу я тебя от недуга, как угодное Господу Богу время придёт.
Воевода шагнул к Катерине, опустился на одно колено и припал к её руке.
— Да хранит тебя Всевышний, за то что развеяла тоску моей жизни. Верю тебе и уповаю… — Бутурлин встал, перекрестился на передний угол и ушёл. Шаги были твёрдые: шёл человек, окрылённый надеждой.
Катерина подошла к окну и долго смотрела вслед Бутурлину, пока он уходил от её дома. Ей пришлось по душе то, что воевода зашёл к ней запросто, а не приехал в карете со слугами. И в буйной головушке Катерины завихрились те же грешные мысли, кои бередили Бутурлина. Ей, сорокалетней женщине в соку зрелости, тоже хотелось погреться близ любого ей человека.
Пришёл май. И из Москвы явился к Катерине гость, побратим Гермогена Пётр Окулов. Был у него наказ: узнать, как берегут князя Михаила. Ещё принёс Пётр слово очевидца о гибели Сильвестра. Видел тот, как во время штурма поляками крепости Сильвестр вбежал в привратную башню, как взорвался в ней порох и башня рухнула на врагов.
— Он, твой голубчик, был герой. Вороги боялись его пуще огня. Да ведь смоляне что там удумали: ещё десять мужиков сделали похожими на твово, страху для. Ой, как ляхи от них удирали со стен, — рассказывал Пётр, восседая за столом и наслаждаясь вином и обильной трапезой.
Слушая Петра, Катерина плакала. Но это были лёгкие слёзы. Она знала, что душа Сильвестра вольно живёт в Царстве Небесном.
Пётр Окулов погостил два дня и ушёл в Москву, чтобы соединиться с Гермогеном и разделить с ним горькую мученическую участь.
Когда миновало сорок дней и Катерина отслужила по убиенному рабу Божьему Сильвестру молебен, ей показалось, что она может теперь позволить себе хотя бы малую вольность. В полночь, когда на Кострому опустился сон, она послала воеводе Михаилу видение: явилась к нему в опочивальню в лёгком одеянии и сама будто воздушная. Сказала:
— Ноне после обедни поезжай в свой рыбачий домик, там и найдёшь меня. — С тем и скрылась.
Воевода Михаил прошедшим днём в бане парился. После бани по обычаю к хмельному приложился и спал так крепко, что видение проплыло перед ним словно в тумане. Проснувшись поутру, он ничего не помнил. Но после усердной утренней молитвы пришло просветление мозгов и он вспомнил, как всё было во сне. Будто потолок над его ложем распахнулся и в покой влетела голубка, приняла образ Катерины и сказала, зачем явилась. И запомнил воевода Михаил её слова так: «Ноне до обедни будь в рыбачьем домике и жди меня с терпением». Бутурлин всполошился и умчал сразу после утренней трапезы вверх по реке Костромке, где верстах в десяти была его любимая рыбная ловля.
А Катерина отстояла в соборе литургию в честь преподобного Пахомия Великого, спустилась к волжскому извозу, наняла мужичка с лошадкой и велела отвезти её в указанное место.
То-то потом Катерина и Михаил смеялись, когда разобрались, почему воевода опередил её. И три дня они любовались тем, как над прозрачными водами Костромки плыли лёгкие майские облака, как игривый ветерок рябил речную гладь и чайки плавно пролетали над ними. А с сумерками уходили в рыбачий домик и блаженствовали вволю, влюблённые, сведённые волею судьбы. И было в Михаиле Бутурлине что-то близкое к тому, чем богат был князь Фёдор Романов: и ласков, и неистов, и неистощим. Катерина в эти дни закрыла память о прошлом кисеей и ни разу её не откинула, не хотела нарушать праздник души.
Уезжали они из уединения ночью. Ночью же добрались до Костромы и расстались с надеждой скорой встречи. Так и было. После трёх дней упоения Катерина и Михаил встречались часто. А как миновал год со дня гибели Сильвестра, воевода Михаил повёл Катерину в храм и они обвенчались. Да вскоре же и расстались. Воевода Бутурлин повёл к Москве ополчение костромичан, дабы помочь москвитянам изгнать из стольного града ляхов и всех других ворогов. А пока ходил и вместе с князем Дмитрием Пожарским освобождал от врагов Москву, Катерина родила Михаилу сына. И назвала его Андреем в честь своего родимого батюшки.
Глава двенадцатая Борение
Пленив митрополита Филарета, король Сигизмунд не только не утолил жажду отмщения за поруганную честь, а почувствовал ещё большую страсть наказать гордого и строптивого россиянина. Потому Сигизмунд решил избавиться от Филарета, а его имя опорочить в России. В те же дни, как пал Смоленск, Сигизмунд написал московским правителям хулу на служителя русской православной церкви, а вкупе с ним и на князя Василия Голицына. Расположившись в смоленских палатах, он продиктовал послание Семибоярщине.
— Ваши послы Филарет и Голицын повинны в измене. Это они подбивали смолян к сопротивлению мне, они же побуждали россиян к мятежу. Верю, что, несмотря на злоумышления, Господь сохранил московский трон для того, кому предназначил. Зову вас повиноваться воле Господней и хранить верность королю и королевичу.
Тогда, после падения Смоленска, в России многие ждали, что Сигизмунд двинется в Москву и займёт пустующий трон. Но того не случилось. Иным был обуреваем король. Честолюбивый и падкий к лести, он оставил в Смоленске небольшой гарнизон, распустил наёмную армию и вернулся в Варшаву. Он спешил туда, чтобы устроить торжества в честь своих громких побед. Он въехал в Варшаву в колеснице, запряжённой шестёркой белых ногайских коней. Следом за ним полковники несли склонённые к земле русские знамёна. Но это были не главные знаки его триумфа. Следом за знамёнами, привязанные к простым крестьянским телегам, которыми управляли русские бабы, шли в рубищах бывший царь всея Руси Василий Шуйский и его братья, князья Иван и Дмитрий. Этот подарок королю сделал гетман Жолкевский, и сам он примчал в Варшаву раньше Сигизмунда, дабы устроить на центральной площади города торжественную встречу для короля-победителя. При стечении тысяч варшавян гетман Жолкевский приветствовал Сигизмунда такими словами:
— Поздравляю тебя, государь Польши и всей России, с завершением победоносного похода и пленением самого русского царя.
«В этот момент, — писали в хрониках, — Василий Иванович покорно склонился, коснулся правой рукой земли и поднёс её затем к лицу. Брат его Дмитрий ударил челом в землю, а второй его брат, Иван, с плачем три раза повергнулся ниц».
Король Сигизмунд взирал на сей карнавал с гордо поднятой головой. Он жаждал почестей, триумфа и получил их. Он торжествовал, справляя мнимую победу, потому как Россия, кроме Москвы и Смоленска, оставалась непокорённой. Но Сигизмунд и слышать не хотел, чтобы слать в Россию новое войско, покорять другие города необъятной державы. Он говорил гетману Жолкевскому, который настаивал на немедленном покорении всей России, побуждал не мешкая выехать в Москву, дабы из неё державной рукой властно усмирять россиян.
Но каждый раз Сигизмунд на эти призывы отвечал однозначно:
— Отныне Москва не стольный град. Он здесь, в Польше. Зачем же мне сидеть в провинции?
На самом деле Сигизмунд боялся идти в Москву. Он знал, что, хотя столица россиян в руках польского войска, положение поляков там зыбкое. Ему было известно, что в России тысячи, десятки тысяч таких патриотов отечества, как митрополит Филарет патриарх Гермоген, князь Василий Голицын, колдун Сильвестр. Они вселили в душу короля священный страх.
И по этой причине, чтобы заглушить трепет души, король Сигизмунд жестоко обращался с пленными россиянами. Допустив царя Василия Шуйского к унизительному для того целованию своей руки, триумфатор спустя час повелел отправить всех Шуйских в полуразрушенный Гостынский замок, который доживал свой век в глухом повете Польши, и там уморить их голодом.
В дни триумфальных торжеств Сигизмунд вспомнил и о митрополите Филарете, и о князе Василии Голицыне. Но не для того, чтобы проявить к ним милосердие, а чтобы подвергнуть новым жестоким испытаниям.
— Друг мой, вельможный гетман, как отбывают наказание Филарет и князь Голицын? — спросил король Жолкевского.
Гетман замешкался с ответом, потому как правда прогневала бы короля. В эту пору митрополит и князь находились в небольшом горном имении Жолкевского южнее Варшавы. Ему казалось, что Филарет и Голицын упрятаны надёжно, хотя и не пребывали в заточении, а жили среди крестьян и лесорубов, коим поручено их оберегать и сторожить. Однако и солгать в силу своего характера гетман не мог. К тому же королю ничего не стоило узнать правду у других вельмож. И тогда уже не миновать немилости Сигизмунда. И гетман сказал полуправду:
— Ваше величество, я увёз их в горную Силезию, там держу их в оскудении строгом.
Король посмотрел на гетмана с недоверием. Считал Сигизмунд, что у него есть непозволительная для воина слабость — мягкосердие.
— Ты, вельможный гетман, исполни мою просьбу, отправь их в Мариенбург, там замкни в западный каземат Мальборга.
— Но, ваше величество, тот замок в запущении, и там никто не обитает.
— Сие не так. Там живёт хранитель замка с семьёй. У него два сына. Они и будут охранять митрополита и князя.
— Но казематы гибельны для пожилых людей.
— Значит, Господу Богу так угодно. Не в Варшаве же их держать. И кстати. Со мной пришёл из Смоленска богослов-философ Пётр Скарга. Пошли его моим именем туда же, и пусть обратит их в нашу веру.
Станислав Жолкевский не понял, в чём нужда такого шага. Разве недостаточно того, что они пленники? Зачем же и души их пленить?
— Но они не могут быть усердными католиками, вы же знаете, ваше величество, — возразил Жолкевский.
— Знаю. Но это моя воля. Исполни её, вельможный гетман, — сухо сказал король.
Гетман лишь молча поклонился королю, помня, что возражать Сигизмунду опасно.
В глухом горном селении гетмана Жолкевского митрополиту Филарету и князю Голицыну жилось достаточно сносно. Поселили их в простой крестьянской избе, питались они за одним столом с семьёй хозяина, вольно ходили по Камионке и лишь не смели покидать селения. Они же и сами того не замышляли, зная, что на горной дороге из селения стояли стражи.
Митрополит Филарет в любую погоду проводил большую часть дня на воздухе, помогал хозяину и не чурался никакой тяжёлой работы, сам искал её. Он рубил дрова, чистил хлев, заготавливал камень для построек, косил травы на сено, молол хлеб. Работу исполнял прилежно, за что заслужил уважение хозяина. Чего князь Василий был лишён, потому как проводил время в созерцательности и в чтении Евангелия. Иногда Филарет побуждал князя к труду, но напрасно, и ответ его был один:
— Негоже нам с тобой, владыко, заниматься холопским трудом.
— Полно, князь-батюшка. Мы с тобой ноне не вельможи, но пленники, — возражал Филарет но обиды на князя не держал.
Вечерами Филарет и Василий душевно беседовали, вспоминали Россию, прошлое и всё, что за гранью пребывания в плену было им дорого. А таких воспоминаний было много, и это помогало им коротать время.
Но поздней осенью, уже в предзимье, в Камионке появился отряд конных гусар. Они переночевали в селении, а утром, ничего не объяснив Филарету и Голицыну, посадили их в крытую колымагу и повезли в неведомом направлении. Почти две недели они провели в пути и ехали от Камионки всё больше на север, наконец достигли литовской земли. И однажды к вечеру короткого зимнего дня под копытами лошадей застучал настил подвесного моста, потом подковы процокали по каменной мостовой под аркой крепостных ворот, и пленники оказались во дворе Мальборгского замка — на месте своего нового и долгого заточения. Гусары помогли пленникам выбраться из колымаги и дали осмотреться. Взорам Филарета и Василия представилась крепость рыцарских времён. Замок, окружённый высокой крепостной стеной, возвышался на холме. Он был грозен и неприступен. Стены и башни замка были выложены из потемневшего от времени камня. В былые времена замок выглядел величественно и был достоин пребывания в нём королей. Но неумолимое время властвовало над брошенной королевской резиденцией, и она разрушилась, пришла в запущение. Окна замка зияли чёрными провалами, разрушались стены, карниз. Лишь западное крыло замка ещё сохранилось, потому как за ним присматривали. Там, близ замка, стоял большой флигель, и в нём жил хранитель замка старый пан Гонта с сыновьями Юлианом и Юзеком, с невестками Гретой и Гуней.
Отряд гусар и пленники были встречены лаем двух овчарок. Тотчас из флигеля вышли трое мужчин, младшие позвали собак, а пан Гонта пошёл навстречу гусарам. Они о чём-то поговорили, потом пан Гонта велел одному из сыновей принести фонарь. Вскоре старший гусар, пан Гонта и его сын с фонарём в руках ушли в замок. Через несколько минут гусар вернулся и повёл Филарета и Голицына за собой. На лестнице в полуподвал их встретил с фонарём Юлиан. Освещая путь, он повёл пленников в каземат — просторное помещение с двумя тусклыми оконцами под самым сводом, с дубовыми, окованными железом дверями.
Пока пленники осматривались, сыновья Гонты принесли два деревянных топчана, грубо сбитый стол из досок, две скамьи. Потом Грета и Гуня принесли кой-какую утварь, ещё соломенные тюфяки, две конские попоны. Все молча, без суеты расставили по местам, словно исполняли подобное каждый день. Пока женщины налаживали быт, их мужья принесли две охапки дров и разожгли очаг — некое подобие камина. И лишь только запылал в очаге огонь, старший гусар велел всем покинуть каземат. Закрылись двери, загремели засовы, и митрополит Филарет с князем Голицыным остались вдвоём. Несколько мгновений они прислушивались к шагам за дверью каземата, а когда там повисла тишина, оба они, словно по команде, сели на топчаны и замерли — два усталых пожилых человека. И никто из них потом не мог сказать, сколько они просидели молча, в горести. Но в очаге прогорели дрова, и Филарет подкинул на угли несколько поленьев, тихо заговорил:
— Брат мой Василий, мы впали в уныние. Зачем? Возблагодарим Бога за то, что живы, что есть очаг, что нам никто не мешает молиться.
В сей миг загремел засов, и старшая из невесток, Грета, в сопровождении мужа принесла в корзине пленникам ужин. Она выложила на стол хлеб, лук, кусок холодной говядины, варёные яйца, горшок овсяной каши и крынку квасу. Поклонившись митрополиту, она молча направилась к двери. Филарет благословил её:
— Да хранит тебя Господь Бог, дочь моя.
Загремел вновь засов двери. Филарет позвал к столу князя Василия:
— Иди, брат, возблагодарим Всевышнего за то, что пробудил милосердие в душах тех, кто прислал нам пищу.
Прошло несколько дней тягостного заточения. Узников содержали строго и ни разу за прошедшие дни не вывели на свет Божий. С наступлением зимы в сыром каменном полуподвале с каждым днём становилось всё холоднее. И хотя по утрам в каземат приносили по две охапки дров, тепло в нём держалось недолго. Князь Голицын переносил холод и сырость очень тяжело, страдал от них и как не берёгся, простудился и страдал грудью, постоянно кашлял. По ночам он часто молился и просил Бога, чтобы тот прервал его дни страдания и жизни. Иногда Филарет слышал, как князь шептал: «Господи Боже милостивый, избавь меня от непосильных тягот бытия».
Митрополит как мог, пытался помочь одолеть князю муки заточения. Он отдал князю Василию свой кафтан из веретья, сам остался в лёгкой свитке. Ночью они ложились рядом, и Филарет согревал слабеющего Василия теплом своего тела. Когда в каземате появлялись стражи, он просил их проявить христианское милосердие и перевести князя Василия в сухое и тёплое помещение. Но поляки не внимали просьбе русского пленника.
Филарет и Василий потеряли счёт дням. Митрополит всё ещё прилагал силы, чтобы облегчить страдания князя. Но князь смирился со своей участью и день за днём угасал. Филарету же говорил:
— Друг мой любезный, владыко, пекись о себе. Тебя хватит вынести муки. Придёшь в мир и поведаешь, кто есть наши коварные враги, ляхи. — Каждое слово давалось князю с трудом, кашель душил его, но ему хотелось выплеснуть всё, что накопилось в душе за дни мальборгского заточения. — Скажи россиянам, что ляхи есть нелюди, отродья сатаны и дьявола. Мы держим их пленников в Ярославле в довольстве и здравии, они же терзают нас хуже зверей. Господи, покарай их громом небесным! — восклицал князь и надолго, на дни, на недели умолкал.
— Ты сам всё расскажешь россиянам, а я помолюсь за тебя, — отвечал Филарет и вставал на молитву. К несчастью, пленников всё больше донимали холода. Едва им приносили воду в деревянном жбане, как она замерзала. Дров с каждым днём стражи выдавали всё меньше. А морозы справляли рождественское и крещенское торжества всё веселее.
Но вот однажды, лишь только зима повернула на лето и холода пошли на убыль, в замке появился богослов-философ Пётр Скарга. Он приехал в тёплой карете, его сопровождали слуги и воины. В замке началась суета, лаяли собаки, ржали лошади, доносился в полуподвал глухой говор.
Петра Скаргу, худого, желчного, с хищным носом иезуита, встречал хранитель замка пан Гонта. Он с поклоном распахнул перед богословом двери своего флигеля, усадил к камину в гостиной.
— Святой отец, какая нужда заставила вас приехать в такую стужу? — спросил пан Гонта.
— Именем короля Сигизмунда велено мне наезжать сюда часто, — ответил с достоинством королевский посланец. — Потому приготовь мне в замке тёплые комнаты. Да поближе к узникам.
— Будет исполнено, святой отец, — ответил Гонта почтительно.
И вскоре над казематом, где сидели русские пленники, сыновья и невестки пана Гонты приводили в порядок покои для богослова.
Всё это движение в замке митрополит Филарет слышал, но не понимал его значения. Несколько дней в каземате появлялась только молчаливая, словно немая, Грета. Она приносила пищу, дрова и уходила, не проронив ни слова, не отвечая на вопросы. Филарет несколько раз пытался с ней заговорить, но женщина каждый раз обжигала его мрачным взглядом чёрных глаз, что-то буркала недоброе и уходила.
Пётр Скарга не торопился встретиться с Филаретом. Он никогда и ни в чём не проявлял поспешности и даже королевское повеление не спешил исполнять. К тому же не был уверен, что выполнит королевскую волю и добьётся успеха. Только через неделю богослов решил навестить узников, дабы приступить к тому, ради чего был прислан в Мальборгский замок. Он спустился в подвал в сопровождении пана Гонты и стражника. Благословив узников по-польски и осенив их крестом, Пётр Скарга бегло осмотрел каземат, бросил взгляд на лежащего на топчане князя Голицына и вонзил свой взгляд в Филарета, словно надумал приковать его этим к стене. Богослов явно не хотел вступать в разговор, но долго не спускал с лица россиянина своих острых глаз-маслин. Он пытался разгадать этого священнослужителя, но наткнулся на суровый взгляд Филарета и не выдержал поединка. В эти несколько мгновений митрополит понял, что богослов приехал в замок с чем-то важным, касающимся только его, Филарета. Он помнил его присутствие в свите короля под Смоленском. Однако, не пытаясь выяснить, зачем прибыл богослов, Филарет сказал по-польски:
— Ежели ты, святой отец, явился повелением короля Сигизмунда, то прежде всего прояви милость к больному князю.
— Что ему нужно? — спросил Пётр Скарга по-русски.
— Сухой и тёплый покой, — ответил Филарет на родном языке.
— Он в состоянии встать, ходить?
— Да.
— Хорошо, ежели князь сидит здесь не по воле короля, я исполню вашу просьбу, — пообещал богослов.
Пётр был старше Филарета лет на пять. На сухом, с глубокими складками у рта аскетическом лице — ни бороды, ни усов, одного роста с митрополитом, прям и крепок. Прямые серебристо-чёрные волосы ниспадали на плечи, в руках — чётки, которые он непрерывно перебирал. За тот год, что пребывал в свите первого Лжедмитрия, он научился говорить по-русски, ещё близко познакомился с многими русскими архиереями, которые служили самозванцу, и невзлюбил их. Упорный проповедник католичества и униатства, он увидел в русских священнослужителях яростных отрицателей римской церкви и её учения.
И вот теперь ему предстояло обратить стоящего перед ним россиянина в католическую веру, а в худшем случае добиться того, чтобы он стал приверженцем унии. Но, рассматривая Филарета, выворачивая его нутро, он понял, что добиться первого будет невозможно. Этот православный христианин не продаст своей веры даже за свободу. И был лишь один путь привести его в католическую веру. Однако сей крайний случай Пётр Скарга пока таил и берёг на то время, когда исчерпает мирные пути. Да и сторонником унии, считал Пётр, россиянин может стать только при одном обстоятельстве, когда большинство иерархов русской церкви примут как должное учение об исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Если бы в этом удалось убедить русских святителей, тогда вживление унии в России двинулось бы благодатно. Ан нет, православная восточная христианская церковь упорно отрицала сей догмат католической церкви, и это отрицание длится несколько веков. Именно на этом основании Византийская церковь отрицала верховенство Римского Святейшего престола над Константинопольским Патриаршим престолом, а папу римского не признают главою Восточной церкви. Так сможет ли он, простой богослов католической церкви, сломить богатырский дух русского митрополита, в прошлом известного не только в России, но и за её пределами боярина и князя Фёдора Романова, потомка древнейшего княжеского рода? К тому же широко образованного.
И Петру Скарге пока ничего не оставалось иного, как только проявить силу своего духа и красноречия, попытаться убеждениями выполнить волю короля Сигизмунда и пожелание папского нунция в Польше прелата Рангони. О, нунций Рангони только выразил пожелание, но оно давило на богослова куда больше, нежели воля короля. Повторив ещё раз: «Я попытаюсь выполнить просьбу князя Голицына», Пётр Скарга покинул каземат. Он бы и хотел тотчас сразиться с Филаретом в философском поединке по догматам веры, посмотреть, чем живёт и дышит Филарет, крепок ли в православии, в его догмах, но у Петра не было никакого желания сидеть в холодном и сыром помещении каземата, вести долгую беседу.
Прошло три дня с того часа, когда Пётр Скарга заходил в каземат, и к вечеру за Филаретом пришёл слуга богослова.
— Идите за мной, — сказал он митрополиту.
Филарет сидел возле князя Василия и не шелохнулся. У него и в мыслях не мелькнуло оставить Василия одного. Но князь побудил:
— Иди, владыко. Знаешь же, уведут силой.
— Хорошо, брат, но я скоро вернусь за тобой, — ответил Филарет и покинул каземат.
Слуга вышел следом, закрыл дверь на засов, запер её на замок, как делалось всегда, и повёл Филарета вверх. Они пришли в просторный и ярко освещённый покой. В нём было тепло, в камине пылал большой огонь. Богослов Пётр сидел возле камина и поправлял дубовые поленья. Он показал Филарету на кресло, стоящее рядом, и пригласил:
— Садись, сын Божий.
Филарет опустился в кресло и в сию же минуту ощутил тепло очага. Оно было иным, чем то, которым согревались они с князем Василием в подвале. Там полугнилые дрова пахли болотом, здесь — терпким дубовым настоем. Но Филарет не расслабился. Он пребывал в тревожном предчувствии. Ещё при первой встрече с богословом Филарет понял, что тот явился неспроста, не для мирных бесед на богословские темы. Филарет заключил, что иезуит играет с ним, что он жесток и в нём нет человеколюбия, милосердия к страждущим. Потому Пётр Скарга и «забыл» о просьбе Филарета перевести князя Василия в сухое и тёплое помещение. Размышляя об этом, Филарет смотрел только на огонь и не видел изучающего взгляда богослова. Наконец тот заговорил:
— Вижу, ты, митрополит, негодуешь, потому как я не внял твоему слову и князь всё ещё в каземате.
— Да, святой отец, сие не по-божески.
— Я же говорю: судьба твоего брата, пребывающего в беде, в твоих руках. И достаточно одного твоего слова «согласен», я велю пану Гонте перевести вас вот в такой же покой.
— Какого согласия ты добиваешься?
— Я не зову и не толкаю тебя на злые деяния, недостойные твоего звания, но призываю к службе во благо всех верующих христиан и католиков. Господь Бог у нас един, все мы верим в Святую Троицу. Потому поклонись вместе со мной наместнику Божьему на земле папе римскому Сиксту V и признай божественную роль католической церкви римского закона. — Пётр Скарга потянулся рукой к руке Филарета, тронул её, призывая к доверию, к совместному служению Святой Троице.
Филарет по-прежнему смотрел только на огонь и освободил руку от холодной руки иезуита. Он думал о том, что предчувствие не обмануло его. И они с князем попали в лапы огромного клеща, который или высосет из них последние соки, или сгноит в сыром каземате, если не дадут согласия принять католичество. В сей миг в Филарете вспыхнуло лишь одно чувство: гнев на коварного иезуита. И со всей страстью своего неуёмного характера Филарет хотел обрушить свой гнев на голову богослова. Но в последний миг сдержался, потому как знал, что никакая ярость не спасёт ни его, ни князя от посягательств на духовную свободу. Даже насилие над Петром Скаргой не приведёт его и князя к какой-либо свободе, к тому, чтобы вырваться из заточения, не говоря уже о том, чтобы вернуться в отчизну.
Молчание Филарета затянулось, и богослов напомнил о себе:
— Брат мой во Христе, я призываю тебя к благоразумию и хочу услышать твоё слово.
Филарет, наконец, повернул голову к иезуиту.
— Моё слово одно, — начал он, — прояви милосердие к брату моему князю Василию. Никакой враг так жестоко не относился к русским пленникам. Мы ведь не воины, мы послы. Зачем обрекаешь князя на смерть? — Слова Филарета звучали сурово.
— Просьба твоя за князя Голицына говорит о твоём благородстве. Сей Божий дар, сказывают есть и у меня. Однако же суровое содержание вас — воля короля Сигизмунда. Он указал место, где вам пребывать. Как же мне дерзнуть и нарушить волю государя? Только твоё согласие принять нашу веру изменит судьбу князя. Оба вы будете вольными. К тому же ты первым встанешь на путь сближения двух вер. Я не вижу никакого отступничества от православной веры, если ты станешь католиком. Мир становится иным. Мы же благословили королевича Владислава принять православную веру и он на пути к Москве.
Пётр Скарга обманывал Филарета. Король Сигизмунд давно и строго запретил сыну не только дать согласие креститься в православие, но даже запретил ему ехать в Москву. Ложь не смущала иезуита. И он продолжал убеждать Филарета.
— Коль скоро царь всея Руси Владислав примет православие, откроется путь к сближению польской и русской церквей, слиянию двух вер, и они встанут под знамёна Римской церкви.
Митрополит слушал богослова внимательно, чтобы понять, насколько иезуит крепок в своих убеждениях. Но болезненные думы о князе Василии, который пропадал внизу, как в преддверии ада, не позволяли Филарету сосредоточиться на разговоре. Одно митрополит понял хорошо: если он предаст свою веру, то спасёт князя. И тут ему было над чем задуматься, тут нельзя было отмахнуться от богослова. И всё-таки Филарет не думал сдаваться, сам попытался пробиться к сердцу Петра Скарги.
— Ежели ты уверен, что церкви, ваша и наша, встанут рядом, ежели успех близок, зачем же не проявишь милосердие к будущему собрату? И тогда князь поклонится папе римскому и будет денно и нощно молиться Всевышнему за твоё милосердное дерзание и дабы он защитил тебя от гнева короля Жигмонда за сей подвиг человеколюбия.
Страдая за князя Голицына, Филарет был готов на любые муки. Но он видел, что Пётр Скарга и пальцем не шевельнёт в пользу князя, пока не добьётся своего. Филарет понимал, что не тем человеком был иезуит, чтобы проникнуться жалостью к страдальцу. Скарга даже не ответил на горячие слова Филарета. Он считал, что облегчение участи больного россиянина ни на шаг не приблизит его к достижению цели. И с упорством фанатика заявил:
— Брат мой, напрасно призываешь меня к милосердию, не проявляя своего. Тебе я открыл путь к спасению князя. Ты благороден, ты готов пожертвовать жизнью ради ближнего. Вот и исполни благое дело. Два слова: «да» или «нет» решат вашу участь. — И богослов встал.
Филарет продолжал сидеть. Оказалось, что ему трудно оторваться от очага, излучающего благостное тепло, и покинуть покой, где воздух чист и свеж, где много свету. И как мало от него требовалось, чтобы не уходить из райского покоя в преддверие ада. Одно слово «да», и вот она, свобода. Ан нет! Ярко вспыхнуло в памяти всё, что случилось с ним в Тушине. Там всё происходило так, как и здесь, и там судьба его покатилась во тьму предательства после одного слова «да». И только Богу ведомо, на какие душевные муки тогда обрёк себя Филарет, как трудно далось покаяние и прощение греха. Ноне же он не дождётся прощения греха и ему не поможет никакое покаяние. И Филарет прошептал: «Славный и достойный князь Василий, люблю тебя всем сердцем и живота за тебя не пожалею, но веру не продам! Прости! Прости! Прости!» — И митрополит встал, резко сказал:
— Всуе наша беседа была! Зови стражей и отправляй в каземат! — и, не дожидаясь, что скажет Скарга, направился к двери.
Богослов, однако, остановил Филарета:
-Хорошо, я пошлю гонца к королю и буду просить его за князя. Тебя же попытаюсь вывести из тьмы заблуждения. — Скарга позвонил в колокольчик, вошёл слуга и по знаку богослова повёл Филарета в заточение.
А утром через два дня в каземат пришёл пан Гонта, следом явилась младшая невестка Гуня. Они принесли большую вязанку дров и полную корзину съестного, несколько бутылок и банок с лечебными настоями и мазями, с малиновым вареньем. Пан Гонта пояснил, какие настойки как пить, как растираться мазями. И наказал:
— Ещё молитесь Деве Марии. Она милостива и защитит вас.
Он же показал Филарету, как сделать близ очага полок для князя, и принёс несколько досок. Филарет не мешкая взялся за дело и к вечеру соорудил полати, перенёс на них князя, напоил его чаем с малиновым вареньем, растёр грудь и ноги барсучьим салом, хорошо укрыл, и князь впервые за долгие недели спокойно спал и не кашлял.
Зима была на исходе, наступил март и с каждым днём становилось теплее, сырости в каземате стало меньше. И князь Василий пошёл на поправку. Филарет радовался выздоровлению Василия и благодарил Бога, что помог выстоять в испытаниях. Незаметно миновал месяц с памятной беседы с богословом. Он о себе не давал знать, и Филарет питал надежду, что богослов не будет больше посягать на его душу.
Но минувший месяц всё-таки оказался тяжёлым Тогда, вернувшись в каземат после беседы с иезуитом, Филарет неделю не обмолвился, о чём шла речь во время встречи. Это до боли в сердце угнетало Филарета. Он готов был изойти криком, лишь бы избавиться от когтей, терзающих грудь. Получалось, что он всё-таки дал повод Петру Скарге для забот о князе: лекарства и хорошая пища, дрова в достатке — всё это богослов велел прислать не из милости. Но сам Филарет всё-таки считал, что сделки с богословом не было. Там, наверху, он лишил князя Василия всякой милости со стороны богослова. Лишил в муках, в молчаливом покаянии, в презрении к себе, в молитвах, длившихся всю неделю. Но ничто не снимало камень с души, пока не исповедался перед лежащим пластом князем Василием. Исповедь была горячей и безжалостной. Гневно судил себя Филарет за то, что не мог спасти от мук заточения.
— Ты, княже прости меня, прости ради Христа! Да нет прощения мне, окаянному! — кричал Филарет. — Виноват я пред тобой выше меры. По моей вине ты, голубчик, со Смоленска пребываешь в истязании злобном, в изживании живота своего! Тать ночной я, укравший у тебя свет и волюшку!
Князь Голицын многажды пытался остановить Филарета, наконец крикнул, не щадя последних сил:
— Фёдор, опомнись! Зачем глумишься над собой! Никакой твоей вины предо мной не вижу!
— Да была, была явная! — И Филарет раз за разом бил себя кулаком в грудь. — Зимогор я и мазурик! — Наконец он уронил голову на полати и зарыдал.
Князь Василий положил свою лёгкую руку на голову Филарета и держал её молча. И неведомо, сколько прошло времени, как Филарет успокоился, вскинул голову, поднялся на полати и сел рядом с князем.
— Всё как на духу выложу, а там суди, бей наотмашь, всё стерплю!
И Филарет пересказал Василию слово в слово всю беседу с богословом. А когда закончил и опустил голову в ожидании осуждения, то услышал от князя, но совершенно не то, чего ожидал:
— Господи, какой же ты дурень, Фёдор, — князь Василий имел право так отчитывать Филарета, ведь они были ровесниками и занимали в обществе равное место, — потому как в мыслях меня обидел. Да пусть лучше волки на волюшке гуляют, нежели бы я согласился на такую волю. Но честь и хвала тебе от российского христианина, что не дрогнул пред дьявольским соблазном. Слава тебе Господи, что есть на Руси истинные православные. Вот и весь мой сказ.
И Филарет припал к груди князя Василия, прошептал:
— Славный брат мой, спасибо, что тяжкий крест снял!
— Теперь же запомни, — продолжал князь Василий, — мы с тобой в осаде. Наша крепость — душа, её обложили вороги. Будем же оборонять свою крепость, как оборонялись смоляне, до последнего...
— Верю в тебя, мой брат, выстоим. Да вооружимся супротив врага молитвою и преданием, — ответил Филарет. — А теперь послушай уставы, кои выставлю перед богословом-еретиком.
И Филарет уселся близ князя поудобнее и начал долгий рассказ о том, какою порочной, по его представлениям, была римская католическая церковь.
Его рассказ был прерван паном Гонтой и пани Гуней. Они принесли корзину всякой всячины и загадали узникам трудную загадку: как повернётся их судьба после такой милости Петра Скарги, от которого они думали обороняться и строили-укрепляли свою крепость. Но миновал март, а богослов не давал о себе знать.
Глава тринадцатая Рождение династии
Русь ещё бедовала. Изгнав из Москвы поляков, литовцев, а с ними и римских иезуитов, она не очистила своей земли от ворогов. На запад от Москвы и на юге ещё гуляли отряды поляков, шайки разбойников, мятежных казаков. Россияне упорно очищали свою землю от этой нечисти. Да пришла другая державная забота, коя оттеснила все другие и даже борьбу с разрухой на дальний порядок.
Пришла пора россиянам избавиться от сиротства, которое, по их мнению, затянулось на долгие пятнадцать лет. Потому как ни Бориса Годунова, ни Фёдора Годунова, ни тем более Лжедмитриев и Василия Шуйского россияне не считали Божьими избранниками на царский престол. По всей России ещё гадали, судили-рядили, кого поднять на Мономахов трон, и ждали, кого позовут на царство думные, державные головы. Многие уповали на митрополита Крутицкого Ефрема, который стоял местоблюстителем патриаршего престола. Но те, кто общался с митрополитом Ефремом, сказывали, что он ещё не окреп на месте первосвятителя и от него многого не ждали. Однако решительный человек нашёлся: князь Фёдор Иванович Шереметев. Готовясь назвать будущего царя в Боярской думе, Фёдор Иванович послал со скорыми гонцами в город Мариенбург грамоту князю Василию Голицыну, в которой писал: «Мы выбираем Мишу Романова: он молод и ещё незрел умом, и нам с ним будет повадно».
Вскоре и россияне узнали, кого позовут на престол. И встретили новину душевно. Род Романовых испокон был в почёте у россиян. Дед Михаила, боярин Никита, был около полстолетия близок к царям и всегда защищал народ от жестоких порывов Ивана Грозного. Помнили и Фёдора-Филарета, страдателя от царей Бориса Годунова и Василия Шуйского.
Сказали своё слово и вожди народного ополчения, освободившие Москву от поляков, староста нижегородский Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. С ними и духовенство согласилось. Епископы и архимандриты имели видение, указывающее на Михаила как избранника Божия. Но думные бояре и архиереи церкви считали, что последнее слово в пользу Михаила Романова должна сказать Россия. Без воли народа не быть царю истинным избранником. И из всех государственных приказов, из Патриаршего приказа, тайно и спешно помчали гонцы-сеунчи по городам и весям на все четыре стороны от Москвы выведать мнение народа. И сказывали посланцы потом, что во многих городах людям также было видение отрока Михаила. И повсюду россияне от мала до велика говорили одно: «Быть нашим государем Михаилу Романову, а опричь его никак никого на государство не будем звать».
Как вернулись посыльные, думные бояре увидели, что нет у них иного россиянина, кроме Михаила Романова, кому бы Русь присягнула единым духом. И был назначен день созыва избирательного собора. Во все концы державы вновь помчали гонцы, дабы от пятидесяти городов, от Мезени на севере до Оскола и Рыльска на юге, от Смоленска на западе до Казани и Вятки на востоке, позвать достойных выборных от всех сословий.
По просторам России ещё завывали февральские метели, ещё стояли жгучие морозы, но, преодолевая непогоду, к Москве съезжались двести семьдесят семь достойных россиян: вельмож, купцов, священнослужителей, ремесленников, стрельцов, служилых людей всех рангов. Нашлись и радетели избирательного собора, кои устраивали выборных в Москве. Ими были князья Дмитрий Пожарский Фёдор Шереметев, Иван Одоевский и Борис Салтыков.
Однако не всё гладко шло на избирательном соборе в Грановитой палате Кремля, куда сошлись не только выборные. Сторонники князя Фёдора Мстиславского и князя Ивана Куракина да думного дьяка Грамотина заявили, что у России есть царь Владислав, коему москвитяне целовали крест. Были и такие, кто кричал, что выборные слепо идут за Филаретом Романовым, который управлял ими из своего пленения. И тогда князь Фёдор Шереметев принёс в Грановитую письмо Филарета, в котором тот советовал выбрать царём кого-нибудь из бояр, не запятнавшего чести. Но совету Филарета не вняли. Ведь такой царь мог быть свидетелем их прегрешений во время смуты. Помнили они, что государи с чистой совестью и двор подбирают из себе подобных. По этой причине московским вельможам было сподручнее поднять на трон личность незначительную, дабы управлять ею. И потому избрание юного Михаила Романова их вполне устраивало. Но шли дни, а избирательный собор никак не мог прийти к единому согласию. Противники рода Романовых и каверзы строили, и супротивничали, и дотошность во всём проявляли. В один из дней они потребовали грамоту, подтверждающую, что в роду Романовых есть представители, кои были в родстве с царями. И тогда митрополит Крутицкий Ефрем, местоблюститель патриаршего престола, сказал:
— Сие утверждение есть. Мы дадим на обозрение выборных грамоту о родовом дереве Романовых.
Накануне этого дня к викарию Ефрему приходил учёный муж, галицкий дворянин, и показал лист с генеалогическими выписками.
— Владыко святейший, — начал учёный муж, — сей лист показывает родство юного князя Михаила Романова с царём Фёдором.
Но когда митрополит Ефрем огласил документ, в Грановитой палате возник невообразимый гвалт. Сторонники князя Мстиславского драли глотки, отрицая родство Михаила и Фёдора.
— Кто тебе сочинил сию грамоту? — подойдя к Ефрему, крикнул-спросил князь Иван Куракин.
— Сия грамота — плод трудов учёного галичанина, — ответил Ефрем.
— Долой лжесвидетеля! Долой! — закричали в палате.
— Говорю всем, — продолжал князь Куракин, — родство князя Фёдора Мстиславского с царями ведомо всем, и оно выше романовского.
— Ты поезжай в вотчину к князю Фёдору да соборуй его. На ладан дышит твой князь, куда ему в цари! — возгласил князь Черкасский.
И трудно было угадать ход событий, потому как вельможи кулаки в ход пустили. «Да я тебе покажу «ладан», сам на него дышать почнёшь!» — кричал князь Куракин. Но в сей миг в палату влетел припоздавший выборный от донских казаков атаман Черемнов. Он высоко поднимал лист и размахивал им. Встав рядом с митрополитом Ефремом, возгласил:
— Я буду свидетелем родства сына Фёдора Романова Михаила с царями! Вот грамота!
— Атаман Черемнов, откуда ты ко времени возник?! — обрадовался князь Дмитрий Пожарский, который помнил его со дней изгнания ляхов.
— Княже, я есть выборный от Дона! А в руке у меня грамота, коя говорит о кровном родстве Романовых с царями. Тут от князя Андрея Кобылы всё расписано! — потрясая грамотой, кричал Черемнов.
Фёдор Шереметев взял обе грамоты и сличил их.
— Всё истинно в них. Нет подделок, — заявил он. — Смотрите, сведые в грамоте!
Однако противники Михаила Романова не сдавались. Князь Иван Куракин потребовал:
— Хочу видеть княжича Михаила! Потому как, может он не способен на троне сидеть! Пусть он явится пред нами, и мы оценим его.
Последнее слово, однако, оказалось за князем Шереметевым.
— Князя Михаила вы все видели, потому говорю: вольно мы поговорили, и не вижу инших причин тянуть с избранием Михаила Романова на царствие. Сам же он не может предстать пред высочайшим собором, потому как исполняет наш совет, пребывает в тайных местах и в бережении от татей, покушающихся на его жизнь. Скажете своё слово об избрании, и явится сей юный муж. Решайте же: быть или не быть царём Михаилу Романову!
В Грановитой палате на сей раз не возникло гвалта, выборные теребили бороды, чесали затылки, понимая, что нет у них причин волокитить, потому как природный царь налицо. И в этой тишине засновали среди выборных приказные дьяки, раздавая по спискам каждому выборному четвертушки бумаги. Им же оставалось одно: написать своё особое мнение, быть или не быть царём Михаилу Романову.
К вечеру, когда разложили на столах четвертушки, на всех двести семидесяти семи значилось одно слово — «быть». Так, за неделю до Масленицы 1613 года Михаил Романов был избран царём Российской державы. А на Масленицу, 21 февраля, в Прощёное воскресенье, чуть свет, заблаговестили по всей Москве колокола, собирая москвитян на большой совет. Земский совет приговорил объявить в этот день россиянам о том, что кончилось плачевное сиротство России и им дано право сказать своё слово, желают ли они себе в цари юного князя Михаила Романова.
Москвитяне отозвались на колокольный призыв не мешкая, потому как ждали его с того дня, как в Кремле собрались выборные всей земли. И по всем улицам, по Тверской, по Пречистенке, по Мясницкой, Ордынке, Якиманке потекли к Красной площади нескончаемые потоки. Такого многолюдия главная площадь державы не знала, ни один царь в прежние времена не удостаивался такой чести при избрании. И не надо было представителям Земского собора подниматься на Лобное место и спрашивать, желают ли россияне, чтобы их отцом-батюшкой стал князь Михаил Романов, стоило лишь послушать одобрительный гул народа, посмотреть на посветлевшие лица москвитян и можно было венчать Михаила на царство. Но слово всё-таки вознеслось. Как испокон повелось, с ним обратился к народу духовный отец будущего царя, митрополит Ефрем.
— Дети мои, россияне, выборные от всей земли постановили на Земском соборе быть царём России природному наследнику престола, избраннику Божьему, князю Михаилу Романову. Почтите ли его своей добротой, любезен ли он вам? Слушаю вас!
— Любезен! Хотим сего россиянина на престол!
— Слава царю Михаилу! — покатилось по Красной площади.
И владыко Ефрем увидел, что у многотысячной толпы россиян один лик: на нём радость и вера в будущее благоденствие России.
Красная площадь ликовала, как никогда. Народ не пугало то, что держава пребывала в великом разорении, что сотни тысяч десятин пахотной земли пустовали, потому как хлебопашцы были сметены с сельской нивы ураганом смуты, что многие города лежали в пепелищах и развалинах. Всё россиянами было одолимо, ежели во главе державы встанет любезный царь. И Прощёное воскресенье превратилось в большой всенародный праздник.
В тот же день князь Фёдор Шереметев позвал знакомого дьяка и опытного гонца Аладьева и велел ему ехать-пробираться в Литовскую землю, найти под Мариенбургом Мальборгский замок и уведомить митрополита Филарета о том, что его сын избран царём России.
— Ты уж постарайся, братец, донеси сию благую весть до узника, — попросил князь. — А грамоту я тебе приготовил.
Дьяк Аладьев хаживал за рубежи державы многажды, всегда удачно. И тут заверил князя:
— Исполню, князь-батюшка, как велено.
Аладьев покинул Москву ранним утром на другой день. И тем же ранним утром князь Фёдор Шереметев проснулся с чувством гнетущего беспокойства. Казалось бы, никаких видимых причин для того не было: избирательный собор завершился удачно, народ проявил себя разумно, ан нет, беспокойство нарастало. И князь отправился к митрополиту Ефрему с которым князь, вольно или невольно, оказался во главе избирательной страды. Князь думал о том, что утверждение избирательной грамоты, слово россиян на Красной площади ещё не давали полной уверенности в том, что царём будет именно Михаил Романов. Никто в Москве не знал, есть ли у него желание стать царём И никто не мог сказать, как поведёт себя матушка царя инокиня Марфа. Она-то отлично знала цену царскому венцу. И ежели она не даст согласия венчать на царство своего сына, то вся великая суета пойдёт прахом. А то, что она могла закусить удила, Фёдор Шереметев нисколько не сомневался. Придя в палаты митрополита, Фёдор застал Ефрема за утренней трапезой. Князя пригласили к столу, налили чару медовухи. Однако князь не взялся за чару, пока не поделился своим беспокойством:
— Отче владыко, избрав Михаила, мы выполнили только одну половину дела. Справимся ли с другой?
— Ведаю, сын мой, о чём речь, — ответил Ефрем. — Матушка Марфа вельми тверда в убеждениях.
— Вот я и мыслю, что нужно отправить в Кострому послами достойных людей, и нам с тобой нужно поехать, дабы мы получили согласие матушки Михаила. А без её благословения нам пребывать в сиротстве.
— Истинно глаголешь, сын мой. Потому не будем коснети и ноне же объявим послов.
Но думные бояре привыкли всякое благое дело обставлять проволочками. И больше недели судили-рядили, кому быть послами. И даже Фёдора Шереметева и митрополита Ефрема пытались оттеснить от посольства, что наполовину им удалось.
В сердцах князь сказал боярам:
— Эх, радетели за Русь, ни креста у вас, ни совести! Да нет на вас Гермогена святейшего. Он бы скоро вразумил Божьим словом!
Бояре лукаво ухмылялись в сивые бороды, но дорогу посольству всё-таки открыли. Оно оказалось внушительным, более пятидесяти послов отправились в путь. Во главе посольства был поставлен архиепископ Рязанский Феодорит. До Костромы послы добирались почти две недели и прибыли туда лишь 13 марта, в день святого Никифора. В Костроме послы первым делом посетили воеводу Михаила Бутурлина. В честь московских гостей воевода дал обед. За трапезой князь Шереметев расспросил воеводу, как живут-поживают Михаил и его матушка.
— Живут в благости, — скупо ответил Бутурлин. Он был выборным на Земском соборе от Костромы и знал, с чем прибыли послы, но не порадовал их. — Одно добавлю: затворничество им по душе, и поди не согласятся его прервать.
— Но знает ли Михаил, что его избрали царём? Ведь мы посылали гонца, — продолжал расспрашивать Шереметев.
— Запретила инокиня Марфа допускать к ней гонцов.
— Удивляюсь я тебе, воевода, — загорячился князь Фёдор. — Как ты осмелился задержать земского гонца?
— Каюсь, князь. А и пустил бы к ним гонца, того хуже случилось бы. Марфа ноне способна на дерзкие дела, увела бы князя в северные скиты, а там ищи ветра в поле...
— Вон как, — удивился князь Фёдор. — Ишь, какое студное дело у нас. Выходит, и послов она может не принять?!
— Сие токмо Богу ведомо, а мне — нет.
— И что же ты присоветуешь?
— Идите к старице Марфе с поклоном. Другое вам и не дано.
После обильной трапезы с хмельным Бутурлин распорядился разместить послов на отдых. А на другой день, помолившись и не вкусив пищи, послы скопом отправились в Ипатьевский монастырь, где пребывали Марфа и её сын. Архиепископ Феодорит собрал костромских архиереев, велел взять хоругви, иконы и чудотворный образ Владимирской Божьей Матери. Монастырь стоял вне города, за рекой Костромкой. Шли через реку по льду, который ещё был недвижим. Когда процессия появилась вблизи монастыря и о ней доложили настоятелю, он велел распахнуть ворота и встретил послов как подобает. На звонницах ударили колокола, монахи вышли так же с иконами и с горящими свечами. Однако встреча с инокиней Марфой была тягостной и не внушила послам никакой надежды на то, что бывшая княгиня отпустит своего сына в Москву на трон. Настоятель монастыря отправился к ней в келью и попросил выйти к послам.
— Матушка Марфа, тебя хотят видеть сановники, — сказал он.
— Что им нужно? — спросила Марфа недовольно.
— Тебе и скажут, — ответил настоятель и ушёл.
Марфа собиралась долго. Два раза присаживалась на скамью, думая вовсе не выходить. Знала она причину появления послов и не радовалась. Всё в ней бунтовало против россиян, отметивших её сына особой печатью. И она появилась на крыльце кельи суровая, непреклонная. Спросила сухо:
— Зачем пришли? Я вас не звала! Уходите прочь!
Огорошенные послы молчали. Но, подняв крест, выступил вперёд архиепископ Рязанский Феодорит:
— Матушка-государыня, низко кланяемся тебе и просим выслушать нас, — начал Феодорит. — Мы пришли за твоим сыном, избранником Божьим на Российское царство.
— Не тщитесь! Я не отдам своего сына на поруганье! Не ищу ему судьбы Фёдора Годунова! — бросила Марфа в толпу тяжёлые слова.
— Но вся Русь, что за нами, зовёт князя Михаила быть царём-батюшкой! Милости твоей просим, государыня, — взывал к сердцу непреклонной инокини архиепископ.
— Не отдам! Он ещё малолетен! Ищите другого царя! — перешла на крик Марфа и заплакала. — Большие люди обезумели, избрав отрока царём. Голицыных мужей зовите, Мстиславского нареките! А Мишеньку не отдам. Не отдам! Не отдам! — И Марфа заголосила пуще.
— Искрения твоя любовь к сыну, — снова заговорил Феодорит. — И мы помним, что он у тебя один, но собор не нашёл достойнее природного царя. Потому умоляем тебя именем Господа Бога, не супротивничай воле сирот россиян.
— Не просите. У меня уже всё отняли! Но сына я не отдам!
И тогда Феодорита сменил князь Фёдор Шереметев.
— Матушка Марфа, ежели ты нам отказываешь, то мы, челобитчики, просим тебя идти в храм Святой Троицы и там пред Богом и алтарём сказать своё последнее слово.
Одарив друга дома Романовых негодующим взглядом, Марфа молча сошла с крыльца и направилась к храму. Но тут перед нею возник воевода Бутурлин.
— Остановись, матушка, не делай невозвратных шагов! — И тут же Бутурлин обратился к послам: — Не угнетайте инокиню Марфу. Дайте ей подумать, поговорить с сыном. — И снова воевода заговорил с Марфой: — И ты, матушка, уразумей наше слово к завтрему. Да помни о том, что на твоего сына указал перст Божий. — Ещё послам сказал: — Оставим, добрые люди, сие нестаточное дело до завтра, уповая на Всевышнего. — И воевода направился к монастырским воротам. Марфа тоже тотчас ушла со двора. Послы взирали на происходящее молча, с недоумением, не предполагая, что так скоро и впустую завершится их визит к будущему царю. Но вняли совету воеводы и покинули монастырь. Лишь костромские архиереи остались в обители и ушли в храм Святой Троицы, дабы отслужить молебен во благо торжества благоразумия.
Вернувшись в город, воевода Бутурлин позаботился о том, чтобы послы ни в чём не нуждались, пригласил на торжественную литургию в собор, назначенную в честь избрания Михаила, сам помолился. А позже, пребывая в глубокой задумчивости, отправился в свои палаты. Там, не мешкая, прошёл в детскую опочивальню, где его жена Катерина забавлялась с годовалым сыном Андреем. Тут же, в детской, была и дочь Катерины Ксюша. Отроковица уже вошла в тот возраст, когда проявляется девичья стать. И можно было уже сказать, что она повторит в красе свою матушку, а в чём-то и превзойдёт. Всем Ксюша взяла, а прежде всего нравом и разумом. Ещё силою ясновидческой. Бутурлин любил её как родную дочь, всегда был ласков с нею и с добрым пристрастием относился ко всему, что делала Ксюша, чем жила. Бутурлин был счастлив со своей новой семьёй. Лишь временами две ясновидицы внушали ему почтительный страх. Шутка ли, им дано было Всевышним видеть то, чего простые смертные, всё той же волею Предвечного, были лишены. Приласкав Ксюшу и Андрея, Михаил позвал Катерину в трапезную.
— Идём, любушка, посоветуемся. Нужна твоя помощь.
В трапезной они присели рядышком на скамью, обитую золотистым бархатом, Михаил обнял Катерину за талью и попечалился:
— Токмо что с послами ходил в Ипатьевский монастырь, встречались с матушкой Марфой, поговорили вельми остро и вернулись несолоно хлебавши. Как нам быть, присоветуй?
— Ведом мне покладистый нрав Ксении. Марфу же меньше знаю, но судьбе её не завидую. Потому она и закремневела от тягот житейских, и ждать от неё иншего нельзя.
— Но дело не статочное. Князь Михаил избран народом. И нужно вразумить Марфу и в князе пробудить честолюбие. Ведаешь ли ты движение его души?
— Она в дрёме, и пробудить её трудно, а паче разжечь в ней горение. Отрок недоверчив и осторожен.
— Я уповаю на тебя, голубушка, — произнёс Бутурлин. — Не должно послам с позором явиться в Москву. Пробуди Мишу, подвинь Марфу к милости, к подвигу за Русь многострадальную.
Катерина мельком глянула на мужа, голову опустила, сказала:
— Знаешь же, как нелегко мне видеться с Ксенией.
— Не вижу за тобой греха, а коль сама чувствуешь, переступи. Ведомо тебе во имя чего.
Снова Катерина посмотрела на мужа. Её ярко-зелёные глаза были ласковы и безгрешны. Спросила:
— Когда мне идти?
— Ноне и отвезут.
— Токмо не в карете. Пусть крытые сани приготовят.
— Тебе виднее, голубушка... — И воевода прижал к себе Катерину. — Каждый день трижды благодарю Всевышнего за то, что ты есть рядом. А без тебя, как и все россияне, пребывал бы в сиротстве.
— Ну полно. Токмо вышел бы на красное крыльцо, крикнул бы любушку — вся Кострома возникла бы пред ликом, — пошутила Катерина.
— Вот уж будет тебе за насмешки, — погрозил Михаил, сам загораясь желанием позабавиться со своей милой жёнушкой. Да знал, что всему свой черёд, и побудил: — Иди же, голубушка, к Марфе.
Весь путь до монастыря Катерину одолевали думы. Она понимала Марфу-Ксению и не хотела бы оказаться на её месте. Знала, как нелегко ей отпустить сына на престол после того, что случилось с последними царями после Фёдора Иоанновича. Сама Катерина искренне страдала, как узнала об убийстве невинного царя Фёдора Годунова. О, царской судьбе не позавидуешь, сочла ясновидица. И возразила себе: но ведь кто-то должен сидеть на троне и нести крест, каким бы он ни был тяжёлым. И коль Богу угодно, чтобы отцом народа был юный князь Михаил, значит так тому и быть, потому как судьбу ни пешком не обойдёшь, ни на коне не объедешь.
Старица Марфа встретила Катерину приветливо. Теперь она знала, что только благодаря ведунье да ещё крестьянину из вотчины Шестовых Ивану Сусанину она обязана тому, что её сын Михаил не лишился живота. Поляки рьяно охотились за ним. Но когда Марфа узнала, с чем явилась Катерина, гневно крикнула:
— И ты с ними заодно! Уходи, и слушать тебя не хочу!
Однако Катерина нашла путь к материнскому сердцу.
— Печалуюсь с тобой, матушка, за то, что люди отнимают у тебя сына. Но послушай меня с вниманием. Да позови сюда Мишу, и я открою вам то, что внесёт мир и покой в ваши души.
Марфа и этому воспротивилась. Но Катерина поймала её глаза, своим взглядом заворожила, и та, не ведая откуда что пришло, ощутила в душе покой, доверие к ведунье и сказала:
— Хорошо, позову, вижу, худа ему не желаешь. — И ушла из кельи.
Вернулась она быстро, позвав сына из соседней кельи.
Катерина не видела Михаила около года. Перед нею стоял прелестный юноша, стройный, почти высокий. Русые, чуть вьющиеся волосы ниспадали на плечи. Глаза были тёмно-карие, большие, в густых ресницах. И всё это вместе с нежным юным лицом делало князя похожим на девушку. Ведунья сличила лица Михаила и его матушки и подумала, что юный князь есть Ксения в девичестве.
Катерина подошла к князю, взяла его за руку, спросила:
— Ты помнишь меня?
— Помню.
— Я хочу, чтобы ты поверил тому, что услышишь. — И Катерина посадила Михаила к столу, сама зажгла свечу от лампады, поставила её в подсвечнике на стол, села напротив князя и попросила Марфу: — Матушка, встань за спиною Миши.
Марфа молча повиновалась. А Катерина закрыла руками лицо, стала тереть виски, лоб, потом распахнула ладони, как ставни, и Марфа с Михаилом увидели, как она неузнаваемо изменилась. Её лицо было озарено внутренним розовато-золотистым светом, и от лица невозможно было оторвать глаз. От Катерины исходила неведомая Марфе и Михаилу сила, и потому они смотрели в её зелёные глаза словно заворожённые, затаив дыхание. Но страха у них не было.
После минутного молчания Катерина заговорила:
— Слушайте и внимайте. Я не открываю людям их судьбы. Сие в согласии с Господом Богом. Но ваши судьбы я открываю по воле Божьей с лёгким сердцем. Они безоблачны. Вижу твой путь, Михаил. Он без терниев. И ты пройдёшь его безмятежно и благостно во имя России до предела, коего за окоёмом не зрю. Ты будешь государем, несущим своему народу отдохновение от бед и горя, кои он претерпел за долгие годы смутной поры. Вступай на свой путь не сумняшеся, хранимый Отцом Предвечным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! — Взор Катерины погас, и она вновь закрыла лицо руками.
В келье долго стояла тишина. Катерина встала, открыла лицо, на нём лежал румянец, глаза светились лаской. Она подошла к Михаилу, поцеловала его в лоб, после прикоснулась щекой к лицу Марфы и, не проронив больше ни слова, покинула келью.
Лишь только дверь за Катериной захлопнулась, Марфа взяла сына за руку, потянула его к скамье, стоящей у стены, села на неё, усадила сына и прижала его к себе, заплакала. Слёзы текли ручьём, но они не были горькими: Марфа прощалась с затворнической жизнью. Она поверила ясновидице без сомнений. Да важной причиной сего было то, что видела она перед собой не просто ясновидящую женщину, но и осветованную Божьей печатью заступницу. Когда Марфа смотрела на Катерину из-за спины сына, видела над её головой голубой нимб, и светился он до той поры, пока она не раскрыла судьбу Михаила. И поняла инокиня, что устами ясновидицы говорила покровительница её сына Пресвятая Матерь Богородица. Как тут сомневаться? В душе Марфы поселился покой, и она без трепета и страха решилась отдать сына на волю Всевышнего и сама покорилась ему.
У Михаила тоже в душе вершились перемены. У него кружилась голова. Чтобы унять головокружение, он сильнее прижался к матери и вспомнил об отце: «Даст Бог, встану на трон, войско соберу, батюшку вызволю из плена». И запоздало ощутил беспокойство: как же это он не спросил о судьбе родимого, подумал: «Сбегать бы, спросить». О себе избранник на престол забыл. Он вступал на неведомый путь государя великой державы, как и все в роду Романовых шли по пути испытаний, мужественно и смело.
Пятнадцатого марта, в день поминовения усопших, московские послы вновь скопом явились в Ипатьевский монастырь. Воеводы Бутурлина с ними не было, и он не уведомил их о том, что с Марфой встречалась Катерина, лишь подал надежду Феодориту и Шереметеву:
— Идите с молитвой и обретёте.
Феодорит внял совету Бутурлина и повёл послов в храм Святой Троицы помолиться. А пока они молились, Феодорит, побуждаемый волей Всевышнего, покинул храм и направился в келью инокини Марфы. Она же давно стояла у оконца и наблюдала за монастырским двором, видела на нём всё движение. Ей по душе пришлось то, что послы не двинулись на осаду её маленькой крепости, но ушли молиться. И архиепископа она встретила на пороге кельи приветливо, поклонилась:
— Милости прошу, владыко. И ты помолись со мной во благо.
— Вознаградит тебя Всевышний, старица, за доброе слово.
Марфа подошла к образу Богородицы и опустилась на колени. И Феодорит не мешкая встал рядом. В душе у него родилось тепло, словно от Матери Божьей разливалось, он посветлел лицом. Казалось бы, ничего ещё не случилось, но Феодорит уверовал, что нынешний день будет отмечен колокольным благовестом по всей Костроме, а там и далее, по всей России.
Помолившись, Марфа и Феодорит покинули келью. Марфа зашла к сыну, он уже ждал матушку. Она взяла его за руку, и все трое вышли на двор... Его заполнили монахи, послушники, многие другие обитатели монастыря. Никто им не сказал о том, что ноне случится знаменательное событие, но они знали, что сему быть.
Марфа, Феодорит и князь Михаил, который шёл между ними, молча проследовали в храм Святой Троицы. При их появлении послы встали и распахнули дорогу к алтарю. Они поднялись на амвон, и Марфа сказала:
— Говорю вам, послы московские, я, Богом данная мать Михаила, благословляю своего сына на царство Российское на благо и утешение россиян... Да хранит его Всевышний во дни и ночи, в поле и в лесу, за трапезой и на ложе. Аминь!
А потому, как среди послов было немало священнослужителей, они вначале разноголосо, а потом стройно запели величальный канон. Пока звучало пение, архиепископу Феодориту подали скипетр, который был привезён из Москвы, и он торжественно вручил сей знак державной власти юному царю.
Вскоре же в церковь собрались клирики, певчие. Пришёл архимандрит монастыря, и началось торжественное богослужение в честь благословения матерью своего сына на царство. События в монастыре в считаные минуты стали ведомы костромичам. И вскоре через реку Костромку потянулись в монастырь сотни горожан, и вот уже в храме яблоку негде было упасть и монастырский двор заполонила толпа. Началось богослужение во второй монастырской церкви. Шустрые звонари зачали благовест. И он поплыл через реку, и все церкви древней Костромы подхватили его, донесли до окрестных сёл. Оттуда же звоны полетели дальше, на все четыре стороны державы. Да, сказывали, что доплыли до Первопрестольной, потому как и там нынешним мартовским днём поминовения усопших стало ведомо, что юный Михаил принял избрание его царём как Божие повеление.
На другой день ранним утром, когда Михаил уже знал, что они с матушкой вот-вот покинут Кострому, он встал с постели, наскоро оделся, позвал с собой двух отроков-холопов, что стояли при нём:
— Глебка, Стёпка, проводите меня до воеводских палат.
Монастырские ворота открывались после ночи поздно, а случалось, и весь день были закрыты. При них стояли монахи-привратники и никого без позволения архимандрита не выпускали. Но Глеб и Стёпка были смекалисты и повели Михаила на хозяйственный двор. Там тоже были ворота, а ещё за конюшнями тайный лаз под стеной на берег Костромки. Им и воспользовались отчаянные головы. Да бегом через реку до самой набережной. Там уж и воеводин дом близко. Ранние горожане видели бегущих по льду реки, но оставили их без внимания. Ан зоркие приставы Бутурлина встретили бегущих на въезде в город.
— Кто такие, от кого бежите? — спросил старший пристав отроков.
— К воеводе мы, проводите нас, — смело ответил Михаил.
В сей миг младший пристав шепнул старшему:
— Се князь Романов, коего вчера в цари звали.
Побледнел старший пристав, в груди заёкало, но справился с собой.
— Прости, князь-батюшка, застило зенки, — препровожу вас с чином. — И повёл Михаила в палаты воеводы.
Там ещё только слуги и дворня проснулись. Потому пристав привёл Михаила на чёрное крыльцо, позвал дворецкого и наказал:
— Веди к воеводе царя-батюшку, — поправился пристав. — Да не мешкай.
Дворецкий поклонился Михаилу и молча повёл его в палаты. А в пути Михаил потребовал:
— Мне нужна матушка Катерина. К ней и отведи.
Дворецкий знал, что перед ним молодой царь, и исполнил бы его волю беспрекословно, но воевода и его супруга спали в одной опочивальне. К счастью, Катерина уже проснулась и в сей миг шла в детский покой. Михаил увидел её и подбежал к ней, опустился на колени, взял за руку и горячо прошептал:
— Матушка Катерина, видишь ли ты судьбу моего батюшки, жив ли он, не страдает ли? Открой мне его, глянуть хочу! — Искренне веря в то, что Катерина всесильна, просил Михаил.
Катерина и сама опустилась на колени, взяла лицо Михаила в свои руки и тихо заговорила:
— Родимый, не могу я показать тебе батюшку. Чревато сие допрежь для него. Ан успокою душу твою любящую: жив он и здоров, в трудах и в борении пребывает.
— Я вырву его из плена! — воскликнул Михаил. — Я заставлю ляхов отпустить его!
— Так и будет, родимый. Придёт час, и ты свидишься с ним, пойдёшь рядом по жизни долгие годы. А большего сказать не могу. — И Катерина встала, подняла юного царя.
Он же снова её попросил:
— Ты не покидай меня! В Москву со мною поезжай! Ты моя хранительница, как Матерь Божья. И мне с тобой покойно.
Эта жаркая просьба, и распахнутые глаза с мольбой, и вера в то, что под крылом ясновидицы он в безопасности, покорили Катерину.
— Я буду рядом с тобой, царь-батюшка. Токмо позови супруга моего в Москву. Вот и всё. Да хранит тебя Господь, чистая душа.
— Спасибо, матушка-ясновидица. Всё исполню, как говоришь.
Катерина повела Михаила из трапезной и увидела, что к ним спешит сам воевода Бутурлин.
— Господи, государь! А я и не поверил, как сказали! — воскликнул воевода. — Голубчик мой, поди матушка там в расстройстве.
— Так, пожалуй, — согласился Михаил.
— Позволь же, государь, отвезти тебя в обитель. — И приказал дворецкому: — Эй, Аким, быстро коня в сани!
А в монастыре и впрямь случился переполох. Марфа встала следом за сыном, хотела позвать его к молитве и увидела его келью-опочивальню пустой, с причитаниями и криком пустилась искать сына и взбудоражила всю монастырскую братию. Да вскоре все утихомирились. Распахнулись монастырские ворота, и чалый конь рысью влетел на двор, из саней сей же миг выскочили возбуждённый Михаил и перепуганные отроки-холопы. Увидев мать, идущую по двору, крикнул:
— Матушка, не гневайся! Винюсь перед тобой!
Марфа милостиво махнула рукой:
— Что уж там, повинную голову меч не сечёт.
...Кострому юный царь Михаил и инокиня Марфа покинули 19 марта. Их сопровождали все послы и воевода Бутурлин с семьёй. Уезжали под колокольный звон, под охраной двух сотен стрельцов, с большим обозом провианта. Путь пролегал на Ярославль, потому как у юного царя были причины не спешить в Москву. Однако сразу по прибытии в Ярославль царь отправил в Москву гонцов с повелением Боярской думе и Земскому собору о наведении в державе порядка и о земледельческих работах ввиду наступления весны, о многом другом, о чём должно заботиться государю великой державы.
Глава четырнадцатая Поединок
Шли годы, но в жизни обитателей Мальборгского замка мало что изменилось. Он по-прежнему пустовал и медленно разрушался. Обветшала крыша, во многих местах свалилась черепица, сгнили стропила, залы заливала вода, засыпал снег, потому как рамы и двери не устояли, разрушились очаги. Пан Гонта лишь кое-как поддерживал в жилом состоянии ту часть замка, куда наезжал богослов Пётр Скарга. У пана Гонты появились два внука, но он лишился сыновей. Их забрали в войско королевича Владислава, который отправился в Россию, добывать «свой» престол. И какой год о Юлиане и Юзеке не было ни слуху ни духу.
Правда, в жизни митрополита Филарета и князя Василия кой-какие перемены произошли. Из узников они превратились в дворовых холопов. Потеряв сыновей, пан Гонта остался без работников. И однажды он упросил богослова Скаргу отдать ему узников для работы по хозяйству.
— Ты, Панове святой отец, не беспокойся, они от меня не убегут, — заверил пан Гонта богослова.
— Но теперь при них и стражей не будет. Смотри, пан, ежели упустишь, несдобровать: и Господь накажет, и тем паче король, — предупредил Пётр Скарга.
— Уберегу, святой отец, — стоял на своём пан Гонта.
И богослов уступил.
Ещё король Сигизмунд проявил к ним милость, и их перевели из подземного каземата в сторожевую башню, которая возвышалась близ ворот. Каменная башня оказалась тоже холодной, и в ней не было очага. Филарету пришлось сложить некое подобие камина, вывести трубу в амбразуру Ещё он настлал на камень полы и сделал раму в оконный проем, выходящий во двор замка.
За дела по хозяйству пана Гонты Филарет взялся с удовольствием. Ещё в Антониевом монастыре он научился всему тому, что выпадало делать крестьянским рукам. И его не тяготил сельский труд. Он рьяно брался пахать землю и молотить хлеб, копать гряды под овощи, выпалывать на них сорняки. Вставал Филарет на заре, совершал молитву и ждал пана Гонту, который закрывал на ночь узников под замок. Он не заставлял себя ждать. Иной раз являлся во время молитвы и пытался прервать её. Но Филарет не позволил пану нарушать утреннее моление, даже если пан Гонта грозился оставить его голодным. Но и без угроз пан Гонта скупо кормил узников, особенно урезал порции князю Василию, потому как князь так и не приобщился к крестьянскому труду. И первое время вовсе отказывался выходить на работу, не находя в себе сил, которые подорвала долгая болезнь. Однако Филарет сумел-таки убедить князя, что в труде их спасение.
— Соберись с духом, брат, возьми в руки цеп или вилы, заступ или грабли, научу тебя, как управляться ими.
И спустя год они покидали башню вместе и пребывали в трудах до позднего вечера. Постепенно князь одолел немудрёную науку сельских дел. Когда молотили хлеб, то у него появилась даже сноровка, он ударял по снопам с расчётом, дабы меньше тратить сил. Филарет же был рьян в работе, он испытывал от неё наслаждение. Забыв обо всём, что его окружало, вспоминал свою молодость, первые годы супружества, когда часто ездил в костромскую вотчину, в село Домнино, где многажды брался за цеп и молотил хлеб вместе с холопами.
Кроме обмолота хлеба Филарета и Василия заставляли молоть зерно на ручных жерновах. Эта монотонная работа была ещё более тяжёлая, чем молотьба. И князь Василий изнемогал от неё. А череда тяжёлых дел не убывала. Узникам приходилось чистить лошадей, коров, убирать навоз в конюшне и хлеву. Чаще Филарет посылал князя к лошадям, сам же занимался с коровами и свиньями. Пан Гонта вменил им в обязанность колоть дрова, топить печи, носить воду, подметать и мыть полы. У них была прорва дел, и к ночи они оба падали от усталости.
Женщины в доме пана Гонты были милосерднее к узникам. И они, как могли, облегчали их тяжёлую участь, тайно от Гонты подкармливали, пускали помыться в баню. Случалось это чаще в дни полевых работ, когда Филарет и Василий к вечеру были чёрными от пыли.
Но была у россиян, влачивших рабское существование за крепостными стенами замка, и другая сторона бытия. Каждый раз, когда Пётр Скарга возвращался из долгой отлучки в замок, он вновь и вновь пытался обратить Филарета и Василия в католическую веру. В такие дни Скарга запрещал пану Гонте выводить узников на работу. Богослов приходил в башню, и начиналось долгое и нудное принуждение православных христиан забыть о своей вере, возлюбить веру западной церкви. Иногда Скарга шёл на уступки и звал россиян всего лишь признать унию и стать её сторонниками.
— Ты же помнишь, Филарет, и ты, князь Василий, что ваш российский архиерей Игнатий стал служителем унии и никто, ни Бог, ни люди, не упрекнули его за сие, — доказывал богослов.
— Игнатий-грек отступник, русская церковь предала его анафеме. Разве этого осуждения мало? — возражал Филарет.
Петру Скарге приносили в каземат стул. Телохранители уходили из башни, а он садился и начинал проповедь. Встречая упорное сопротивление россиян, он с каждым днём становился злее, жёстче вдалбливал каноны своей веры в головы непокорных, принуждал их повторять за собой католические молитвы. Случалось, что Пётр Скарга пускался на уловки и благостно рассказывал узникам о том, как в давние исторические времена униатская церковь царствовала на многих землях, где ныне исповедуют православие. Он принуждал узников вставать на колени, сам расхаживал по башне и со страстью в голосе излагал то, что случилось во времена царствования императора Палеолога в конце тринадцатого века.
— Был год, когда латинская империя пала и никейский император Михаил Палеолог Восьмой захватил Константинополь. Православные христиане торжествовали, — начал свою проповедь богослов, — но их торжество было недолгим. Папа римский Урбан Шестой не примирился с захватом греками Константинополя. Призвав на помощь Господа Бога и все католические силы, против захватчиков и их вождя Михаила Палеолога выступила вся империя. Церковь обвинила его в хитрости и коварстве, потому как престол после смерти императора Феодора Ласкариса должен был занять его сын Иоанн. Но Палеолог оттеснил Иоанна от трона и изгнал из Никеи...
Филарет в эти минуты не внимал богослову, понимая никчёмность его проповеди. Он и без Скарги знал, что Палеолог был коварен и хитёр. И когда приблизилось время расплаты, он пошёл на переговоры с папой Урбаном VI. Палеолог явился в Рим с богатыми подарками и дал согласие о слиянии западной и восточной церквей. Знал Филарет и то, что папа не принял даров и не допустил его к себе, считая предателем веры. И лишь позже, когда на папский престол вступил Григорий X и понял, что ему Константинополь не вернуть для империи, пошёл навстречу желанию Палеолога.
Как помнил Филарет в 1274 году состоялся Лионский собор. И на этом Соборе решили объединить церкви при условии, ежели греческая церковь примет латинский закон об исхождении Святого Духа и от Сына. И к тому же признает главенство папы.
Но насильственное слияние церквей не удалось. Против Михаила Палеолога восстало всё духовенство греческой веры. Раньше покорный императору патриарх Иосиф тоже восстал против унии. Палеолог продолжал притеснять архиереев, действовал хитростью и коварством, силой, уговорами, всё для того, чтобы признать папу братом по вере. Но ничто не помогло сломить греческих священнослужителей. И греческая церковь сохранила свою свободу и самостоятельность. Вспомнив борение двух церквей, Филарет встал с коленей и твёрдо сказал:
— Твои богословские увещевания напрасны, святой отец. Мне ведома история нашей веры и нашей церкви. Они не были под пятой римской церкви.
Пётр Скарга попытался вновь поставить Филарета на колени и позвал стража. Но Филарет проявил непокорство и заявил богослову:
— Теперь послушай моё. В тысяча четыреста тридцать седьмом году в Фераре прошёл ещё один Собор, где снова говорили об унии. И папа Евгений Четвёртый пригласил на этот Собор восточных иерархов с патриархом Иосафом. И был на Соборе в Фераре русский митрополит Исидор. Одному Господу Богу ведомо, как прошёл бы Собор для греческой церкви, но Всевышний был гневен на папу Евгения и лишил его разума. Тот неслыханно оскорбил православных архиереев, заставил патриарха Иосафа целовать его туфли. Случалось ли подобное ранее, когда бы так оскорбили главу великой церкви! — горячился Филарет — И тогда восточные архиереи покинули Собор. И верно поступили. Теперь защищай своё!
— Встань на колени, нечистый! — загремел Пётр Скарга. — И велел стражу: — На колени его!
Сильный воин ударил Филарета по ногам, и тот осел на колени. Воин надавил Филарета на плечи и так держал его. Он же посмотрел на князя Василия и усмехнулся, дескать, знай наших, и зачал свою молитву, сочинённую ещё в Антониево-Сийском монастыре.
Богослов нервничал, ходил по башне, выкрикивал расхожие истины. Потом повёл речь о ереси богомильской. Сие древнее учение богомилов так же было ведомо Филарету, но он прислушивался к словам Скарги, хотел знать, как понимал богомильскую ересь королевский богослов. Богомилы, по Скарге, утверждали в своём учении, что Господь Бог имел первородного сына Сатаниила, который занимал после Отца первое место и властвовал над всеми ангелами. Но честолюбец Сатаниил захотел полной власти и возмутился против Отца. За это Господь низверг Сатаниила и его ангелов с неба в преисподню. И тогда, утверждали богомилы, Сатаниил создал весь видимый Мир. Всевышний, страдая за земных детей своих и видя чинимое Сатаниилом зло, произвёл второго сына, которого назвал Словом или Иисусом. И послал его на землю для вразумления людей. Сатаниил же довёл Иисуса до смерти. Когда же Иисус воскрес, то явился к Сатан и илу, заковал его в цепи, отнял божественное достоинство. И с той поры того прозвали Сатаной — носителем зла и тьмы.
Богомильская ересь несла много вздорного. Православная церковь не заразилась ею. Но суть не в том, считал Филарет. Богослов Скарга, не сумняшеся и не ведая угрызений совести, заявил, что римская церковь покончила с ересью богомилов. Сия ложь возмутила Филарета, он вошёл в раж, поднялся на ноги, шагнул к Петру, схватил его за грудь и, потрясая тщедушного богослова, крикнул:
— Не богохульствуй! Не искажай истину! Токмо наша церковь боролась с богомильской ересью!
Пётр Скарга испугался и пытался вырваться из крепких рук Филарета, но ему это не удавалось и он крикнул:
— Эй, страж, усмири буяна!
Воин подскочил к Филарету, ударом кулака сбил его с ног и начал пинать тяжёлыми сапогами. Филарет лишь успел закрыть лицо да после каждого удара стонал.
Князь Василий взмолился, прося богослова о милосердии:
— Останови варвара, святой отец! Останови! — И сам попытался защитить Филарета, но тоже был сбит с ног.
Иезуит медлил остановить избиение Филарета. Он испытывал удовольствие от того, что видел, как страдает его враг. Да, Филарет был не только пленником короля Сигизмунда, но и врагом его, королевского богослова, потому как сопротивлялся «благой воле». Наконец Пётр Скарга придержал остервеневшего воина:
— Сын мой, иди отдыхай. Ты наказал хулителя достойно.
Страж ушёл из башни, богослов остановился над лежащим на полу Филаретом и тихо, но твёрдо сказал:
— Ты будешь казним ежеденно, пока не признаешь нисхождение Святого Духа от Отца и Сына. — С этими словами Скарга покинул башню.
Однако ни на другой, ни на третий день богослов не появился. Филарет в утешение себе подумал, что Скарга боится его, неистового россиянина. «Да и во благо», — счёл Филарет Несколько дней богослов вовсе не досаждал узникам, не исполнял своей угрозы. А случилось сие благодаря заступничеству пана Гонты, который не управлялся с работой по хозяйству. И Филарета с Василием снова вывели из башни. Пан Гонта велел им отремонтировать конюшню и хлев, почистить накопившийся в них навоз. Потом заставил набивать стёршиеся жернова.
Однажды, ранней осенью, Филарет нашёл себе работы сам. У пана Гонты пришла в ветхость баня, а на дворе замка нашёлся штабель сосновых брёвен. Укрытые осиновым корьём, брёвна хорошо сохранились. Филарет несколько раз подходил к штабелю, примерялся так и эдак, пока не заметил сие пан Гонта и не спросил:
— Панове Фёдор, что ищешь?
— Дело ищу, пан Гонта. Лазня твоя трухлява. Срубить бы новую, — поделился своими размышлениями Филарет.
— А ты сможешь поставить новую лазню? — удивился пан Гонта.
— Справа несложная, да и охота есть, — ответил Филарет.
Пан Гонта благословил его:
— Пусть апостол Матвей будет твоим помощником.
Филарет не мешкая взялся за работу. Он представлял себе баню до последней мелочи и даже видел ольховый полок из плах, на котором хорошо полежать и попариться. Начал же с того, что отыскал в штабеле дубовое бревно-кряж, распилил его на четыре части и вкопал в землю. Поставы вышли на славу. Там и пошло дело. А как топор в руки взял да приладился обтёсывать первое бревно, то вспомнил Антониево-Сийскую обитель и то, как рубил там на острове часовню. «Стоит поди матушка», — порадовался Филарет. И подошёл час укладывать первый венец. Филарет позвал хозяина.
— Вельможный пан, не пожалей один злотый, дабы положить его в правый угол под первый венец. Святое начало благословим.
Гонта не поскупился, дал серебряный злотый. Филарет положил его в угол при хозяине, накрыл сухим дубовым листом, бревно на него положил и прочитал молитву в защиту от беса и огня. Гонта тоже помолился, потом молча ушёл и вернулся вместе с князем Василием, который работал на крупорушке. В руках хозяин держал кувшин с домашним вином, а князь Василий — три кружки и блюдо, на котором лежали ломти хлеба и сала.
— Для полноты освящения святого дела у нас ещё и чарку принимают, — разливая вино, пояснил пан Гонта.
— Само собой, — согласился Филарет.
И все выпили, сели на брёвна, закусили. Пан Гонта расслабился, жаловался на жизнь, на богослова.
— Вчера вновь запретил брать вас на работу. Да вымолил позволение. Теперь пока баню не поставите... Дай Бог вам здоровья.
Филарет усмехнулся. «Оно и понятно, наше здоровье тебе важнее всего». Но он помнил и о том, что дни, проведённые в трудах праведных, прежде всего во благо им. Ни Филарет, ни князь Василий не надеялись на скорое освобождение из плена и потому с покорностью принимали ту жизнь, какая выпала на их долю. А в труде обретали покой и здоровье. Но у князя Василия и то и другое были лишь видимостью. Нёс он в непомерном каторжном бытие ещё одну непосильную тяжесть — тоску по отчизне. Страдал тем же и Филарет, да глубже прятал сию боль. У более слабых духом людей тоска отняла бы последнюю волю к сопротивлению, толкнула бы на предательство веры отцов, предков. И это было так легко сделать. Стоило только поклониться королевскому богослову и иезуиту Скарге и произнести: «Во имя Отца и Святого Духа от Сына», как перед ними распахнулись бы окованные толстым железом крепостные ворота замка и они были бы вольными людьми. О, как было просто избавить себя от мук, холода и голода, от душевных пыток! «Святой Дух от Отца и Сына» — ключ к свободе. Но Филарет и князь Василий давно уже решили, что даже на костре от них не услышат признания иезуитского извращения символа православной веры. А тоска по милой России продолжала поедать узников.
Вот уже и баня задымила. Да не по-чёрному, а по-чистому — дым вился из трубы, как в бане на подворье князей Романовых. И помылись, попарились узники не раз, похлестали себя дубовыми вениками, вспоминая при этом дух берёзовых веников и русского кваса, который поддавали на раскалённые камни.
Зима вновь миновала, весна была на исходе, и как-то ранним майским утром к ним пришло спасительное слово из Москвы. Филарет и Василий чистили стойла от навоза на конюшне и коровнике. И тут пришёл пан Гонта, поманил к себе Филарета и, оглядываясь на открытую дверь, подал ему плотно свёрнутую грамотку. И затряслась у россиянина рука, в ноги слабость прихлынула. Но одолел оторопь, взял грамотку, благодарно поклонился пану Гонте и вернулся к князю Василию.
— Слава Всевышнему, брат мой, мы не забыты.
В грамотке, которая шла к ним больше двух лет, было всего несколько строк. В ней говорилось, что 21 февраля 1613 года сын Филарета Михаил избран Земским собором и всем российским народом на царство. Он дал своё согласие вступить на трон и отбыл из Костромы в Москву. «Господи, — выдохнул про себя Филарет, — почему так скупо написано?! И что там теперь, спустя два года? Почему так долго шла грамотка?» И ни одного ответа на все вопросы. Одно было ведомо Филарету: грамотка проделала долгий путь из России, погуляла по Польше и Литве, прежде чем попала в руки доброго поляка. Но суть грамотки была для Филарета и князя Василия отрадна. Узники многажды её перечитывали, раскрывая глубинный смысл, а потом надёжно спрятали. Да и причин для этого было много, потому как в Польше какой год и слышать не хотели об избрании на московский престол русского царя. Здесь считали законным царём России Владислава, его именем слали в Москву грамоты, указы, в которых «царь» требовал от россиян изъявления подданнических чувств. Однако Филарет сделал вывод, который не подвергал сомнению: простой народ Польши устал от претензий короля Сигизмунда и его сына Владислава на русскую землю, на русский престол и хотел жить с россиянами в мире. И ни у кого из земледельцев не было охоты отдавать своих сыновей в королевское войско, дабы они сгинули в бескрайних просторах России. Примером тому был даже пан Гонта. Он часто изливал своё горе пленникам о том, что потерял сыновей, и отзывался о своём короле не совсем лестно:
— Пусть покарает меня Мать Мария, но король совсем не заботится о своём народе. И ничему его не научила кровавая резня, случившаяся в Москве в двенадцатом году. Сколько там погибло наших детей по королевской воле!
— Твои слова от Бога, пан Гонта. Но ты надейся: Юлиан и Юзек поди живы, может, в плену, как мы, — утешал Филарет поляка, — и придёт час, вернутся.
Что ж, слова Филарета оказались пророческими, и спустя несколько лет он увидит Юзека и Юлиана на мосточке через речку Поляновку. Они шли в группе других польских пленных, которых россияне отдавали в обмен на Филарета и князя Василия. Но до того июльского дня утечёт ещё немало воды, и мать Юзека и Юлиана от горя сойдёт раньше времени в могилу. А младшая невестка убежит с уланом из охраны Петра Скарги в Варшаву. И в замке останутся лишь старый пан Гонта с двумя внуками и старшая невестка.
А пока угнетающие дни мальборгского заточения тянулись бесконечно, и разнообразие в них вносило только появление богослова Петра Скарги.
Но однажды перед самым его появлением в замке Филарету пришёл сон. Он был загадочен и, как показалось Филарету, вещий. Будто бы шёл он по степной дороге летним погожим днём, и вдруг его догнал сын Михаил. Да был он в царском облачении. В руках держал скипетр, сверкающий диамантами, на голове — царская корона. И сказал сын отцу: «Батюшка, идём вместе. Наш путь долог, до конца дней, потому вдвоём нам сподручнее». И Филарет ответил Михаилу: «За благо сочту, сынок, идти по жизни рядом с тобой, а то всё в разлуках». И отец с сыном пошли вперёд, и двигалось им на удивление легко. Иногда они поднимались на холмы, отталкивались от их вершин и летели над просторами России, видели, как под ними проплывали города, сверкающие золотыми куполами церквей, как расстилались благодатные нивы, луга с обильными стадами, селения. Полёт был долгим, менялись времена года: за летом пришла осень, потом зима, весна и снова лето. И всюду они видели покой и величие российской жизни. Так проплыли под ними годы и пространства, и казалось, их полёту не будет конца. Но вот они прилетели в Москву, в Кремль, сели рядом на два престола в Грановитой палате. И им пришли отдать почести бояре, князья, дворяне, служилые люди, архиереи, простые россияне. И не было шествию конца…
Сон прервался неожиданно: застонал от боли в груди князь Василий. Филарет дал ему напиться, снова лёг на жёсткое ложе, но уснуть уже не смог. Он лежал и думал о том, что ему приснилось, посчитал дни недели и открыл, что загадочное сновидение пришло ему в ночь на чистый четверг. «Господи Боже и ты, Пресвятая Богородица, уж не вещий ли сон мне навевали?» — спросил он в душе. И утвердился в мысли: вещий.
На сей раз Пётр Скарга появился в замке накануне католического праздника Рождества Христова. В тот же день к вечеру он навестил узников. С ним были три духовных лица — три патера, и один из них, с большим, картофельного вида носом, но безбородый, показался Филарету похожим по облику на русского. И что-то всколыхнулось в памяти, Филарет подумал, что видел этого человека. Да вскоре память подсказала, что служил он священником в Волоколамске и был в числе тех тысячи двухсот сорока шести послов, коих Филарет привёл под Смоленск. Но как Филарет ни старался, имени его не мог вспомнить.
Пётр Скарга представил узников своим спутникам, как будто те были вольные господа, и сказал им:
— Зову вас на ужин. — С тем и ушёл.
А вскоре в башне появились два стража, без церемоний подняли с ложа князя Василия и, подталкивая в бока, погнали вместе с Филаретом в знакомые им покои богослова. На дворе был крепкий мороз, и пока узники, одетые в дырявые армяки, дошли до покоев богослова, холод пробрал их до костей.
В зале, где располагался богослов, ярко пылал камин. Пётр и его спутники сидели возле огня, а слуга накрывал стол. При появлении узников волоколамский священник встал и подошёл к Филарету. Он слегка поклонился и тихо сказал:
— Брат мой во Христе, владыко Филарет, я рад видеть тебя во здравии.
— Назвал бы и я тебя братом, да не ведаю, кто ты ноне, какой вере предан. Зачем к ляхам переметнулся? — гневно спросил Филарет. — Сколько сребреников получил?
— Я увидел свет новой веры, она ближе мне, потому и здесь.
— Иуда, — прошептал Филарет и сделал движение, дабы схватить отступника за грудь. Но разум поборол горячность. «Ладно, ещё будет час наказать тебя за предательство веры», — подумал Филарет и отвернулся от бывшего священника Феофана.
Тут к Филарету и Василию подошёл Пётр Скарга и пригласил их к столу. Он слышал короткую стычку между Филаретом и Феофаном, но не придал значения, сказал миролюбиво:
— Прошу вас, братья во Христе, разделим трапезу.
Митрополит посмотрел на князя Василия, и тот едва заметно покачал головой. Филарет понял сей знак, спросил богослова:
— Зачем привёл? Говори да отпусти на молитву!
— Полно гневаться, владыко. Я позвал тебя изложить волю царя Владислава, — начал Пётр Скарга.
Но Филарет перебил его:
— Нет на Руси царя именем Владислав и никогда не будет. Там на престоле русский царь.
— Он всего лишь новый самозванец. И его ждёт та же участь, какая постигла всех русских лжецарей, — спокойно продолжал богослов. — Тебе же велено собираться в поход. Пойдёшь вместе с царём Владиславом, ежели страдаешь душой за сына, отверзешь от самозваного гнев народный. И потому садись к столу для мирной беседы.
— Мой сын по родству наследник российского престола и возведён на него волею народа. Потому не прельщай и не угрожай. Не пойду я с Владиславом в поход. Вижу судьбу свою до предела, и в ней нет места сему походу, нет знака иудиным проискам. Вот пусть идёт он, с печатью анафемы на груди. — И Филарет ткнул рукой в сторону Феофана. — Сам же приходи в каземат, ежели есть что сказать доброе. — В этот миг в горящих глазах Филарета проявилась неведомая всем, кто на него смотрел, сила, она лишила их воли, какого-либо противодействия, и Филарет сознавая это, взял князя Василия за руку и повёл его к двери. И никто не посмел остановить россиянина, лишь стражи покорно последовали за ним.
В зале долго стояла тишина, будто все были поражены немотой. Пётр Скарга, наконец, одолел душевную оторопь и подошёл к окну. Он увидел идущего по двору Филарета и подумал, что тщетно бьётся в попытках расколоть эту каменную глыбу, у него не хватит жизни добиться победы над россиянином. Минуту назад он почувствовал истинную силу Филарета. Мощь такой силы он уже ощущал на себе однажды, когда сошёлся в богословском споре с митрополитом Гермогеном. Тогда он тоже пытался убедить русского архиерея в том, что православная вера ущербнее католической. И как он был жалок, когда Гермоген меткими ударами разбил богослова и показал ему истинную ущербность его, католической, веры. Тогда Гермоген бросал в лицо Скарги гневные, справедливые и горькие слова: «В бытии вашей римской церкви вижу одни мрачные стороны. Иерархи вашей церкви заражены страшными пороками. Властолюбие, деспотизм, корыстолюбие, грабительство, растление нравов, грубое буйство и насилие — всё это обыденные явления в жизни ваших священнослужителей, не ведаю, то ли слуг Всевышнего, то ли — сатаны».
Увы, увы, признался Пётр Скарга, Гермоген был прав. И сам богослов мог бы добавить к этому ещё многое, что несовместимо с истинным божественным началом. В отличие от русской православной церкви, римская церковь несравнимо более жестокая, признавался богослов, в отношении к своим верующим и уж тем более — к инаковерующим. Ведь тогда Гермоген мог отправить его на казнь за поругание православной веры, но он, милосердный, не сделал этого. Он дал ему чистые одежды, его отвели в баню, дали вымыться, накормили, напоили и с честью отправили на родину Чем же он, польский богослов, платит россиянам за доброту? Только злом, только тем, что какой год пытается сломить дух достойных сыновей своей отчизны, своей веры. Нет и нет! Он не сделает больше никакого, даже самого малого злоумышленного поступка в угоду амбициям короля Сигизмунда и королевича Владислава. Пусть лучше его подвергнут опале, чему угодно, но он не желает участвовать в грязной игре иезуитов, стоящих за спиной короля и королевича.
Пётр Скарга подошёл к столу, налил себе вина и выпил. В зале всё ещё царило тягостное молчание. Патеры не смотрели друг другу в глаза. Торопливо перекусив, они разошлись по своим покоям. Утром на другой день Пётр Скарга и его спутники покинули Мальборгский замок. Увы, ненадолго: иезуитский корень сидел в богослове слишком глубоко, и он лишь изменил форму достижения своей цели.
Глава пятнадцатая Восшествие на трон
Москва ждала юного государя долго. Казалось бы, что там, от Костромы до стольного града птица за день долетит, хорошие кони за три дня путь одолеют. Ан нет, шли дни, недели, а царь всё ещё был в пути... Да было много у него причин медлить с приездом в Москву. Она всё ещё пребывала в великом разорении, и о покое в ней можно было лишь мечтать. А после избрания царя в стольном граде закипели страсти между теми, кто позвал на престол Михаила, и теми, кто целовал крест Владиславу польскому. Тут и весенняя распутица сделала своё дело: разлились реки, ручьи, по дорогам — ни пройти ни проехать. Наконец-то до Москвы дошли вести о том, что царь выехал из Костромы, что он уже в Ярославле. Но никто не знал, когда он покинет сей город. А на торжищах бродили слухи, будто Михаил надумал основать в Ярославле новую столицу. Эти слухи одних пугали, других же радовали. «Изжила себя Москва, выболела, выгорела, помолиться негде», — говорили те, кого потянуло в Ярославль, который был выше Москвы преданием старины.
Бояре, окольничьи, князья и другие вельможи в это время не дремали. Гонцы и посланники летели на перекладных из Москвы на все четыре стороны. Одни мчали к королю Сигизмунду просить о том, чтобы он прекратил военные действия против России и отдал всех пленных россиян в обмен на пленных поляков. Хотелось вельможам, близким к дому Романовых, вырвать из рук Сигизмунда митрополита Филарета, сделать подарок царю. Ан дьяк Посольского приказа Денис Аладьев вернулся из Польши лишь спустя год, как ушёл туда, и несолоно хлебавши. Другие спешили в Ярославль с заверениями, что «московского государства всяких чинов люди ему государю, учнут служити и прямити во всём, что ни наказалися все и пришли в соединение во всех городах и готовы на крайние усилия и жертвы за государство и христианскую веру». Сотоварищи обойдённого россиянами князя Фёдора Мстиславского слали гонцов с криками о другом, о том, что недруги наслали на князя злых духов и те мучают его болезнями, домогаются одного: отказаться от всяких претензий на престол, и потому вопреки дьявольским силам, Мстиславского следует венчать на царство. Были и такие, кто, не сумняшеся, мчал из стольного града невесть куда и кричал об ответственности пред Господом Богом за будущую судьбу России старицы Марфы и её сына, ежели их медлительность в действиях вновь ввергнет державу в гибельную смуту. В Ярославль послы и гонцы уходили каждый день. Инокиня Марфа и царь Михаил принимали московских людей, от кого бы они ни шли, и внимательно выслушивали. И все они получали ответы на запросы москвитян. Но царь и его матушка выдвигали и свои непростые требования, которые озадачивали послов. И почувствовали московские вельможи, что государственные заботы оказались в твёрдых руках властной и строгой, а то и жестокой в своих требованиях старицы-государыни. И первому послу, князю Ивану Сицкому, она заявила:
— Люди московские душами измельчились, исправно государям не служили. Вижу ноне Москву и державу в оскудении. Исправляйте, всё не коснея, вами допущенное. И тогда государь взойдёт на престол.
Князь Сицкий не нашёл на то возражения, всё покорно принял к сведению. Он даже не вымолвил слова государю, видел, что юный царь во всём согласен с матушкой. И потому князь не задержался в Ярославле, уехал побуждать Земский собор к действию. А в Земском соборе, что и в Боярской думе, заседали всё те же столпы, кои служили уже четырём государям, два из коих были Лжедмитриями. И многие из них служили неисправно, но больше желая худа державе и царю. Они были озабочены своими печалями. Собираясь каждый день в Грановитой палате, судили-рядили, лили воду на мельничные колёса, но в жернова сыпали не зерно, а песок. В конце апреля, на праздник жён-мироносиц, князь Иван Куракин заявил думным боярам:
— Мы как избирали царя, сказали многое. Теперь, как явится в Кремль, откроем ему до возложения венца все наши сомнения.
— Много ли их у тебя? — спросил князь Иван Воротынский, сильно постаревший за последнее время.
— У меня — мало, а у всех вместе — много. Да первое наше желание таково, чтобы царь дал письмом клятвенное заверение блюсти и сохранять православную веру. И народ пусть новый царь чтит, не издаёт по своей воле законов и не изменяет старых.
Слушали князя Куракина со вниманием и сродники Романовых, князья Салтыковы, Черкасские, Лыковы, Шереметевы. Они пока соглашались с Куракиным, но и свою волю выразили, дабы не обвинили их в родстве-кумовстве.
— Мыслю я, — начал князь Фёдор Шереметев, — что государь не должен без ведома Думы и Собора договоров о мире заключать, не объявлять войн...
— И все важные судные дела вершить по закону, — поспешил добавить князь Андрей Черкасский.
— Да пусть отдаст свои родовые земли сродникам или припишет к коронным вотчинам, — заявил князь Иван Воротынский.
И ещё немало в тот день жён-мироносиц было высказано условий новому царю. Да показалось всем, что их нужно вложить в Утвердительную грамоту. И получалось по этой грамоте, что царю вовсе не оставалось никакой власти, а только, как Петрушке в балагане, качать головой для согласия да размахивать руками, когда что не по нутру.
«Ой, хитрованы, — возмущался в душе дядя царя князь Иван Романов. — Да как бы сами себя не перехитрили». И князь усмехнулся в бороду, зная крутой нрав будущей «великой старицы», инокини Марфы, а для него, Ивана, по-прежнему Ксении-костромички. Рассматривая лица думных бояр и дьяков, князь Иван думал о том, что все они стакались в правящий круг и будут помыкать и царём, и Земским собором как вздумается.
Царь Михаил наконец-то покинул Ярославль. Но опять двигался столь медленно, что за это время можно было пешком трижды обернуться от Ярославля к стольному граду. В пути он побывал в Дмитрове, в Александровской слободе, где почтил память Ивана Великого, помолился в Троице-Сергиевой лавре чудотворным иконам. И лишь оттуда прислал в Москву весть о том, что на 2 мая назначает свой торжественный въезд в Первопрестольную.
Близкие отговаривали царя Михаила въезжать в сей день в Москву, потому как он приходился на праздник в честь первых русских святых, мучеников-страстотерпцев, благоверных князей Глеба и Бориса, убитых коварными вельможами. Но Михаил проявил твёрдость. Да и не без молчаливого на то одобрения ясновидицы Катерины. Она лишь взглядом и улыбкой благословила царя на сей шаг.
Москвитяне к этому дню навели в городе порядок, на всех улицах, площадях, в домах, в палатах убрали грязь, мусор. На колокольнях и звонницах всех московских церквей и монастырей готовились к благовесту, торговые люди заготовили впрок пироги, пиво, брагу, дабы выставить всё на улицы в день приезда царя. На площадях по вечерам гулящий народ, коего в Москве всегда пребывало много, пел и плясал себе в утешение. Из ближних и дальних городов и селений съезжались в Москву люди всех чинов и сословий, сходились нищие, калеки, юродивые, коих породила «смута». В конце апреля особое оживление царило на московских стройках. А Москва в сей год была вся в строительных лесах, восстанавливала всё, что порушили-сожгли поляки за время своего жестокого господства.
День 2 мая наступил благодатный, солнечный, на небе — ни облачка. В садах доцветали яблони, вишни, в палисадах распускалась сирень, черёмухи осыпали землю тёплым снегом. Горожане толпами, в праздничных одеждах двинулись на Дмитровский тракт. Священнослужители шли навстречу царю с хоругвями и чудотворными иконами. И уже благовестили, не смолкая, все московские колокола. И никто из старожилов не помнил на своём веку такого мироволия, излияния чувств к новому природному царю. Народ надеялся-уповал на то, что с его восшествием на престол по всей державе прекратятся раздоры, смуты, разбои, наступит великое замирение. И спадала с людских плеч в этот день усталость-маята, гнетущая россиян без малого двенадцать лет, с того самого первого года нового века, когда на Россию пришёл моровой голод.
В нынешний день, с появлением в Москве молодого царя, к москвитянам пришли надежда и уверенность на обновление жизни, и они стали опорою в их помыслах и деяниях на долгие годы. Да знали по России многие от ведунов и ясновидиц о том, что царь Михаил будет царствовать тридцать два года и тридцать три дня. И верили, потому как помнили, что предсказания блаженных ведунов и вещуний о судьбах царей всегда сбывались.
Тысячные толпы россиян встречали царя бурными возгласами, ликованием под неумолчный благовест колоколов. А через гул толпы, через звон колоколов пробивались три слова: «Слава царю Михаилу!»
Он ехал в открытой расписной карете, был одет в парчовый кафтан, украшенный лалами, диамантами. Улыбка не сходила со светлого лица. Иногда он вставал и кланялся налево и направо, и москвитяне отвечали на это новым громогласием. Вначале Михаил чувствовал себя скованно, потому как ему было в диковинку видеть такое внимание к своей особе. «За что, за какие заслуги сии почести? — спрашивал он себя. — Ведь я же ещё ничего не сделал для вас». Но вскоре смущение и скованность прошли, ибо в нескончаемых возгласах москвитян он слышал слова, которые утверждали обратное: даже своим согласием встать на царство он дал россиянам многие блага, да прежде всего освободил-избавил от необходимости поклоняться чужеземному царю Владиславу.
Царь Михаил, наконец, въехал в Кремль. За ним туда же потянулись десятки карет, колымаг, возков всех тех, кто сопровождал царя из Костромы. Москвитяне повалили следом, но ради царского спокойствия их на сей раз не пустили за кремлёвские ворота. «Побойтесь Бога, — кричали стражи, — царь уморился с дороги, ему покой нужен!» Они же с пониманием отнеслись к запрету и гомонили-веселились на Красной площади до полуночи, благо угодение было.
Теперь россиянам оставалось ждать венчания царя. А когда ему быть, никто не ведал. Досужие люди сказали так: «Царю осмотреться надо, порядок навести в округе. А там и к венцу пойдёт».
Так оно и было. Царь Михаил и его матушка обустраивались в Кремле с большим трудом. Марфа не дала согласия боярам, которые хотели поселить царя в палатах Бориса Годунова. Отказалась и от малого дворца Василия Шуйского. И тогда для царя привели в мало-мальский порядок пришедший в запущение терем царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного, пратётушки царя Михаила. Матушка Марфа нашла себе временный приют в кремлёвском Вознесенском женском монастыре.
Два месяца и десять дней, которые миновали мигом с торжественного въезда царя в Москву, ушли на то, чтобы восстановить устав царской жизни, порушенный за годы смуты. Труд сей оказался нелёгким и его бы не осилить юному царю, если бы не твёрдая рука его матушки-государыни, как стали величать её царедворцы. Но старицы Марфы хватило лишь на то, чтобы навести видимость лоска в Кремле. Однако все попытки её вершить за сына государственные дела не увенчались успехом. И тогда она пошла по иной дорожке, стала искать среди своих многочисленных сродников чинов, способных к державным делам. Потом, как покажет жизнь, она и в этом не преуспела, но обмишулилась и нанесла державе большой урон. Не сказать, чтобы все, но многие романовские сродники меньше всего занимались государственными делами, а больше склоками, происками и пронырством, дабы погреть руки державным добром, ухватить себе кусок пожирнее, прирезать к своим вотчинам новые земли из государственных угодий.
В эти же дни, ещё до венчания Михаила, вернулись из Польши посланники, которые ездили туда с грамотой о заключении перемирия и об обмене пленными. Польский король Сигизмунд не принял ни посланников, ни грамот и заявил, что пока Михаил Романов не покинет Москвы и не откажется от мнимого царского титула, никаким переговорам не быть. А всех пленных россиян, заявил он, ждут суровые испытания. Князь Фёдор Шереметев, который отправлял посланцев, сам и встретил их, а всё, что узнал от них, не понёс до царя, не хотел опечалить юную душу царя чёрной вестью о судьбе отца.
Благодатное лето 1613 года поднималось в зенит. И 11 июля, в празднования равноапостольной великой княгини Киевской Руси Ольги, распахнулись врата кремлёвского Успенского собора, чтобы при стечении всей Москвы и гостей из многих российских городов совершить обряд венчания первого русского царя династии Романовых, стоявшей во главе России более трёхсот лет и прерванной смутой 1917 года.
После изгнания из Москвы поляков клирикам и мастеровым прихожанам немало пришлось потрудиться, дабы привести собор в боголепный вид. Поляки жестоко надругались над собором, как и над другими кремлёвскими храмами. Они содрали с икон все драгоценные оклады, разворовали церковную утварь, многие иконы сожгли, почти полностью разрушили иконостас, взломали и загадили полы. Прилежание россиян, их любовь к своим храмам, к святыням Кремля сделали своё дело. В Успенском соборе ко дню венчания государя всё сверкало первозданной красотой. Посреди храма было устроено возвышение от алтаря в двенадцать ступеней, обитых алым сукном. По обеим сторонам царского места — чертога — поставили скамьи, покрытые персидскими коврами, разукрашенные атласом, бархатом и предназначенные для высшего духовенства. На чертоге был возведён престол для царя, а возле поставлен стул для митрополита.
Коронованию царя предшествовало внесение в Успенский собор регалий: царской диадемы-брахмы, царского венда, скипетра, державы и цепи аравийского золота. За этими регалиями архиереи внесли в собор, как величайшую святыню, крест с частью животворящего древа. Митрополит Ефрем и сонм архиереев и священников приняли регалии, и были посланы к царю боярин Морозов и протопоп Кирилл с вестью о том, что всё готово к венчанию.
И вскоре на Соборной площади появилось торжественное шествие. Перед царём шёл протопоп Кирилл и окроплял царский путь святой водой. По правую и левую сторону от царя шли окольничьи, стрелецкие головы, разные чиновники. Замыкали шествие бояре, княжата, стольники, стряпчие, думные люди, дворяне, дети боярские и всяких чинов люди из разных городов державы.
В соборе царь приложился к мощам и святым иконам и подошёл к чертогу. Митрополит Ефрем осенил царя крестом и окропил святой водой. И начался молебен Живоначальной Троице и Владычице Богородице. Царь Михаил слушал молебствие, стоя на царском месте, а по окончании его митрополит Ефрем ввёл царя на чертог и усадил на престол. Посидели должное время молча, встали и царь с митрополитом обменялись речами. Смущаясь и порою не находя слов, юный царь поведал, как состоялось его избрание, «всем народным множеством людей всего великого русского государства».
Речь митрополита была более пространной. Он описал смутные годы, межцарствие, освобождение Москвы от поляков, само избрание Михаила на царство по праву сродства с царём Фёдором Иоанновичем.
После речи митрополита ему подали на золотом блюде крест с частью животворящего древа. Трижды поклонившись кресту и облобызав его, Ефрем возложил святыню на голову царя Михаила и после зачтения малой ектинии вновь возложил руки на голову царя и произнёс молитву ко Господу, прося благословения Царя царствующих на Михаила, а затем возложил на плечи царя бармы. Той минутой под чтение молитвы митрополит взял с золотого блюда царский венец и со словами «во имя Отца и Сына и Святого Духа» возложил венец на голову Михаила. И поклонился царю. После этого царю подали в правую руку скипетр, а в левую державу, и митрополит вновь сказал малую речь: «О, благовенчанный царь и великий князь Михаил Фёдорович, всея Руси самодержец! Прими сей, от Бога данный тебе, скипетр, править хоругви великого царства российского, и блюди, и храни его, елико твоя сила».
И были ещё многие речи, и поздравления, и пожелания. И началась божественная литургия. А после неё постельничий Константин Михалков разостлал перед царскими вратами ковёр, покрыл его золотистым красным бархатом. По этому пути царь во всех своих регалиях спустился с чертога на амвон. Здесь, встав у самых царских врат, царь снял с себя венец и передал его дяде, князю Ивану Романову, скипетр вручил князю Дмитрию Трубецкому, а державу — князю Дмитрию Пожарскому. И митрополит Ефрем совершил миропомазание царя, произнося: «Печать даря Святого Духа. Аминь».
По причащении Святых Тайн государь вновь принял знаки царского сана, поднялся на чертог и пригласил всех присутствующих к царской трапезе в Грановитую палату.
Обряд завершился, и царь направился в Архангельский собор, дабы поклониться гробницам прежних великих князей и царей. Когда же Михаил выходил из южных врат Успенского собора, боярин Фёдор Мстиславский трижды осыпал его серебряными и золотыми монетами.
В тот же день царь Михаил внёс в ритуал торжеств по поводу своего венчания важную поправку. Во время пира, на котором собралась вся высшая знать державы, по желанию царя всем присутствующим было повелено быть «без мест» и запрещено в спорах ссылаться на должности и места, которые каждый занимал в эти дни. Многим вельможам это пришлось не по душе. Однако царское повеление было записано в правила Посольского приказа.
Пир в Кремле продолжался три дня. Двенадцатого июля было днём именин царя. В этот день ангела, Козьму Минина пожаловали в думные дворяне. А на третий день, на торжественном обеде в Грановитой палате вельможи появились с жёнами, и впервые на Руси каждая из них сидела не рядом с мужем, а напротив, как равная.
И по Москве веселье продолжалось три дня, и было выпито море пива, браги, вина и другого зелья, покрепче. Всё во славу молодого царя. И песни пели москвитяне в честь государя — былинные, о великом князе Владимире Красное Солнышко, о богатыре Добрыне Никитиче, в коих возносилось мужество и храбрость героев.
Царь Михаил слушал эти песни, печалуясь. Какой уж он герой, какой богатырь и храбрец, муху не обидит. Да перст Божий указал на него, и он отныне государь великой державы, имя которой ведомо во всём мире. Вот и о нём скоро послы разнесут весть по всей Европе и в Азию дадут знать. А что проку? Чем он может удивить иноземных государей? Разве что слабостью своей. Так сие только на смех. «Ох, горькая жизнь наступила», — вздыхал юный государь и звал к себе матушку из Воскресенского монастыря, дабы утешила.
Такие скорбные размышления посетили царя Михаила тотчас, как завершилось торжество в честь его восшествия на престол. Оно и немудрено: держава на полсвета, и вся в разорении великом. Подними-ка её на ноги, дабы народ во благе жил. Дальше — больше, на поверку оказалось, что и посоветоваться царю было не с кем. Потому как среди сродников — князей Лыковых, Салтыковых, Сицких и Черкасских — не видел он сколько-нибудь умной державной головы. Не было среди них Бориса Годунова, при котором царь Фёдор чувствовал себя как у Христа за пазухой. Опять одна надежда — на матушку. И когда она появлялась в палатах царицы Анастасии, заходила в трапезную или в опочивальню, Михаил чуть ли не с криком спрашивал её:
— Матушка, что мне делать? Какие шаги нужны, дабы держава услышала меня?!
Государыня Марфа за прошедшее время московской жизни в келье не засиживалась, молитвам с утра до вечера не предавалась, но по-своему готовилась достойно занять место правительницы. Начала она с того, что побудила царские приказы к действию, поставила над ними хоть и не семи пядей во лбу, но исполнительных дьяков, вельмож, воевод. Царь Михаил только успевал указы и повеления подписывать. В те же дни Марфа пробудила от спячки Боярскую думу. Как раз князь Фёдор Мстиславский из вотчины вернулся, куда уезжал после венчания Михаила. Старица Марфа и его взяла в оборот.
— Ты, князь Фёдор, исправней заседай в Думе, побуждай бояр и дьяков державу обновлять.
Князь Мстиславский не хотел радеть за царя Михаила, но властной старице дал обещание:
— Будет работать Дума, как должно ей.
Всё творя по своему разумению, правительница Марфа только сына не побуждала к твёрдым действиям. Однако же и от него Марфе кое-что требовалось. И по её настоянию Михаил сделал первый державный шаг, написал своё повеление россиянам. «Учинились мы царём по вашему прошению, а не своим хотеньем выбрали нас государем, всем государством, крест нам целовали вы своею волею, обещались служить и прямить нам и быть в соединении, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают, так вы эти докуки от нас отводите и всё приводите в порядок».
Мягок был нравом государь. Ан как выходило на поверку, добротою делал многое. Ещё в Ярославле князь Фёдор Шереметев осветил Михаилу положение по южным областям России.
— Там, государь-батюшка, смуте ещё нет конца. Разбойничает атаман Заруцкий с казаками. А при нём Марина Мнишек с сыном промышляют, коему Марина трон московский прочит. Сейчас они в Епифани сидят. Так тебе следует послать туда рать малую.
Тогда Михаил проявил мудрость. Он понимал, что пока есть кто-то из претендентов на престол, мира и покою в державе не будет.
— Внял твоему совету, князь-батюшка. Посему мчи в Москву и побуди послать стрелецкие полки под Епифань. Воеводу достойного подбери моим именем. Пусть в хомут возьмёт Заруцкого с Мариной.
Князь Шереметев скоро исполнил волю царя. В конце марта по чуть подсохшим по югу дорогам на повозках ушла малая рать стрельцов — всего-то тысяча пятьсот человек. Но повёл её бывалый и хитрый воевода, князь Иван Одоевский. Двигались стрельцы быстро. Да атаман прослышал о них и ушёл из Епифани под Воронеж. Однако князь Одоевский сел-таки атаману на «хвост», догнал его под Воронежем, налетел с ходу на атаманскую ватагу, разбил, разметал по степи. Судьба ещё проявила милость к атаману Заруцкому, и он с небольшим отрядом казаков сумел убежать к Астрахани. Князь Одоевский не помчал вдогон. Шёл медленно, осмотрительно, посылая вперёд гонцов с грамотами, предупреждая воевод по областям, дабы слали ратников. Грамоты Одоевского неведомыми обходными путями летели впереди Заруцкого. И терский воевода Пётр Головин не пустил в город атамана, но отправил по следу казаков отряд стрельцов в семьсот ружей под началом тысяцкого Василия Хохлова. Вскоре стрельцы Хохлова соединились со стрельцами Одоевского и вместе они добили отряд Заруцкого. А год спустя, в июне атаман Заруцкий и Марина Мнишек с сыном, с ними их неизменный спутник, иезуит Николай де Мелло, были доставлены князем Одоевским в Москву. Атамана Заруцкого посадили на кол. Лишили живота и Марину с маленьким Иваном. Таким печальным, а вернее, трагическим, но заслуженным, по мнению россиян, путём завершилась самозванщина.
Теперь предстояло должно завершить борьбу с поляками, которые ещё разоряли западные области России. Увы, эта борьба затянулась ещё на несколько лет. Сам царь Михаил мало занимался военными делами, потому как не тяготел к ним. У царя нашлось более благородное занятие, которое также требовало державного внимания.
Как-то к нему в палаты пришёл князь Юрий Черкасский, племянник князя Бориса Черкасского, с которым Михаил, будучи ребёнком, отбывал ссылку. Князь Юрий был увлечён градостроительством. И к царю он пришёл с просьбой.
— Царь-батюшка, маята душевная сна лишила. Многажды обошёл я кремлёвские палаты и дворцы, и сердце зашлось от горести. Всё пребывает в плачевном запущении и разрухе... Надо спасать Кремль.
— Видел и я сие запущение, князь Юрий. А с чего начать обновление, не ведаю.
— С малого и начнём, царь-батюшка. Выберем час, обойдём Кремль и посмотрим, где, что и кому в первую очередь руки прикладывать.
— Не будем мешкать, князь Юрий, идём же, — загорелся нетерпением царь. — Благо ещё светло.
— Сподручнее завтра, государь, после заутрени. А ноне я зодчих оповещу, первых мастеров кликну. Вот и сделаем почин с Божьей помощью. Там приказы побудим работных людей собрать.
Новое дело увлекло царя Михаила. На другой день он с нетерпением дождался конца богослужения и тотчас отправился с князем Черкасским, с зодчими и мастерами осматривать дворцы и храмы Кремля, побывал в монастырях, на Хлебном дворе, в казначействе, в палатах князей Мстиславских. Ходили до полудня и пришли к печальному выводу: поляки нанесли кремлёвскому гнезду России огромный урон. Все здания, все храмы, монастыри нужно было ремонтировать, восстанавливать штукатурку, фрески, украшения, полы, окна, двери, всё красить заново, укладывать мостовые, потому как камень с них поляки подняли на кремлёвские стены для обороны, — всего и не перечесть. Но царь повелел сделать полное описание работ, посчитать расходы, также необходимое количество строительных материалов.
А завершая обход Кремля, царь Михаил надумал зайти в патриаршие палаты. В них жил митрополит Крутицкий Ефрем, а недавно к нему въехала Катерина с семьёй. Ефрема она знала ещё по Казани, когда пряталась у Гермогена от гнева и немилости Бориса Годунова. Ефрем сам позвал Катерину быть у него домоправительницей. Она согласилась, потому как, вернувшись из Костромы, она нашла на месте своего дома на Пречистенке только пепелище. Сгорели и родовые палаты Бутурлиных на Тверской. И пока воевода Михаил закладывал стройку нового подворья, надо было где-то жить. Так и оказалась вся семья Бутурлиных в патриарших палатах.
Царя Михаила встретили Ефрем и Катерина. Михаил чувствовал себя смущённо, не знал, о чём говорить, но митрополит благословил царя и повёл его по покоям, кои тоже были в большом запущении и опустошении, и в них шёл ремонт. Всё выскабливалось, очищалось после осквернения палат поляками, которые устроили в них таверну.
Катерина всюду ходила следом за царём и митрополитом. И чем ближе они подходили к покоям, где пребывала её семья, тем тревожнее у неё было на сердце. И она понимала эту тревогу. Испугалась ясновидица за юного царя, потому как стоило ему увидеть её дочь, Ксюшу, как та опалит его сердце единственным взглядом. Катерина уже хотела остановить царя, крикнуть, чтобы не входил в девичий покой. Но в сей миг дверь покоя распахнулась и на пороге появилась Ксюша. Она созревала рано, и к четырнадцати годам в ней уже прорезалась, хотя ещё и не вся, но такая притягательная стать и краса, что могла смутить и заставить заволноваться любое мужское сердце. Так и случилось. Юному царю показалось, что он увидел ангела. Освещённая лучами солнца, падающего из высокого окна, тонкая, в лёгком сарафане, облегающем всю стройную фигуру отроковицы, белолицая, с копною огненно-рыжих волос, с оживлённо сверкающими зелёными глазами, с улыбкой на милом лице, казалось, готовая взлететь, она застыла на пороге и смотрела на царя Михаила не спуская глаз.
И он, семнадцатилетний юноша, смотрел на неё неотрывно, боясь шевельнуться, дабы не спугнуть волшебное видение.
В сей миг к Ксюше подошла Катерина и строго сказала:
— Иди к братику, а мы тут по делу! — И хотела закрыть дверь.
— Подождите, тётушка Катерина! — крикнул Михаил. — Я догадался, что сие ваша дочь. Как её зовут, почему я не видел её в Костроме?
— Государь-батюшка, это моя дочь Ксюша. Но тебе незачем её знать и видеть. — И Катерина легко оттеснила Ксюшу за дверь и закрыла её.
— Но почему бы, тётушка Катерина, нам не поговорить, Господи?! — огорчился Михаил. Он растерялся, не зная, что ему делать, опустил голову и молча прошёл мимо Ефрема, направляясь к выходу из палат.
Молчали и Катерина с Ефремом. Им тоже было неловко оттого, что всё так нелепо случилось. Проводив царя до крыльца, где его ждали князь Черкасский и рынды, Катерина вернулась в свои покои и с болью в голосе крикнула дочери:
— Господи, непутёвая, зачем вышла? Почему не сидела возле брата?
— Но, матушка, я бежала за тобой: Андрюшка изревелся и звал тебя!
— О, Боже мой! Что мы наделали! — продолжала стенать Катерина.
А Ксюша стояла рядом и, ничего не понимая, пыталась утешить мать, ласкалась к ней, ладошками вытирала слёзы, которые невольно катились по лицу Катерины. Ксюша только удивлялась тревоге матери, у неё же было легко на сердце, она ещё не ведала того, что было ведомо Катерине.
Так и случилось, что отроковица опалила сердце юного царя, и оно не заживало до той поры, пока всё та же Ксюша не открыла царю Михаилу глаза на более достойную его любви душу.
Глава шестнадцатая Коварство
В летние дни тринадцатого года сердце царя Михаила болело ещё и оттого, что он не мог вызволить из плена отца. И не было из Польши никаких вестей. А посланный туда дьяк Аладьев пропал, словно в воду канул. Юный царь убивался за судьбу отца, спрашивал у всех совета, как ему поступить. И тогда князь Фёдор Шереметев посоветовал царю:
— Ты, государь-батюшка, пошли, как было в прежние времена, досужих лазутчиков в Польское королевство. Всё и выведают и доложат.
— Да есть ли способные к тому?
— Найдём. И это уж моя забота.
Ан не враз нашлись опытные и смелые лазутчики. Однако в Патриаршем приказе вспомнили о Луке Паули и о бывалом монахе Арсении, которые служили ещё патриархам Иову и Гермогену. Их разыскал князь Черкасский. А князь Шереметев дал им наказ найти, где сидит в заточении отец царя, Филарет, узнать о его судьбе, а ежели удастся, то вызволить из плена.
Лука Паули уже сильно постарел, пеплом покрылись некогда воронова крыла волосы, лицо прорезали глубокие морщины. Но он был ещё по-прежнему крепок телом и духом и лёгок на ногу.
— Сделаем, что в наших силах, живота не щадя, — ответил он князю коротко и попросил: — Однако дайте в помощники молодого подьячего Антона Матвеева. Он в Патриаршем приказе служит, дюже смел и находчив.
Ещё несколько лет назад, когда Антон пришёл в Москву с обозом келарей из-под Антониево-Сийского монастыря, Лука, по просьбе Катерины и от имени Филарета, пристроил его в Патриарший приказ и многому там его научил, да больше тому, что нужно знать и уметь лазутчику в чужом стане.
Лишь только три россиянина собрались в путь, их привели в царские палаты, и царь Михаил сам сделал им напутствие:
— Порадейте за моего родимого батюшку, храбрые люди. А я вам век благодарен буду.
В середине августа, на третий день после Успения Пресвятой Богородицы, ещё до восхода солнца из Кремля выехал крытый возок, запряжённый молодым бахмутом, и взял путь к Смоленской заставе. В возке, в монашеском одеянии, сидели три сотоварища, которые уезжали в неведомое, во враждебную польскую державу. Там же события в эту пору развивались совсем не в пользу лазутчиков-россиян.
В Варшаве летом тринадцатого года вовсю шли военные приготовления. Король Сигизмунд и его сын Владислав, всё ещё считающий себя царём России, пришли в ярость, как только до них дошла весть о том, что на московский престол избран князь Михаил Романов. Весть эта пришла как раз в ту пору, когда до королевского дворца добрался дьяк Аладьев. Он потребовал, чтобы его представили королю. А уходя добиваться встречи с Сигизмундом, он отдал своему сотоварищу-паломнику, обретённому в пути, письмо, кое нёс из Москвы Филарету. У него будто сердце вещало, что поляки его не только не пустят к королю, но и бросят в заточение. Так и случилось. Близ дворца его схватили, затащили в подвал, обыскали, изъяли послание к Сигизмунду и заключили под стражу. Вскоре же обо всём было доложено Сигизмунду и Владиславу. Прочитав послание москвитян, оба пришли в гнев, сын потребовал от отца:
— Отец, дай мне войско! Я пойду в Москву и покончу с разбоем!
Сигизмунд и дал бы Владиславу войско, но такового под рукой у короля не было.
— Сын мой, ты же знаешь, что у меня нет и двух полков. И денег в казне нет, чтобы нанять войско.
— Но надо же что-то делать! — воскликнул нетерпеливый Владислав.
Он-то знал, что войско в Польше есть, но уже много времени король не платил ни солдатам, ни их командирам денег. И потому лихие гетманы увели войско к восточным и южным рубежам страны и там нападали на соседние государства, грабили чужие народы. Да больше всё россиян.
— Ты должен пойти в сенат и там требовать денег, — твердил сын.
— И сенат не поможет. Налоги и подати давно собраны. Новыми облагать нельзя, они уже и так непомерны. Крестьяне и работные люди живут в нищете.
— Мы заставим Россию пополнить казну!
— Не тешь себя пустыми надеждами. Нам не поставить Россию на колени, — отвечал король. Он знал, что обнищание страны не было случайным. Долгие междоусобные брани, война с Россией, роскошные балы и кутежи во время коротких передышек между войнами — всё это разорило страну. — И войско нам не собрать для похода на Московию, — горестно заключил Сигизмунд.
Владислав упорно продолжал настаивать:
— Но, отец, у тебя же есть личные деньги! Отдай их на благо Польши, а я верну, как только войду в Москву, сяду на престол.
Сигизмунд понимал, что так или иначе, но сыну нужно помочь, поддержать в нём надежду овладеть Москвой и престолом. Он знал, что Россия тоже пребывает в великом разорении и не сможет оказать сопротивления достаточно крепкому войску.
— Хорошо, сын, я попытаюсь убедить сенат пойти на риск и заставлю собрать деньги, нужные для похода на Москву.
Сенаторы, однако, отказали в помощи королю и его сыну.
— Мы не ждём блага от войны с Московией, — заявили они единодушно. — Помним былое.
Сигизмунд пытался убедить сенаторов:
— Но Владислав её царь. И он просит лишь об одном, о том, чтобы вы помогли ему занять законный престол.
Но ни увещевания, ни угрозы не помогли. Сенат не нашёл возможным и необходимым помочь Владиславу. Лишь в утешение королю было сказано:
— Ваше величество, проси гетмана Лисовского пройтись по Московии. У него есть войско, и он сделает то, что нужно.
Король и его сын вняли совету сената. И полетели гонцы к Лисовскому. А он словно ждал, что его попросят погулять со своими уланами по России. И не мешкая повёл летучие конные батальоны в пределы земли русской. Делая по сто пятьдесят вёрст в сутки, он проскользнул мимо Вязьмы и Можайска, обошёл Москву с юга и появился между Тулой, Муромом и Владимиром. Его конницу попытался преследовать князь Дмитрий Пожарский, но безуспешно. Лисовский налетал на малые гарнизоны уездных городов, сокрушал их, грабил добро и ускользал от наседавших на него русских ратников. Наконец он замыслил захватить крепость Серпухов и засесть в ней.
Успехи Лисовского побудили короля Сигизмунда раскошелиться, и он дал сыну денег, чтобы тот нанял небольшое войско. Владислав действовал споро. Спустя две недели у него под рукой было больше трёх тысяч наёмников. Он разделил их на два отряда и сам повёл свой отряд к Калуге, а гетмана Гонсевского послал захватить Можайск.
В Москве запаниковали. Боярская дума заседала каждый день, но не могла найти, как ей казалось, достойных воевод, которым можно было бы доверить стрелецкие полки. Наконец выбор пал на князя Андрея Хованского, коего послали к Можайску, и на старшего князя Ивана Хворостинина. Ему поручили дать бой полякам под Калугой.
Русские воины успели встать на пути войска Владислава, и тот не смог одолеть их сопротивление... Началось позиционное противостояние, коего поляки боялись. Да и было отчего, потому как россияне стали их обкладывать, как медведя в берлоге. Но полностью окружить поляков ни Хворостинину, ни Хованскому не удалось. Первым выбрался из «мешка» Владислав и поспешил на помощь к Александру Гонсевскому. Вместе они прорвали редуты россиян и попятились к своим границам. Россияне преследовали поляков до Днепра, но там отстали. К тому же такой исход боевых действий устраивал русских воевод.
А пока в пределах России шли военные стычки, Лука Паули с товарищами добрались до границ Польши, близ неё продали коня и возок и ушли в пределы чужой страны. Шли под видом Божьих странников, коих в ту пору много бродило по Европе. Лука и Антон довольно сносно говорили по-польски, и всё бы шло у россиян хорошо, если бы они знали, в каком краю Польши искать митрополита Филарета и князя Голицына. В какой тюрьме или в каком монастыре томились два узника, можно было только гадать. Им оставалось одно: уповать на Божие провидение и на случай... Они выходили на большие шляхи, шли от таверны к таверне, от одного постоялого двора к другому и прислушивались к разговорам проезжих путников. К их досаде, такие действия за месяц хождения не принесли им успеха. Когда они были уже вблизи Варшавы, что-то побудило их идти не в столицу, а от неё на север, в Литовскую землю. И прошло немало дней, пока они миновали Гродно, Лиду, вышли на шлях, ведущий к Вильно. И уже далеко за Вильно, в небольшом местечке Игналина им повезло. Весь день они пробыли на постоялом дворе и уже к вечеру собрались в путь, чтобы ночной порой идти на Даугаву. И в самый последний миг на постоялый двор въехал дорожный рыдван, а за ним — два верховых воина. Вскоре из рыдвана вышли четыре священнослужителя и молча прошли в низкое просторное здание. Было видно, что они проделали большой путь, устали и чем-то недовольны, о чём говорили их мрачные лица, особенно лицо худощавого, похоже, старшего среди них патера. Хозяин постоялого двора, грузный литовец, встретил патера радушно, как старого знакомого. Низко кланяясь, он сказал:
— Добро пожаловать, святой отец. — И повёл его в отведённый ему покой.
Вернувшись, хозяин повёл других гостей в глубину таверны, распахнул перед ними дверь и пригласил их войти. И тут Паули услышал русские слова: «Господи, сие есть свиной хлев, а не покой. Дайте мне другую опочивальню!»
Хозяин с поклоном что-то ответил и открыл новую дверь, сказал, что покой на одного. Россиянин скрылся за дверью. Лишь только хозяин ушёл из коридора, Паули поспешил к россиянину.
— Да продлит Господь дни вашей жизни, сын Божий, — войдя в номер, сказал Паули и подошёл вплотную к россиянину.
— Кто ты? И что тебе нужно? — спросил дьякон Феофан.
— Я ищу человека, дабы уберечь его от грозящей ему смерти, — тихо сказал Паули.
— Какого такого человека? — И Феофан попятился.
— Того, что встречался с митрополитом Филаретом, — играл Паули. Он шёл от предположения, что перед ним русский поп-отступник, и может знать, где поляки упрятали митрополита и князя. — Скажи мне, где Филарет и я отведу от тебя беду.
— Я ничего не знаю, уходи прочь! — потребовал Феофан.
— Но я не желаю тебе худа, а ты ищешь его сам. Говори, что знаешь, и не мешкая. Ты же отступник, ты изменил русской церкви и отчизне, — ломился напролом Паули. — Говори, что знаешь, да будешь прощён. А не то... — И Паули достал из-под плаща кинжал.
— Изыдь, сатана, изыдь! — с дрожью в голосе воскликнул Феофан. — Я не ведаю, где Филарет.
— Вижу, что ведаешь! — И Паули коснулся Феофана кинжалом.
— О господи, от татей нет спасения!
— Говори же! — И Паули уколол Феофана.
— О, Владычица, Матерь Божия, спаси! — Да понял, что нет ему спасения, потому как увидел в глазах Паули свою судьбу. И, не спрашивая, зачем этому человеку с кинжалом Филарет, Феофан простонал: — Иди в Мальборгский замок, что под Мариенбургом. Он там.
— Целуй крест, — потребовал Паули.
— Истинно говорю. — И Феофан поцеловал свой крест.
— Дарую тебе жизнь. — И Паули убрал кинжал. — Но помни: возмездие ждёт тебя, ежели выдашь меня и не вернёшься в лоно православной церкви. — И Паули покинул покой, вернулся к товарищам.
Тотчас они покинули постоялый двор и бегом-бегом скрылись из местечка. Они уходили на север. А когда Ингалина осталась верстах в трёх позади, Паули увёл своих друзей с дороги в лес, который возник на их пути. Пройдя лесом с версту, Паули остановился.
— Я ведаю, где митрополит и князь. Они в Мальборгском замке близ Мариенбурга. Запомните сие, други. Но отступник, коего я прижал, поди выдаст нас, и будет погоня. И нам не уйти от преследователей, ежели не выйдем на них. Отважимся ли?
Бывалый Арсений ответил просто:
— Дело привычное. Лишь бы рогатины успеть вырубить. — И Арсений деловито поспешил искать деревца, годные для рогатин. Паули понял замысел монаха: россиянину и медведь не страшен, а не только верховой воин, даже ежели он вооружён саблей или мечом. Вскоре же берёзовые рогатины были изготовлены и все трое вышли к дороге.
...Лишь только Паули покинул постоялый двор, бывший волоколамский дьякон разыскал Петра Скаргу, дрожа от страха ввалился в покой богослова и, движимый рабскими чувствами, сказал:
— Святой отец, россиянин ищет Филарета.
— Где он? Кто такой?
— Я не ведаю, кто он, но спрашивал с пристрастием.
— И ты сказал?
— Бес попутал, святой отец. Тать грозился живота лишить.
— Ты порочен без меры! — зло крикнул Пётр Скарга. — Но должен искупить вину. Сей же миг возьми коня и воинов, скачите за татем, ищите и приведите сюда.
Феофан не мешкая покинул покой богослова, нашёл воинов, и спустя несколько минут три всадника рысью выехали из ворот постоялого двора и устремились на север.
А спустя полчаса в лесном урочище разыгралась короткая драма. Лишь только Паули услышал на дороге конский топот, как вышел на неё и спокойно пошёл вперёд. Арсений и Антон, таясь за придорожными деревьями, продвигались следом. И вот всадники появились. Феофан увидел на дороге идущего человека и крикнул:
— Это он! Хватайте его!
Воины подскакали к Паули, один вырвался вперёд, развернул коня и стал теснить россиянина. Он же крикнул:
— Стойте! Нога болит, не могу идти. — Всадники оказались в замешательстве. А Паули протянул руку к Феофану и попросил:
— Посади на круп.
Тот подал Паули руку. Лука схватил её, словно клещами, и сдёрнул Феофана с коня. В тот же миг из леса выскочили Арсений и Антон, ринулись на всадников, достали их рогатинами, и те в мгновение ока оказались на земле. Завязалась борьба. Лука первым покончил с Феофаном-предателем, проколол-таки ему живот и поспешил на помощь Антону, которого польский воин подмял под себя и душил за горло. Лука ударил врага в шею. Тот лишь охнул, и Антон сбросил его с себя.
Арсений же проявил к врагу милость, который был слабее монаха. Он сорвал с себя сыромятную опояску, связал ему руки и ноги и потянул в лес, словно куль. Лука и Антон тоже стянули с дороги убитых. Потом Лука велел Антону поймать коней, которые неподалёку мирно щипали траву, сам же поспешил допросить оставшегося в живых поляка.
— Ты останешься жив, ежели скажешь правду обо всём, что знаешь о русском митрополите, — сказал воину Лука.
Перепуганный насмерть, улан и не думал ничего скрывать, охотно рассказал всё, что знал.
— Идите до озера Лудан, там вдоль реки Небезде до Мариенбугра. Справа от города возле озера Алу есть замок, в нём и ищите ваших, ежели удастся проникнуть за стены. Замок охраняется, а сколько стражей, не знаю.
— Хорошо, верим. Ты побудешь в лесу, а мы поехали. — И Лука велел привязать воина к дереву.
Арсений и Антон сделали то, что просил Паули, все трое сели на коней и на рысях пошли на север. Знали они, что за ними может быть новая погоня, уходили, не щадя лошадей.
Судьба не один день оберегала русских лазутчиков. За ними была погоня, но благодаря опытному Луке им удалось от неё скрыться. Однако опасность настигла их, когда они вовсе не ожидали её.
Лука, Арсений и Антон были уже вблизи Мариенбурга, до замка оставалась всего одна ночь пути. Утром они спрятались в лесу, в полуверсте от дороги, там отдыхали до вечера. В сумерках отправились в путь и в чистом поле наткнулись на отряд литовских наёмников. Это были воины королевича Владислава, который нанял их для нового похода в Россию. Всё случилось так неожиданно, что бывалые разведчики не успели даже подумать о бегстве. Литовские воины возникли из придорожных кустов перед путниками словно тени, окружили их, отрезав путь к бегству. Их стащили с коней, обыскали, отобрали оружие и погнали в сторону Варшавы. Полковник Сабовский, который командовал отрядом, сказал россиянам:
— Кто бы вы ни были, я клянусь Матерью Божьей, что заставлю вас воевать против русских. Вы поможете моему государю Владиславу сесть на московский трон!
Но после трёх дней пути на юг Луке Паули удалось бежать. Все трое они были привязаны к повозке. Вечером, ещё на марше через лесное урочище, Паули упросил стражников отвести его в лес по большой нужде. Сопровождал его самый свирепый страж, от которого россияне много натерпелись. Лука и стражник удалились от дороги всего сажен на пять-шесть, но лишь только кусты скрыли их от воинов, как Лука неуловимым движением извернулся, оказался сбоку от стражника, и тот рухнул на землю, получив страшный удар по шее. Взяв у стражника саблю и пистолет, Лука побежал вглубь леса, но, чтобы запутать преследователей, он бежал не назад, а вперёд, по ходу отряда, и, пробежав достаточное расстояние, вышел к дороге, перебежал на другую сторону, уходя уже в обратном направлении.
К Мальборгскому замку Лука добрался только через неделю. Шёл по ночам, а днём прятался в лесной чаще. Он умирал от голода, питаясь лишь лесными ягодами и орехами, одежда на нём изорвалась, сапоги развалились. Но когда в глухую полночь он увидел крепостные стены, то у него хватило сил улыбнуться: достиг-таки цели. За оставшуюся часть ночи Паули дважды обошёл вокруг замка, пытаясь проникнуть за его стены. Но все попытки оказались напрасными. Уже ранним рассветом в овраге, который выходил к озеру, среди каменных нагромождений Паули нашёл тайный заброшенный ход и решил испытать счастье, пробраться к замку по нему. И пробрался по ходу достаточно далеко, предполагая, что над его головой уже двор замка. Но путь ему преградила тяжёлая чугунная дверь, закрытая изнутри... Как ни старался Лука открыть её, она даже не шелохнулась. И показалось Паули, что она замурована. Обессиленный, Паули откинулся к стене и неожиданно для себя уснул. Он проснулся от холода, сырости и мрака, долго соображал, где он есть. Наконец, вспомнив, содрогнулся и поспешил к выходу. Увидев в конце входа яркий свет Лука обрадовался, но тут же радость сменилась тревогой: не поджидает ли его на воле божьей опасность, нужно ли ему показываться при солнечном свете на открытом месте? И всё-таки, осторожно подобравшись к выходу, Паули выбрался из него. Яркий свет ослепил его, притерпевшись, Паули осмотрелся: окрест было пустынно. Лишь чайки кружили над озером, издавая крики. К оврагу подступали кустарники, в которых легко было затаиться. И Паули нырнул в них, дабы добраться к тому месту, откуда можно увидеть ворота. Он нашёл такое место и в густых зарослях чувствовал себя в безопасности, одновременно имея возможность наблюдать за частью дороги, ведущей к замку.
Когда солнце поднялось достаточно высоко, Паули услышал далёкий колокольный звон и понял, что это звонят в костёлах Мариенбурга. Звон был праздничный. Паули долго соображал, какой у католиков мог быть праздник. И вспомнил, что в нынешний день как православные христиане, так и католики отмечали Воздвижение Животворящего Креста Господня. Просидев весь день в зарослях и не увидев никакого движения ни у ворот замка, ни на дороге, ведущей к ним, к вечеру Паули, подгоняемый голодом, подался к Мариенбургу, надеясь там добыть себе пищи.
В городе и на окраинах в этот вечер было оживлённо, и Паули не рискнул появиться на улицах. Он искал какой-нибудь уединённый дом, чтобы постучаться туда и купить еды, а деньги у него были. Но и здесь его ожидала неудача: дважды подойдя к отдельным домам, он был встречен собачьим лаем. Отчаявшись, он совершено случайно оказался на городском кладбище и на первой же могиле увидел ритуальные приношения. Нынче горожане чествовали своих усопших близких, и Паули увидел на многих могильных плитах их дары. В глиняных плошках тут стояла пшеничная кутья, лежали яйца, ломти хлеба, булочки, пирожки, в глиняных чарках виднелась горилка. У Паули спазмы голода перехватили горло. Но он понимал, что взять с могилы усопшего что-то просто кощунственно. Однако, помолившись Всевышнему, испросив у него прощенья, Паули потянулся к дарам и, не жадничая, поел кутьи, выпил из кружки самогонки, съел пирожок с яйцом и луком. Он прошёл всё кладбище в сторону замка, взял кое-что из еды с собой и покинул священное место, продолжая молить Бога о прощении греха.
Паули провёл в зарослях близ дороги, ведущей к замку, ровно неделю и не увидел ни одной живой души, кто бы вышел из ворот замка или вошёл в них. Временами Паули казалось, что за стенами замка нет никакой жизни. Лишь на восьмой день, когда уже иссякло всякое терпение, на дороге, ведущей в замок, появилась телега, запряжённая старым мерином. За возницу в телеге сидела молодая женщина. В повозке стояло несколько корзин с товарами. И Лука рискнул выйти навстречу женщине. Увидев его, она испугалась, закричала и попыталась гнать мерина. Он лишь едва затрусил, и Паули легко остановил его, схватив под уздцы. Крикнул женщине по-польски:
— Не пугайся, я не желаю тебе худа!
Путница смотрела на Паули с ужасом, потому как увидела заросшего сивой бородой, в изодранном плаще человека.
— Эй, люди, эй, стражники, помогите! — кричала она и дёргала вожжи.
— Не надо кричать, пани, и не бойся меня, я не разбойник, но странствующий монах.
— Что тебе нужно?
— Я ищу митрополита Филарета, знаю, что он в замке. Помоги мне встретиться с ним.
— Нет, нет, не могу! — всё ещё со страхом кричала пани Гонта... — Он под стражей, в каземате.
Держась за вожжи, Паули метнулся к телеге.
— Я умоляю тебя, пани!
— Пусти! — И женщина замахнулась кнутом.
И тогда Паули полез за пазуху, достал оттуда грамоту и золотую монету.
— Вот, передай митрополиту, а деньги тебе за милость.
Глаза Паули, смотрящие на женщину с мольбой, усмирили её гнев. Схлынул страх. Она взяла грамоту.
— Хорошо, я передам твою цидулю. А денег от божьего человека не возьму.
Паули увидел в корзинах караваи хлеба, его глаза загорелись голодным блеском.
— Пани, именем Матери Божьей прошу, продай хлеба. — И Паули сунул монету ей в руки.
Она подала Паули каравай хлеба.
— Продать не грешно, — заметила она и дёрнула вожжи.
— Я буду ждать тебя с ответом, — сказал Паули.
— Завтра в полдень, если будет ответ! — крикнула молодая пани Гонта, уже отъезжая от Паули.
В письме, которое Паули передал одной из невесток пана Гонты, сообщалось, что сын Филарета Михаил венчан на царство. Невестка отдала грамотку пану Гонте. Он же спрятал её и забыл о ней. Что побудило пана Гонту проявить коварство, неведомо, но она пролежала у него в тайнике много времени и была передана Филарету спустя два года.
А Лука Паули провёл близ замка ещё три долгих и мучительных дня, но его ожидания оказались напрасны. Невестка пана Гонты так и не появилась, а замок по-прежнему казался вымершим. И Паули ушёл в Россию, впервые за многие годы не выполнив своего задания.
Глава семнадцатая Деулинское перемирие
Шёл третий год царствования Михаила Романова. Но в жизни юного царя и державы ещё не было ни одного мирного дня. Россия продолжала воевать с Польшей. Военные действия навязали россиянам и шведы. Впечатлительный Михаил, болезненно переживающий разорение державы в народную нищету, часто спрашивал близких бояр, скоро ли в державе и на её рубежах наступит замирение.
— Долго ли нас будут терзать поляки? Какие долги у нас перед шведами? — чаще всего спрашивал царь близкого человека, князя Фёдора Шереметева.
И всякий раз князь отвечал по-разному. Да всё в ответах сводилось к одному:
— Ни поляки, ни шведы к нам не полезут, как только россияне сытыми будут. Сытого мужика не тронь, иноземец, живота не пожалеет, а защитит свои рубежи. Другое дело — голодный. Вот и давай, царь-батюшка, добиваться одного, чтобы дети твои не помирали от голода, чтобы земли пахотные не зарастали по всей державе бурьяном. А начинать надо, конечно же, добившись мира.
— Но как заставить шведов и поляков сегодня с нами замириться?
— Ты, государь, побуди думного дьяка Ивана Грамотина осветить всё в Думе. Он же, умная голова, ведает, что делать. Ещё тебе нужно послушать думных дьяков Дворцового и Разбойного приказов. Они же скажут, как возвратить на землю и в старые места поселения земледельцев, сбитых с мест в смутную пору — пояснял князь.
Михаил слушал усердно и пытался дать сказанному свою цену Он и сам проявлял уже остроту ума.
— Днями мне принесли челобитную из Троице-Сергиевой лавры. Просят монастырские люди, дабы дал им волю в розыске беглых крестьян. Я внял мольбе богомольцев и дал им волю искать беглых. Они же в бегах разбоем занимаются-промышляют.
— Не оставляй без милости монастырские обители, твою опору — посоветовал Фёдор. — Как проявится твоя милость к лавре, так и другие обители легче будет подвигнуть к поиску своих людей. Да помни, царь-батюшка, одно: повели всё делать мягко, дабы землепашцы вновь не поднялись на бунт. Многие волюшки хлебнули, и на них не так-то просто вновь надеть хомут. Оно, конечно, понятен ропот дворян и боярских детей. Они не напрасно добиваются крестьянской крепости и просят продления срока урочных лет Тут тебе нужно посоветоваться с земцами.
Эти беседы царя и князя часто слушала матушка Марфа и внимала советам князя с неменьшим усердием, чем её сын. Она же всякому полезному совету давала движение. И хотя сама она в Боярской думе не заседала, но многое вершилось там по её указам. Матушка-государыня лучше других знала мягкосердие своего сына и здраво оценивала державность его ума. Потому день за днём забирала власть в государстве в свои руки. По её воле при царском дворце сложился родственный державный совет Марфа продолжала собирать в Кремль родственников рода Романовых, но не обошла вниманием и всех, кто был близок к роду Шестовых. Она размышляла просто: на своего человека можно положиться, связанный родством, он реже идёт в измену. И где-то к третьему году царствования Михаила во всех государевых приказах и службах стояли сродники царя. Не всюду они управляли гладко. Одни по недостатку умения, другие — из корысти. И как-то князь Фёдор Мстиславский, встретив на паперти Успенского собора Марфу, упрекнул её:
— Ты, матушка-государыня, свойство и родство чтишь больше ума и деловитости. Потому всех своих, даже кто не выше валенка, тянешь управлять державой. Зачем сие непотребство творишь?
Старица Марфа, ещё будучи княгиней и боярыней Ксенией Романовой, никогда не уважала и не чтила князя Мстиславского. Да и было за что. В ту пору, как Борис Годунов терзал род Романовых, Мстиславский смотрел на сие злодеяние с ухмылкой и довольством на лице. Окинув суровым взглядом по-прежнему тучную, уже оплывшую вниз фигуру князя, Марфа жёстко и не щадя княжеского самолюбия сказала:
— Не тебе, князь, упрекать Романовых за радение державы. Ты её давно продал полякам и латинянам И по моему разумению, не Филарету-батюшке нужно томиться в заточении, а тебе пора бы принять схиму и уйти от людей замаливать грехи.
У князя Мстиславского дыхание перехватило, будто костью подавился, слова в защиту себе не мог вымолвить. И он угнул свою седую голову, в душе солоно выругался и ушёл с паперти, так и не помолившись.
Марфа продолжала управлять державой всё круче. И совсем немного времени прошло, как думные бояре, дьяки, вельможи всех рангов увидели, что все государственные дела старица держит в своих руках. Нет, она не отторгала сына от царской власти, и он вершил то, что ему положено: подписывал указы, повеления. Но всё это делалось под её зорким глазом, с её ведома. При её верховодстве постепенно и с немалым трудом, но в державе что-то налаживалось, жизнь преображалась к лучшему. Но усилий этой упорной женщины явно не хватало, пробыв во главе правительства шесть лет, Марфа не сумела вывести Россию из разорения, хотя за эти же годы добилась, чтобы Земский собор усерднее заботился о государственной казне, чтобы служилые люди жёстче собирали налоги и недоимки за прежние годы, наконец, чтобы пополнились хлебные запасы для войска на случай неурожая. Во многих державных делах Марфа не чинила самоуправства, не бросалась в омут головой, но, осмыслив какой-то новый шаг, шла к царю. Так было и в те дни, когда кое-кто из неугодных Марфе думных бояр и дьяков попытались разделить населённые дворцовые земли.
На Масленой неделе — в Прощёное воскресенье — Марфа пришла из Воскресенского монастыря в палаты царицы Анастасии раньше обычного. Царь Михаил только что закончил утренние молитвы, и Марфа зашла к нему в малую тронную палату.
— Сын мой, царь-батюшка, — начала Марфа, — сядем рядышком и поговорим о делах важных.
— Слушаю тебя, матушка. — Михаил усадил мать на турецкий диванчик и сам сел рядом. — Вот и побеседуем ладком.
Марфа любила сына нежно и страстно, но проявляла свои чувства редко. И на сей раз спросила об одном:
— Как тебе спалось, родненький?
— Спасибо, матушка, я всегда крепко сплю.
— Вот и славно. А теперь внемли тому, о чём попрошу. Есть среди именитых такие, кто тянет руки к дворцовым землям. То бы пресечь надо, сынок.
— Мыслю я вровень с тобой, матушка.
— Земель за Царским приказом числится много, да не все они ухоженные, иншие и вовсе в запущении, хотя и населены. Вот и хочу просить твоего позволения распорядиться ими здраво, а не в ущерб державе. Есть у меня на заметке многие рьяные радетели земли, да оной не имеют. Потому надобно не мешкая наделить их землёй. Радетелей Колычевых и Жеребцовых в первую голову, кои исправно тебе служат. Белозерцевы и Ладыгины вровень с первыми стоят, дадим не в ущерб казне, но токмо впрок.
Царь Михаил согласился с Марфой, но и своё высказал:
— Ты, родимая, лучше меня знаешь, как вести хозяйство. Токмо и Шереметевых с Сицкими не обойди — опору нашу. Да ещё узнай, в достатке ли землицы у князей Черкасских. Их ведь Годунов разорил...
— Так и поступлю, сынок, — ответила Марфа.
И вскоре с лёгкой руки все достойные вельможи были наделены поместьями. Достались они истинно радетельным хозяевам.
И в других делах Марфа поспевала ко времени. Когда зашёл разговор о замирении со шведами, она же первая встретилась с думным дьяком Иваном Грамотиным. В душе Марфа восхищалась этим умнейшим посольских дел человеком. Попросила его, как встретились в Грановитой палате:
— Ты бы открыл царю путь, дьяк-батюшка, каким идти к замирению со свеями.
Думный дьяк Грамотин знал, что уж ежели каким делом заинтересовалась государыня, покою никому не будет. Ответил искренно:
— Дело сие не статочное, матушка-государыня. Ноне твоего сына, царя-батюшку, многие державы уважать начинают И есть уже радетели, кои готовы помочь уладить мир со Швецией и Польшей.
— Кто же сии радетели?
— Англия и Голландия волю проявляют. И французам выгодно наше замирение с поляками и шведами.
— Зачем же мы отвергаем их помощь?
— Пока речи меж нас о том не было. Но мне больше по душе иной путь, который указывает Божье провидение. Шведский король Густав Адольф, обобравший нас по Столбовскому договору и захвативший Гдов, сам ноне ищет с нами замирения. И он готов идти рука об руку с нами против ляхов. Нам такой сосед подходит токмо чрево у него ненасытное.
— А посильно ублажить его?
— Ведомо мне, что за мир с нами он намерен получить Ингрию и Ливонию. Сии земли можно было бы и отдать свеям. Ан Густав потребует и других лакомых кусков. Давно он лелеет глазом Иван-город, Ямбург и крепость Орешек.
— Ишь, как алчен!
— Вельми алчен. Ведь он таким путём думает закрыть нам выход к Балтийскому морю.
— И что же ты посоветуешь, дьяк-батюшка? — спросила Марфа.
— Из двух зол выбрать меньшее, матушка-государня. Без уступок нам не обойтись, ежели думаем решить спор с ляхами.
— Слово твоё поняла. Да мыслю, что скоро тебе придётся идти к свеям, а по иншему — куда же?
На том и расстались инокиня Марфа и думный дьяк Иван Грамотин. А дело замирения со шведами сдвинулось с мёртвой точки. И дьяк Грамотин не раз встречался со шведами, торговался из-за каждого клочка земли. Россия, однако, немало уступила. И 27 февраля 1617 года со Швецией был подписан договор о вечном мире.
Но до того дня, как наступил мир со Швецией, Россия пережила немало горестных дней. Временами казалось, что Москва вновь окажется в руках польских насильников. Случилось так, что в ноябре шестнадцатого года, когда с нетерпением ждали, что Смоленск вот-вот войдёт в лоно русской земли, царю Михаилу доложили, что воеводы Михаил Бутурлин и Исаак Погожев сняли осаду Смоленска и бежали с войском до Вязьмы.
Так оно и было. Гетману Александру Гонсевскому удалось вырваться из осаждённого города и дать бой русской рати. И всё произошло по преступной вине князя Георгия Трубецкого. Он привёл на помощь Гонсевскому отряды казаков, и те ударили в спину воинам Бутурлина и Погожева.
Дерзкий гетман Гонсевский не успокоился на том, что вырвался из осады, он преследовал русских до самой Вязьмы. Когда же в ноябре наступили сильные снегопады и морозы, Гонсевский расположился лагерем близ Вязьмы, перезимовал, а по весне, дождавшись войска королевича Владислава, двинулся с ним к Москве. Дорогу им прокладывал-мостил предавший родину Георгий Трубецкой. С его помощью поляки овладели Вязьмой. И он же побудил воеводу Ивана Ададурова сдать без боя Дорогобуж, открыть полякам ворота крепости.
Королевич Владислав торжествовал. И послал из Вязьмы в Москву манифест, в котором требовал от москвитян приготовить ему торжественную встречу, потому как намерен встать на престол, законно ему принадлежащий. В том же манифесте излагалось повеление архиереям церкви назначить божественную литургию в честь возвращения на патриаршество Игнатия-грека. Сие требование Владислава оказалось той каплей, которая переполнила чашу терпения русского духовенства. Митрополит Крутицкий Ефрем, как некогда патриарх Гермоген, призвал россиян с амвона Архангельского собора вновь подняться всей землёй против нашествия еретиков-ляхов.
Той порой из Можайска и Борисова в Москву стали прибывать беженцы.
Сотни их пришли на Красную площадь. Царь Михаил со многими боярами вышел к ним и вёл беседу. Они же наговорили много лишнего, утверждали, будто Владислав идёт к Москве с несметным войском. Юный царь испугался, бояре и вся знать поддались панике, многие поспешили покинуть стольный град, убраться в свои вотчины.
В этой тяжёлой обстановке лишь государыня Марфа сохранила присутствие духа. По её повелению послали в стан врага лазутчиков. Старшим над ними поставили Луку Паули, который уже успел отдохнуть после хождения в Польшу. Паули и его сотоварищи пробыли в польском стане больше недели, всё что нужно выведали и успешно вернулись в Москву. И тогда Марфа собрала в Грановитой палате многих вельмож и попросила Паули рассказать им всё, что он увидел и узнал о войске Владислава.
— Войско у королевича нетвёрдое, ищет лёгкой победы и добычи, — начал рассказывать Паули. — Владислав задолжал уланам жалованье, и они готовы его покинуть. А держит их лишь то, что ждут казаков, якобы числом двадцать тысяч, коих обещал привести малороссийский гетман Конашевич. Но ведомо мне, что надежды на казаков тщетны. В их стане раздор, и большая часть их не желает идти войной против законного русского государя Михаила. Теперь, ежели двинуть рать на ляхов, — продолжал Паули, — они не устоят. Помогите Бутурлину и Погожеву ополчением, и они прогонят врага.
В это самое время воеводы Михаил Бутурлин и Исаак Погожев, желая исправить своё позорное отступление из-под Смоленска, навязали полякам военные действия, лишили Владислава и Гонсевского манёвра, и те были вынуждены обороняться. Весть о действии русских воевод долетела до Кремля, и там скоро отозвались на неё. Царь Михаил повелел собирать стрелецкие полки и, опять-таки по совету матери, поручил вести войско воеводам, близким к роду Романовых.
Воинов провожали в новый поход с колокольными звонами, с напутствием архиереев церкви. И ратники верили, что их поход будет успешным и они скоро вернутся к родным очагам. Да многие были убеждены, что наступающая зима поможет им гнать поляков из державы.
И надежды россиян оправдались. Русское войско ещё только миновало Голицыно, как поляки сдвинулись с насиженного места и покинули Можайск, потянулись к Вязьме, к Смоленску. Но и на марше им пришлось несладко. За Вязьмой воевода Михаил Бутурлин напал на колонну врагов глубокой ночью. Застав поляков врасплох, он разрезал колонну пополам и одну часть погнал обратно к Москве, и многих пленил, другую же гнал к Смоленску, пока хватило сил. Когда же подошли свежие полки русских, преследование поляков продолжалось днём и ночью. Был освобождён Дорогобуж, и вскоре русские полки вышли на Днепр близ Смоленска. Но дальше воеводы не повели войско. В Москву полетели гонцы, дабы получить повеление царя шагнуть за Днепр. Однако ни царь Михаил, ни Боярская дума не решились ввязываться в затяжные бои на западной Смоленской земле. Потому как и русские воины не были готовы воевать в зимнюю стужу.
...В Москве в эту пору у Боярской думы и царя Михаила появились другие заботы, иные особые хлопоты. Сочли думные бояре, что царю пора думать о наследнике и нужно искать достойную невесту. И начались долгие, суетные и корыстные споры, какому роду-племени отдать предпочтение, от кого взять царскую невесту. И выявилось такое множество невест, что лихой бы молодец растерялся, не то что застенчивый и совестливый царь Михаил. Каждый боярский род хвалил свой «товар». Устраивались царские смотрины. Да главную роль в них играл не жених, царь-батюшка, а его матушка, проявлявшая большую привередливость. Она же отторгла многих, достойных царского венца девиц боярского и княжеского звания.
И каждый раз после очередного смотрения невесты матушка Марфа замечала, что её сын становился всё более равнодушен к невестам. Ему было с чем сравнивать, и ни одна из них не могла затмить зеленоглазую Ксюшу. И он уходил со смотрин с каждым разом всё мрачнее, потому как никогда и никто не выведет на смотрины ту девушку, которая покорила его сердце.
И мало кто ведал, как, наконец, пал выбор на боярскую дочь Хлоповых Марию Ивановну. Знали, что сия девица сама по себе была достойна царского внимания, взяла и статью, и красотой, и нраву была покладистого, чего не скажешь об отце семейства Иване Хлопове. И когда государыня Марфа назвала Марию Хлопову царской невестой, то многие думные бояре удивились и задумались. Да и было над чем: пугало думцев возвышение Ивана Хлопова. Встанет он рядом с государыней Марфой, не жди от него снисхождения никто.
О царе Михаиле в эту пору мало кто думал. И только близким к царю людям показалось, что Мария Хлопова приглянулась царю. Было же не совсем так. Михаил смирился с неизбежностью женитьбы. И Мария не смогла выветрить из сердца Михаила образ Ксюши — та короткая встреча с дочерью Катерины, как и предполагала она, оказалась роковой, — которая из отроковицы превратилась в прекрасную девушку. И не было дня, на время которого царь Михаил забыл бы свою несравненную. Но он хорошо понимал, что Ксюша для него — запретный плод и ему не дано им владеть, как бы он того не желал.
В Кремле начались хлопоты о предстоящей царской свадьбе. И ещё никто не знал из приближённых царя, что свадьбе не суждено состояться. Чёрная зависть князей Салтыковых, не сумевших навязать царю свою юную княжну Анну, проросла их преступным деянием. И вместо венца и супружества бедную Марию Хлопову поджидало несчастье, сломавшее жизнь не только ей, но и всему роду Хлоповых.
Однако это несчастье неожиданным образом ушло в тень от царского двора, оттеснённое иными крупными событиями. Из Варшавы вернулся думный дьяк Иван Грамотин. Он ходил с полномочиями, дабы договориться о переговорах с королём Сигизмундом о мире. И хождение в Польшу Ивана Грамотина оказалось успешным. Сигизмунд дал согласие готовить мирный договор и обещал послать в Москву своих дипломатов. Они появились в России неожиданно и вскоре же следом за возвращением Грамотина. Остановились они, однако, не в Москве, а в деревне Деулино, близ Троице-Сергиевой лавры. Там же предложили вести переговоры о мире. В Кремле такому желанию поляков удивились. А государыня Марфа назвала поведение послов порождением строптивости и гордыни и велела звать в Москву. Они же отказались, но выпросили позволения митрополита Ефрема посетить Троице-Сергиеву лавру.
Позже выяснилось, что среди польских послов был полковник пан Хмельницкий, который все шестнадцать месяцев осады лавры мечтал подняться на крепостную стену и поднять над нею польское знамя. Теперь же пан Хмельницкий был обуреваем желанием посмотреть на крепость изнутри, узнать, почему она оказалась неприступной.
Переговоры в Деулино тянулись долго. Польские послы имели повеление короля Сигизмунда ни в чём не уступать от тех требований, какие он предъявлял России. Думный дьяк Иван Грамотин и князь Иван Романов, как ни бились, не могли добиться даже самых малых уступок с польской стороны. А они требовали от России отказаться от претензий на города Смоленск, Дорогобуж, Белый, на множество селений вдоль всей границы с Польшей. Они предъявляли России требования отказаться от всех оборонительных сооружений по западной границе. Но и это было не всё. Они настаивали вернуть Польше всех пленных, не давая никаких обязательств на возвращение пленных россиян.
Иван Грамотин прервал переговоры и вместе с князем Романовым умчал в Москву, дабы доложить о претензиях поляков Боярской думе. Но прежде он встретился с государыней Марфой. Ей он сказал:
— Несговорчивые ляхи и слышать не желают о том, чтобы побудить королевича Владислава отказаться наконец от посягательств на русский престол. Они же твердят что на Руси есть один законный государь — Владислав.
— Анафему на их голову шлю! — воскликнула Марфа. И распалилась, посылая на головы поляков все напасти.
Думный дьяк с трудом остановил государыню, пытаясь доказать, что в нонешнем положении России придётся идти Польше на уступки.
— А соберёмся с силами, матушка-государыня, мы своё возьмём, не мытьём, так катаньем.
— Ну, коль угодно Всевышнему — уступим. В одном стой насмерть, дьяк Иванушка Тимофеич, вызволи какой угодно ценой нашего батюшку Филарета и князя Василия, отдай им дюжину пленных ляхов. Истомились они там, свету белого не видя.
Выслушав государыню Марфу, Иван Грамотин предстал пред думными боярами. Доложил обо всём по порядку и слушал их противоречивые советы вполуха. О митрополите Филарете и князе Василии они вовсе не попеклись, но требовали от Грамотина, чтобы он не уступал полякам ни пяди лишней российской земли.
— Мы уже дорого заплатили ляхам за мир, чего стоит один Смоленск, — заявил Фёдор Мстиславский.
Покидая Грановитую палату, дьяк Грамотин оставался при одном твёрдом убеждении: государыня Марфа болела за державу больше, чем многие думные головы. И вернувшись в Деулино, посол проводил её линию.
Переговоры с польскими послами затянулись почти на три месяца, до февраля 1619 года. И только 15 февраля вместо договора о прочном мире было заключено соглашение о перемирии на четырнадцать с половиной лет. Так настояла польская сторона, не добившись от России всех уступок, на какие рассчитывала. И никто толком не мог сказать, почему полякам требовалось четырнадцать с половиной лет. Они, однако, нарушат перемирие значительно раньше. В этом же соглашении был оговорён обмен военнопленных поляков на томившихся в заточении митрополита Филарета и князя Голицына. Ещё неведомо где пребывавших в неволе лазутчиков Арсения и Антона.
Глава восемнадцатая Освобождение
В Мальборгском замке в эту зимнюю пору медленно угасал славный русский князь Василий Голицын. Он умирал на руках у Филарета. Ум его и память и речь оставались ясными, как в пору зрелости, и держался он мужественно, не сетуя на судьбу. Лишь неизбывно страдал об отчизне.
— Ничего так не желаю, любезный друг, как прижаться к родной земле. Там и лечь в неё. И чтобы берёзы шумели над могилой, чтобы багряный клён шелестел листвой рядом и речка Лама журчала на перекатах. Ещё чтобы кто-то посадил и вырастил близ могилы рябину. И тогда по осени, когда нальются рдяным соком её гроздья, ко мне прилетали бы дрозды, и я слышал бы, как они склёвывают ягоды и поют на досуге.
Князь говорил тихо, Филарету приходилось напрягать слух, и он был терпелив, он знал, что таким голосом князь мог предаваться воспоминаниям часами. Филарет не перебивал его, не останавливал, чувствуя сердцем, что пока князь говорит, он живёт и эта жизнь наполнена содержанием. Князь Василий прожил достойную жизнь, многажды водил рать в битву с врагами: бился против Ивана Болотникова, от шведов защищал Новгород и Псков, дрался против ляхов. Он не блистал даром большого воеводы, но ни разу не покрыл себя позором бегства, малодушием, предательством. Он был честным и мужественным воином, добрым христианином.
— Не ведаю я одного, возьмёт ли меня Всевышний в эдемово царство. Или я великий грешник и мне уготовано пройти все двенадцать кругов ада и чистилища. Но на душе у меня покой, и меня не угнетают угрызения совести, потому как жил по заповедям Господа Бога....
Филарету не нужно было утешать Василия. Он знал, что князю уготовано — не преисподняя, а вечное блаженство в сонме чистых душ. Даже хотя бы за те муки, какие он претерпел за долгие девять лет заточения в польском плену. Он искупил все свои грехи, ежели были таковые, терпением и стойкостью, смирением пред волею судьбы.
А судьба к ним в эти годы была жестока. Она довлела над ними в образе изощрённого и коварного иезуита-богослова Петра Скарги, воплотившего в себе множество пороков немилосердного к инаковерующим католика, проводника иезуитских планов в борьбе с православной верой. Пётр Скарга наведывался последнее время к узникам дважды в год и всё пытался сломить их дух. Чтобы вдохновить себя, Скарга ездил в Рим, там добился приёма папой римским Павлом V — Камилло Боргезе. Папа узрел в богослове Петре фанатичность и поощрил её. Он благословил его деяния и побуждения короля Сигизмунда обратить в католичество русских митрополита и князя. И хотя Пётр Скарга повинился папе в том, что пока ему не удалось достичь какого-либо успеха, папа выразил уверенность, что Пётр близок к этому. Разрешив Петру поцеловать туфли, папа напутствовал богослова изречением из Евангелия сомнительной чистоты:
— Сын мой, не сворачивай с избранного пути. Опирайся на заповеди Иисуса Христа. Он же сказал своим ученикам: достигайте цели любыми средствами.
Пётр Скарга провёл в Риме ползимы. Он встречался с братьями по ордену «Общество Иисуса», учился у них искусству обращения инаковерующих и язычников в католическую веру. Весной он вернулся в Варшаву и после короткой встречи с королём Сигизмундом уехал в Мальборгский замок. Сразу же появился в каземате узников и, как показалось россиянам, приступил к допросу Лицо его было похоже на маску беспристрастного судьи.
— Ты, московит, виновен в смерти нашего воина, а также в смерти бывшего дьякона Феофана, члена ордена иезуитов. Скажи, кто исполнял твою волю, как ты был с ним связан?
— Помилуй Бог, что ты несёшь?! — без какой-либо почтительности воскликнул Филарет — Ежели кто-то лишил живота отступника веры, то поделом, и мне остаётся только порадоваться. Но я в его смерти не виновен.
— У суда есть доказательства твоей виновности. Один свидетель жив, он видел, как твой человек убил Феофана. Есть твоё письмо, которое ты писал, дабы передать через того человека в Москву. Наши воины схватили двух соучастников, и они уже получили своё. Говори же, кто твой соучастник, сними с души своей грех.
— Что ты от меня хочешь? — вспылил Филарет. Он был невежлив и заведомо добивался, чтобы иезуит понял: его не боятся. — Веру я твою отвергаю, страсти уже все претерпел. Потому уходи и не мешай нам нести свой тяжкий крест.
Но изощрённого иезуита нелегко было сбить с избранного пути. Он разгадал заведомую дерзость Филарета и жёстко сказал ему:
— Тебя ждёт казнь. Но ты будешь вначале подвергнут обряду, тебя обратят в нашу веру. И всё это случится через два дня, а третьего ты не увидишь.
И тогда подал свой голос князь Василий, который лежал на скамье у стены:
— Богослов, зачем несёшь хулу на честного священнослужителя? Это моя вина в том, что убиты отступник веры Феофан и твой стражник. Ко мне шли россияне. Где твой суд? Я, князь Василий Голицын, предстану перед судьями.
Пётр Скарга подошёл к лежащему князю.
— Ты дышишь на ладан и потому выгораживаешь злодея. Дыши, но не ищи себе новых страстей. И сам я не желаю вам худа, но только предупредил, что ждёт вас от королевской немилости. Но я протягиваю вам руку помощи. Идите в лоно моей церкви, вступайте в орден «Общество Иисуса», и вас минует кара. Мы милосердны и своих братьев в обиду не даём. А чтобы вы увидели корни нашего милосердия к преступившим законы, я пролью свет на наши нравственные правила. Наш путь доказательств «за» и «против» признает пороки и преступления нравственно-невменяемым состоянием грешника. И потому, по нашему уставу, всякое деяние может быть совершено и признано как нравственно-невменяемое, за что, как полагается, совершивший преступление не несёт ответственности пред судом человеческим. Когда при вожделении страсть толкает человека на грех, то сей грех ему не вменяется, — растолковывал иезуитские истины Пётр Скарга, вышагивая по каземату, — потому как он совершил его помимо своей воли. — Пётр остановился перед Филаретом, поднял руку и осенил его крестом: — Исповедуйся, сын божий, и рука Иисуса освободит тебя от чувства вины.
Филарет смотрел на проповедника богомерзских уставов с усмешкой. Он понял, к чему клонил иезуит: с каким бы грехом ты к нему не пришёл, он избавит тебя от мук совести, и ты даже не будешь наказан ни гражданским судом, ни судом чести. Но духу россиянина было противно пускаться в спор с богословом и доказывать безнравственность устава ордена иезуитов. Он хотел одного, чтобы Скарга поскорее оставил их в покое.
— Ты, богослов, не распинайся, но веди меня на суд праведный. Иного же не добьёшься, — сказал Филарет и отвернулся от Скарги.
Но Пётр не сказал Филарету больше ни единого слова, а повернулся к двери башни, открыл её и позвал стражников. В каземат вошли четыре воина. Скарга распорядился:
— Отведите их в костёл Мариенбурга.
Два воина схватили Филарета за руки, заломили их и повели. Он попытался сопротивляться, но его усилия ни к чему не привели. Других два воина стали поднимать с ложа князя Василия. И Филарет взмолился:
— Святой отец, прояви милость к немощному, возьми с меня за двоих!
Скарга внял крику Филарета, понял, что сочувствие к больному сделает его уступчивее. Он отослал стражников и сказал:
— Хорошо, я принимаю твоё условие. И завтра возьму с тебя за двоих. — И Пётр Скарга покинул каземат.
Присев на ложе к князю, Филарет долгое время сидел молча и думал о том, что ждёт его завтра. Он понял, что им уготовано насильственное обращение в католичество. Не понимал Филарет только одного: зачем это кому-то нужно, ежели их ждала казнь. По спине Филарета пробежал озноб. Знал он, что и на Руси было такое, когда иноверцев и язычников приводили в христианскую веру силой, особенно по глухим местам державы. Не все поддавались насилию, были и такие, кто сжигал себя. Рассказов об этом Филарет наслышался, пребывая в Антониево-Сийском монастыре.
От беспокойства и беспомощности Филарет не мог сидеть, он ходил по каземату, скрывался в небольшом соседнем помещении, там ходил в одиночестве. И вдруг его внимание привлекла ниша. Он и раньше многажды видел её, но не придавал значения. Но тут решил осмотреть, и когда заглянул в неё, то увидел уходящий вверх, проложенный в стене лаз. Опустившись на колени, Филарет заглянул в него и увидел, что лаз слабо освещён падающим откуда-то сверху светом. Ещё он увидел скобы, заделанные в стену. Лаз был узкий, и человек потучнее не протиснулся бы в него. Филарету оказалось тесновато только в плечах. Но развернув плечи в углы, Филарет взобрался по скобам сажени на две и оказался в небольшом каменном помещении второго этажа башни. Он увидел рядом с лазом заделанные в каменный пол скобы, тяжёлую чугунную плиту и дубовую пластину, пораскинул умом и понял, что если лаз закрыть плитой и зажать её брусом через скобы, то никакой силы не хватит проникнуть кому-то в этот каземат. Филарет обследовал помещение и нашёл у бойницы каменную чашу, в неё был опущен жёлоб, и она была наполнена дождевой водой. В стене, которая выходила во двор замка, он увидел ещё две ниши, в них стояли деревянные кади с крышками, наполненные чечевицей. Возле кадей стоял светильник с жиром, тут же лежали кремень, кресало и трут. Даже отхожее место нашлось. Его отверстие было заложено плоским камнем.
— Господи милостивый, да тут же можно долгую осаду выдержать! — воскликнул возбуждённый Филарет. Он взял несколько плоских, круглых и бархатистых зёрен чечевицы и попробовал их пожевать: съедобны. Ещё зачерпнул из чаши воды ладонью, отпил и остался доволен. И тогда поспешил вниз, дабы рассказать о находке князю Василию.
Голицын не проявил особого интереса, когда выслушал Филарета. Но согласился с ним подняться вверх и там найти спасение от происков богослова-иезуита.
— Ты прав, брат мой, там мы можем умереть христианами православной веры, не осквернив и не предав её, себе без позора.
В оставшееся до темноты время они перебрались наверх. Филарет поднялся первым, перед тем обвязав князя верёвкой по груди, помог ему взобраться. Потом он перенёс в новое убежище соломенные тюфяки, скудный свой скарб, глиняную посуду, образ Богоматери и лампаду с гарным маслом.
Закончив переселение, Филарет закрыл лаз плитой, задвинул в скобы дубовый брус, осмотрел всё внимательно и понял, что к ним в укрытие можно проникнуть только с помощью взрыва. Уже стемнелось, когда возбуждённые узники утихомирились и прочитали на сон грядущий молитву.
— Господи, помилуй нас, на Тебя уповаем: не прогневайся на нас зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави нас от врагов наших, — громко произносил тропарь Филарет.
А князь тихо вторил ему:
— Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, все дела руце Твоею, да избавимся Тобою от бед...
В ту ночь Филарет и Василий спали крепко и без сновидений. Верили, что они под надёжной десницей Всевышнего. Утром они услышали, как пришли в башню стражи, как искали их, как убежали за богословом. Сие Филарет увидел через бойницу, выходящую во двор. И прибежал Пётр Скарга. Лицо его искажали гнев и страх. Он кружил по каземату, сыпал на головы узников проклятья и матерные слова, ругал стражников, потом все скопом ушли к хранителю замка пану Гонте. Филарет, наблюдая за богословом, посмеивался.
— Ишь, засуетился как хорёк, богомерзостью озадаченный.
— Достанут они нас, возьмут не мытьём, так катаньем, — устало отозвался князь Василий.
Вскоре богослов вернулся. За ним, едва поспевая, шёл пан Гонта. В баш не он показал Скарге нишу с лазом наверх.
— Там они, — сказал Гонта и объяснил, как Филарет и Василий скрылись наверху.
Голоса внизу звучали глухо, и до слуха Филарета доходили лишь отдельные понятные слова. Но вот кто-то поднялся по лазу, застучал железом о люк. Раздался грубый и сильный голос:
— Эй, открывайте!
Филарет и Василий молчали. Они условились не отвечать ни на какие призывы. И потом в течение всего дня, пока Пётр Скарга призывал их к благоразумию, они ни словом не отозвались.
Их «сиденье» длилось больше двух недель. И каждый день Пётр Скарга и его люди пытались проникнуть наверх башни, но оказались бессильны. А на увещевания богослова узники не отвечали. И тогда Пётр Скарга отказался от королевской затеи обратить узников в римскую веру, дал им возможность умереть от голода.
— Я желал им добра, — сказал богослов пану Гонте, уезжая.
Пан Гонта не открыл Петру Скарге тайну каземата, не сказал, что узники не могут умереть от голода по крайней мере с месяц.
Через сутки после отъезда богослова Филарет спустился вниз, попытался выйти из башни, но двери оказались запертыми. И прошли ещё сутки, когда в башню пришёл пан Гонта.
— Матерь Божия даровала вам спасение, московиты, — приветствовал их хранитель замка. — Идите ко мне и вкусите пищи.
С тех пор прошло больше года. Первое время узники прятались на ночь в своей маленькой крепости. Но Пётр Скарга больше не появлялся в Мальборгском замке. Король Сигизмунд давно забыл о русских пленниках. Польша рассталась с надеждой овладеть российским престолом, и потому всё русское предавалось забвению. Так же поступил и Пётр Скарга в отношении русских узников. Лишь пан Гонта по-прежнему не стеснялся заставлять Филарета работать у себя по хозяйству. Он же не гнушался никакой работы и находил в ней забвение от горьких дум о судьбе князя Василия, о своей. В работе он забывался от тоски по родным и близким, по отчизне.
Хуже было князю Василию. Он уже не мог выходить из башни, силы его истощились и он продолжал медленно угасать. В его жизни наступило временное оживление лишь в тот день, когда узникам принесли весть о скором их освобождении. В Мальборгский замок приехал чиновник из Варшавы и объявил Филарету и Василию о том, что их вот-вот повезут в Россию и там обменяют на польских пленных.
Услышав о близости столь долгожданного освобождения, узники, не стыдясь слёз, заплакали. Но если Филарет радовался скорому свиданию с родными и близкими, то князь Василий лишь рвался душою к родной земле, дабы увидеть её, приласкать да и лечь на вечный покой.
Но путь узников в Россию оказался неблизким и долгим. В середине мая в Мальборгский замок вновь прибыл чиновник в сопровождении жандармов. Они посадили Филарета и Василия в крестьянскую телегу и повезли не к Псковщине, коя была совсем близко от Мариенбурга, а на юг, к Вильно и дальше, в сторону Варшавы. Ехали медленно, делали в день не больше тридцати вёрст Труден и скорбен был этот путь для узников Мальборга. Князь Василий доживал последние дни. Митрополит ничем не мог его утешить, лишь по просьбе князя читал на память псалмы. Он помнил многие хвалебные песни Давида и его псалмы на дни недели.
— Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви Себя, — начинал Филарет тихо, не выпуская из своей руки холодную руку князя. — Воздай, Судия земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие, речи величаются все, делающие беззакония. Пожирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твоё, вдову и пришельца убивают и сирот умерщвляют. И говорят: не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди!
Князь Василий в такие минуты закрывал глаза. И голос Филарета, казалось ему, доносился из небесной выси, славный, всегда успокаивающий, всегда милосердный к ближнему. Князь благодарил Бога за то, что послал ему на годы заточения такого душевного и стойкого духовного отца. Как часто в минуты отчаяния князь предавался греховным помыслам об избавлении от земной юдоли. Но Филарет каждый раз развеивал его чёрные побуждения и вселял в него жажду жизни. Голос Филарета продолжал завораживающе звучать:
— Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумлявши Ты, Господь, и наставляешь законам Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому роется яма! Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего!
Так, под чтение псалмов и молитв, узники достигли Вильно. Весь путь Филарет просидел рядом с Василием, ничего не видя окрест, а только бледное лицо друга, уже похожее на маску. Митрополит не выпускал руку Василия и потому удерживал его на белом свете. Но как прибыли в Вильно и расположились на постоялом дворе, князь Василий, которого перенесли в помещение и положили на топчан, открыл глаза и тихо сказал:
— Исповедуй меня, брат мой и отец мой и незабвенный сотоварищ-друг на всём моём тернистом пути. Печалуюсь об одном, о том, что не достиг порога отчего дома. Но я умоляю тебе, довези меня до свободной русской земли и похорони там...
— Обещаю, брат мой! Целую крест пред ликом Господа Бога, что всё исполню, как твоей душе угодно.
Князь Василий пошевелил рукой, Филарет понял это движение, взял его за руку.
— Настал час, исповедуй же, прими моё покаяние, причасти... — последнее слово князь произнёс уже так тихо, что Филарет лишь по губам понял его значение.
И Филарет исполнил таинство исповеди, покаяния и причастил князя Василия. Он же после этого закрыл глаза и будто уснул. Но Филарет знал, что князь уже никогда больше не откроет своих глаз. В вечернем сумраке в покой влетели Святые Духи, взяли душу усопшего и вознеслись с нею в Царство Небесное. Филарет опустился на колени близ тела покойного и всю ночь читал молитвы, читая их, он плакал, не замечая слёз. В эти часы он ничего не помнил о себе, о том, что нужно делать какие-то дела. Вся сила его души была отдана усопшему, будто он надеялся воскресить ставшего ему родным князя.
Под утро затмение Филарета прошло, горе утраты побудило его к действию. Он потребовал от сопровождавших его служилых чинов, чтобы из Вильно открыли прямой путь на Сморгонь, на Молодечно и Минск, чтобы как можно скорее доставить тело князя в Россию. Однако ни просьбы, ни мольбы, ни требования не пробудили сочувствия в сердцах польских чиновников. Ему было велено похоронить князя в Вильно. Филарет не сдавался. И, кажется, нашёл верный путь к чёрствым душам чиновников.
— Князь Голицын был очень богат, и вы получите хорошую награду, если проявите милосердие и доставите князя в Россию.
— Как можно верить тебе, московит ежели ты сам нищий, — отвечали чиновники.
— Вы должны мне верить! Я отец русского царя, и у меня есть достояние, дабы заплатить за хлопоты и труды.
И Филарету удалось побудить поляков совершить доброе деяние. Всё пришло в движение. Кто-то отправился покупать гроб у виленских мастеров, кто-то добыл большой ларь и наполнил его льдом в леднике у пивовара. Тело усопшего переодели в новые одежды, гроб поставили в ларь со льдом, всё засыпали опилками. И спустя день из Вильно выехал траурный поезд. Мчали на перекладных, не останавливаясь на ночлег, на отдых, позади оставили Минск, Смоленск, Дорогобуж. И впервые в жизни Филарет молил Бога о том, чтобы послал сопровождавшим его полякам все земные и небесные блага. На девятый день пути тело покойного было доставлено в его родовое имение и там, после отпевания в церкви, предано земле.
Когда обряд погребения был завершён, полякам щедро заплатили и они вновь взяли Филарета под надзор и теперь уже, по ритуалу посольской договорённости, повезли на речку Поляновку, где всё было приготовлено к обмену пленными. Ехали теперь медленно и, кажется, долго. Сам Филарет потерял счёт времени. Он был в каком-то полузабытьи. Сказались долгие годы лишений, страданий, духовные и телесные муки — бесконечно долгий путь по терниям. И неведомо что давало силы Филарету преодолевать выпавшие на его долю жестокие испытания. Да всё сводилось к одному: помогли ему выстоять в борении с невзгодами его крепкая вера в Господа Бога, в предначертания судьбы и провидения, которые вели его по жизненному пути. Но Филарет не только уповал на Всевышнего. Он и сам каждый день своей жизни утверждал праведным трудом и жаждой творить добро. Он отдавал себя людям, служил им, не требуя ничего взамен, и от этого становился не беднее и слабее, а день ото дня укреплялся в духовной и нравственной силе. Не скудела и плоть его, потому как он давал ей ту пищу, от которой прирастают не телеса, но мощь и крепость.
По мере движения по родной земле, которую не видел долгих девять лет, Филарет обрёл равновесие, ясность ума и жажду всё вокруг видеть, примечать и запоминать. Правда, на пути к свободе по родной земле он мало увидел чего-либо отрадного. Вся Русь западнее Москвы лежала в разорении, от многих деревень остались лишь заросшие бурьяном пепелища, пашни заросли кустовьем и кочкарником. Крестьяне, что встречались на пути, выглядели полудикими жалкими нищими. Многие пошатнулись в вере и разучились осенять себя крестом. В деревнях и селениях почти не было видно детей, будто русские бабы вовсе перестали рожать. К неутешительному выводу пришёл Филарет, пока добрался до речки Поляновки: последствия смуты ещё царствуют в России и их надо преодолевать. И сделать сие можно только тогда, когда в державе будет сильная государственная власть.
Но вот, наконец-то, Филарета привезли на долгожданную речку Поляновку. На восточном берегу Филарет увидел полевой стан. Там многие россияне чем-то занимались. Несколько плотников заканчивали сооружение второго деревянного мостика через речку. С появлением Филарета за рекой раздались возгласы, крики, в небо взлетели шапки.
Процедура обмена была медленной. Вначале меж собой поговорили посольские люди, поляки известили россиян о смерти князя Голицына. Потом те и другие ушли совещаться, а как сошлись второй раз, то уже ненадолго. И тотчас с русской стороны привели группу пленных поляков. Тут же польские уланы взяли Филарета за руки и повели к левому мостику. Но тут чиновникам взбрело в голову пререкаться, кому первыми отпускать пленников. Поляки требовали своё, а князь Катырев, которого Филарет узнал, — своё. Споры затягивались, потому как каждая сторона защищала свой интерес, боясь подвоха. Терпение у Филарета лопнуло, и он крикнул через речку:
— Эй, россияне! Эй, князь Катырев, отпустите с Богом поляков, пусть идут домой, а там и мой черёд придёт.
Россияне, однако, медлили. Ведь они хотели видеть не только Филарета, но и князя Голицына. Филарет понял суть спора и отозвался:
— Не будет князя Василия, он умер в пути и предан земле.
И над речкой повисла тишина. Путь по правому мостику был открыт и пленные поляки поспешили к своим, радуясь обретённой свободе. И среди них, если бы у Филарета было острее зрение, он увидел бы братьев Юзека и Юлиана, сыновей пана Гонты. Они же увидели его и закричали. Филарет понял, о чём его спрашивали и кто, ответил:
— С Божьей помощью все ваши живы и здоровы! — Увы, всей правды он не сказал, скрыл, что жена одного из братьев сбежала из замка.
Но вот, наконец, поляки приняли своих воинов и уланы отпустили руки Филарета. Он вступил на шаткий мостик, отделяющий его от отчизны. Он шёл степенно. А близ мостика уже толпились царедворцы, и в центре их Филарет увидел своего сына, царя Михаила. Тот растолкал придворных и ринулся к отцу. Филарет прижал сына к груди, многажды поцеловал его в мокрое от слёз лицо, да так они и пошли в обнимку к ожидающей их карете. Случилось это в начале июня 1619 года.
В Москве царь Михаил и Филарет появились спустя несколько дней. По просьбе Филарета они возвращались кружным путём. У тверской заставы, на виду у тысяч москвитян царь и митрополит вышли из кареты и вошли в Москву пешком, держась за руки. Видя это единение, москвитяне радовались, потому как узрели доброе предзнаменование. К великому счастью москвитян и всех россиян, они не ошиблись в своём предчувствии. Все деяния царя Михаила и его отца долгие четырнадцать лет говорили о том, что во главе России встали два достойных радетеля земли русской.
Глава девятнадцатая Дела семейные — дела государевы
Однако не все россияне радовались возвращению Филарета. Были среди них такие, которые знали о нём не только как о милосердном христианине, но и как о человеке крутого нрава, отменно суровом в минуты гнева. Среди царедворцев возникло смятение. Им было привольно жить при мягкотелом царе, который ещё не вызрел умом и характером. Но как бы кто-то не желал видеть в Москве Филарета, судьбе было угодно, чтобы он вернулся в неё, в родительский дом, на милую Варварку. Как часто он её вспоминал в мальборгском заточении. Ведь здесь, на Варварке, прошли его лучшие годы жизни: детство, молодость, полная дерзаний, да и зрелые годы было чем вспомнить. Теперь всё это было в прошлом и жизнь нужно было начинать заново.
И не было случайностью то, что от речки Поляновки Филарет добирался полторы недели. За эти дни Филарет и его сын царь Михаил побывали в калужской и тульской землях, во многих городах и селениях московской земли. В этой поездке Филарет не проявлял воли к действию, нигде и никого не побуждал к делам, не осуждал за нерадивость. Он хотел лишь увидеть жизнь россиян во всей обнажённости и взирал на неприглядную российскую действительность жадно и с состраданием. Он и сына побуждал к тому, чтобы тот смотрел на всё пристально и всё запоминал.
Сам Филарет от всего увиденного был повергнут в уныние и ощутил глубокую душевную боль. Ещё в пути от Смоленска до московской земли он увидел лишь малые ростки восстановления порушенного. Теперь же, во время поездки с царём, он убедился в том, что за шесть лет царствования Михаила в державе ни на шаг не придвинулись к благополучию, не вырвались даже из объятий разрухи и нищеты. Филарет пока не знал, чем это вызвано, но душою почувствовал, что кому-то такая держава, где всё развалилось и продолжает ползти к полному упадку, выгодна. Ведь у тех «доброхотов» есть право и основания обвинять государя в беспомощности, в неумении управлять державой и навести в ней порядок.
Вернувшись в Москву после десятилетней разлуки с нею. Филарет ещё долго пребывал в стороне от державных и церковных дел. У него было право отдохнуть и набраться сил. Но это было лишь видимое безделье Филарета. Иногда он покидал палаты, ходил по Москве, появлялся на торжищах и пристально наблюдал за жизнью россиян. Он побывал в слободах ремесленников, в московских монастырях. Позже, пользуясь правом царёва отца, он обошёл все державные приказы и там вёл беседы со служилыми дьяками и подьячими. Он узнал состояние государственной казны, изучил роспись доходов и приходов. Порою он возвращался в тот или иной приказ и приводил с собой царя Михаила, собирал приказных дьяков и вёл с ними беседу. Из этих бесед вытекало, что приказы работают не так, как нужно, указы исполняются вяло или вовсе не исполняются, на земские приговоры в приказах смотрят сквозь пальцы и считают необязательным приводить их в действие.
После того как Филарет понял, что просветил сына о положении дел в приказах, он попросил Михаила собрать Боярскую думу в неурочный день.
— Мы с тобой, сынок, должны знать доподлинно, как бояре радеют над устройством государства, — сказал Филарет Михаилу.
Царь Михаил внимал каждому слову отца с благоговением и безусловно боготворил его. Всё, о чём говорил ему отец, он не подвергал сомнению. И если отец сказал, что надо послушать думных бояр и дьяков, значит так сие и должно быть.
Неурочный созыв Боярской думы вызвал среди царедворцев кривотолки. Старица-государыня Марфа попыталась даже запретить царю Михаилу собирать Думу. Но Михаил поступил так, как просил отец. Во время заседания Думы Филарет ничем себя не проявил. Он сидел рядом с боярином Фёдором Шереметевым, изредка переговаривался с ним, но больше молчал и слушал, да с особым вниманием тех, кто был близок к Романовым по родству и свойству. Перед заседанием Филарет подсказал сыну, о чём вести разговор в Думе. Хотел Филарет знать, что делают думцы и земцы, дабы возвращать крестьян на заброшенные земли, как думные головы относятся к воеводам по областям и к воеводству в целом. И высветилось, что крестьянством никто толком не занимается, а областных воевод бояре лишь всячески чернили. Ни у кого из них не нашлось доброго слова.
Сам Филарет считал воеводу главной движущей силой на пути державы к выходу из разорения и нищеты. Он и к земцам в областях относился так же. Не случайно же во время смуты Россия выстояла благодаря земскому движению и усилиям воевод из областей. Их полномочия в ту пору были чрезвычайными. Они держали в своих руках военную и финансовую власть, поместное управление, ремесла и торговлю. Конечно, считал Филарет, воеводы должны быть исправными исполнителями царских указов, различных предписаний державных приказов. Но как часто эти указы и предписания были ошибочны. И только умный, бескорыстный и честный воевода мог с пользой для державы применить в своей области все веления стольного града.
Просидев весь день на заседании Думы и наслушавшись споров и ругани, Филарет опечалился. Он увидел, что думские головы вовсе не сведы в том, как живёт Россия за московскими заставами, и не понимают воеводских забот, а всё дело управления воеводами находится в полном расстройстве. Филарет был возмущён. Но ещё больше он возмутился оттого, что бояре старых именитых родов ни во что не ставили молодого царя, не слушали его, когда он говорил, вели праздные разговоры. Князь Юрий Черкасский пытался усовестить их, но напрасно. Бояре лишь усмехались в бороды да горлатные шапки натягивали пониже на глаза. Они хорошо знали свои права, которые отвоевали у молодого царя, когда сажали его на престол. Оно так, размышлял Филарет, его сын никогда не преступит крестного целования и никого из вельмож не будет казнить ни за какие тяжкие преступления, поди и ссылать не будет, как ссылал сотнями Борис Годунов. Но царь, однако, их отец, и его должно уважать.
Филарет вник в ту подкрестную запись, на которой целовал крест царь Михаил. Она, эта запись, лишала государя всякой власти. Всё он должен был делать только с ведома Боярской думы, и она же управляла державой. И правительница Марфа порою была бессильна против думцев. Размышляя по сути, Филарет мог бы согласиться с этим, если бы не знал тех дремучих голов, кои заседали в Боярской думе. Все они хорошо усвоили одно: грести под себя зёрна, отметая плевела. Выяснил Филарет и другие сделки думных бояр с совестью. В ту пору, пока он пребывал в польском плену, бояре потребовали от Земского собора оградить их законом от какого бы то ни было царского произвола. О каком произволе шла речь, Филарет не знал. По характеру своему милосердный Михаил и мухи не мог обидеть. Из всего этого напрашивались печальные выводы, и потому Филарет пришёл к мысли о том, чтобы попросить царя собрать Земский собор. Он надеялся, что ежели побудить выборных всей земли к действу, то они сделают для державы больше, чем Боярская дума и государевы приказы в том виде, в каком они пребывали. Филарет был уверен, что земцам удастся всколыхнуть народ, поднять его на «государево дело», на исполнение гражданского долга во имя России. Земцы смогут избавить народ от шатания, порождённого в годы смуты.
В эту пору царь Михаил ещё занимал палаты царицы Анастасии. И Филарет поселился в них, потому как с Варварки не всё было видно, что происходило в Кремле. И как-то вечером, за трапезой, он спросил Михаила:
— Сын мой, ты будешь в согласии, ежели я попрошу тебя провести Земский собор? Чем там выборные живут, хотелось бы мне знать.
— Как скажешь, батюшка, так и будет.
— Вот и славно. Ты его после нового года в пору бабьего лета и собери. Добавлю к тому то, что тебе важно помнить: ноне Земский собор может быть сильнее Боярской думы, ежели призвать его к усердию.
Филарет наставлял сына исподволь и не навязывал ему своего мнения о государственных делах, разве что вот о земцах дал понять. Но беспокойство у Филарета по поводу сына имелось. Хотя Михаилу шёл уже двадцать третий год, он ещё не созрел для важных государственных решений. А причина, как догадывался Филарет, была в том, что государыней в державе являлась мать Михаила, бывшая супруга Филарета, инокиня Марфа. Цепкий ум Филарета без труда определил роль Марфы в управлении делами. Она властвовала открыто, но узость её мышления сводила на нет её же усилия. Жажда оградить царский трон людьми по родству и свойству, поставить их во главе всех возможных государственных служб в конце концов сослужили ей плохую службу.
Честный и прямодушный Филарет понял, что ему и Марфе не дано быть вместе близ царя. Либо он не должен был вмешиваться в державные дела, либо она. Когда же здравый смысл подсказал, что её стояние рядом с сыном губительно отражалось на всей жизни России, то вывод напрашивался один. И было над чем подумать Филарету, прежде чем встать в открытую возле царского трона и отторгнуть от дел Марфу. Между тем в нём уже созрело убеждение, что его место только возле сына. Он верил, что в этом случае царствование Михаила будет благодатным для России. И оставалось одно: заявить о себе как о человеке, имеющем право на участие в государственных делах. Решение было принято, и Филарет вступил на тропу борьбы за своё место в державе.
Но, входя в круг государственных забот, вникая в них, Филарет не мог обойти стороной и семейные дела, потому как считал их неотъёмной частью державных. Ещё в первый день своей встречи с сыном Филарет узнал о тяжких переживаниях Михаила из-за того, как неудачно сложилось его желание жениться на Марии Хлоповой. Оказалось, что кому-то из царедворцев род Хлоповых не нравился, а кое-кто и боялся боярина Ивана Хлопова.
Когда ехали лесными дорогами калужской земли, Филарет попросил:
— Миша, расскажи, как всё было. Кто она, твоя избранница?
— Она боярская дочь, Мария Ивановна Хлопова. И смотрины были, и обручение — тоже. И батюшка Маши благословил нас...
— Знаю боярина Ивана. Помню его добрую семью. Хлоповы всегда тянулись к нам с открытой душой. Какая же напасть расстроила вашу свадьбу?
— Ведома мне та напасть, да не верю я в неё. Вскоре же после обручения и застолья Мария Ивановна, назвавшая себя в честь твоей тётушки Анастасией, заболела якобы какой-то чёрной хворью, а какой — не ведаю. Дальше — хуже. Сказано было мне, что Мария Ивановна не способна быть царицею, потому как роду-племени от неё не прибудет.
— Вон как повернули, проныры, — вздохнул Филарет.
— И ещё сказали мне лекари, что она не способна служить радостям государя. Холодна, говорили, аки вода в проруби.
— Ну, а матушка что сказала, защищала ли тебя и Хлопову?
— Ей Марьюшка приглянулась. И матушка была с нею ласкова. Бояр она увещевала, говорила, что лекари обмишулились, но бояре удила закусили.
— И что дальше было? — торопил сына Филарет.
— Совсем худо приключилось. Хворь Марьюшки сочли Божиим наказанием. И Боярская дума по настоянию боярина Михаила Салтыкова нашла в ней виновность. Её и всю семью Хлоповых приговорили к ссылке в Пелым или Верхотурье.
— Защитил бы невестушку. Ты ведь царь, — попрекнул Филарет.
Михаил молча и виновато посмотрел на отца. И Филарет без слов понял сыновью боль и то, что он был бессилен что-либо сделать. Отец прижал сына к себе.
— Держись, сынок, держись! Мы эти напасти одолеем и ещё выпьем кубок на твоей свадьбе.
Филарету было жалко сына, как бывает жалко сильному слабого. Он больше не затевал разговора о неудачном сватовстве, но сам запомнил всё, о чём рассказал Михаил, и дал себе слово во всём беспристрастно разобраться. Однако окунувшись в московскую жизнь, Филарет не скоро смог взяться за расследование причин опалы Марии Хлоповой и её родителей. Лишь спустя четыре месяца после возвращения из плена он нашёл возможность возбудить дело о Хлоповой вкупе с другими неблаговидными делами боярина Михаила Салтыкова, сына боярина Михаила Борисовича Салтыкова, первого рьяного царедворца у обоих Лжедмитриев.
Отстранённая московская жизнь Филарета завершилась. И как только он взялся расследовать дело Хлоповых, о нём заговорили царедворцы и все московские вельможи. Но и архиереи церкви не оставили Филарета без внимания. И первым его посетил местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий Ефрем. Сильно постаревший и страдающий ногами, он с трудом сошёл с амвона Благовещенского собора и в сопровождении услужителя пришёл в царские палаты, с укором сказал Филарету:
— Брат мой, ты уже многие дни в Москве, почему же не пришёл на совет архиереев, о коем тебя уведомляли? — Ефрем всегда был строг и прямодушен в общении.
Филарет выдержал суровый взгляд Ефрема и честно признался:
— Я был не готов, сомнения одолевали. Ты уж прости, владыко.
— Бог простит, — ответил Ефрем. — Приходи ноне вечером в патриаршие палаты на беседу.
— Приду, владыко, — ответил Филарет.
После вечерни, на которую Филарет пришёл вместе с царём Михаилом, митрополит Ефрем снова сошёл с амвона.
— Сын мой, государь-батюшка, — обратился он к царю, — я позвал твоего родимого на беседу. Не обойди и ты меня добротою, приходи испить сыты.
— Давно у тебя не был, отче владыко. Сей же час и придём, — с радостью отозвался Михаил.
Филарет посмотрел на сына с удивлением. Показалось ему, что голос у Михаила прозвучал звонче, чем обычно. И сердце в сей миг у Филарета дрогнуло. Отчего бы? И понял он, что вещает старое о какой-то напасти. И вспомнил: сказывали ему, что ясновидица Катерина, как и в прежние годы при Гермогене, служила домоправительницей в патриарших палатах. Давно Филарет о ней не вспоминал, утонули в памяти и её ясновидческие предсказания о том, как она нарекла ему быть патриархом всея Руси. И любовь к ней угасла. Оно и посмотрел бы на неё, да без нужды. Что тревожить минулое? Тут же Филарет вспомнил, что у Катерины есть дочь. Видел же он её лет десять назад. Тогда она была ещё малой отроковицей, но обжигала взглядом маминых глаз. Какова она теперь, девицей став? Да не было ли у сына Михаила мимолётной встречи с ней? И не оттого ли голос как колоколец прозвенел. «Ой, лихо Мишеньку ждёт, коль ожёгся!» — воскликнул Филарет в душе. И чего в том душевном всплеске проявилось больше, печали или удивления. Филарет не успел разобраться. Митрополит Ефрем о чём-то спрашивал, а он глухарём на того смотрел.
— Что ты сказал, владыко? — очнулся Филарет.
— Говорю, домоправительница Катерина по случаю праздничную трапезу приготовила.
Филарет только покивал головой и осмотрел храм, словно искал повод, дабы отказаться от гостевания. Богомольцы уже покидали собор, лишь вельможи царской свиты ждали государя, чтобы проводить его во дворец. Вот и царь Михаил пошёл к выходу и свита потянулась за ним. Филарет взял сына под руку, пытаясь вести его домой, ан Михаил за вратами собора повернул не к своему дворцу, а к патриаршим палатам. Он и свиту отпустил, и похоже, что спешил, шёл впереди Ефрема.
Ноги у Филарета потяжелели, стали будто деревянные, и он едва передвигал их. И теперь он уже откровенно боялся за сына, потому как утвердился в мысли о том, что Михаила влечёт в патриаршие палаты страсть, какою страдал и он, Филарет, с первого мгновения, как увидел Катерину-девицу. Это были сладкие страдания, они принесли Филарету истинное счастье любви. Но ведь он-то был всего лишь удалой князь, а сын-то — государь! И вспыхнуло в груди Филарета побуждение остановить сына, сказать ему, чтобы не шёл в патриаршие палаты, дабы не попасть безвозвратно в сети греховной страсти. Знал Филарет что и Ксюша, как матушка, сильна ведовством. Может, и от Бога оно, да суть не в том, всё равно налицо урон царской чести. И перед самым крыльцом у Филарета вырвалось незнакомое самому хриплое предупреждение:
— Сынок, родимый, остановись! Послушай, что скажу!
Ефрем же дверь открыл перед царём и Филарету сказал:
— За трапезой и скажешь, брат.
А Михаил смотрел на отца не то чтобы с вызовом, но спокойно и с достоинством. Да было в его лице ещё что-то загадочное, чего Филарет не смог разгадать. Он лишь беспомощно вздохнул и вошёл следом за сыном в патриаршие палаты.
В передней гостей встретили постаревший архидиакон Николай, много послуживший патриархам Иову и Гермогену, ещё воевода Михаил Бутурлин, которого Филарет увидел впервые, и Катерина. Рядом с нею стоял восьми летний сын Андрей.
— Вот и домочадцы ждут нас, — ласково пропел Ефрем и всех осенил крестом.
Они же низко поклонились царю. Да возникло некое замешательство, потому как Ефрем не знал, представлять ли ему «домочадцев». Но неловкую паузу оборвала Катерина:
— Милости просим, царь-батюшка, милости просим, владыко Филарет — кланялась Катерина. И, улыбаясь, добавила: — Гости желанные, сколько радости доставили нам. Вот и супруг мой, воевода Михаил Бутурлин, вернувшийся ноне с порубежья, кланяется вам и многое поведает о делах на западном рубеже, — частила Катерина.
Смущение прошло. Отрок Андрей подошёл к царю, смело сказал:
— Царь-батюшка, я хочу воеводой быть, как мой родимый, на коне скакать на войну.
— Не избудешь судьбы, отрок Бутурлин, — ответил Михаил.
— Да лучше бы нам вовсе не воевать, — вмешалась Катерина. И тут же ещё раз поклонилась Филарету. — Слава Отцу Всевышнему, что избавил тебя от мук пленения. Ноне же сбудется то, о чём ты запамятовал и что было тебе навеяно в давние годы.
— О чём ты говоришь, дочь моя? Всё прошлое в памяти выветрилось, — признался Филарет.
— Оно и во благо, и напоминать не буду, — ответила Катерина. — А у нас ноне прощальный ужин, мы себе новые палаты на Пречистенке поставили.
На пороге трапезной Филарет остановил Катерину, взял за руку.
— Ксюша твоя где? — спросил он не своим голосом.
Катерина внимательно посмотрела в горестно встревоженные глаза Филарета и всё поняла. И было ей легко понять, потому как сама болела за дочь и за царя.
— В опочивальне она и к столу не звана, — успокоила она Филарета.
— Вот и слава богу, — вздохнул с облегчением Филарет.
Стол в трапезной был накрыт, и митрополит Ефрем уже усадил царя на почётное место. Рядом же попросил сесть Филарета. Сам сел напротив них и Бутурлину показал место близ себя. Катерина же незаметно покинула трапезную, видно, такая необходимость возникла. Ефрем даже вослед ей посмотрел: ушла ли? И кубок взял.
— Дорогие гости, царь-батюшка и владыко Филарет, — начал Ефрем, — был у нас, архиереев, совет о сиротстве Русской Православной Церкви и доколь мне местоблюстителем патриаршего престола быть. И сошлись мы на том совете единодушно в одном: бить челом тебе, государь-батюшка, и тебе, владыко Филарет чтобы изошло от вас согласие.
— В чём же суть его? — спросил Филарет.
— А в том, чтобы ты, владыко, был венчан на патриаршество. Слово сие от всех архиереев церкви. Мы не видим достойнее тебя, владыко. За сие и пригубим по православному обычаю. — И Ефрем потянулся с кубком к царю и Филарету.
Но ни царь, ни его отец не поспешили отозваться на неожиданную речь местоблюстителя. Михаил слышал о побуждениях архиереев, но отнёсся к ним осторожно. И теперь смотрел на отца, пытаясь разгадать его отношение к новости.
А Филарет почувствовал, как в груди у него всё сжалось, и показалось ему, что даже сердце остановилось. И вспыхнуло видение: вековой дуб в лесу под Звенигородом, и он с Катериной под этим дубом, и её слова, как огненные письмена: «Быть тебе, князь Фёдор, патриархом всея Руси. А когда, за окоёмом не вижу!»
Вот он, окоём, придвинулся. Минуло с той далёкой поры более тридцати лет, и жизнь уже прожита, а пророчество сбылось. «Да прожита ли?!» — удивился Филарет и, ощутив в груди только жар горения, но не холод забвения, ответил Ефрему:
— Коль царь-батюшка не против взять в духовные отцы своего родимого, я дам согласие архиереям и всем православным христианам послужить им и Господу Богу.
И тогда сказал своё слово царь Михаил:
— Мне ли не согласиться! Батюшка мой многие мучения принял за веру, за Русь! Ему и быть патриархом на отраду мне и державе!
— Хвала Всевышнему, что побудил вас услышать молитву россиян. Да закрепим сию торжественную минуту Божиим питием! — И Ефрем побудил Михаила и Филарета взять кубки. И прозвенело серебро, и все охотно выпили медовухи, потому как знали, что пьют во благо.
И потекла беседа об устройстве церкви и державы, о неотложных делах. И все послушали воеводу Бутурлина о том, чем живёт Польша, о новых потугах королевича Владислава возродить мощь своего государства.
— Речь Посполитая нынче ослабела, король Сигизмунд Ваза умирает. Владислав, рьяный поборник войны, не добившись наследия Рюрика и Мономаха, в растерянности, потому как польская знать не желает воевать с Россией. Владислав угнетает своих вельмож. Они, по его мнению, одряхлели и не способны к победам... А на западных рубежах Польши появились сильные молодые государи — все враги Владислава. И потому нам нужно подумать, как ноне вернуть Смоленск и все исконные русские земли по Днепру...
Филарет соглашался с бывалым и умным воеводой. Он тоже считал, что Россия слишком дорого заплатила за перемирие. К тому же Филарету было что сказать о Польше. За долгие годы заточения в Мальборгском замке он по крупицам составил мнение об этом государстве. И сводилось сие мнение к тому, что в Польше одряхлела не только высшая знать, но и все шляхтичи, все чиновники государственной службы, и казалось Филарету порою, вся нация задыхается от старческой немощи. И ежели не произойдёт её омоложения, во что верилось с трудом, то Польша будет лёгкой добычей западных соседей, да прежде всего Австрии и Германии. И Филарет поделился своими размышлениями. Беседа была долгой, и он как-то не придал значения тому, что сын вышел из-за стола и скрылся из трапезной.
Михаил ушёл от беседующих не умышленно, но движимый непонятной ему силой. Покинув трапезную, он направился в ту половину дворца, где были покои домоправительницы. Он шёл к опочивальне Ксюши решительно, хотя душа его трепетала. Но он одолел робость, движимый одним желанием — увидеть несравненную Ксюшу. Он жаждал услышать её голос, прикоснуться к ней рукой, чтобы хоть немного усмирить ту боль, коя одолевала его вот уже шесть лет. За прошедшие годы он видел её всего несколько раз да и то мельком, но ни единожды лицом к лицу. Однако её образ жил в Михаиле ярко и неугасимо. Даже невеста Мария не могла вытеснить его, хотя сама она пришлась Михаилу по вкусу.
Влюблённый в Ксюшу царь знал, что девушку от него скрывают. Однажды он остановил Катерину и спросил её: за что такая немилость, почему он лишён даже возможности видеть её.
— Ведь я Ксюше никакого урону не принесу, ни чести её, ни совести, — убеждал царь Михаил Катерину.
Она же, опустив устало руки, но пристально смотря царю в глаза, сказала:
— Нет на то воли Всевышнего, чтобы видеться вам, царь-батюшка, — с тем и ушла.
В размышлениях о Ксюше царь летел сенями и вздрогнул, когда на его пути возникла Катерина. Что там греха таить, она стерегла дочь.
— Царь-батюшка, ты заблудился, — сказала Катерина ласково.
— Да нет. Я хочу увидеть Ксюшу, услышать её голос, сам сказать доброе слово.
— И скажи, а она услышит.
— Пусти меня к ней, а так что же?
— Да спит уже отроковица, — пустилась на хитрость Катерина.
— И хорошо. Дозволь на спящую глянуть. Ведь я же царь. Мне можно.
— Не желай себе худа, царь-батюшка. Ксюша для тебя токмо горе неизбывное, -твёрдо стояла на своём Катерина: не пускать царя в девичью.
Царь и Катерина стояли так близко друг к другу, что казалось, касаются грудью. Михаил даже пытался оттеснить Катерину.
— Не будет мне от Ксюши никакого лиха. — И тут Михаил сказал такое, от чего у Катерины зашлось сердце: — Ведь ты же токмо радость приносила батюшке. Божьей благодатью ты ему была!
— Господи, да откуда тебе ведомо, кем я для него была?!
— Слышал я твой разговор с матушкой. Ан батюшку я не осуждаю.
— Но твой батюшка был токмо князь и боярин. Ты же — царь.
— Что с того, ежели я покой потерял. У меня и душа и сердце есть, — пожаловался печально Михаил.
Катерина поняла царя. Да и как не понять, ежели знала, какой силы ожёг его огонь. И попыталась заглянуть в будущее дочери, узнать, что там, за окоёмом. Но странно, ничего не смогла увидеть. И поняла, что дочь сильнее её и крепко оберегает от постороннего ока свой мир. Ещё поняла, что уж если у Ксении загорится в душе свеча и Михаил будет ей люб, ничто не остановит девицу на пути к нему. И в сей миг поди царь шёл к ней по её воле. И Катерина уступила потерявшему покой царю, во всём положилась на волю Божью. Она склонила перед царём голову и отошла в сторону. И он, словно на крыльях, полетел к девичьей. Сама Катерина прошла в трапезную, незаметно села близ мужа и просила небесные силы, чтобы они не побудили в сей час Филарета искать сына.
Филарет и впрямь забыл в этот вечер о Михаиле. Он с вниманием и с болью в глазах слушал рассказ митрополита Ефрема о напрасных гонениях архимандрита Дионисия, сильного воителя и защитника отечества, и прежде всего Троице-Сергиевой лавры.
— Суд над Дионисием, ты уж прости, владыко, за истину, — продолжал Ефрем, — учинила старица Марфа-государыня по навету на него злых людей. И был сей суд возмутительный, издевательный и несправедливый. Вина же Дионисия малая: избавил молитву о водоосвещении от ненужной добавки «и огнём».
— Да и не вина сие, а доброе побуждение! — невольно воскликнула Катерина, хорошо зная благочестивого Дионисия.
Филарет выслушал Ефрема внимательно, на Катерину глянул. Он верил, что и Ефрем и Катерина не вознесут напраслины. И ответное слово его было суровым:
— Дионисий истинный боголюбец и великий радетель за православную веру. Я сниму с него опалу, кто бы её ни наложил.
В сей миг за спиной Филарета возник царь Михаил. Катерина заметила, что лицо его было освещено светлым сиянием. И Катерина поняла, что встреча царя и Ксюши была им во благо. Она и сама посветлела лицом, а чтобы Филарет сего не заметил, потянулась за кубком и выпила медовухи.
Однако Филарет заметил-таки отсутствие сына за столом, но не предал сему значения, мало ли что увело его. И беседа за столом не прервалась. Она давала будущему патриарху большую пищу для размышлений и пробудила в нём жажду деяний... Он ещё раз подумал о том, что для него кончилось время созерцательной московской жизни, что пришла пора страдных дел.
Глава двадцатая Филарет — патриарх всея Руси
Ни у одного из священнослужителей, князей веры, кто возглавлял Рускую Православную Церковь, не было таких терний на долгом пути к патриаршеству, какие выпали на долю Филарета. Истинно мученический путь прошёл сей пастырь с той поры, как в 1601 году подвергся со стороны Бориса Годунова опале, был пострижен в монахи и сослан в Антониево-Сийский монастырь, в северные земли под жестокий надзор приставов. Ан Русская Православная Церковь не сочла возможным причислить Филарета к лику святых. Поди и справедливо. По нраву своему, по духу он никогда не думал посвящать себя служению Господу Богу. В молодости — щёголь, любвеобильный князь, лихой гулёна и тут же человек, жаждущий познать все светские науки, в зрелые годы — думный боярин, государственный муж, политик, рьяно пекущийся о державном благополучии, нетерпимый к мшеломству, исправный христианин и не очень верный семьянин. Он никогда не задумывался над догмами веры, никогда не видел себя в роли подвижника православия, жил заботами, далёкими от церкви. Но судьбе было угодно изменить течение реки его жизни. Постриженный в монашество на сорок пятом году жизни, он не сразу смирился с отлучением от светской жизни. В монашестве нередко проявлял весёлый нрав, непочтительность к послушанию, забывал о молитве.
Но годы пребывания в монастыре прошли не даром. Он понял, что служение Господу Богу есть великая благодать, открывающая путь к совершенствованию духа и плоти. Ему, образованному человеку, было легче, чем другим, смириться с догмами церкви и веры, открыть в них тайну влияния на сознание, открыть беспредельность мироощущения, почувствовать прибывающую силу душевной стойкости и способность без надрыва освободиться от пороков светской жизни. Судьба была милостива к нему на пути восхождения по лестнице иерархов, дала возможность обогатить себя знаниями богословия. А служа митрополитом в Ростове Великом, Филарет постиг церковное искусство. Он умел направлять помыслы верующих на стремление к горнему миру и предостерегать людей от искушений. Его проповеди о вероучении были всегда доходчивы и глубоки. Позже, уже в плену, долгие споры с богословом-иезуитом Петром Скаргой укрепили в нём веру в то, что Русская Православная Церковь есть самая милосердная и человеколюбивая, она не угнетает духа верующих, но возносит его.
С годами Филарет обрёл духовную мудрость и талант пастыря. И судьбе было угодно указать на него как на первосвятителя Русской Православной Церкви. Но духовность истинного священнослужителя, каким стал Филарет, не вытеснила других его ярких положительных начал. В нём уживались и дух пастыря, и дух государственного мужа, боль и радение за церковь и за державу в целом.
И потому вечер, проведённый Филаретом в палатах патриарха в обществе митрополита Ефрема, воеводы Бутурлина и ясновидицы Катерины, не только побудил его надеть святительские одежды патриарха, но и взять в руки бразды государственного правления. Вернувшись в царские покои, Филарет удалился в свою опочивальню, прочитал молитву на сон грядущий, но в постель не лёг, а сел в кресло и взялся кропотливо перебирать в памяти всё то, что увидел, узнал за прошедшее время в Москве после возвращения из плена. Он вспоминал посещение государевых приказов, своё присутствие в Боярской думе, свои встречи со многими вельможами и служилыми людьми. И постепенно перед его взором высветились все изъяны государственного правления. И как не было печально сие знать, но родимой матушкой многих извращений была его бывшая супруга инокиня, Марфа-правительница или же — государыня, как величали её царедворцы. Она была полновластной хозяйкой державы. По её повелению издавались царские указы, она меняла неугодных ей служилых людей всех рангов, её волей снимались и назначались воеводы. Да многое же из того, в чём нуждалась разорённая Россия, опять же по её воле, вовсе не делалось.
Установив одну очевидную истину, Филарет двинулся к постижению другой. Могла ли властная женщина управлять государством только по наитию, не сведая в искусстве управления, подбирая на высокие должности людей лишь по родству и свойству, не способная охватить державу взором и не ведающая её скрытой мощи? Явно не могла, пришёл к выводу Филарет, но всё делала вкупе с корыстолюбцами и мшеломцами, кои окружили её и увлекли державу не к процветанию, а к окончательной разрухе.
«Во всём ли была виновна государыня Марфа?» — спрашивал себя Филарет. Ответ он нашёл, казалось бы, убедительный. Привлекая к управлению державой людей по родству и свойству, она несла в себе два начала, и прежде всего личную вину. Не следовало бы ей так близко подпускать к власти многих из тех, кого допустила Марфа. Того же князя Михаила Салтыкова давно уже нужно было лишить всякой силы и отправить в вотчину, дабы там наводил порядок, ежели сможет. А сколько таких Салтыковых в Кремле? Была Марфа виновна и в том, что государевы приказы работали спустя рукава. И суд неправый вершила над россиянами только своей властью. Несчастье Марфы крылось в том, что Господь не наградил её державным умом. И в этом она была достойна снисхождения.
Но видел Филарет и другое — добрые деяния Марфы. Она, как могла, укрепляла дух царствующего сына. Ой как трудно было бы ему, если бы не было рядом матери с её твёрдой и скорой на расправу рукой. Противники Романовых многажды пытались поднять головы, да скоренько их опускали. Она не давала им простору. Даже князь Иван Хворостинин, первый бунтовщик и смутьян той поры, был ею приведён в чувство. К её чести, она сумела подобрать для борьбы с поляками таких воевод, которые не посрамили российского войска, но разбили поляков и добились перемирия. Четырнадцать с половиной лет передышки — это немало. За эти годы Россия может так прирасти мощью, что никакой супостат не будет страшен.
Нет, не следует сурово судить Марфу-государыню, матушку его сына, пришёл к заключению Филарет. Однако же отстранить её от государственных дел нужно было не мешкая. И тут Филарет осёкся: ноне у него нет ни силы, ни власти удалить Марфу от дел. Даже супружеского права он лишён монашеством. И к сыну жаловаться на мать негоже идти. Придя к такому неутешительному выводу, Филарет пришёл к мысли о том, что ему надо ждать своего часа. Только тогда он сможет влиять на государственные дела, ежели встанет на патриаршество. Тогда по закону церкви он займёт рядом с царём достойное место духовного отца, без совета которого, как испокон веку велось на Руси, государи не принимали ни одного серьёзного решения. Разве что Иван Грозный попирал сей Божий закон. Да ведь ему за то и было воздано полной мерой, ушёл из жизни без покаяния и причастия. И оставалось Филарету ждать милости Господней и избрания на патриарший престол.
Сие время не заставило себя долго ждать. С лёгкой руки митрополита Ефрема на другой же день после гостевания Михаила и Филарета у Ефрема по Москве и во все епархии помчались сеунчи, дабы созвать иерархов и архиереев в стольный град для избрания патриарха всея Руси. По московским церквам и соборам шли молебны во славу нового патриарха. Каждый новый день начинался колокольным благовестом. И всё складывалось удачно для жаждущих поскорее увидеть Филарета на патриаршем престоле.
Как и всякое другое крупное событие в России, избрание патриарха не прошло гладко. Нашлись такие, кто обвинял Филарета в измене законному государю Василию Шуйскому, в служении Тушинскому вору. На папертях соборов и церквей, на торжищах в эти июньские дни разгорались споры, случалось, что они переходили в потасовки. Рьяные сторонники Филарета стояли твёрдо на том, что там во всём был виновен сам царь Василий. Удалой коробейник — шапка набекрень, кричал близ церкви Казанской Божьей Матери:
— Сей мшеломец надул нас, услал Филарета из Москвы, сам же Гермогена поставил.
Мастеровые с Кузнецкого моста сбили с коробейника и шапку и спесь:
— Ты Ермогена-воителя не тронь! А то и голова за шапкой улетит!
— Да я рази против Ермогена-патриарха, — защищался коробейник, с опаской отступая от пудовых кулаков. — Токмо и Филарет сила, выстоял в полоне у ляхов.
И так по всей Москве с утра и до вечера шли то жаркие споры, то мирные беседы о новом первосвятителе церкви. И все сходились на одном: сиротство православных христиан закончилось.
В эти же дни в Москву приехал патриарх иерусалимский Феофан. Его приезд оказался очень кстати. Но знали москвитяне, что появился он в Москве не по случаю избрания патриарха, а по другому поводу. В прежние времена восточные патриархи были частыми гостями в России, а причина одна — милостыню просили у русских царей по скудости своего бытия. И Феофан с той же целью прибыл, считали москвитяне. Да их отношение к бедствующим великодушно: рука дающего не оскудеет.
А пока шёл торжественный приём патриарха Феофана и в его честь в кремлёвских соборах шли божественные литургии, гонцы домчали до многих дальних епархий России и к Москве потянулись священнослужители всех рангов. А на северных дорогах было отмечено шествие большого количества монахов. Многая монастырская братия от Архангельска, Каргополя, Великого Устюга и Белоозера двинулась к стольному граду, дабы принять участие в избрании Филарета. И первыми среди северян шли-ехали монахи Антониево-Сийского монастыря, многие из которых знали Филарета лично. Шло в Москву духовенство из Суздаля, Ярославля, из Костромы, ещё из Ростова Великого. Всем им Филарет был памятен и близок. Не остались в стороне от великого события и монахи Троице-Сергиевой лавры. Они несли будущему патриарху прошение: снять опалу с их архимандрита Дионисия, вернуть его в обитель.
Москвитяне дивились такому наплыву гостей и ворчали на них, потому как по скупой-то поре всех надо было напоить, накормить, всем дать приют. Ан ворчание длилось недолго. Потеснились монахи московских обителей, распахнулись двери покоев по всем подворьям епархий, которых в Москве было множество, загудели от паломников постоялые дворы. А тем, кому не нашлось места под крышей, встали табором за московскими заставами.
И наступил долгожданный день избрания патриарха. Ведь этого дня ждали более семи лет, со дня насильственной смерти Гермогена, заточенного поляками в подвале кремлёвского монастыря и там уморённого голодом.
Торжество избрания патриарха совпало со знаменательным праздником — Рождеством Иоанна Предтечи. Филарет в этот день встал чуть свет и, чтобы погасить подступившее волнение, ушёл в малую Сенную церковь, где к заутрене собрались многие прихожане. Но недолго пришлось Филарету пребывать в молитве. Гости из Ростова Великого попросили его прочитать проповедь, чему он был большой мастер.
Как и должно по чину Филарет начал богослужение с посвящения Иисусу Христу о его земной жизни. Филарет напомнил верующим, как привели Христа на суд к Пилату, рассказал о самом неправом суде, о распятии Сына Божьего, о его страданиях и смерти, о божественном воскрешении. Но помня о Иоанне Предтечи, Филарет вознёс слово и о нём.
— Праведные родители святого Иоанна Крестителя, — продолжал проповедь Филарет, — священник Захария и Елисавета, жившие в городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей, потому как Елисавета была неплодна. Но однажды во время богослужения в храм явился посланник Божий, Архангел Гавриил, и предсказал Захарии, что у него родится сын — провозвестник Спасителя, Иисуса Христа, Мессии. Захарий усомнился, что жена в старости принесёт сына, и за это был поражён немотой до времени исполнения слов Гавриила.
Эту короткую проповедь верующие, как замечал Филарет всегда слушали с большим вниманием и даже волнением.
— Пришёл час, и Елисавета зачала, да пять месяцев скрывала ношу. Но пришла к ней дальняя родственница, Дева Мария, и поделилась своей радостью, что она, девственница, понесла дитя. И тогда Елисавета приветствовала Пресвятую Марию как Матерь Божию. Настало время, и святая Елисавета родила сына, назвала его Иоанном. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа, исцелился и пророчествовал, говоря: «И ты, младенец, наречёшься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа — приготовишь путь ему».
На какие-то минуты Филарет умолкал, и тогда звучала песнь хора, прихожане молились и ждали от Филарета главное.
— Иоанн Креститель, великий пророк Нового Завета, — продолжал Филарет — предтеча нашего Иисуса Христа, по смерти родителей ушёл в пустыни до дня явления своего Израилю. В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, был глагол Божий к Иоанну в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Он говорил: «Идёт за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремни обуви Его. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Иоанн свидетельствует о Нём и восклицает: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».
На этих высоких нотах Филарет всегда завершал проповедь, и каждый раз ко времени. В сей миг во вратах храма появился архидиакон Николай, за ним шли многие иерархи и архиереи из епархий. Николай подошёл к амвону и сказал:
— Владыко, пришёл твой час. В Успенском соборе все в ожидании.
— А царь-батюшка там? — спросил Филарет.
— Усердно молится на уготованном месте, — ответил Николай.
От Сенной церкви до Успенского собора немногим больше ста сажен. Ан пройти их было довольно трудно, потому как всё пространство заполонили жаждущие увидеть Филарета. А первыми его остановили монахи Антониево-Сийской обители.
— Да помнишь ли ты нас, Филарет-батюшка? — воскликнул хорошо ведомый митрополиту келарь монастыря отец Тихон, который не раз приносил ему вести из Москвы.
— Тихон, здравия тебе долгие лета! — отозвался Филарет и, увидев скромно держащегося за спинами своих братьев игумена Арефа, поспешил к нему — Слава богу, что сподобил свидеться! — И Филарет обнял Арефа. — Благодетель мой! Многие лета тебе здравия!
— Сын мой, я всегда верил в тебя. Да помнишь ли, что сказывал тебе в часы уныния? — спросил старый и уже немощный игумен Ареф.
— Помню, отец мой! Как не помнить благое! — И Филарет не выпуская руки игумена, повёл его в Успенский собор.
Монахи же Антониево-Сийской обители шли плотным рядом следом, и многие несли в руках дары Филарету. Келарь Тихон вместе с пожилым монахом несли стихарь — длинную прямую одежду с широкими рукавами, расшитую серебром и золотом, унизанную жемчугом. Следом за Тихоном два молодых монаха несли фелонь, также богато расшитую и украшенную диамантами. Ещё монахи несли епитрахиль и орарь — широкую и узкую ленты, расшитые золотой нитью. Осмелились антониево-сийские умельцы и митру патриаршую изготовить, и высокую бархатную камилавку. Рисковали. Да риск-то был благородный.
Вот и паперть Успенского собора. На ней плотной стеной стояли митрополиты, архиепископы, архимандриты, епископы, вельможи. И царь тут же стоял, рядом с митрополитом Ефремом. Филарет всем поклонился. И ему многоликая паперть поклонилась — яркая, сверкающая цветами радуги под июньским солнцем.
Кремлёвские колокола в сей миг бурно заблаговестили, им взялись вторить по всей Москве. Филарет ступил на паперть, повернулся к Соборной площади и диву дался: не было на его памяти такого зрелища. Людское море без конца и края колыхалось до самых Троицких, Боровицких и Спасских ворот. А над людским морем высоко вознеслись хоругви и даже боевые знамёна русских полков. И порадовало Филарета во всём этом зрелище то, что каждый третий здесь был духовным лицом. Но в многотысячной толпе ему в сей миг захотелось увидеть одно, особо желанное лицо — ясновидицы Катерины. Ведь это она вдохнула в него силы, которые позволили пройти тернистый путь и не дали погаснуть вере в благое предсказание. И он увидел Катерину. Она стояла слева от паперти, а рядом с нею возвышался воевода Бутурлин, держа за руку сына. К плечу Катерины прижималась Ксюша. Она стояла опустив голову. И глянув в сей миг на царя Михаила, Филарет догадался, почему девица не поднимала лица: его сын видел только её, и было похоже, что иной мир для него не существовал. «Господи, сохрани их в чистоте», — мелькнуло у Филарета. Он поискал глазами Марфу-государыню и нигде не увидел её. Да счёл, что так и должно быть. Она же в сей миг распоряжалась в храме.
Вельможи, иерархи и архиереи расступились и открыли путь к вратам собора. До самого алтаря Филарет шёл по коврам, и сердце у него замирало. Он видел весь торжественный обряд возведения, какой над ним будет совершён. Видел, потому что такое уже было на его памяти тридцать лет назад, когда венчали на патриаршество боголюбца Иова.
В храме всё было в движении: колыхался воздух, напоенный ладаном, играло пламя свечей и лампад, возносилось под купола песнопение двух хоров на клиросе, россияне тёплой волной вливались в храм, заполняли его со словами о Господе Боге на устах. Но постепенно всё замерло и наступила полная тишина, начинался чин поставления патриарха. Главные святители подавления, патриарх Феофан и митрополит Ефрем, сели на уготованное им место, между ними сел царь Михаил. Митрополит Филарет скрылся в алтаре. Там его облачили в торжественные святительские одежды, и он вышел на амвон. Ему подали его же рукой написанное исповедание православной веры. И Филарет зачитал его. Голос митрополита был чист и ясен и легко лился по храму, достигая самых дальних мест.
После чтения исповедания, под звуки пения акафиста Иисусу Христу и Пресвятой Богородице, к Филарету подошли царь Михаил, патриарх Феофан и митрополит Ефрем, услужители, держащие символы власти. Они подали патриарху Феофану панагию, украшенную драгоценными каменьями. Тот полюбовался рукотворным чудом — не имел он подобной — и передал её царю Михаилу. Сын подошёл к отцу почтительно, с поклоном, надевая панагию, сказал:
— Прими, родимый, с милостью.
Потом Михаил надел на Филарета белый клобук. Следом митрополит Ефрем вручил Филарету посох с мощами святителя Петра Чудотворца. В алтаре в эти мгновения летописец Патриаршего приказа записал в книге торжественных писаний: «Поставлен патриарх Филарет Романов в лето 7127 июня в 24 день».
Божественная литургия вошла в самую силу. Пение хоров, казалось, подхватили все, кто пребывал в соборе и за его стенами на Соборной площади, пел царь Михаил, пели царедворцы, служилые люди, монахи, священники — вся Москва.
После литургии по чину был обед в Грановитой палате. На этот обед пришли все, кого звали и не звали. Но был он недолгим, потому как в положенное время Филарет покинул Грановитую, вновь появился на Соборной площади, к нему подвели коня в белой попоне, изображающем осляти. Услужители помогли патриарху сесть на коня, и началось торжественное шествие по Кремлю, по Красной площади, по Москве. Это шествие сопровождали многие тысячи москвитян и россиян. Москва гудела от колокольного звона, с площадей, с улиц отроки выпускали в небо голубей, певчих птиц. Всюду развевались хоругви, сверкали под лучами солнца чудотворные иконы. К Филарету тянулись сотни рук, жаждущих получить его благословение. И он от души благословлял россиян во благо жизни. Православные христиане воздавали хвалу патриарху, своему духовному отцу. Москва не видывала подобного торжества, разве что венчание на царство Михаила не уступало в ярких красках нынешнему дню. И после, когда торжественное шествие поднялось от собора Покрова на Рву в Кремль, на Красной площади и по всей Первопрестольной началось народное гулянье, которое длилось три дня. Государь не поскупился на хмельное, на угощение, на гостинцы детям, открыл все свои подвалы, побудил к тому же бояр, дворян, торговых людей.
Москва и вся держава славили обретённого духовного отца, патриарха всея Руси Филарета.
Глава двадцать первая Великий государь
Отшумели, отгремели в Москве и по Руси торжества и гуляния в честь патриарха, остывали колокола от долгих звонов. Москвитяне взялись за свои привычные дела, ладили жизнь по своему разумению. В Кремле после торжеств тоже началась работа, правда, пока неторопливая, полусонная. Митрополит Ефрем перебрался жить в палаты Крутицкого подворья, что возвышалось за Чудовым монастырём тут же, в Кремле. А первосвятитель Филарет поселился в патриаршем дворце по чину. Да в первые же часы и загрустил. В просторных залах и покоях было пусто, ни живой души, кроме услужителей. Катерина и Михаил Бутурлин покинули дворец ещё раньше Ефрема, уехали в свои палаты на Пречистенку. Не было и архидиакона Николая, который остался при Ефреме. Однако, не выдержав одиночества, Филарет послал служку за Николаем. И тот пришёл не мешкая и повинился, потому как знал, что уходить ему не следовало.
— Стар Ефрем, да и свыклись мы с ним. Так уж прости, святейший.
— Понимаю тебя. Да и сам я одинок оказался, как перст. Потому тоже винюсь пред тобой, за то что оторвал от любезного человека.
Николай пришёлся Филарету по душе. Он был умён, расторопен, знал всю подноготную церковной жизни и вечер за вечером посвящал Филарета во все тонкости патриарших забот, кои святейшему ещё не были ведомы. Главное же, Николай скрасил одиночество Филарета.
Жизнь, однако, вскоре же избавила патриарха от праздного состояния. По совету Николая, как делалось при Иове и Гермогене, Филарет не отпустил тотчас из Москвы российских иерархов и архиереев, а не единожды собирал их в Благовещенском соборе, беседовал с ними о том, как вести церковные дела в епархиях, как помогать воеводам в налаживании жизни, в их радении о державе. Ещё он добился того, что иерархи и архиереи приняли соборное решение об отлучении ложного патриарха Игнатия-грека от церкви. Оно родилось не сразу. Иерархи и архиереи спорили, не соглашались с Филаретом. Он же сказал им:
— Мнимый патриарх Игнатий, угождая еретикам латинской веры, в церковь соборную Пресвятой Богородицы вводил еретической веры Маринку. Святым же крещением совершенным христианского закона не крестил её, но токмо святым миром помазал и потом венчал её с тем самозванцем, и обоим сиим врагам Божиим, расстриге и Маринке, подал пречистое тело Христово ести и святую кровь Христову пити. Его же, Игнатия, за таковую вину церковь российская, яко презревшего правила святых апостолов и Святого Отца, от престола и от сиятельства по правилам святым отринула. Вы же и от церкви его отлучить подумайте.
Иерархи и архиереи подумали и сказали должное слово: «Нет места Игнатию-отступнику в нашей вере».
Филарет порадовался, что его правдивое слово дошло до каждого духовного лица. Историки российского христианства сказали о Филарете убедительно и точно определили его значение и роль в становлении как церкви, так и государства. Они утверждают, что как правитель русской церкви, патриарх, чуждый церковно-богословской книжности, являлся, прежде всего, властным и искусным администратором. Церковь была для него учреждением, требующим устройства на началах строгой дисциплины и иерархического господства, и он целиком перенёс в своё патриаршеское управление формы приказного заведования делами. Суд в патриаршем судном приказе был в «духовных делах и в смертях и в иных во всяких делах против того же, что и в царском суде...» Казённый приказ ведал доходы патриаршей области: дань со дворов духовенства и сборы с церковных доходов за требы, за пользование пахотой и угодьями и другим.
Получив патриаршество не по каноническому избранию, а по естественному праву какое признавали за государевым отцом, Филарет и для духовенства был прежде всего «великим государем». Но таким же «великим государем» выступал он и в делах управления государственного. Человек властной и крутой воли, он всякими царскими и ратными делами владел не только путём личного влияния на сына-царя. Его участие в государственной власти было установлено формально, как титулом «великого государя», так и порядком делопроизводства: дела докладывались обоим государям и грамоты писались от имени обоих. Царь Михаил пояснял, что «каков он государь, таков и отец его, государев, великий государь. Святейший патриарх и их государе кое величество нераздельно».
Шаги Филарета к верховной власти в державе не являлись случайным стечением обстоятельств, а были выстраданы и выношены им всей жизнью и просчитаны от первого до последнего шага. Но, получив власть, Филарет не упивался честолюбивыми желаниями. Он считал себя рабом Божиим, поставленным к державному кормилу для избавления детей своих от разорения и нищеты, чтобы поднять Россию на тот высокий холм, на котором стояла она в лучшие годы царствования Фёдора Иоанновича. И он не скидывал со счёта того, что благоденствие при царе Фёдоре было достигнуто благодаря правителю Борису Годунову За этим лютым врагом рода Романовых Филарет признавал многие заслуги. И сам не сумняшеся многое взял себе на пользу от годуновского умения управлять великой державой.
Большинство московских вельмож — бояре, князья, окольничьи, думные дьяки, воеводы — без оглядки признали за Филаретом право называться действительным правителем России, «великим государем». А те, у кого оставались какие-то счёты с родом Романовых, добавляли к сказанному поклонниками Филарета, что он нравом опальчив и мнителен, а властителен таков, яко и самому царю его бояться. Что ж, Филарет слышал подобную черноту, да не придавал ей цены, потому как знал твёрдо, что многих лиходеев и проникших в царский синклит недобросовестных вельмож только тем и можно изжить, когда их «зело томище заключениями и иными наказаниями». Его, правдолюбца и милосердца, сама жизнь толкала на суровые деяния.
Через несколько дней после вступления на патриарший престол Филарет потребовал из Патриаршего приказа челобитную от монахов Троице-Сергиевой лавры, не дал ей там залежаться под сукном. Взяв челобитную, Филарет сходил с нею к царю.
— Сын мой, царь-батюшка, пора нам с тобой по закону править державой. Посему вернём доброе имя и нашу любовь архимандриту Дионисию, коего судили вольно.
— Я, батюшка-государь, токмо порадуюсь сему исправлению, — ответил Михаил и, тяжело вздохнув, добавил: — И матушку есть нужда послушать.
— Сию охоту надо предать забвению. Без матушки найдутся ответчики, — возразил Филарет.
— Коль так мыслишь, батюшка, то и мне спокойнее.
В те же дни Дионисию вернули сан и должность. И было сие сделано при стечении всех московских иерархов и архиереев в Благовещенском соборе.
Исправив одно беззаконие, патриарх Филарет приступил не мешкая к тому, чтобы возвратить доброе имя и вызволить из безвинной опалы, вернуть в родные края Марию Хлопову и её родителей, сосланных в Сибирь три года назад. Опала Хлоповым произошла допущением инокини Марфы, а исполнена теми, кумовьями-сватьями, кои окружали государыню. Искренне милосердный, Филарет вынужден был творить суровый суд над близкими сродниками.
Патриарх не спешил, дабы самому не свершить неправый суд. Он изучил все обстоятельства, кои стали причиной наказания Хлоповых. Он опросил всех, кто был очевидцем суда над Марией. И первым делом попросил архидиакона Николая:
— Брат мой, найди того священника, который состоял духовным отцом при Марии Ивановне Хлоповой.
— Он мне ведом. Ноне же найду его, святейший. Куда токмо привести его?
— Сюда и приведи, в трапезную, — ответил Филарет.
В тот же вечер в патриарших палатах появился сухонький и немощный священник, отец Анатолий. Филарет позвал отца Анатолия к столу. Сам он по возвращении из плена, где вдоволь наголодался, не отказывал себе в пище ни в чём. И хотя к чревоугодничеству не был склонен, любил-таки вкусно поесть и пригубить хорошего вина. Ан и отец Анатолий был не промах хорошо поесть и даже выпить. И принял приглашение к столу с удовольствием и без робости перед святейшим. И беседу хозяин и гость начали после того, как выпили вина и попробовали всех яств, что поставили на стол патриаршие услужители. После чего Филарет спросил:
— Любезный отче, вспомни с усердием, как выглядела Мария Ивановна перед обручением.
— Господи милосердный, помоги не впасть в велеречие, — перекрестился отец Анатолий. И продолжал: — Помню её, святейший владыко, как нынешний ясный день. Была Машенька певунья и говорунья, речами услаждать умела. А уж как легка на ногу, ну есть козочка. И статью была хороша. Ещё без меры не вкушала пищи, молилась исправно, родителей почитала и к рукоделью была склонна. Парсуны вышивала.
— А ликом какова? — спросил Филарет.
Отец Анатолий поднял на патриарха сверкающие глаза.
— Пригожа. Ну есть царевна шамаханская.
— Здорова ли была?
— Господи, да она и не ведала, что такое хворь. Ну так, когда женские дела начинались, крови ихние, тут, случалось, приляжет.
— Любил ты её?
— Да како же её не лелеять, ежели на ангелочка нравом похожа.
— А после обручения она всё-таки занемогла...
— Занеможила, — горестно согласился отец Анатолий.
— И говорила тебе, отчего?
— Поделилась. Сказывала, грибков ей один князёк придвинул, как застолье шло. Она и поклевала. Будто бы вёшенки. А ить кто знает... Гриб, он всякий бывает. Неделю животом маялась. А от государыни-матушки что ни день, то послы. Велят во дворец явиться, чтобы показывалась. Она же пластом в те дни лежала. Её подняли и повезли, ликом сине-белую. — И отец Анатолий заплакал. — Так и порешили, сердешную...
Филарет не утешал плачущего священника, и тот сам скоро успокоился.
— Любезный отче, вот ты обмолвился о каком-то князьке. Как имя его?
— Машенька не называла, святейший, истинный крест. Как бредила во сне, так её матушка слышала. Так то во сне... Можно и оговориться.
— Всё-таки ведаешь?
— Матушка боярыня поделилась. Да я цены не придал и... забыл.
Патриарх понял, что священник боится назвать имя злочинца. И сам назвал:
— Поди о Михаиле Салтыкове рекла?
И опять священник не произнёс этого имени, будто отмеченного проклятием. Лишь молча, с виноватыми глазами покивал головой, дескать, о нём, о Салтыкове рекла Мария.
— Спасибо, отче. Да хранит тебя Господь Бог, а я помогу ему в том, — тихо произнёс Филарет. Он ещё разлил по кубкам вина, и два священнослужителя выпили, поговорили о церковных делах, на том и расстались.
Проводив отца Анатолия, Филарет долго пребывал в размышлениях. И пришёл к выводу, что Мария Хлопова была испорчена умышленно. И порчу ей нанёс Михаил Салтыков. Да было пока неведомо патриарху, с какой целью вершилось злодеяние. Позже и это удалось узнать. Князь Михаил Салтыков прочил в царские невесты племянницу Анну, дочь своей сестры, в замужестве Челядниной.
Стояла середина августа. Россияне только что отпраздновали Успение Пресвятой Богородицы да с её помощью убрали с полей обильный урожай. Лето порадовало земледельцев. И там, где они хорошо потрудились, было что свезти в овины, положить в закрома, в каморы и погреба. Филарет всё это знал доподлинно, потому как вести с церковных и монастырских земель поступали к нему ежедневно. Но отложив заботы и помыслы о хлебе насущном, патриарх отправился в царский дворец, дабы просветить сына о многих упущениях в державных делах и подумать вместе о том, как исправить их.
Царь Михаил встретил родимого батюшку с радостью. Да увидев, что Филарет чем-то озабочен, с обеспокоенностью спросил:
— Чем опечален, родимый батюшка?
— С тем и пришёл, сын мой, чтобы поведать. И разговор у нас с тобой будет долгий.
— Готов тебя слушать с усердием. Идём в трапезную, поставим сыты и мальвазии, ты всё и расскажешь...
Как сели к столу, Филарет ни к чему не притронулся и начал трудный для себя разговор.
— Мыслю я, сын мой, государь, не в ущерб твоей воле и самодержавной власти, встать в делах государевых рядом с тобой, — начал Филарет. — Вижу я, что державные мужи погрязли в мшеломстве и меньше всего пекутся о пользе державы. Потому России не воспрянуть.
— Истинно говоришь, батюшка. Ведаю, что матушка бьётся как рыба об лёд, а проку мало: душат её корыстолюбцы.
— Хорошо, что ты, сын мой, понимаешь о тщетности матушкиного радения. И потому дадим ей волю уйти от державных забот. Дадим ей отдых от трудов многих. — Филарет искал такие слова, так выражал свои мысли, чтобы у Михаила не возникло подозрения в том, что он надумал подвергнуть гонению его мать. Да и сам Филарет не желал её ни в чём обидеть. Их разлучили недобрые люди, и для него Марфа оставалась супругой Ксенией, которую он когда-то любил. — Ежели пожелает, пусть женские обители возьмёт под попечительство, — продолжал Филарет.
— Сия мысль благая, батюшка, — согласился Михаил. — А ежели пожелает, то пусть при мне живёт бесхлопотно.
— Да и я готов взять её в палаты, то-то будет домохозяйкой пригожей. Да уж как-нибудь мы с нею поладим. Суть в другом, сын мой, матушка нас поймёт Ан иншее меня тревожит Ежели мы не мешкая не удалим от державных дел многих мужей, проку ни в чём не достигнем. Думаю я, сын мой, что в государственном устройстве нет места людям близким по родству и свойству и одержимым корыстью. Ноне близ трона одни корыстолюбцы. Все эти Лыковы, Морозовы, Сицкие, а больше всего Салтыковы, словно ночные тати вольничают в державных управах, над коими стоят. И тобою вертят, как хотят. Вот ты мыслил выбрать себе семеюшку-царицу. И выбрал, и, как сам сказывал, она достойна была царского венца. А кто лишил тебя радости, кто лишил матушки будущих твоих сыновей?
— Не ведаю сего. Да говорили мне, что она больна и не могла служить радостям государя.
— В обман ты введён, сын мой. Злые происки погубили Марию Ивановну. Михайло Салтыков тому зачинщик. Он был головою заговора против Хлоповых, а потому и против тебя. И сие государственное дело оставлять без осуждения нельзя.
— Что же делать теперь? Я же подкрестную запись сделал: не казнить вельмож.
— Ты и не будешь ни судить, ни казнить. Тут дело не статочное, сын мой, и потому от тебя пока жду повеления учинить розыск. И если розыск откроет их вину, судить их праведным судом.
— А как же быть с Марией Ивановной? Ведь она в сибирский Тобольск сослана, в оскудение суровое.
— Участь Марии нужно исправить. Пусть она вольно едет с отцом и матушкой в Нижний Новгород к родичам. Там и пребывает.
— А в Москву, мыслишь, нельзя ей? — питая добрые чувства к бывшей не весте, спросил Михаил.
— Не знаю, сын мой, как и сказать. Время покажет, — уклончиво ответил Филарет — Нам пока нужно порядок в державе наводить.
— И то верно, — согласился царь. И попросил отца: — Теперь же, батюшка, успокой меня, как матушка приняла волю синклита духовного об исправлении судьбы Дионисия?
— Она согласилась с иерархами и архиереями.
— Но в дни суда они были согласны с нею, — удивился Михаил.
— Охо-хо, — вздохнул Филарет. — Верно заметил, царь-батюшка. Токмо кто же тогда мог возразить государыне, окружённой пронырами? Теперь же богословы восстановили истину. Исправляя молитву о водосвятии, Дионисий не допустил греха, но убрал нелепицу, кою внёс сочинитель. Я вот тоже написал молитву, будучи в заточении, а вины не наложу ни на кого, ежели исправят что в ней разумно.
— Ты верно мыслишь, батюшка.
— Мы с тобой по первости славно поговорили. Разум наш в согласии. И тебе на том спасибо, сын мой. Теперь же давай пригубим сыты, да пойду навещу матушку.
Отец и сын ещё немного посидели, выпили сыты и вина, поговорили о разном и расстались. Провожая отца, Михаил сказал просительно:
— Не осуждай матушку строго, родимый. Я люблю её, и мне будет больно. Вина не её в том, что державного ума лишена.
У Филарета запершило в горле, но он ничего не ответил сыну, лишь обнял его и погладил по спине, словно утверждая, что будет справедливым и милосердным. Так потом и было.
И сама Марфа согласилась со всем, что высказал ей Филарет. И, отрешаясь от государственных дел, она лишь сказала:
— Ведала я, что злочинцы меня окружили, да не находила среди инших вельмож верных нам людей. И потому не суди меня строго, святейший, будь милостив.
— Спасибо тебе, Ксеньюшка, за бережение сына, — назвал Филарет Марфу девичьим именем, — опора ты была ему адамантовая. И мне теперь легче стоять близ сына нашего. Да не уроним чести рода, поверь нам. Теперь же подумай, как в мои палаты из кельи уйти.
Поговорив мирно и тихо о державных делах с Марфой в келье Воскресенского монастыря, Филарет уходил в свои палаты умиротворённый, потому как не думал, что и с сыном и с его матушкой так легко, без надрыва и сердечных болей утвердит свою волю. А оно, это утверждение, на первых порах долгого служения державе и православной церкви ой как необходимо было Филарету. Теперь же ему посильно справиться и с самыми серьёзными государственными делами. Он не сумняшеся решил взять их все в свои руки, оставив за сыном представительство во всех областях жизни державы.
Розыск злочинства Салтыковых был скор. У дьяков Разбойного приказа скопилось немало улик против злоумышленников. Нашёлся и холоп, который собирал грибки и готовил их к столу. Дядя Марии, Пётр Хлопов, ещё в дни суда над племянницей донёс в приказ, как Михаил Салтыков принародно грозился порушить царскую свадьбу. И были опрошены те, кто слышал эту угрозу. И лекари, кои досматривали Марию, были допрошены. Священник Анатолий тоже сказал своё слово. В ходе розыска всплыли и другие злые умышления бояр Салтыковых. Их происками был опорочен и архимандрит Дионисий. Они же вкупе с боярином Татищевым ввергли в опалу князя Дмитрия Пожарского. Патриарх Филарет сам с усердием занимался делом опального князя.
Не мог он позволить, чтобы самый видный в России освободитель отечества от поляков страдал невинно от происков своих недругов. Филарет позвал к себе в палаты князя Юрия Черкасского, и князь обстоятельно рассказал о подноготной вражды Салтыковых и Татищева против Пожарского.
— Тут, святейший владыко, всему виною якобы ущемление князей Салтыковых и Татищевых в месте родовитости. Сочли Салтыковы, что Пожарский оттеснил их на низшую ступень. Было так, что три совместника затеяли спор ещё на Земском соборе и в Думе. Когда же Дума поставила Пожарского выше Михаила и Бориса Салтыковых, они взбунтовались. За что тесните наш древний боярский род, кричали они, ежели Пожарский князь-новик меньше нас. И Дума отменила своё прежнее решение, всё рассудила в пользу Салтыковых. И рассчитала так: Пожарский — родич и ровня князю Ромодановскому, оба они из рода князей Стародубских, а род Стародубских ниже рода Салтыковых. Стало быть, и князья Пожарский и Ромодановский меньше Михаила и Бориса Салтыковых.
— И на том кончилось всё? — спросил Филарет.
— Ан нет. Пожарский не захотел смириться с потерей родовой чести, — продолжал князь Черкасский, — и умалением заслуг перед Отечеством. Оно и понять можно. Даром что он Московское государство очистил от воров-казаков, но и спас от врагов-поляков. Да, он из худородных стольников был пожалован в бояре, получил вотчины великие, и всё это по заслугам. И твердить о том, что Пожарские — люди разрядные, больших должностей не занимали, кроме губных старост и городничих, сие не по правде божеской. Когда же Пожарского учили-стыдили в Думе перед Борисом Салтыковым, он не признал правой сию расправу.
Патриарх слушал князя Черкасского внимательно и во всём поверил испытанному радетелю за правду.
— И как всё обернулось? — побудил патриарх рассказ князя.
— Всё завершилось худо, святейший. Салтыковы вчинили против Пожарского иск о бесчестье. И Дума отдала спасителя Отечества с головою на бесправный суд к ничтожным, но родовитым соперникам. Князя подвергли унизительному обряду. Он был проведён под барабанный бой с позором под руки катами от царского дворца до крыльца палат Салтыковых в Белый город. Москвитяне, что заполонили улицы, возмущались, пытались отнять князя Дмитрия у катов, но того вели под усиленной стражей многих стрельцов. Царь, с которым я в тот час стоял рядом, плакал. Но нашлись утешители его, приговаривая: «Не печалься, батюшка-государь, сия наука поделом ему: не будет боле возвышаться»... — Князь Черкасский не стал расстраивать Филарета о том, что сказанное царю изошло из уст его матушки. И продолжал: — Но было Пожарскому и малое утешение. Князя Татищева высекли кнутом за ложное честолюбие и отвели на подворье Пожарского на его суд. Да Дмитрий не дал воли злым побуждениям, отпустил Татищева с миром.
Два верных друга посидели молча. Потом князь Черкасский подвёл черту под беседой:
— Теперь князю Пожарскому нужно выставить иск против Салтыковых, и будет сие справедливо.
— Истинно глаголешь, брат мой, — согласился Филарет.
На суде Салтыковы вели себя надменно. Они ещё надеялись, что их возьмёт под «материнское крыло» государыня Марфа, которой они, как им казалось, служили верно. Но Марфа не захотела присутствовать на суде. Увидев, что защиты и помощи ждать не от кого, Салтыковы сами ринулись себя защищать. И Борис Салтыков дерзнул обвинить во многих бедах Смутного времени самого патриарха и весь род Романовых.
— Они же, князья Романовы, в бытность царя Бориса Годунова вытащили на свет Гришку Отрепьева, воспитали у себя в палатах и открыли ему путь к царскому трону.
В том была доля правды, счёл Филарет. Но сие творилось не для того, чтобы нанести ущерб державе, но чтобы отнять у Бориса Годунова незаконно захваченный престол. Позже, уже в Антониево-Сийском монастыре Филарет понял, что всё-таки он оказался причастным к неблагому делу. Да мог ли он предположить, что истинно русский православный человек предаст Россию и стакается с поляками, с иезуитами, которые окажутся причиной всех бед в пору Смутного времени. Но патриарх не счёл нужным оправдываться. Он знал, что правда жизни за ним, что смуту породил всё-таки Борис Годунов и родилась она после убиения царевича Дмитрия.
Но суд ждал патриаршего слова. По закону церкви и Господа Бога патриарху было дано право быть верховным обвинителем. И Филарет сказал то, на что считал нужным открыть глаза россиянам.
— Поднимая на свет события прошлых лет, скажу мало, — начал Филарет. — О том всё и всем ведомо. Нам же надо думать о будущем державы. И потому скажу, что в бедствиях державы повинна прежде всего распущенность нравов, родившаяся в Смутное время, и она в нутре Салтыковых в первую голову. Салтыковы, поднявшись к власти, вооружились стяжательством, происками, опорочиванием честных россиян. За ними пошли многие другие вельможные головы. Потому в приказах дела мало вершатся, с ходатаев дерут взятки, потворствуют тем, за кого заступы великие. В народе осуждают не токмо Салтыковых, но и инших, кто пошёл на службу дьяволу, кто утесняет народ, ворует, грабит, расхищает земли и иншее народное добро. Вижу, что ежели всё останется прежним, то мирная жизнь в державе продлится недолго. Ноне судимые Салтыковы прежде других сеют в народе недовольство. По их проискам и побуждениям государыня Марфа назначала на воеводство и в приказы угодных им людей. Чего же мы ещё ждём? Посему прошу у суда одного: соблюдения нравственного евангельского закона. Нет судьи выше Господа Бога, а мы его слуги.
Князья Салтыковы были осуждены на ссылку, и до конца дней патриарха Филарета они не появлялись на московском окоёме. Имущество Салтыковых отобрали в пользу государственной казны. Но с осуждением князей Салтыковых, с очищением царских приказов от всех и всяких нечистоплотных людишек борьба в синклите продолжалась. Недруги Филарета из рода Романовых продолжали теперь скрытную борьбу. Однако многим было очевидно, что сия борьба тщетна. За молодым царём, за мудрым патриархом стоял народ. Силы Романовых прирастали благоразумием россиян.
Глава двадцать вторая Князь Иван Хворостинин
Русская Православная Церковь крепла при патриархе Филарете быстрее, чем держава. Он нашёл путь к благополучию церкви. И путь сей был прост. Всюду где храмы, приходы, монастыри, епархии страдали от обнищания и где ослабла вера, Филарет посылал туда достойных священнослужителей, знающих суть дела, крепких в вере. Он позвал Дионисия, лишь только сняли с него опалу, и поручил от имени патриарха делать в епархиях всё, что шло во благо православия. Он дал под начало Дионисия многих духовных и служилых людей, из числа которых Дионисий мог бы подбирать достойных пастырей и церковнослужителей на местах.
А когда наступил малый просвет в державных и церковных делах, Филарет открыл путь давно наболевшему и взялся искать сыну достойную невесту в иноземных странах, как это водилось в давние времена, при Владимире Святом, при Ярославе Мудром, да и не так давно при великих князьях. И в 1621 году он отправил своих послов в Данию и Швецию, чтобы там, в Копенгагене или Стокгольме, поискали царю невесту среди принцесс. Провожая послов в путь, Филарет наказывал им:
— Вы люди бывалые и знаете, почему нужно нам породниться со шведами, датчанами или голландцами. Помните, что сие движение идёт от первых великих князей.
Посольство ушло, а Филарет и его сын окунулись в долгое ожидание, увы, напрасное. Два года странствий русских послов по европейским странам и столицам оказались тщетными. Боялись западные монархи отдавать своих дочерей в жёны царю «дикого» народа. Однако не только это помешало Луке Паули и его спутникам выполнить патриаршее поручение. Возвратившись домой, Лука обо всём обстоятельно доложил патриарху.
— Ходили мы исправно, святейший, и нигде чести России и её государя не уронили. А неудачи наши начались с того, что один хорошо тебе ведомый россиянин молву худую по европейским столицам пускал о церкви и о царском дворе. И принимали его многие короли.
— Кто же этот богомерзкий россиянин?
— Не скрою его имени, святейший, потому как и ноне вижу его дьявольское нутро. Зовут его князь Иван Хворостинин-младший.
Опечалился патриарх. И самолюбие было задето. Не мог он стерпеть, чтобы россиянин древнего княжеского рода чернил свою отчизну в иноземных державах.
— Клятву наложу и анафеме предам с амвона Благовещенского собора сего грязного отступника, — в сердцах произнёс патриарх.
— И поделом, — согласился Паули.
— Где он ноне пребывает?
— Слышал я, будучи в Женеве, что в Москву отбыл. Вернулся ли?
Князь Иван Хворостинин к этому времени был уже в Москве. И поручил патриарх всё тому же верному Луке присмотреться к прыткому князю, выведать его подноготную жизнь.
Лука согласился с оговоркой:
— Отдохнуть бы мне надо, святейший, а ещё друга любезного Арсения и сотоварища Антона поискать. Не верится мне, что они сгинули.
— Сгинули, сын мой. Сие доподлинно так. Там, в Мальборгском замке, богослов Пётр Скарга открыл мне правду. Как захватили их легионеры, ты это помнишь, так вскоре и передали в руки иезуитов. И те за убийство отступника Феофана, который был уже членом их ордена, предали Арсения и Антона лютой смерти. Ты-то не знаешь, года два назад был у меня отец Антона, бывший десятский стрелец Матвей, а ноне инок Донского монастыря, молил Христом Богом узнать о судьбе сына. А тут послы в Польшу собирались. Я и поручил Ивану Грамотину узнать, правду ли говорил мне Скарга. Всё так и было, утверждал Грамотин.
Лука был печален. И видно, что устал от странствий, сопряжённых с постоянной опасностью для жизни. Патриарх проникся к нему милостью и сказал:
— Ты поезжай ко мне в костромскую вотчину, отдохни в покое. А как вернёшься, там и порешим, что тебе делать.
— Спасибо, святейший, благовея принимаю твой дар. — Лука посветлел лицом. — А России я ещё послужу.
— Верю. Теперь же собирайся в путь. Я тебе лошадок дам, грамотку сподоблю старосте. Поживёшь там от души, да ещё и семеюшку найдёшь. Мало ли. А то всё холостой да холостой...
Лука не мешкая в тот же день укатил в костромскую землю. А Филарет на другой день пришёл в Патриарший приказ, поговорил с архимандритом Дионисием, и они нашли толкового человека, способного присмотреть за князем Хворостин иным.
Сей князь был сыном смуты.
В ту пору, когда по России гуляли слухи о том, что в Путивле объявился царевич Дмитрий, молодой красавец князь Иван Хворостинин щеголял в модных кафтанах, в сафьяновых сапогах по Тверской, смущал девиц и вёл праздный образ жизни. Но по мере того, как слухи о царевиче Дмитрии нарастали и всюду стали говорить о вторжении в Россию поляков, князь Хворостинин изменил образ жизни и надумал податься на юг, где, по его мнению, вершилась новая история России. И он отправился в путь, но, будучи ленивым по природе, князь не мог вынести те лишения в пути, кои выпали на его долю. Он вернулся в Москву и выждал тот день, когда Лжедмитрий появился в Серпухове. Туда и подался. Там он вместе с московскими боярами, изменившими законному государю, стал царедворцем при самозванце. А вскоре князь Рубец-Мосальский, рязанский воевода Прокопий Ляпунов да некоторые другие из переметнувшихся к Лжедмитрию, в их числе и князь Хворостинин, ушли в Москву, дабы выполнить волю Лжедмитрия и освободить престол от царя Фёдора Годунова. Хворостинин не был причастен к убийству юного Фёдора Годунова и его матери. Он в это время сошёлся с иезуитами и увлёкся латынью, надумал принять католичество. Он начал читать латинские книги и прочёл «Сентенции» архиепископа Петра Лабрадорского, который излагал основы католического богословия. Князь принял как должное символ филиокле и был согласен с тем, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына. Хворостинин стал поклонником святого Августина, который утверждал, что главное значение в католической вере должно отводиться чувствам и вожделениям. В человеке душа — это желание, которая лишь пользуется телом, как своим орудием, утверждал Августин. И князь Хворостинин принял сие как должное. Он заразился католическими догмами и латинские иконы ставил выше православных. Судьба была к нему долгое время милостива. И потому он не обагрил своих рук кровью царя Фёдора Годунова. Когда же самозванец встал в Москве и царствовал, то Хворостинин предавался буйным увеселениям и много бражничал со своим новым другом, патером Пастаролли. Подворье князей Хворостининых в год Лжедмитрия стало вертепом иезуитов.
Странным было одно. После убийства Лжедмитрия и изгнания из Москвы поляков и римских иезуитов князь Иван не убежал из Первопрестольной, не подверг себя скитальческой жизни. Но за свои деяния ему пришлось поплатиться. Царь Василий Шуйский всё-таки перебрал некоторых поборников католической ереси. Не обошёл строгостью и князя Ивана Хворостинина. На суде царь Василий сказал ему:
— Ты хотя и не чинил разбоя при поляках, но служил им исправно. Потому отмаливать тебе грехи в оскудении суровом. Ссылаю тебя в Иосифов монастырь под надзор строгой братии.
И князя одели в рубище, сковали цепью, посадили в телегу, на которой с княжеского двора вывозили навоз, и под стражей отвезли в Иосифо-Волоколамский монастырь, в котором жизнь даже для прилежных монахов была тяжкой. В этом монастыре жили по суровому уставу, под суровым оком игумена Досифея. Князю Хворостинину она показалась хуже той, какою жили рабы. Он с первого дня противился всем насилиям над ним, кои чинили ретивые монахи, впал в озлобление и призывал на головы братии все дьявольские силы. Позже, сломленный, он немного одумался, притворился кающимся грешником, был исправен в послушании и добился малой свободы — вольно ходил в стенах монастыря. И однажды, когда по России вновь разгулялись поляки, Хворостинин сбежал из обители. Пока поляки осаждали монастырь, князь тайно добрался до своей вотчины, собрал кой-какие деньги, драгоценности и укатил на запад. В Вильно он не задержался, ушёл в Пруссию, но и там не осел, уплыл в Швецию, оттуда в Голландию. В эти смутные для России годы русского князя, бежавшего «от разбоя и бесчинства», как он любил говорить, принимали в европейских столицах приветливо, помогали ему жить безбедно, покупали его сочинения, в которых он поливал грязью Отечество.
Князь Хворостинин был человеком незаурядного ума, хорошо знал церковно-славянскую литературу которую усвоил ещё в юности, знал историю России и русской церкви, обнаруживал неукротимый задор в богословских спорах, с похвалой отзывался о католицизме и показывал большую осведомлённость в его учении, канонах, догмах. В Копенгагене, где князь прожил больше года, он увлёкся виршами, писал их силлабическим размером по-латыни и успешно продавал.
Спустя четыре с лишним года после бегства из России князь решил вернуться домой. В пути он пристал к смоленскому ополчению, дошёл с ним до Москвы, но в изгнании поляков из Кремля участия не принимал. К счастью для князя, родовые палаты Хворостининых уцелели, и он поселился в них. А как только изгнали поляков из Москвы, князь стал появляться на улицах, и никому не было дела до того, где князь провёл больше четырёх лет жизни. Даже свидетели его осуждения и ссылки в Иосифо-Волоколамский монастырь поверили в то, что он провёл эти годы именно там. Да и неудивительно, потому что вся жизнь России сошла с колеи.
Но тихое прозябание в Москве не привлекало князя. Он уже подумывал продать свои московские палаты и родовые вотчины, уехать в Вильно и принять католичество. Но тут к князю пришёл сочинительский порыв и он сел писать книгу о всём том, что произошло за последние годы в России, чему был и не был свидетелем. Как раз в это время начались разговоры об избрании царя. Князь Иван и это событие хотел описать. Наконец, князь надумал жениться, присмотрел себе невесту из рода князей Катыревых и, не питая к ней никаких нежных чувств, обвенчался в церкви на Воробьёвых горах. Однако и года не прошло, как супружество наскучило князю, он обвинил жену в бесплодии и вынудил её уйти в монастырь.
Избрание царя Михаила князь Иван встретил иронически, потому как не видел проку для России в «недоумке». Себе же ровни по разуму князь и в версту не ставил никого.
Завершив сочинение о Смутном времени в России, гонимый высокомерием к русской жизни, князь вновь уехал в европейские страны. Там он пытался продать свою повесть. Но покупателя не нашлось, потому как издатели не увидели в ней истинной России, но нашли лишь досужие рассуждения сочинителя о себе. Проскитавшись по европам несколько лет и всячески оскверняя отечество и царский двор, князь, наконец, заметил, что всюду, где бы он ни появлялся, от него отворачивались. Его не стали принимать в богатых домах, не приглашали на балы и торжества... Он не понимал, откуда такая немилость. И однажды в Женеве ему открыли глаза на то, что он превратился в опустившегося, потерявшего облик пропойцу. И всё-таки он не пропал в европейских столицах, нашёл в себе силы вернуться в Россию. Сил хватило только на это. Он запёрся в своих палатах, неделями не покидал их и продолжал тонуть в зелье. Он озлобился на весь мир, но прежде всего на россиян, впал в вольнодумство, отверг молитву и воскресение мёртвых.
В эту самую пору и начался досмотр княжеского бытия. И чуть позже дьяки Разбойного приказа писали о нём, что он «в вере пошатнулся и православную церковь хулил, про святых угодников божиих говорил хульные слова». Князь не обращал внимания на странников, кои каждый день появлялись в его палатах. Он велел их поить, кормить и не уставал повторять: «В Москве нет людей, всё люд глупый, жить не с кем, сеют землю рожью, а живут ложью». На тех «странниках», то из Стародуба, то из Вильно, князь и споткнулся, потому как были это досужие лазутчики из Патриаршего приказа, коих умело подсылал в княжеские палаты архимандрит Дионисий. Они же умыкнули у князя многие листы сочинений, кои князь вольно разбрасывал по покоям. Один из таких листов Дионисий вручил патриарху Филарету.
На том листе от слова до слова вылилась хула на русский народ. Князь бесчестил всех московских людей и даже своих родителей. Юного царя он называл деспотом русским и не писал ни его титула, ни имени. Филарет попросил и другие листы, долго вчитывался в них и даже полюбовался тем, как Хворостинин красиво писал. Но из листов вытекало «государево дело», князя Ивана нужно было судить за крамолу. И вспомнил Филарет время Ивана Грозного и то, как сей царь только за одно супротивное слово посылал людей на пытки или на смертную казнь. И доведись Ивану Васильевичу держать в руках подобные листы, весь род бы князей Хворостининых до седьмого колена, всех сродников сначала отправили бы в пытошные башни на дыбы, испытывали бы варом и калёным железом, ремней бы со спин нарезали, а уж потом, ещё живых, но обречённых привезли бы на Болотную площадь и там казнили на плахе. Так было в последний год жизни Грозного, когда он за один день казнил триста вельмож только за то, что якобы они заговорщики.
Нет, он, Филарет, не жаждал ни крови, ни другого сурового наказания князю Хворостинину. «Всевышний воздаст ему по делам его», — пришёл патриарх к мысли. Однако был ещё царь. Была ещё Боярская дума и работал Разбойный приказ, коим надлежало оберегать не только жизнь государя, но и его честь, достоинство. Как они повернут розыск, к какому решению придут, пока было ведомо лишь одному Богу. Он, Господь, держал судьбу князя в своих руках.
И, отбросив личную обиду за неудачное сватовство в иноземных державах, несостоявшееся вроде бы по вине князя, не принимая во внимание не лестные слова о сыне, Филарет подумал, что надо привести князя в чувство домашними средствами, побудить в нём тягу к покаянию, к осознанию своих поступков и самоосуждению. Филарет увидел в судьбе князя Хворостинина нечто близкое себе, ту же тягу вырваться из невежества и осмыслить мир. Тут Филарет с горечью улыбнулся. «Да, он его осмыслил, но не так, как я. Потому нужно ли сечь за это голову? И не много ли мы говорим о милосердии, о любви к ближнему, а сами при первой возможности топчем его. Господь, однако, говорил: «Возлюби ближнего, как самого себя». Кто истинно любит Бога, тот любит и ближнего, а кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец». Наконец, вернувшись в мир повседневный, патриарх сказал Дионисию:
— Пошли человека за князем Иваном, пусть приведёт на исповедь.
— Пошлю, владыко святейший, а лучше сам схожу. Тут рукой подать...
— Сходи сам. Вместе и придёте.
Дионисий ушёл. Филарет опустился в кресло и задумался о судьбе сына-царя. Было очевидно одно: ежели не оженить скоро, то царский род Романовых может прерваться на Михаиле. И уж если не удалось залучить невесту королевского имени из другой державы, то следует поискать доморощенную. Тут же мелькнуло: «Вот бы Ксюша была родовитого племени. — И тяжело вздохнул:
— Ох уж эти законы старины!» Перебирая в памяти все княжеские и боярские рода, в коих имелись невесты на выданье, Филарет остановился на князьях Долгоруких. Видел он их дочь в соборе на богослужении. Ничего не скажешь, хороша княжна Мария, ликом и статью взяла. Да похоже, что и разумом Всевышний наделил, светился же он на лице. Токмо ведь и Машу надо спросить...» И не помнил Филарет, сколько времени провёл в размышлениях, как вернулся архимандрит Дионисий.
— Ни с чем я, святейший.
— Что так?
— Да в непотребном виде князь, лыка не вяжет Ругался, кричал, как услышал, куда зову. Подворье грозился поджечь, а сам и шагу не способен сделать. Непотребен...
— Охо-хо, — вздохнул Филарет — Ну так пусть пеняет на себя. На него тоже управа есть. Пошли к нему завтра ранним утром Кустодиев дюжих, пусть лишат его зелья на два дня, а как придёт в себя, там и поговорим.
— Исполню, святейший, — ответил Дионисий.
Филарет встал, прошёлся по покою и остановился близ Дионисия.
— Ты пока ходил, я всё думал о царе-батюшке. Край пришёл, и женить его нужно. Ты княжну Марию Долгорукую видел?
— Зрел многажды в Благовещенском соборе.
— И что ты о ней скажешь?
— Оно ведь как посмотреть. Был бы молод да не в монашеском сане, не обошёл бы её стороной, — признался Дионисий.
— Давай-ка, брат мой, потрапезничаем да поговорим о наболевшем, — повеселев, сказал Филарет и позвал архидиакона Николая, попросил, чтобы накрыли стол.
А через два дня к вечеру возле патриарших палат остановилась крытая колымага, из неё вышли архимандрит Дионисий и князь Иван Хворостинин. Они поднялись на крыльцо и скрылись в патриарших палатах. Два кустодия, что сидели на облучке, переглянулись.
— Ну и князь! То-то будет ему от святейшего!
Князь Иван был трезв, в одежде опрятен, но ликом чёрен, с диковатыми огнями в глазах. Дионисий привёл князя в трапезную. И вскоре же из моленной появился Филарет. Не благословив, как принято, спросил князя:
— Как ты живёшь, сын Андреев?
— Худо, святейший.
— Не потому ли, что пребываешь без Бога в душе?
— Так оно и есть.
— Я звал тебя на исповедь. Да был ты в непотребном виде. Теперь пойдёшь в храм исповедаться.
— Не пойду, святейший. Душа источилась, и нет порыва к исповеди.
— Печалуюсь. — Патриарх подошёл к князю, за плечо взял, к окну подвёл. — Дай-ка посмотрю на тебя с прилежанием. Авось скажу о твоей хвори.
— Полно, святейший, не тщись! Ни тебе меня не разгадать, ни мне тебя.
— Считаешь, что вровень стоим?
— Отчего бы...
Князь явно не был расположен к откровенному разговору. И Филарет сказал об этом:
— Я тебе руку помощи протягиваю, ты же отталкиваешь меня.
— Устал я, святейший, жизнь в тягость, потому равнодушен...
— Но зачем россиян хулишь? И царя-батюшку... Усталые в смирении пребывают, но не буйствуют.
— Народ хулю, потому как от глума не избавится. А царя-батюшку... Сие от досады рвётся. Вот был бы ты царём! Ты — сильный, за всё цепко берёшься. Мне такие по душе.
— Не нужно мне твоей похвалы. Придёшь с нею, когда грехи замолишь. И место тебе в монастыре уготовано. Пойдёшь ли вольно?
— Вольно не пойду. Но твоя власть надо мной. Верши её. А ноне домой отпусти.
Филарет понял, что князь Иван ни к покаянию не готов, ни от наказания не бежит Потому счёл беседу исчерпанной, сказал Дионисию:
— Отправь его в палаты да стражей поставь, чтобы не сбежал. Суд Божий вершить будем. — И князю сказал: — Не обессудь, за хулу на царя держать тебе ответ.
— Все мы под Богом ходим. Потому отдаюсь Ему не сумняшеся. — И князь Иван вышел из трапезной.
Вскоре же князя Ивана судили. Боярская дума жаждала пыток, крови.
— Царь-батюшка, все государи до тебя за хулу на плаху отправляли. И ты, государь, прояви твёрдость, — взывал князь Мстиславский.
Царь Михаил, однако, не поддался на призывы Фёдора и у думных бояр на поводу не пошёл. Посмотрев на отца, тихо сказал:
— Мы целовали крест не казнить за измены и хулу. Зачем же руки багрить? Вот патриарх-государь и скажет своё милосердное слово.
— Оно и будет таким, — начал Филарет. — Церковь видит в князе заблудшую овцу. Потому ему путь один: на моление в монастырь. И место князю уготовано: Кириллова Белозерская обитель. Сие мы вершим в согласии с царём-батюшкой.
Никто из бояр не посмел перечить милосердному приговору. И князя Хворостинина отправили на Белоозеро по первому санному пути.
Той порой приблизилось важное событие. Царь Михаил дал согласие жениться на Марии Долгорукой. И были смотрины, было обручение. Княжна Мария, роду праведного, пришлась Михаилу по душе.
— Батюшка родимый, низкий поклон тебе. Машенька согреет моё сердце, и мы подарим тебе внуков, даст Бог.
Жених оказался нетерпелив. Сразу же после нового года в середине сентября он повёл невесту под венец. Обряд венчания свершил сам патриарх Филарет в Благовещенском соборе. И было трёхдневное ликование. Москвитяне радовались за царя и валом валили на Красную площадь и в Кремль, где от щедрот царских угощения, бочки с вином, с пивом и каждый мог вволю выпить хмельного во здравие царицы и царя. И в Грановитой палате был большой пир, все веселились без меры, царю и царице подносили дорогие подарки, золотом и серебром осыпали, желали многих лет супружеской жизни, много детей и всё прочее во благо семейного счастья.
Ан счастье молодожёнов было коротким. Чей-то злой колдовской глаз ожёг невесту. Потом патриарх Филарет горюя над печальной участью царицы Марии, долго будет искать-перебирать в памяти лица всех тех, кто мог совершить злодеяние. И когда спустя семь месяцев после венчания, будучи беременной, царица Мария скоропостижно скончалась, Филарет убивался от горя не меньше царя и разум его мутился от тягостных дум. Но однажды его как будто озарило. И он, как ему показалось, нашёл виновницу смерти царицы. Вспомнил он, что на свадьбе был воевода Бутурлин, а с ним — Катерина и Ксения. И видел он, как от Ксении исходили какие-то неземные лучи. Но странным во всём этом было одно: почему он, Филарет, в сей же миг запамятовал сие яркое явление, словно и вовсе его не было. Теперь же память прорезалась, словно молодой зуб, и он увидел лицо Ксении в каком-то мучительном оцепенении, в страдании, готовом прорваться криком. И понял Филарет, что это Ксения наслала на Марию колдовство.
И вскоре же, как миновало девять дён после смерти Марии, мартовским вечером Филарет поехал в палаты воеводы Бутурлина на Пречистенку. Встретил патриарха сам воевода.
— Слава Всевышнему, что послал тебя к нам, святейший. А у меня Катерина два дня назад разрешилась от бремени, доченькой одарила. То-то порадовала...
— Благословляю мать Катерину. Да иное дело привело меня к тебе — государево, — строго сказал Филарет.
— Вон как! — удивился Бутурлин. — Ан за нами грехов нет.
— Ежели бы так. Дома падчерица Ксения? — спросил патриарх, с трудом произнеся нехорошее слово.
Воевода Бутурлин никогда и ни перед кем не испытывал робости. И на сей раз не изведал её, ответил с вызовом:
— Ошибся, святейший, у нас есть дочь Ксюша, она же дома, да хворая, лежит пластом.
— Что с ней?
— Ежели бы ведали! Я уж и священника приводил...
— Ишь ты, какая поруха. Ну веди к ней, однако же, — повелел патриарх.
Он вспомнил, что к Ксюше был ласков всегда. Была она частью той, кого он так долго и чисто любил. И пока шёл до опочивальни Ксюши, гнев его источился, лишь беспокойство росло. Жар у девицы, который опалял её девять дней, к этому дню схлынул, и она лежала бледная и отрешённая от земного мира. Но, увидев патриарха, лицо её оживилось, появилась слабая улыбка и она тихо зашептала:
— Господи, как Ты ко мне милостив. Хвала Тебе, что услышал мою молитву.
— Что с тобой, дитя? — осеняя крестом Ксению, спросил Филарет.
— Святейший батюшка, сними со своей души камень. Явилось мне откровение Господне, будто ты положил на меня грех за смерть рабы Божией царицы Марии.
Удивился Филарет прозрению ясновидицы, сел на ложе, спросил:
— Истинно глаголешь, что было Господне откровение?
— Истинно, святейший. Ты долго искал злочинца, но тебе не открывалось. На третий день после кончины тебя озарило, ты увидел меня и моё лицо в день свадьбы, и как я смотрела на царицу, тебе и замстилось.
— Разве сие не так? Отвечай же!
— Не так, святейший. Потому прими моё покаяние, а там суди, как Бог велит — Ксения смотрела на патриарха глазами родниковой чистоты, и не было в ней ничего земного.
Взгляд ясновидицы растопил лёд в душе Филарета, и он взял Ксюшу за руку, мягко сказал:
— Внимаю тебе, дочь моя.
— Видел ли ты, святейший, кто сидел близ царицы и княжны Черкасской?
— Видел и помню. Второй от Марии сидела боярышня Ирина Щербачёва.
— А помнишь ли ты её бабушку?
— Как не помнить! Да она всей Москве была ведома и... — Тут патриарх осёкся, потому как вспомнил, что не было во всей Первопрестольной и за её пределами такой колдуньи от дьявола. Сказывали, что её происками царь Фёдор Иоаннович водянкой заболел. А позже она паука-тарантула на него напустила, который и убил царя. — Лютая была колдунья, — отозвался Филарет.
— А сватьи-бабы приходили во дворец от Щербачёвых?
— Были и навязывали Ирину Михаилу. И он смущался ею, даже просил матушку, дабы она повлияла на меня, — ответил Филарет. Но про себя подумал: «Да ведомы ли ей колдовские чары, смогла ли она лишить живота свою жертву?»
И при полном молчании Ксюши Филарет «услышал» её ответ: «Ведомы ей колдовские чары и живота она может лишить свою жертву. И сила её сильнее моей, потому мне не удалось сломить её колдовства. Да вот и слегла, и маюсь...»
Бутурлин стоял рядом с патриархом и ничего не понял, когда Филарет вдруг прослезился и припал лицом к лицу Ксюши и целовал её в лоб, в щёки и всё шептал:
— Прости меня, грешного, святая душа! Прости недостойного! Господи, как мне искупить вину свою? — С этими словами Филарет встал, трижды осенил Ксюшу крестом и громко произнёс: — Отец Всевышний, и Ты, Матерь Богородица, заступница сирых, поднимите её, праведницу, дайте ей жизнь щедрую во имя Отца и Сына и Святого Духа! — И, продолжая осенять крестом Ксюшу, опочивальню и Бутурлина, патриарх покинул его палаты.
Не зная, о чём подумать, воевода подошёл к Ксюше, хотел спросить, что произошло, но увидел её закрытые глаза, на лице светился лёгкий румянец, она спала, и воевода на цыпочках ушёл из покоя.
Вернувшись в Кремль, Филарет пришёл в царский дворец и обо всём рассказал сыну, что случилось в палатах Бутурлина, потом спросил:
— Сын мой, царь-батюшка, будешь ли ты судить колдунью Щербачёву или церкви позволишь и розыск и суд?
— Ни сам не буду, батюшка, ни тебе не велю. Всевышний осудит её и накажет праведно. Тебя же прошу о милости. Приходили ко мне ноне ходоки из Кириллова монастыря, просили за князя Хворостинина. Сказывали иноки, что очистился он от грехов и скверны покаянием и послушанием великим. Теперь же просит вернуть его в отчий дом, дабы прахом лечь рядом с родимым батюшкой и матушкой. А ходоки те ещё здесь. Скажи им свою волю. Я так думаю, что мало мы творим добра своим детям, оттого Всевышний нас и наказывает.
— Истинно глаголешь, сын мой. Будем милосерднее, — ответил Филарет.
На другой день утром ходоков из Белоозерья привели к патриарху. Он принял их, согрел тёплым словом и вручил грамоту, в коей написал, что бывшему князю, рабу Божьему Ивану Хворостинину, дана воля, ему возвращены княжеское имя, палаты, подворье и вотчины.
Спустя месяц князь Иван вернулся в Москву, прожил около года тихо-мирно затворником в своих палатах и незаметно умер. Его похоронили на кладбище Донского монастыря рядом с родителями.
Глава двадцать третья Едет государь
Царь Михаил всё ещё пребывал в унынии. Безвременная смерть царицы Марии ещё довлела над ним. Он много молился, искал утешения в Боге. Но тоска не убывала. И как-то он позвал во дворец боярышню Ирину Щербачёву. От неё веяло чем-то лесным, диким. Чёрные жгучие глаза выдавали в ней неведомую силу и власть над человеком.
Михаил по простоте душевной спросил Ирину без обиняков:
— Ты что же, не любила царицу? Вы же подруги.
— Любила. Токмо она мне дорогу перешла.
— И у тебя возник умысел? — Царь смотрел на Ирину добрыми карими глазами и с удивлением. Вот прожигает юная колдунья его смоляными глазами, чего хочет — царь не может угадать, но по спине холодок пробегает.
— Сам прорвался, не ведаю как! — ответила она.
— По-кошачьи цапнула, как мышку. Ишь, какая прыткая! — Царь нахмурился, потому как подумал, что напрасно не наказал её.
А взгляд Ирины стал его одолевать: слабость по телу поплыла от нутра и вниз к ногам, в глазах затуманилось, Михаил ущипнул себя больно и очнулся, неожиданно жёстко сказал:
— Неприятна ты мне, а колдовство твоё поруху наносит. Завтра же уезжай в Каргополь молиться.
Щербачёва не проявила покорности, головы не склонила, лишь улыбнулась. Царедворцы, кои были допущены послушать беседу с молодой колдуньей, ждали большей царской опалы. Но тут же поблагодарили Господа Бога за то, что их царь добр и не злопамятен. Царь Михаил велел стольнику Василию Бутурлину и своему прежнему сотоварищу князю Ивану Черкасскому проводить Щербачёву до Дмитрова, а там отдать под надзор и сопровождением приставам. Сам же ещё глубже ушёл в уныние.
В эти дни к царю каждый вечер приходил отец. Побеседовав с думным дьяком Иваном Грамотиным и узнав все последние новости из зарубежных держав, Филарет пересказывал всё царю. И был вечер, когда Филарет поведал сыну, что в Москву едет посол Персидского шаха Аббаса и везёт необыкновенные подарки. Ещё патриарх сказал сыну, что посол шаха Руссан-Бек просит русского царя приготовить ему встречу по христианскому обычаю: с духовенством, хоругвями и чудотворными иконами. Удивился царь Михаил причудам персидского посла, совета спросил у патриарха.
— Сия просьба загадочна, — ответил Филарет. — Так мы встречаем токмо единоверцев. Надо всё обдумать и с иереями посоветоваться. Зачем урон нашей церкви?
— Посоветуйся, государь-батюшка. Да и вызнай, с чем едет к нам Руссан-Бек. Не думаю, чтобы насмешку замыслил над нашей верой, — заключил царь.
И он не ошибся: ехали ж персы в Россию с чистой душой. Вскоре загадочная просьба Руссан-Бека раскрылась.
Послов из Персии встречали далеко за московскими заставами и в чистом поле тысячной толпой во главе многих иерархов и архиереев. Патриарх Филарет вызнал-таки, с чем едет персидский посол И был рад, что Россия обретёт такой подарок.
Руссан-Бек увидел удивительное зрелище. Его встречали сотни священников, над ними развевались хоругви, сверкали на солнце золотые оклады чудотворных икон. Сотни певчих пели псалмы, над шествием курился ладан.
Руссан-Бек подкатил в карете к встречающим, ему подали окованный серебром ларец. В полнейшей тишине он открыл его и достал истинный Хитон Господень. Этот Хитон был найден в северной Персии на границе с Грузией. Руссан-Бек раскинул Хитон на открытой карете, да так его и повезли в Москву доставили в Кремль, где посланца шаха ждали царь, патриарх, вельможи, духовенство.
Хитон Господень под благовест кремлёвских колоколов был поднесён царю Михаилу, и посланник шаха сказал при этом:
— Сия священная реликвия принесёт вам победу над всеми врагами кои есть у России.
После чего Хитон Господень отнесли в Успенский собор и отслужили молебен. Все долго и упорно молились, ожидая проявления чудес, дабы убедиться в подлинности реликвии. И чудеса свершились. Молодая дворянка Сетпанова заставила своего слепого сына поцеловать Хитон. Он лишь прикоснулся к нему и прозрел, крикнул от радости:
— Матушка, я вижу Боженьку!
И тогда к Хитону Господню подошёл патриарх. Преклонив колена, он трижды поцеловал реликвию. И, закрыв глаза, долго был неподвижен. В храме все замерли в ожидании нового чуда. И оно произошло. Патриарх увидел знамение: раскрылись многие города и веси России и через них шествовал царский поезд, провожаемый толпами россиян.
Филарет открылся не тотчас, но после торжественного обеда, устроенного в честь послов. После долгих размышлений Филарет пришёл к убеждению, что знак Господень проявился неспроста. Воля Всевышнего побуждала его и царя к действиям, важным для будущего державы. И после того, как Руссан-Бека проводили в обратный путь, наделив его мехами соболей, куниц и белок, рыбьим зубом и воском, патриарх призвал царя Михаила к долгому деловому посещению многих городов центральной России.
Майским вечером, когда в зарослях сирени в подгорье Кремля возносились соловьиные трели, Филарет поведал сыну о видении близ Господнего Хитона и рассказал, что увидел за этим.
— Ты, сын мой, ещё в печали. Но держава просит наших забот о ней, радения отеческого, и потому настал час трудов великих. И для начала уйдём мы в поход по многим городам российским, всюду оком своим посмотрим, всюду дадим наказ воеводам и духовенству, как налаживать благодатную жизнь.
— Государь-батюшка, я в согласии с твоим желанием. Токмо как мы будем ладить жизнь, сие мне неведомо.
— Мы с тобой токмо в Москве лишили власти всех мшеломцев, в коих корысть обуревала в управлении державой. Теперь же следует высветить всех извратников жизни на местах. По совести ли управляют воеводы, не мздоимствуют ли губные старосты, приказные дьяки, приставы, не дружат ли с зельем попы? Всё и всех надо высветить, всех недостойных лишить власти, наказать в назидание. И поедем мы с тобой не тайно, не безвестно, но отправим во все города сеунчей с грамотами, уведомим о своей воле, побудив всех наводить порядок. Там же, где того порядка не прибудет от нерадения воевод, тиунов и старост, будем строго с них взыскивать и изгонять по случаю. Да на каждое властное место, дабы оно не пустовало, найдём разумных вельмож и служилых людей больше из молодых, из дворянского рода, коими Москва и Россия богаты.
— Спасибо, родимый. Ежели так будем править державой, быть ей в достатке и процветании. Да не будем мешкать, шли гонцов, собирай служилых людей, готовь поезд.
И помчались во все города, до Белгорода на юге и до Вологды на севере, гонцы с повелением государей готовиться к их встрече, во всём порядок наводить, крамолу, злочинство и казнокрадство изживать. В Москве той порой начались сборы в дальний путь. Филарет сам подбирал вельмож, воевод, священников, дьяков и прочих, способных при надобности управлять на местах. Долгими вечерами, обсуждая с царём каждого подорожника, Филарет не назвал никого из старинного московского боярства. Были забыты князья Курбские, Микулинские, Пеньковы, Холмские, бояре Годуновы, Сабуровы, Тучковы, Челяднины... Не обошёл вниманием Филарет лишь титулованных князей Прозоровских, Долгоруких и Урусовых. В этих родах, по его мнению, были достойные отпрыски. Шли в поход с царём и патриархом не титулованные Милославские, Боборыкины, Лопухины, Нарышкины, Чаадаевы — все люди скорые на подъём, деловитые и прозорливые.
У Филарета был опыт собирать воедино большое множество людей. Правда, тот опыт великого московского посольства к королю Сигизмунду был горьким. Но и подобное шло впрок, потому как без горького не познаешь сладкого. Ежели тогда из Москвы поднялось невесть зачем более пяти тысяч человек, теперь же царский поезд составляло чуть больше пятисот с прислугой, с приказными дьяками для дотошной проверки писцовых книг и земельных описей. Правда, совсем неожиданно Филарету пришлось взять в поход воеводу Михаила Бутурлина. Костромичи били челом государю о том, чтобы он вместо безрассудного боярина Якова Челяднина вернул им воеводу Бутурлина. В эти годы воеводы в областях менялись не по срокам, а как заставляла нужда. И Филарет позвал Бутурлина с собой. Он же наказал Катерине ехать с детьми прямым путём в костромское имение. Катерина была этому рада, потому как увидела в том поворот судьбы, указанный перстом Божиим.
Выезжали из Москвы сразу после церковных торжеств в честь дня Вознесения Христова. Ещё звучали в душах христиан слова проповедей, евангельских чтений: «Вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой... Сказа сие, Он поднялся в глазах их, облако взяло Его из вида их...» — а поезд потянулся к заставе и взял путь на Калугу.
Сей город, претерпевший многие беды в лихие годы смуты, дважды бывший столицей Лжедмитрия II, менял свой облик с трудом, потому как население его уменьшилось вдвое, да больше за счёт мужского пола и некому было застраивать пустыри, возводить новые улицы, посады. Но именно здесь, в Калуге, москвитяне убедились в прозорливости Филарета. Будь приезд царя и патриарха неожиданным, они нашли бы в Калуге самое неприглядное запущение во всём. Гонцы пробудили калужан от зимней спячки. И что не делалось здесь годами, исполнилось за месяц. Весь город, словно палаты радивой хозяйки, очистился от грязи и мусора, была замощена булыжником главная улица города, исчезли пепелища. Многие же калужане обновили дома, привели в божеский вид храмы. Люди работали от зари до зари, а то и ночи прихватывали.
Царя и патриарха встречали всем городом. От мала до велика горожане вышли за заставу, на две версты выстроились вдоль московской дороги. Калужане не помнили подобного, когда бы почтили их таким вниманием, и радовались, как дети, дивились множеству знатных вельмож и воевод. Многие в Калуге ещё помнили, как дважды появлялся в городе Тушинский вор-самозванец. Каждый раз его приезд был жалким, но вселял в калужан страх, ожидание смерти, грабежа, насилия. Ныне калужане жили вольно, без страха и не голодали. Им хотелось, чтобы и царский двор ни в чём не нуждался. И потому калужане оказали царю и патриарху всем москвитянам тёплую, достойную встречу. Город выглядел празднично, чисто, благовестили колокола, горожане были нарядны, показывали, что довольны жизнью, избавленные от смуты и междоусобной брани.
Однако царь и патриарх приехали в Калугу не для того, чтобы полюбоваться внешней стороной жизни калужан. Они были намерены проникнуть в её внутреннее состояние. И тут у хозяев высветилось множество изъянов, и им ещё немало нужно было поработать в поте лица, дабы сказать, что жизнь налажена. Ещё по пути к Калуге Филарет отметил запущение на нивах, скудость жизни калужских земледельцев. Он увидел многие пепелища там, где раньше стояли селения. В городской управе Филарет узнал по писцовым книгам, по земельным описям то, чего боялся: о бедственном положении служилого земледельческого населения области. Дотошные дьяки Дворцового приказа открыли неприглядную картину. За прошедшие годы царствования Михаила сельского люду в весях нисколько не прибавилось. К тому же по своему составу он стал другим, распался на два сословия. И ежели состоятельных крестьян, дававших основной доход государству, была одна треть, то две трети составляли бобыли-маломочные. Эти маломочные крестьяне ещё назывались беспашенными и владели только усадьбами, дающими зерно и овощи лишь на прокорм семьи.
Досужий дьяк Иван Лопатин подвёл счёт пашне и пустотам по трём уездам Калужской земли — Ельнинскому, Медынскому и Малоярославскому и открыл царю и патриарху народное бедствие.
— Вот, зрите, царь-батюшка и государь-патриарх, ноне в этих трёх уездах на землях служилых людей всего двенадцать сотен крестьян, а бобылей двадцать шесть сотен. На нынешний год в поместьях числится брошенной земли-пустоты в двадцать два раза больше, нежели пашни.
Горестно покачал головой царь Михаил. А патриарх спросил:
— Говори, дьяк Иван, что ещё нашёл? И есть ли движение вперёд?
— Нету, государь-батюшка святейший. Земля всюду пустует. Из ста десятин доброй земли только десять засевается хлебом. Да вот наглядность. Выборный дворянин Шекстин из Калужского уезда имеет девятьсот десятин доброй вотчиной и поместной земли, а под пашней держит всего девяносто пять десятин.
— И продаёт хлеб? — спросил царь Михаил.
— Ан нет, царь-батюшка. Не с чего ему продавать. Для себя и для прокорма дворовых он пашет и засевает всего двадцать десятин. А остатние семьдесят пять пашут на прокорм двадцать восемь крестьян и бобылей, обитающих в девятнадцати дворах. И выходит, что на каждый двор падает кругом по четыре с половиной десятины. Где уж тут пирогам быть...
Царь Михаил даже заохал.
— Что за жизнь здесь у крестьян? Чем кормятся? Уж не разбоем ли? И кто всему виной, не воевода ли с тиунами? — так и слетали с уст царя вопросы, на которые дьяку Лопатину не хотелось отвечать. Он лишь виновато хлопал глазами и теребил клинышек бородки.
Царю Михаилу ответил патриарх:
— В Калуге нет сему бедствию виновных. И воевода Скоков пока на месте. Виною всему, сын мой, смута. Не вырвались здесь из её полону. Но сие ноне не главный враг. Мы замирили державу. Ноне недуг у нас иной появился: наша нерасторопность, бесхозяйственность и лень. Дума закостенела.
Сколько раз убеждал сивые бороды писать строгие указы да царской властью их в жизнь нести, дабы повсеместно крестьян к земле из бегов вернуть. Оно так, в казаках и разбойниках вольно жить, ещё торгом заниматься. Звона сколько купцов-коробейников в Москве развелось. Скупают всё у крестьян за бесценок, торгуют беспошлинно, дерут втридорога, — распалился патриарх. — Сие не промысел, а воровство. Потому нужно установить, дабы крестьянин сам распоряжался своим достоянием. И дворянин пусть везёт свой хлеб на торжище. Всё из рук в руки, — рассуждал Филарет. — Ещё посадский люд нужно приструнить, лишить его вольностей несуразных. Дано посадскому ремёслами заниматься, овощ, яйцо и мясо к столу горожан доставлять на рынки, вот и пусть творит Богом определённое дело. Потому и в разряд горожан их следует по достоинству переводить.
Вникнув во все дела Калужской земли, патриарх собрал в палаты воеводы все городские власти и долго увещевал, как им жить.
— Дети мои, слушайте. Высвечу вашу нынешнюю жизнь, как вижу. Нет у вас пока истинного прилежания о благе государства и о своём. В Калужском уезде ноне восемьсот двадцать дворян и детей боярских, кои сидят на земле. Но что сие за хозяева? Сто тридцать есть безземельные, имеют токмо усадьбы, ещё триста девяносто — однодворцы и пустопоместные, лишь триста землевладельцев ведут хозяйство исправно. Ведомы мне имена дворян, кои бросили вотчины и поместья, поступили в казаки или ушли в боярские дворы холопами кабальными. Ещё в монастыри служками. Или того хуже, ушли в стольный град и там валяются по кабакам и харчевням. Теперь смотрите, какой урон от такой жизни хлебопашцев державе. Она не получает от них хлеба. И чем ниже падает служилое землевладение, тем больше нужно выплачивать служилым людям денежного содержания, тем выше налоги на исправного крестьянина. А потому как налоги развёрстываются по величине пашни, то крестьянин не в силах вынести налоговое бремя и уменьшает свою запашку, дабы платить меньше. Теперь скажите, что же делать государству?
В трапезной палате воеводы зашушукались, но никто не возвысил голоса: нечем было возразить патриарху и ответить на его вопрос. Да он и не ждал, но продолжал:
— Вижу выход в одном. Именем царя-батюшки и своим государевым именем повелеваю вам отныне искать всех, кто пребывает в бегах, возвращать их на землю и помочь им миром обустроиться. Ещё не плодите нерадивых, радейте за исправного крестьянина, за умелого работного простолюдина. И мы вас не оставим своими заботами.
Накануне отъезда из Калуги патриарх встретился с духовенством и дал священникам наказ:
— Вы, отцы церкви, радейте за веру стойко и вразумляйте Божиим словом свою паству. И помните, кто из православных христиан потеряет Бога, за того в ответе вы, пастыри, и с вас спрошу строго.
И вскоре рать Филарета и царя Михаила взяла путь на Брянск. Разогнав дрёму и в этом городе, москвитяне двинулись на Тулу, на Рязань, на Владимир — всё по кругу, по кругу.
Впереди дотошной рати по-прежнему летела молва легкокрылая, и всё, что случалось в тех городах, кои почтили своим вниманием царь и патриарх, становилось ведомо в тех, куда они держали свой путь. Молва эта обрастала домыслами, страстями, и одни внимали страстям с удовольствием, других же они приводили в трепет. И раньше, чем в том или ином городе появлялись царские дворецкие, стряпчие, постельничие, стольники — все государевы устроители, коим по долгу дворцовой службы надлежало мчать впереди царя, там всё приходило в суетливое движение и кто-то замаливал грехи, кто-то готовился к покаянию, а были и такие, кто убегал в леса от неминуемого наказания.
Не в диковинку было иное. Россияне любили своего царя и даже жалели его — вот, вдовый ходит, — но не боялись. А государя-патриарха побаивались. Он хотя и мало кого подвергал опале, и о его милосердии к князю Ивану Хворостинину молва прокатилась по всей Руси, но злочинцы всех мастей трепетали при его появлении. Знали, что Филарет может быть и суров. И было ведомо горожанам в Туле ещё до приезда царя и патриарха, что в Брянске Филарет отлучил от церкви воеводу Онучина и сослал его властью государя в поместье для безвыездного проживания. И сказывали, наказал-де справедливо. Онучин месяцами увлекался псовой охотой, бражничал, совращал девиц, а управление областью отдал на откуп дьяку-мздоимцу. И поставил Филарет воеводою в Брянске молодого дворянина Илью Боборыкина, человека деловитого, решительного и справедливого.
А рязанцы знали, что в Туле Филарет освятил новый храм, ещё собрал всех безместных попов, кои не желали служить, но бражничали, и отправил их в боровский Пафнутьев монастырь под строгое послушание.
И вот уже впереди Кострома сверкнула главами соборов и церквей — желанный для царя и патриарха остров, почитаемый многими воспоминаниями. Государева рать сильно поредела. Многие остались позади воеводами, тиунами и старостами по городам и селениям, приказными дьяками в городских управах. Москвитяне сменили закостеневших на своих местах воевод во Владимире, Рязани, Пензе. И для Костромы уже был готов воевода: возвращался к прежней службе Михаил Бутурлин.
В Костроме царь и патриарх думали пробыть недолго, время уже поджимало. Нужно было ещё в Ярославле порядок установить, Тверь тёплым словом приласкать. Ан получилось не так, как мыслили, и пришлось задержаться в Костроме почти на две недели. Лишь только царский поезд появился в городе и москвитяне разместились по палатам и подворьям, как к патриарху-государю потянулись ходоки и челобитчики из уездов. Все они Христом Богом просили избавить их от уездных властителей, коих по своему разумению насадил воевода Челяднин, который «взял власть выше царя». Купечество жаловалось на незаконные поборы-взятки, дворяне на то, что Челяднин и свора ввели во блуд многих их жён. Были жалобы и у духовенства. Слышали священники от Челяднина богохульство и были свидетелями осквернения памяти народного героя, костромского крестьянина Ивана Сусанина, коему довелось спасать от поляков и казаков-разбойников жизнь будущего царя. С челобитной приехал священник Мефодий из села Домнино и зять Ивана Сусанина Богдан Сабинин. Их принял сам царь Михаил, спросил Сабинина:
— Скажи, сын мой Богдан, как ты тут жил? Помню, ещё в марте девятнадцатого года я прислал тебе жалованную грамоту с печатями на земельный надел.
— Получил твою грамоту твой раб Богдашка, царь-батюшка, да землицей пришлось владеть недолго. Отобрал ту грамоту воевода Челяднин и жаловаться запретил.
Воеводу судили строго. И не было у него оправданий. И милости Яков Челяднин не просил у Романовых, потому как всегда относился к ним с враждой, которой порою не скрывал. Царь и патриарх посоветовались меж собой и отдали Челяднина на суд костромичей. Судили его духовенство, почитаемые граждане, исправные крестьяне, и все они одним духом приговорили извратника жизни к казни. Однако царь и патриарх не согласились с приговором костромичей, потому как были связаны подкрестной грамотой не казнить за измены. Филарет объяснил горожанам суть царского воздержания, и они проявили понимание, согласились с приговором царя и патриарха. Якова постригли в монашество и под стражей отправили в Соловецкий монастырь под суровый надзор игумена и пристава.
Покончив с важными делами в Костроме и утвердив воеводою Бутурлина, царь Михаил решил съездить на побывку в имение Домнино, где жил с матушкой в отроческие годы и спасался от происков князей Мстиславского и Шуйских.
У патриарха Филарета тоже проявилось желание навестить Ипатьевский монастырь, близкий Романовым по многим воспоминаниям. Но патриарху ехать никуда не нужно было далеко, лишь перебраться на другой берег речки Костромки — там и монастырь. А сыну его предстояла неближняя дорога по лесным урочищам, и Филарет, благословляя его, попросил:
— Ты, сын мой, остерегись в тех диких местах. Особо близ Рябинина. Нечистая сила там шалит...
— Ведаю, родимый, те места, остерегусь и о молитве не забуду, — ответил Михаил отцу.
Но упоминание о селе Рябинине как-то не осело в памяти Михаила. А в том селе, которое принадлежало воеводе Бутурлину, в эту пору пребывали Катерина с малыми детьми и Ксюшей. Село и имение Бутурлина располагалось ближе Домнина вёрст на семь. И всё же царь Михаил уезжал в Домнино в состоянии какого-то смутного волнения, и приятного и тревожного одновременно, в предчувствии некоего события. Поездка и влекла его и пугала. Он не пытался ни о чём гадать и меньше всего думал о нечистой силе. И своё волнение отнёс на счёт того, что предстояла желанная встреча с отрадным прошлым. Сопровождали царя в поездке молодой князь Иван Черкасский, несколько человек прислуги и небольшой отряд стрельцов.
Глава двадцать четвёртая Ясновидица и царь
Стояла благодатная пора ранней осени. Природа уже одарила россиян плодами земли, и повсюду они убирали их с полей, с огородов. Теперь же ходили на грибную охоту и по клюкву. Мужики по ночам бродили вдоль рек, ловили по омутам сазанов, налимов, сомов — беспокойную рыбу осенней поры. Всё это царь Михаил помнил и знал, сам со сверстниками хаживал-бегал в лес и на реку. В Домнино он ехал в лёгкой карете. Рядом с ним сидел князь Иван Черкасский. Он был на два года моложе царя, обходительный, мягкий, нраву весёлого, песенник и постоянно бредящий разными чудесами, приключениями, бесстрашный, готовый в любую пору идти хоть на шабаш ведьм или в дикий лес, где водятся волки, медведи, лешие и прочая тварь. Ничего он не страшился, лишь бы сабля была в руках. Михаил полюбил Ивана с детства, с той поры, когда его пятилетнего, а Ивана трёхлетнего отправили в ссылку на Белоозеро с родителями Ивана, князем Борисом и княгиней Анной. В семье Черкасских отрок Михаил был окружён лаской и любовью. Был он для Черкасских вторым сыном.
Когда шестнадцатилетнего Михаила венчали на царство, князь Иван встал при нём оружничьим И хотя был он в ту пору отроком и вроде бы ему ещё рано было носить звание оружничьего, ан нет, царь Михаил проявил твёрдость и отклонил всех, кому хотела отдать это место Боярская дума.
В поездке по городам России царь не отпускал от себя князя Ивана. С ним Михаилу всегда было покойно, надёжно и даже порою весело. В те часы, когда они были в пути и карета мерно покачивалась, князь Иван забавлял царя разными историями из прошлого Руси и сказками, коих знал множество.
В тот сентябрьский день по пути в Домнино, когда на землю спустились сумерки, князь Иван рассказывал царю сказку о том, как Илья-пророк надумал наказать строптивого мужика, который в Ильин день ушёл в поле работать, косить и возить рожь в овин. Но пока Илья думал, какое наказание определить непочтительному мужику, появился его заступник, Николай Чудотворец. Рассказывал Иван эту сказку, как весёлую и забавную историю. Царь смеялся, на душе у него посветлело, ушли беспокойство, волнения.
Дорога бежала через поля и луга, через перелески, ровная, малонаезженная, убаюкивающая. Впереди кареты лёгкой рысью ехали три стрельца, позади — четыре, между ними — карета с кучером на облучке, запряжённая белыми ногайскими конями. Прочие же кареты давно умчали в Домнино, и там царедворцы готовились к встрече царя. Но это не занимало Михаила, он вслушивался в голос князя Ивана, ровный, мягкий, и сладко потягивался, глаза уже окутывало облачком сна.
А до Домнино оставалось ещё вёрст десять, и день угас. На дороге, что прибежала в лесное урочище, сразу стало как-то темно и неуютно. Лес, однако, скоро кончился, вновь выехали на луг, где виднелись лишь купины кустарников. Но тут и они скрылись, потому как из лощинки на дорогу накатили такие густые волны тумана, что в двух шагах не стало видно ни человека, ни коня. Кучер погнал лошадей, дабы вырваться из пелены, но ему это не удавалось, туман становился всё плотнее и окутывал путников, словно ватой. А тут дорога пошла по болотине, петляла, ветвилась. И сперва потерялись стрельцы, что ехали впереди. А на одной из развилок дороги и те, что ехали позади. Они перекликались, но кто и откуда кричал, понять было трудно, потому как голоса катились по кругу и в какую бы сторону ни прислушивался, казалось, что кричат оттуда. К тому же голоса множились, было похоже, что кричит добрая сотня людей. Наконец, царские кони сбились с пути, потеряли дорогу, и карета катила неведомо куда, а голоса перекликающихся стрельцов вдруг растворились, словно утонули в прорве. И наступила мёртвая тишина. Лишь под конскими копытами чавкала мягкая земля да всхрапывали кони. Но тут карета остановилась, и царский возница дворянского звания Тихон открыл в передней стенке кареты оконце и виновато сказал:
— Царь-батюшка, дорога пропала, и не ведаю, куда ехать. Знать, нечистая сила закружила нас. Господи, спаси и сохрани нас, милостивый! — воскликнул Тихон.
За царя ответил князь Иван:
— Ты о нечистой силе забудь. Да езжай, не здесь же ночевать.
Тихон задёргал вожжами, кони тронулись, карета покатилась, но не прошло и минуты, как вновь остановилась.
— Князь Иван, что же теперь делать? — спросил царь Михаил.
— Дорогу нужно искать, вот и пойду, — ответил князь.
— Нет, не оставляй меня, Ванюша, пусть Тихон ищет. Жутко мне что-то, — признался царь.
— Ну полно, государь, мы ведь не в лесу, а в поле. Тут лешие не вольничают.
Князь Иван не попрекнул царя за обуявший страх, сам он испытывал в душе холодок, потому как нёс ответственность за государя. Он вышел из кареты и послал Тихона искать дорогу. Да в тот же миг подумал, что напрасно это сделал, потому как Тихон тоже потеряется. Но иного выхода он не видел и сказал:
— Ты почаще зови-отзывайся, Тихон.
— Так и сделаю, князь-батюшка, — отозвался тот, слез с облучка и, сделав несколько шагов, растворился в белых волнах тумана.
Какое-то время князь слышал голос Тихона, сам отзывался. Ещё он услышал далёкие крики стрельцов, но не мог бы сказать, в какой стороне они кричали. Показалось Ивану, что голоса доносились откуда-то сверху, словно с какой-то вершины горы. Но вот они будто вознеслись в небо и замерли. И голос Тихона уже не доносился до слуха Ивана. И тогда князь сам закричал, как ему показалось, чужим голосом:
— Тихон! Да отзовись же, Господи! — И прислушался: в ответ — ни звука. — Вот наваждение, — вымолвил князь тихо, перекрестился и поднялся в карету.
— Ну как там? — спросил царь Михаил.
— Худо. Словно в молоке утонули.
— Знать, и впрямь нас бесы запутали, — вздохнул царь.
— Они любят попроказить. Да не печалься, царь-батюшка, пошутят и отстанут, — попытался успокоить Михаила князь. — Вот я сейчас укрою тебя, ты и вздремни.
Князь Иван вынул из рундучка лёгкую полость из заячьих шкур, укрыл ею царя и положил руку на колено. Царь Михаил и впрямь вскоре уснул под тёплой заячьей полостью. А князь Иван посидел этак молча, в оконце поглядывая, и показалось ему, что туман стал рассеиваться. Вышел из кареты и впрямь увидел в нескольких шагах очертания кустов, ствол дерева. Потоптался возле кареты, присматриваясь окрест. Показалось ему, что туман совсем поредел, и пошёл сам искать дорогу, толкаемый неведомой силой и моля Всевышнего о том, чтобы хранил царя-батюшку.
Государь той порой сладко спал, и сколько времени прошло, никто не ведал, когда застоявшиеся кони вдруг тронули карету и тихо пошли вперёд.
Шли долго, туман рассеялся вовсе. Тут словно кто-то потормошил царя, и он проснулся, глянул в оконце и увидел освещённое окно. Карета подкатила к нему близко и остановилась. Царь Михаил отбросил полость, вышел из кареты, глянул вперёд и увидел, что коней кто-то держал под уздцы.
— Это ты, князь Иван? — спросил Михаил.
Ответа не последовало. Царь подошёл к человеку поближе и рассмотрел, что возле коней стоит женщина.
— Эй, тётка, кто ты? — спросил он дрогнувшим голосом. Михаил не считал себя храбрецом, да и оружия при нём не было. Он осмотрелся, увидел дом с мезонином, внизу и вверху по освещённому окну, лес, подступающий к самому дому, услышал, как филин где-то проухал, вздрогнул, на небо глянул, тонкий серебристый серпик народившегося месяца слева от себя увидел, перекрестился и молитву, берегущую от нечистой силы, зашептал.
В сей миг «тётка» подошла к нему и сказала ласковым голосом:
— Месяц народился, царь-батюшка, и ты увидел его за левым плечом. Помни, Всевышний послал тебе знак благополучия.
— Спасибо Создателю. Токмо я несчастный человек. Вот, заблудился и потерял любезного друга Ивана и всех прочих с ним. Какое уж тут благополучие, — горестно отозвался Михаил.
— Не страдай, царь-батюшка. Твои люди нашлись. Их Еремей-пасечник ведёт, куда им следует. Да всё с шутки-забавы началось.
— Как это так он посмел? Он же и надо мной забавлялся! А я-то думал, что сие происки нечистой силы.
— Над тобой он не проказничал, токмо сон навеял. — «Тётка» стояла перед Михаилом в мужском охабне, на голову был накинут шлык, который скрывал её лицо. Но голос показался ему знакомым, и слышал он его где-то в Москве, в чьих-то палатах. И всё случившееся с ним показалось царю сказочным, будто навеянным князем Иваном. И он, унимая оторопь, ласково попросил:
— Откройся, тётка, а то мне неуютно в неведении.
— Откроюсь. Дай твою руку. Ты и впрямь в неведении о том, что попал в царство духов. Да пугаться не надо, к тебе тут все добры.
Царь Михаил подал свою руку, «тётка» взяла её лёгкой, тёплой, но твёрдой рукой и повела царя к крыльцу дома. Кони шли следом, но потом свернули к конюшне, и Михаил заметил, что к ним кто-то подошёл и стал распрягать. Он хотел возразить, но голос не послушался его. «Тётка» ввела его на крыльцо и в тёмные сени, распахнула дверь, и они оказались в просторной и чистой горнице.
Хозяйка горницы оставила Михаила у порога, сама задёрнула фиранку на окне, зажгла ещё две свечи, скинула шлык и охабень, и в ярком свете трёх свечей обернулась пред царём Ксенией-ясновидицей. Она была в простом сарафане, рыжие локоны спадали на плечи, зелёные глаза смеялись, и сама она ласково улыбалась.
Царь Михаил как стоял, так и обомлел. Да пришёл в себя.
— Господи боже, вот уж истинное чудо! — воскликнул он. — То-то голос твой меня смутил на дворе. Нет, это я во сне, сего не может быть наяву. — И царь подошёл к ясновидице ближе, тронул за руку. — Однако же сие явь, и это ты, Ксюша. Но какой силой я занесён к тебе?
— Может, царь-батюшка, так угодно Всевышнему.
— Но здесь, в диком лесу!
— Да всё просто, государь. Тут мой батюшка держит пасеку в липовой роще. И я люблю на пасеке жить. Как приехала с матушкой в Рябинино, так и умчала сюда.
— Но я-то как попал на пасеку? Мне в Домнино надо. И где мои люди, где князь Иван Черкасский, Тихон, стрельцы?
— Тебя привела на пасеку Судьба, — серьёзно ответила Ксения. — Люди твои одни уже в Домнино, другие в Рябинино, и Тихон там, лишь князь Иван пока в лесу. Да поблуждает и к утру явится.
— Мне князя Ивана жалко. Пропадёт он от зверя какого, — произнёс Михаил. — Послала бы кого за ним.
— Не печалуйся, царь-батюшка. Он ещё порадуется этой ночи, проведённой у огнища с лесными духами. То-то поведает тебе сказок. — И Ксения весело засмеялась. Да подошла к двери и накинула на железное ушко большой крюк. — Ан и у тебя будет что рассказать, ежели пожелаешь, — загадочно произнесла Ксения. И принялась накрывать стол. — Голоден поди, царь-батюшка, сейчас попотчую тебя.
Царь Михаил опустился на лавку у стены и не спускал с девицы глаз. И прихлынуло к нему прошлое, да зримое, будто было сиюминутной явью. Вот он стоит в костромском доме Бутурлина перед Катериной на коленях и умоляет её ехать в Москву, а из-за её спины смотрит на него зеленоглазая отроковица и чему-то загадочно улыбается. И ту же загадочную улыбку он увидел спустя три года в патриарших палатах. И тогда она обожгла его сердце. С той поры не было в его жизни дня, чтобы он не вспомнил её с нежностью и тоской. И на Марии Хлоповой он хотел жениться лишь для того, чтобы избавиться от наваждения. Когда же невесту испортили и сослали, подумал он, что судьба открыла ему дорогу к любимой. И в тот раз, когда он с батюшкой пришёл в патриаршие палаты, когда зашёл к Ксюше в опочивальню и целую вечность простоял возле спящей девушки, он тешил себя надеждой, что Ксюша будет-таки его женой. Увы, не дано ему было переступить закон старины. Да может теперь попрать сей закон, подумал Михаил. И услышал голос Ксюши, словно слетевший откуда-то сверху: «Государь-батюшка, не тешь себя надеждой, я не разделю с тобой супружеского ложа». Михаил не мешкая возразил: «Нет, нет, я добьюсь своего, и ты будешь моей семеюшкой». И услышал ответ: «Я буду твоей, буду, но не семеюшкой». Как явственно тогда прозвучали эти слова. И с ними, загадочными, освещающими путь, Михаил жил все последние годы. Уже туманом заволокло короткое супружество с Марией Долгорукой, а слова Ксении, услышанные им в тиши девичьей опочивальни, все светились в памяти, как лампада перед чудотворным образом.
Правда, после смерти царицы Марии Михаил на какое-то время забыл о своих чувствах к ясновидице. Его тоже опалило подозрение, к нему приходили чёрные мысли, и он обвинял Ксению, считал, что она сжила Марию со света. И даже думал начать розыск колдовского дела. Но Всевышний не допустил сего зла, защитил от наветов невинную, помог его батюшке высветить злоумышленницу, боярышню Ирину Щербачёву. Какая блаженная радость прихлынула тогда в сердце Михаила, когда он узнал от отца, что нет на Ксюше вины за смерть царицы Марии. И снова в его груди затеплилась лампада, и он стал надеяться, что судьба соединит его с Ксюшей. Как он искал с нею встречи, дабы открыть ей свою любовь. И теперь он понял, что его молитва услышана Матерью Богородицей, коей он молился в бессонные ночи. И Ксюша вот она — перед ним.
А девица в эти минуты закончила хлопотать у стола, она принесла немудрёные деревенские яства, достала из русской печи горячую тушёную говядину с пшённой кашей, поставила ковш душистой медовухи, нарезала подового хлеба, поставила блюдо с наливными яблоками, сливами и золотистый мёд в глиняной чаше принесла. А как завершилась череда воспоминаний Михаила, подошла к нему.
— Теперь ты волен, прошлое окинул глазом, можно и к столу потому как голоден.
— И правда голоден, славная, — подойдя к столу ответил Михаил. — И хмельного хочу выпить. Авось пробужусь от одного волшебного сна и в другой с Божьей помощью окунусь.
Они сидели за столом напротив друг друга, ели молча. Лишь перед тем, как пригубить медовухи, Ксюша сказала:
— Будь счастлив, царь-батюшка. Отныне оно тебя не покинет до последней вечерней зари.
Михаил только кивнул в ответ, потому как в сей миг был счастлив и не думал о будущем.
А Ксюша думала, потому как пришла пора. Ясновидица пребывала в полной силе, кою унаследовала от батюшки и матушки. Сидя за столом при свете свечей, она видела всё будущее сидящего перед ней государя России. Её взгляд достигал самого окоёма, который был довольно далеко. Она видела его пред алтарём Благовещенского собора, и патриарх венчал и благословлял сына на благодатную супружескую жизнь, благословлял будущую царицу, юную красавицу дворянского рода Дуняшу Стрешневу, кою Ксюша знала. Вот царь Михаил надел ей обручальный перстень, и невеста надела царю перстень. Потом они троекратно поцеловались, их повели вокруг алтаря, а хор запел хвалу новобрачным.
Видела Ксения, как год спустя Дуняша разрешилась от бремени. Всё было зримо, словно Ксюша стояла близ роженицы, и крики её она слышала, и помогала разрешиться благополучно. И Дуняша родила царю сына, нас ледника престола. И утвердилась царская династия Романовых, как тому и должно быть, как мечтал её родоначальник, Филарет Романов. Картины жизни царя Михаила проплывали перед мысленным взором ясновидицы чётко, выпукло. Царствование Михаила ничем не замутнялось. Его дети, народ российский, выбрались из тенёт смуты, все окрепли достатком, жили без военных тревог и потерь близких, славили царя, да больше его батюшку, потому как ведали, что он не только патриарх всея Руси, но ещё и великий государь, несущий на своих плечах державу.
Пришлось Ксении и попечаловаться, потому как она увидела кончину святейшего патриарха всея Руси. Увидела она и себя, стоящей рядом с матушкой близ гроба Филарета. Тогда обе они горько плакали, не скрывая своего горя. И царь Михаил неутешно плакал, пребывая в неизбывном горе. Да удивлялась Ксюша тому, с каким удивлением смотрел на усопшего деда пятилетний внук, царевич Алексей. Он ещё не осознавал, что дедушка ушёл из жизни навсегда.
Михаил и Ксения не засиделись за столом. За то короткое время, какое они вкушали пищу, царь истомился душою от жажды прикоснуться к Ксюше рукой, истомился больше, чем за все годы, кои знал и любил её. И Ксюша это видела и понимала состояние Михаила. Она и сама пребывала в том блаженном состоянии, когда уплывают в неведомое все условности жизни. Она тоже жаждала блаженства близости. И когда покончили с трапезой и выпили во благо крепкой медовухи, Ксюша сказала смело и неожиданно:
— Мой любый, идём, я покажу тебе мой терем. — И встала из-за стола, взяла царя за руку и повела его на кухню, где за челом печи поднималась лестница, ведущая в светёлку Михаил только ступил на порог, но войти в девичью опочивальню у него не хватило духу. Здесь всё говорило о таинстве девичьей жизни. Тут пахло травами, благовонными маслами. Перед иконой Божьей Матери светилась лампада, и свет её падал на ложе, на котором было раскинуто ночное платно. Изразцовая печь излучала тепло.
— Входи же, мой любый, посмотри на келью затворницы. По душе ли она тебе?
У Михаила не нашлось слов в ответ Ксюше. Он молча шагнул к образу Божьей Матери, опустился на колени и воскликнул:
— Владычица Небесная, хвала Тебе, покровительница моей незабвенной лебёдушки. — И, положив широкий крест на лик, на плечи и на грудь, он встал, протянул руки к Ксюше и обнял её, приник лицом к плечу и замер.
Ксюша почувствовала, как из глаз Михаила потекли слёзы. Она дала ему успокоиться, гладила по спине, а потом подняла его лицо и стала целовать мокрые щеки. Он же нашёл её губы и, изголодавшийся по женской ласке, жадно, но мягко целовал их и смеялся.
— Ксюшенька, да как же так всё свершилось? За что мне Всевышний послал сие чудо?
— За доброту твою сердешную, за ласковую душу твою пришло к нам сие благо. — А говоря тёплые слова царю, Ксюша не осталась без дела. Она принялась разоблачать царя от одежды. Да сняв с него почти всё, сама из сарафана, из сподницы выскользнула, словно рыбка. Тут же откинула белое покрывало, одеяло, уложила Михаила, приговаривая: — Потомись, мой батюшка любый, прежде чем принять меня. — Сама ушла в дальний угол светёлки, взяла глиняный кувшин с водой, обмылась, да тут же масла благовонного в ладонь налила, растёрлась им, как задумала.
Михаил всё это видел и подумал, что Ксения творит священное омовение. И сам поднялся с ложа, захотел очиститься от дорожной пыли. Он не смутился своей наготы, и Ксюша его не смущала. Оба они творили извечное, отчего стыд не приходит Ксюша помогла царю, умыла с руки его лицо, грудь, спину, всё иное, как и должно быть. И благовоний не пожалела. Да радовалась, что её любый не пылал страстью без меры, а шёл к близости сдержанно, веря в то, что Ксюша отдаст ему всё своё девичье достояние.
И они вернулись на ложе, Михаил уложил Ксюшу и сам лёг рядом. И они ещё долго лежали, созерцая друг друга и касаясь руками, и блаженствовали в предвкушении тех мгновений, когда сольются в единое существо. Михаил знал, что для невинной девушки самое важное именно в этом умиротворённом созерцании её тела, в ласке, в нежном касании к розовым соскам груди, в прикосновении к животу, к собольей опушке.
И пришёл миг, когда в Ксюше возгорелось пламя страсти с такой неодолимой силой, что она сама побудила Михаила окунуться в её существо. И в нём пробудилась родовая, романовская, отцовская неистовость, и он дал волю страсти, копившейся не один год. И свершилось должное. Из груди Ксюши вырвался, приглушённый губами Михаила, крик боли. И пролилась руда невинности. Они же этого не заметили, потому как над ними властвовали другие силы, заглушающие даже громы небесные.
И уж потом, оба немного смущённые, убрали простынь, украшенную лепестками мака, постелили белоснежную, делая всё вместе и смеясь, и снова окунулись в блаженство волшебной близости. Лампада освещала их лица, отрешённые от мирской суеты. Непорочные дети матери природы, они не ощущали в своих душах греховности изливаемых чувств. Да её и не было, той греховности. Они были свободны в проявлении своей любви и страсти. И никто из них ничего не сулил друг другу, и они не строили сказочных теремов, потому и разрушать им было нечего.
Уснули они лишь под утро, исчерпав до дна свои силы, утолив до предела свою жажду сказав друг другу все нежные слова. Не было лишь одного: Ксюша запретила Михаилу давать какие-либо клятвы, заверения. Ведала она, что после этой ночи судьба разведёт их до конца земного пути. И хотя пройдут эти дни, годы в частом общении, потому как всё та же милосердная к ним судьба распорядится быть Ксюше всегда вблизи царского двора, но никогда уже более им не дано будет прикоснуться друг к другу, как в минувшую ночь, накануне праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Ксюша проснулась с первыми лучами солнца, заглянувшего в светёлку. Солнечный луч коснулся её лица, и она открыла глаза. Тихонько встав, она оделась, собрала и уложила царскую одежду, прикоснулась рукою к лицу Михаила, потом не удержалась и поцеловала его. Царь продолжал безмятежно спать.
На дворе, близ омшаника, Ксюша увидела пасечника Еремея и его жену Авдотью. Они смотрели на Ксюшу, как отец и мать смотрят на любимое дитя. Сыновья пасечников давно выросли, покинули Рябинино, ушли по Волге в Тверь, занялись торговыми делами и домой наведывались лишь изредка. Еремей и Авдотья скучали по детям, и потому Ксюша для них была отрадой. В ту пору, как Катерина вышла замуж за воеводу Бутурлина, пасечники взяли к себе Ксюшу на всё лето, а потом так и повелось, когда ей выдавалось быть на костромской земле. Еремей многое добавил к Ксюшиному ясновидению, иногда забавлял её лесными чудесами. Так было и прошедшим вечером. Это Еремей сказал Ксюше, что по дороге из Костромы в Домнино едет царь. Он же по её просьбе напустил на путников туман и всех запутал-заплутал. И Еремей первым делом спросил Ксюшу:
— Ну как, доченька, довольна ли нашими проказами?
— Господи, батюшка, да вы и лишнего натворили с матушкой. Не случилась ли беда с князем Иваном?
Еремей посмеялся в широкую русую бороду, покачал головой.
— Живёхонек. Ещё спит в избушке близ смолокурни. А ночь-то с нами у огнища провёл.
— Так мне и показалось. Да за кого же он вас принял?
— Он и скажет, за кого, — усмехнулся Еремей.
— Батюшка, вызволь его из смолокурни! — взмолилась Ксюша.
— Сама и сходи за ним. Нужда в том есть, — как-то загадочно сказал пасечник.
Ксюша не возразила, доверилась Еремею, потому как знала, что и он ведает судьбы людей. Сама-то она не заглядывала в свой завтрашний день, пребывая в созерцании минувшего.
— Сейчас и пойду, батюшка, — ответила Ксюша.
— Иди, а мы тут Тихона покормим, царя попотчуем да в путь их проводим до стрельцов, кои в Рябинине зябнут.
— Спасибо, родимые. — Ксюша поклонилась и побежала в лес.
До смолокурни было версты две. Стояла она в прозрачной берёзовой роще. Ксюша любила туда ходить и дышать там запахом терпкого берёзового дёгтя. Она летела к знакомым берёзкам как на крыльях, ещё очарованная тем, что случилось с нею в прошедшую ночь, что подарила царю минуты блаженства и что их тайна останется ведомой только им да преданным ей Еремею и Авдотье.
В пути к смолокурне Ксюша находила много грибов. Тут и там ей попадались стайки красноголовиков, боровиков. Подумала, что на обратном пути наберёт их в короб, который найдёт в избушке. И за весь путь она не вспомнила о князе. А следовало бы, потому как спешила навстречу своей судьбе.
Глава двадцать пятая Князь Иван и Ксения
После возвращения царя Михаила из Домнина Филарет поднял свою порядевшую рать на Ярославль. Патриарх был доволен посещением Костромы. По душе пришлось и то, как костромичи высоко чтили его сына. Они считали его своим земляком, гордились им и пообещали, что с воеводой Бутурлиным наладят жизнь. Им сие было посильно, считал Филарет, потому что Костромская земля мало пострадала в Смутное время. Тут меньше крестьян побывало в бегах, а дворяне служили исправнее и были поухватистее иных, не бегали из поместий в монастырские служки, не уходили в зимогоры. И всё бы хорошо, Филарет так и уехал бы из Костромы с лёгким сердцем, да накануне отъезда случилась большая неприятность. Патриарх попросил к себе князя Ивана Черкасского. Однако посыльные нигде его не могли найти. И даже никто не видел его в городе по возвращении царя. Он же сопровождал его в Домнино. Уже смеркалось, и Филарет отправился в покой царя, дабы узнать, где остался князь Иван. Но царский покой был пуст. Постельничий царя Константин Михалков на колени упал перед патриархом, моля о прощении греха:
— Святейший владыко, — закричал он в голос, — не смог я удержать царя-батюшку! Умчал он вольно снова в Домнино.
Патриарх пришёл в смятение, голос повысил на Михалкова, на стольника Ивана Троекурова:
— Греховодники! Как смели отпустить царя, меня не уведомив!
А пока в Костроме гремела гроза, царь Михаил с князем Иваном и с немногими стрельцами верхами скакали на пасеку воеводы Бутурлина. Замстилось царю вновь увидеть Ксению и попрощаться с нею, потому как в то утро он проснулся в светёлке и не нашёл её, сколько ни искал, ни спрашивал пасечников. На сей раз путь до пасеки царь и князь одолели без помех, примчали в ранних сумерках. Спрыгнув у крыльца с коня, царь сказал князю:
— Ты, Иван, не ходи со мной, а я сей миг...
Не заглядывая в горницу, царь поднялся в светёлку. Ксения сидела у свечи с рукодельем в руках, вышивала парсуну. Увидев царя, она улыбнулась, но навстречу не встала, а сказала:
— Добрый вечер, царь-батюшка. Ведала, что ты прилетишь, дабы спросить, почему в то утро ушла не простившись.
— Верно говоришь, любушка. — Михаил склонился к Ксении и поцеловал её в щёку. — За что ты меня наказала?
— Мы с тобой, любый, обо всём поговорили в ту ночь. Об одном тогда не сказала тебе. Теперь скажу и прошу милостиво: запомни то, что услышишь. Тому, что было, больше не повториться. Я всегда буду с тобой рядом, но как в сказочном круге, и тебе, царь-батюшка, не дано Всевышним переступить черту. Умоляю тебя, помни об этом. Сие веление судьбы.
— Но как же так, любая, ведь ты мне ближе, чем семеюшка. Да и будет ли она у меня, — упавшим голосом говорил царь.
— И ты мне дорог, государь, да судьбу и на коне не объедешь.
— Господи, что же мне делать?
— Думай чаще о той ночи и обретёшь утешение. — Ксения ласково улыбнулась, встала, обняла царя, поцеловала и тихо сказала: — Теперь прощай. — И повела его из светёлки к лестнице.
Михаил порывался что-то сказать, потребовать даже. Но язык был не послушен ему, а ноги сами уносили из девичьей. Он только смотрел на Ксению, как смотрят на улетающую в неведомое загадочную птицу. Ксения так и осталась для него загадкой. Сила увлекла его вниз, он покинул дом, сел на коня и, не проронив ни слова, отрешённый от всего окружающего, дёрнул поводья и покинул усадьбу. Потом он погнал коня рысью, летел, словно в атаку на врага, дабы сбросить оцепенение. Уже в версте от пасеки он вдруг услышал позади себя крики, обернулся и понял, что это десятский стрелец просит его остановиться. Царь Михаил развернул коня, проехал немного и увидел в синих сумерках лежащего на земле князя Ивана.
— Что с тобой, друг любезный? — обеспокоенно спросил царь.
— Ах, поруха какая вышла! — воскликнул князь. — Конь споткнулся о корневище и вот...
— Ты-то как, не убился?
— Бог миловал. Кубарем летел к земле, да мягко припал. — И князь попытался встать. Да тут же охнул, схватился за поясницу и снова опустился на землю.
— Экая незадача! — вздохнул Михаил. Он знал, что в Костроме его ищут, ждут, что батюшка беспокоится, может, гневается, и надо домчать за ночь до города, вернуться к утру в воеводские палаты. Но и князя одного оставить на лесной дороге он не мог, и рынд от себя отпустить, чтобы отнесли князя на пасеку, счёл проволочкой времени. Случится что с ним, царём, с них же голову в первую очередь снимут. Царь ещё вздыхал, не зная, что делать, а той порой, неведомо откуда из кустов вышел пасечник Еремей.
— Слышу, царь-батюшка, у вас беда приключилась, — сказал он. — Да не горюйте, пособлю вам. А ты, царь-батюшка, в город поспеши, а то воеводы стрельцов подняли, ищут тебя скопом.
— Ну спасибо, дядька Еремей, ко времени возник. А ты, любезный Иван, прости, что покидаю. Право же, Еремей сказал: гроза в Костроме разразилась. Жду тебя в Ярославле! — И царь развернул коня, с места послал его рысью. Стрельцы ускакали за ним.
Князь же крикнул вослед:
— В Москве встретимся, на свадьбе!
Но царь Михаил не слышал этих слов, и во благо.
Еремей помог князю на ноги встать. Иван поднялся с трудом: поясницу огнём прожигало.
— Ох, не дойду я до пасеки, — выдохнул он.
— Дойдёшь, князюшка. Твоя болесть с каждым шагом убывать будет. Пасечник взял княжеского коня за уздечку и князя под руку. — Ну, с Богом в путь. — И повёл Ивана.
А у него с каждым шагом огонь в пояснице затухал, боль спадала, и через сотню шагов князь уже не чувствовал никакой щемоты.
— Ишь ты, — удивился князь, — отпустило! Право же, ушла щемота! — воскликнул он радостно. — Впору царя догонять.
— Полно, князюшка, тебя на пасеке ждут.
— С чего бы? И кто меня ждёт? — Он знал, что царь Михаил четыре дня назад провёл ночь на пасеке, знал, что там обитает какая-то девица. Да вроде бы она ублажала царя. Но о том князь мог только гадать да играть воображением...
В ту ночь, когда он оставил царя в карете, ушёл искать дорогу, нечистая сила увела его в лес, к огнищу, возле которого сидели старик со старухой, над костром висел котёл, в нём вода кипела, и старуха туда грибы кидала.
— Кто вы, добрые люди? Куда я пришёл? Как мне в Домнино попасть? — засыпал он их вопросами, о царе не упоминая.
— А ты не спеши в Домнино, — ответил старик. — Садись к огню, поснедай. Вон хлеб лежит, сазан жареный тебя ждёт. А люди мы лесные, и пришёл ты на смолокурню.
Иван покачал головой, отказался от сазана, открылся:
— Нельзя мне сидеть с вами, лесные люди, я царя-батюшку в карете неведомо где оставил.
— Не переживай: царь-батюшка в целости и нашёл своё место, — ответил старик.
Князь невольно сел к огню, за хлебом потянулся, ломти которого лежали на белой холстинке, рыбы кусок взял с чугунной сковороды, Еремей баклагу подал ему, сказал: «Пригуби для сугрева». Князь послушно приложился к баклаге, да и опорожнил её, сам не ведая как. Да вскоре захмелел крепко и показалось ему, будто сидит он не с лесными бабой и дедом, а в окружении нечистой силы, коя тешит его небылицами. И не помнил князь, как Еремей и Авдотья взяли его под руки и отвели в избушку, уложили на топчан и укрыли овчинной полостью. Но хорошо он запомнил, как во сне или наяву, он того не знал, женский голос сказал ему: «Ты, князь, как встанешь, иди за мной». И неведомо князю спустя какое время после сказанного он открыл глаза и услышал, как, закрываясь, скрипнула дверь избушки. Он вскочил с топчана, выглянул за дверь и увидел, как от избушки убегала девица. Князь помчал следом, попытался догнать её, да где там, потому как девица бежала словно лесная лань. Так, на почтительном расстоянии друг от друга, они пробежали версты две, а когда уже был виден дом пасечника, девица исчезла, и сколько князь ни крутил головой по сторонам, не увидел её. На пасеке князя Ивана встретила Авдотья. Он не признал её. Она же сказала как старому знакомому:
— Князь-батюшка явился. А я тебя давно поджидаю. Голоден поди. Иди в дом, там поснедаешь.
— А кто приходил на смолокурню и разбудил меня? — спросил князь.
— Судьба приходила. Она и разбудила, — ответила Авдотья. Узкие чёрные глаза её светились лукавством.
— Какая судьба, где она? — недоумевал князь.
— А ты не будь суетным, всему свой черёд. — Авдотья повела князя в дом, усадила за стол, накормила, напоила, ушла в конюшню. Там она запрягла в лёгкий возок резвую кобылку, вернулась в дом. — Пора в путь, князь-батюшка, царь в Домнино изболелся по тебе.
Князь покинул дом пасечника, сел в возок, и Авдотья погнала лошадь со двора. В пути она рассказывала Ивану небылицы про местные туманы, кои по осени многих путников заводят в глухие урочища на гульбища лесных обитателей.
...И вот князь Иван шёл рядом с Еремеем на пасеку и пытался отгадать, какую шутку приготовила ему судьба на сей раз. Но, оставаясь лихим человеком, князь шёл на пасеку, не пугаясь никаких проказ. Когда же князь вошёл следом за Еремеем в дом, пасечник сказал:
— Иди, князюшка, в светёлку, там ждут тебя.
И тут князь дрогнул: идти в светёлку, где сидит девица, ой как сие чревато. Да ноги сами понесли его вверх по лестнице. Ан где-то на середине свинцом вдруг налились. И он переставлял ноги, как пудовые тумбы. Наконец, князь добрался до двери, стал открывать её, а она заскрипела пронзительно и резко. Князь вошёл в светёлку и увидел у окна старую-престарую женщину, сидящую к нему спиной. Седые космы волос скрывали её лицо, руки она пря тала в рукавицах, которыми держала чучело вороны.
По спине у князя побежали мурашки: уж не попал ли он в какую из своих сказок. Да так и было. Бабка заговорила скрипучим голосом.
— Ты, князь, молод и красив, счастья ищешь. Вот оно — рядом. Хочу быть твоей семеюшкой. Уважь, голубок, старую.
И не помнил Иван, как всё случилось далее. Сорвал он с головы кунью шапку, ударил об пол и как сказочный удалец-молодец, стоящий на распутье трёх дорог пред вещим камнем, сулящим страсти, шагнул на ту, коя несла смерть. Он распахнул на груди кафтан.
— Вставай, бабушка, припади к моей груди, обниму тебя и под венец поведу! А большего не взыщи! — выдохнул князь.
— Ой, лихой, лихой князь Иван. Да возвратного пути тебе нет. Веди на свадебный шабаш в Змеиное урочище, — проскрипела бабка.
— Вставай! Руку подай! — крикнул князь отчаянно.
И свершилось чудо, как будет потом рассказывать старый князь Иван Черкасский своим внукам: на голове старой бабки взметнулись космы, встали дыбом, сама по себе сползла со спины драная шубёнка, бабка встала. Князь закрыл глаза, руки распахнул, готовый обнять и назвать своей невестой лесную ведьму. Она же скинула с головы ложные волосы, от лесных орехов рот освободила, со спины старую подушку вытащила и обернулась Ксенией. Но не упала на грудь князя, а только протянула руку и провела ею по лицу Ивана. И нежная, мягкая рука заставила князя открыть глаза. То, что он увидел, как потом скажет князь, было сказочнее самой волшебной сказки. Перед ним стояла та девица, на которую он молился и которой тайно любовался в те дни, когда встречал её идущей в Благовещенский собор на моление из патриарших палат Особенно же много молился князь на царской свадьбе и просил Бога, чтобы та девица, коя сидела напротив, посмотрела бы на него.
— Господи, теперь я верю сказкам, они не ложь, но правда! — воскликнул князь.
— И я в согласии с тобой, князь Иван, — отозвалась Ксюша. И пока князь ещё созерцал ясновидицу, она подумала о том, что в светёлке им делать больше нечего, и повела князя в горницу. — Идём, сказочник, сыты выпьем да погутарим, ежели хочешь.
Ксения усадила князя на то же место, где сидел царь. И так же на лицо князя падал свет свечей. И Ксения всё читала на нём, как в открытой книге. Она видела, что князь влюблён в неё и готов на всё, хоть в омут головой, лишь бы она ответила ему взаимностью. Сама Ксения питала к нему нечто иное и не ведала, какое имя этому чувству. Он нравился ей своей удалью, весёлым нравом, открытостью, крепостью духа и дружбы: уж если подружит с кем — на всю жизнь. Князь был статен и по мнению Ксюши больше мил, чем красив. Да сказочники красивыми и не бывают, но всегда манят к себе огнём души, считала ясновидица...
Молча созерцая друг друга, они просидели долго. Потом князь выпил вместо сыты крепкой медовухи и повёл речь прямую и дерзкую:
— Я тебя давно знаю, ясновидица, и скажу ноне, всё, что в тот вечер, как нам заплутать с царём-батюшкой, и что потом с нами случилось — всё твоим норовом допущено. И царь в твои сети попал, и я в лесу, где лешие обитают, твоей милостью очутился. А для чего, понять не могу. И всё потому, что ноне царь от тебя потемнев ликом уехал. Ты и ноне каверзы ему и нам чинила. Я упал с коня, словно дитя неумелое в седло попавшее. И конь на ровном месте споткнулся. Это мой-то Буян! Всё загадочно, да не как в сказке. Опять же метится мне, что царь-батюшка ночь в этом доме провёл. Вот токмо в каком покое, не наверху ли, и нет ли у тебя, девица, нужды в покаянии?
Ксения засмеялась, да звонко, заливисто.
— Уж не тебе ли исповедаться, не ты ли батюшка-протопоп?
— Истинно глаголешь, дитя моё, кайся! — И князь тоже засмеялся.
А Ксюша неожиданно посерьёзнела, нож в руки взяла, поиграла им и с силой в столешницу воткнула, свечу рядом поставила, чтобы огонь прямо в глаза князю падал, спросила строго:
— Отвечай, князь Иван: ты раб Божий?
Князь с удивлением покачал головой, дескать, круто взяла девица. Но отозвался:
— Отвечаю: я есть раб Божий.
— И ты есть раб царя, Богом данного тебе?
— И я есть раб помазанника Божьего.
— Вот и я тоже, князюшка. Рабы мы с тобой. Теперь же слушай, что Господь Христос сказал.
— Слушаю. — Лицо князя в эти минуты тоже стало серьёзным, почти суровым.
Ксения сняла нагар со свечи, она запылала ярче, и продолжала, не спуская зелёных, обжигающих глаз с князя:
— Никто, зажигая свечу, не накрывает её сосудом или не ставит под кровать, а держит на подсвечнике, дабы входящие видели свет.
— Разумею, — отозвался князь.
— Ты просишь моей исповеди, сие не блажь, ведаю. Знай же. Ибо нет ничего тайного, говорил Христос, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Ты и сие уразумел?
— Да. — И князь вздохнул.
— Внимай дальше. Матушка моя ведунья и ясновидица Катерина в молодости любила князя Фёдора Романова. И всё было между любящими. И мнилось им, что сие есть тайна. Ан о той тайне знала вся Москва. Будешь ли ты меня судить-казнить за то, что ту ночь царь-батюшка провёл у меня, своей рабыни, в светёлке? И по какому праву ты будешь судить? — Ксения сказала всё, что надумала высветить, и теперь сидела перед князем и, гордо вскинув голову и не отводя своих требовательных глаз от лица Ивана, читала всё, что творилось в его душе.
Атам разгулялись стихии. Всё вспыхнуло вдруг, потому как князь ощутил ревность. А к ревности примешалось уязвлённое самолюбие. Но и милосердие к рабыне проснулось, и стыд за личную ложь на уязвление самолюбия. Никто его не уязвлял. Совсем запутавшись в борении душевных сил, князь погасил свечу, выдернул нож из столешницы, встал и засмеялся искренне:
— А я ведь и говорил, что у нас всё, как в сказке. — Он потянулся, лениво зевнул, прикрывая рот рукой, и с деланным равнодушием сказал: — Да всё славно, токмо темь на дворе, и где-то ночь скоротать нужно. То-то бы в светёлке.
И не понял князь, чего больше было в голосе Ксюши, гнева или презрения.
— Нет, голубок, царскому рабу не место в моём тереме, в коем государь почивал. Ему на конюшне быть. — Ксения встала и направилась в светёлку. На душе у неё было горько оттого, что князь Иван не понял её и не догадался, что она спала не с царём, а с человеком, которого любила.
Но Ксения на сей раз ошибалась. Она не одолела и трёх ступеней, как князь метнулся к ней и взял за руку.
— Ясновидица, прости негодного! Я не хотел тебя обидеть!
— Бог простит. А спать ты можешь в боковушке за горницей. Там у нас гости почивают.
— Какой сон, голубушка?! Как уснуть, ежели ты сто лет люба мне! И я, раб Божий, прошу тебя об одном: стань моей семеюшкой! Блудная жизнь не по мне. И положи меня рядом на ложе, не коснусь тебя!
«А ведь правду речёт, — мелькнуло у Ксюши. — Но что он будет делать, ежели сон не сморит?»
— Испытай, любушка, молю Богом! А как сон не сморит меня и тебя, буду сказки рассказывать!
«Испытаю. То-то будет диво да похвала Иванушке, ежели твёрд останется», — снова подумала Ксюша.
— Истинно диво явится, потому как кровь во мне буйная, — ответил князь на то, о чём она только подумала.
«Ишь, как я его разбередила, как зрит мои думы. Ну зри, зри, да берегись, коль обмишулишься. Выдворю в исподнем на двор».
— Не быть тому, любушка. Любовь моя к тебе почтительна и сильнее бренной плоти.
«Господи, мне ли головой не лететь в омут отныне, как царя приняла. А омут-то глубок и светел. Да и раб Божий рабыне тоже мил. От добра добра не ищут». Этой мысли князь не прочитал, потому как промелькнула она в глубине души потаённо. И Ксения потеснилась на лестнице, пропуская князя вперёд, сказала:
— Иди, князюшка, в мой терем, а я пойду двери зачиню.
— Это я мигом обернусь. — И князь опять же стрелою метнулся, накинул на дверь крюк и вернулся. — А в светёлку тебе первой входить.
Ксения медленно поднялась по лестнице. Князь шёл следом.
— Скажи. Иванушка, откуда к тебе сила пришла, что мысли мои читаешь с листа?
— Сам не ведаю, — признался князь. — Сидели мы за столом, я на тебя смотрел и чувствовал, что под твоим взглядом становлюсь маленьким, ну как есть дитёй. Всё взбунтовалось во мне, и вот... я всю тебя увидел. А как, почему? Знать, одному Богу ведомо.
— Да не было ли в твоём роду ясновидящих?
— Сказывали, кто-то был, прадед или прапрадед.
— Порадуйся, что открылась в тебе их сила. Нам же с тобой во благо, понимать друг друга без слов.
Ксения прикоснулась к плечу Ивана рукой и тут же постель взялась разбирать, запретив себе думать о блаженной ночи накануне праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Как закончила дело, сказала князю:
— Ну, Иванушка, скидай одежды, ложись на муки долгие, да к стенке, дабы не сбежал. — И засмеялась.
— Нет, люба, мне должно с краю, — ответил князь.
Ксения не стала спорить, перекрестилась на образ Божьей Матери, скинула чесуйку, сарафан, разулась, волосы подобрала, перевязала лентой и нырнула под одеяло, как подумала чуть раньше, словно в омут.
Князь Иван раздевался степенно, положил кафтан и штаны аккуратно, а прежде чем лечь, помолился и положил на середину постели ремённую опояску — рубеж неприкосновенный. Ксения улыбнулась, но ничего не сказала о княжеской выдумке. Он же был серьёзен и строг, лёг степенно и тихо, как-то по-хозяйски сказал:
— Да хранит тебя Всевышний в ночи. Спи и ни о чём не думай. И мне думать не о чем, всё передумано, да и утомился я вельми, почивать тоже буду. — И князь закрыл глаза.
А Ксения, вопреки наказу князя, долго лежала без сна и вольно думала о князе, о человеке, который вёл себя так мужественно и благородно. «Ну и россиянин, велик же духом. А ведь я, грешница, побуждала тебя в мыслях покуситься на меня. Уж так хотелось в сенник выдворить. Да всё по-иному складывается и во благо», — подумала Ксюша и тоже спокойно заснула.
Проснувшись чуть свет, но ещё не открыв глаза, Ксения надумала вознаградить князя за великое терпение и поцеловать его. Но, открыв глаза, увидела, что князя рядом нет. Она оделась и спустилась на кухню, спросила Авдотью, которая топила печь:
— Матушка, ты князя не видела?
— Видела. И покормила.
— Где же он?
— А умчал. Как поснедал, так и в седло поднялся.
Ксения прошлась по горнице, глаза её блуждали, она словно что-то потеряла. Да так и было. Потому как, увидев не сдвинутую с места опояску на постели, она хотела сказать князю, что согласна быть его семеюшкой. Поблуждав по горнице, Ксения решилась уехать в Кострому, пока ещё сама не ведая зачем. Она вышла на двор, увидела у омшаника Еремея и попросила:
— Батюшка, запряги чалую в возок, в город мне приспело...
Еремей и сам собирался на воеводский двор, отвезти туда три жбана мёду да три пуда вощины. И вскоре Ксюша и Еремей укатили в Кострому. Приехали в полдень. В городе текла обычная размеренная жизнь. Царь со свитой уже уехали на Ярославль. На подворье воеводы было пустынно. У конской привязи стоял вороной конь под седлом.
— Князь Иван тут. Да скоро умчит. Вон и Буян готов в путь, — сказал Еремей.
У Ксюши тревожно забилось сердце. И, озираясь, словно ей что-то угрожало, она вошла в палаты и заглянула в покой, где воевода принимал посетителей. Он сидел за столом. Напротив его стоял князь Черкасский. Матушка Катерина стояла у окна. Увидев Ксению, поспешила к ней, обняла.
— А у нас тут гость нежданный.
Бутурлин тоже подошёл к Ксении. Она поклонилась ему. Он же взял её за плечи и повёл к столу.
— Вижу, Господь внял твоим молитвам, князь. Явилась виновница твоих волнений. Вот и спроси её. Мы же приневоливать не будем.
Князь поклонился Ксении, сказал торжественно, но ломая при этом сложившиеся каноны сватовства:
— Здравствуй, девица-краса. Добрый молодец ищет семеюшку. Да и нашёл. Согласна ли ты быть моей жёнушкой? А матушка с батюшкой не супротивничают.
Ксения улыбнулась и подумала: «Как не согласиться верному молодцу служить. Мил он мне...»
И князь воскликнул:
— Матушка с батюшкой, она согласна, я ей мил!
Воевода глянул на Катерину.
— Как сие понимать? — спросил он.
— Так и понимай, воевода-батюшка. Князь верно сказал, — ответила Катерина.
— Но я не слышал, что сказала Ксения, — удивился Бутурлин.
— Батюшка, я согласна. Отдайте меня в семеюшки князю Ивану. — И Ксения поклонилась родителям.
— Ну троица! Да мне с вами вовек не скучать! — воскликнул воевода весело. — Что ж, идём в трапезную, там и завершим сговор.
А через полторы недели в кафедральном соборе Костромы, при стечении множества горожан и с благословения родителей жениха и невесты, в их присутствии состоялось венчание Ксении и князя Ивана. Жених и невеста были полны достоинства и спокойствия и покорили своим величием горожан. Они предвещали молодожёнам счастливую жизнь. И Катерина ведала их безоблачную судьбу и удивлялась в душе, потому как подобное встречается раз в столетие. Свадьбу было решено справить в Москве, после возвращения из поездки царя Михаила.
Глава двадцать шестая Две свадьбы
После смерти царицы Марии патриарх Филарет вновь подумывал о том, чтобы женить сына на принцессе из достойного королевского рода. Эта мысль не оставляла его и в поездке по городам России. И как прибыли в Тверь, да вникли в дела на Тверской земле, сменили воеводу, отправили его по старости на покой, перебрали служилый люд в управах, так государь Филарет повелел думному дьяку Ивану Грамотину во второй раз отправить посланников в Европу. Ан не удалась государева затея. Впервые, может быть, в жизни царь Михаил воспротивился воле отца. Узнав о сути дела от Грамотина, царь пришёл в палаты архиепископа Тверского, где остановился патриарх, и сказал:
— Ты, государь-батюшка, чтимый мною преданно, не пекись больше о моей женитьбе. И послов не гоняй в иноземные державы.
Филарет удивился без меры сказанному сыном и прикрикнуть уже собрался на него, ан прежде чем бросить бранное слово, посмотрел в глаза царю и осёкся. Сильным взглядом, романовским, смотрел на отца Михаил, исполненным твёрдости и достоинства и в то же время почтительности к родителю. Филарет ещё думал, как убедить сына в необходимости послов на запад, но Михаил опередил его:
— Слышал, ты к шведам хотел послать человека. Так нет нужды нам родниться с Густавом Адольфом. Шведский король и ныне-то мздоимствует и пользуется нашей добротой. А что будет, как породнимся? Ишь, что удумал: нашими ратниками себе победу над Польшей добывать. Нет, не нужна мне невеста иноземная.
— Но как же быть, сынок? У нас нет наследника престола. Кому трон оставишь? — с горестью спросил Филарет. Длительное путешествие по державе всё-таки далось ему трудно, сказывались хвори, нажитые в плену. Он недомогал и потому был мнителен.
И снова царь ответил, не спуская глаз с лица патриарха:
— Как пребывал в Домнино, было мне ночное видение. Пришла в опочивальню Мария Магдалина и говорит: «Зачем вдовый ходишь?» Отвечаю ей: «Хочу невесту иноземного рода, а не найду». «И не ищи», — ответствует она. «Но почему?» — спрашиваю я. «Аль мало достойных россиянок?» И показала мне девицу московского дома.
— Кто она? — спросил Филарет.
— Остерегла меня святая: «Смотри, о невесте до поры никому не сказывай, даже родимому батюшке». Вот тебе истинный крест, государь. — И Михаил перекрестился.
Филарет ощутил к сыну уважение, порадовался, что в нём проявилась твёрдость духа. Помнил патриарх, что сам он не вечен, что силы уже покидают его, а здоровье выбаливает. Вот уже и горбиться стал. Да и то сказать, восьмой десяток распочал. И ответил он сыну миролюбиво и просто:
— Смотри, сынок, тебе жить. Я же об одном радею, о том, чтобы ты, как придёт время, державу в надёжные руки отдал.
— Спасибо, батюшка, за понимание. А я исполню твою волю, будет у нас наследник.
Филарет ласково обнял Михаила и погладил его по спине.
— Верю тебе, сын мой.
И, не мешкая, он послал дворецкого к Ивану Грамотину сказать, что отменяет своё повеление. Заметил он, что после Костромы и особенно после поездки в Домнино произошли в сыне большие перемены. И та самовольная отлучка накануне отъезда тоже была не случайной. И Филарет мучился, ломал голову над разгадкой причины тех перемен. Многое, но не всё, не до донышка высветилось на обеде у воеводы Бутурлина, когда тот принимал управление Костромской землёй. Ещё до того, как сесть к столу, патриарх спросил Катерину:
— Что-то я доченьки твоей Ксюши не вижу.
Катерина усмехнулась и спросила вместо ответа:
— Увидеть её пожелал, святейший? Так мы её услали в Рябинино, на пасеку, дабы кого-то здесь не опалила...
— Вот поруха! — воскликнул патриарх.
— Да в чём?
— Экая недогада! Так ведь Рябинино на пути в Домнино, а туда сынок умчал.
— Не печалуйся. Пасека в двух верстах от пути, коим царь ехал.
— Господи, успокоила, — с иронией произнёс Филарет. — Да твоей доченьке с пасечником Еремеем ничего не стоит каверзу учинить и залучить царя на пасеку.
Катерина засмеялась. Да, сдержав смех, тихо и серьёзно ответила:
— Знать, Всевышнему так будет угодно. Мы ведь с тобой тоже по воле Господа Бога в ночь на Ивана Купалу встретились.
Филарет лишь с ухмылкой покачал головой. А позже, по здравом размышлении пришёл к выводу, что сынок попал-таки в плевицы, кои были желанны ему. «Да всё во благо, во благо, — утешил себя Филарет. — И мне ведь от Катюши не было урону, а Ксюша-то поди всё от неё взяла...»
Размышления о сыне, о Ксении и их тайной любви подняли дух патриарха. Он поверил, что у Ксюши не проявится никаких побуждений взять в хомут Михаила, играть им.
Так оно и было, как позже узнает Филарет. И он покидал Тверь, обретя душевное равновесие и почувствовав прилив сил. Дух его укреплялся и от мысли о том, что поездка по городам центральной России удалась в полной мере. Воеводы и дьяки, иные служилые люди, коих он рассылал в пути по малым ближним и дальним городам тех областей, которые посетили и куда не довелось заехать, сделали полезное дело. Они взбудоражили застойную жизнь провинций, данной им властью наказали нерадивых тиунов, губных старост, смещали их, заменяли прилежными и добросовестными, всюду побуждая россиян к усердию. Мало того, что царские люди спрашивали в уездах строго, ещё и духовенство вело ту же линию среди верующих. Всюду проходили торжественные литургии, молебны в честь государей, священники принимали грешников с покаянием, христиане очищались от скверны, укрощали свой нрав, гасили пагубные побуждения и усерднее брались за дела во благо державы.
Ничего подобного в прежние годы в России не бывало, когда бы в десятке областей, в сотнях уездов, а там и по всей державе россияне всколыхнулись разом на благие дела и взялись ладить достойную жизнь. Сему подтверждением были высказывания тех, кто шёл следом за Филаретом. «Верховная власть, под твёрдым управлением патриарха Филарета, окрепла и достигла полной неограниченной силы не в принципе только, а и на деле. Он продолжал работать при частом обращении к земским соборам. Однако в новых условиях значение этого явления не было тем же, что в первые годы царя Михаила. Филарету собор нужен не для того, чтобы поддержать перед обществом слабый правительственный авторитет В его руках это орудие для изучения действенного положения дел. Средство узнать его недостатки, вскрыть существующие непорядки и злоупотребления».
Москва заждалась возвращения царя и патриарха. И то сказать, уехали в мае, а на дворе — октябрь. Но царский поезд только Тверь покинул, а на пути Троице-Сергиева лавра, как её минуешь. Однако дождались москвитяне своих отцов и встретили их благовестом тысяч колоколов. Толпы горожан вышли на Тверскую улицу и криками приветствовали царя и патриарха, которые по случаю встречи со своими детьми сидели в открытых каретах. Но пышных торжеств в связи с возвращением государей не случилось. В Кремле с первых же дней началась будничная кропотливая работа.
К возвращению царя из Твери подоспели в Москву шведские посланника короля Густава Адольфа. У царя Михаила сердце уже вещало, с чем они приехали. Просили они государей о позволении набирать им полки казаков, якобы для борьбы с разбойными бандами гетмана Лисовского, угрожающими Швеции.
Думный дьяк Иван Грамотин толково просветил царя и патриарха и дал понять им, что шведам следует отказать.
— Ноне всю Европу раздирает бойня. Потому российские казаки нужны шведам для войны с Польшей на её северных рубежах, а Лисовский тут лишь к слову. Ещё шведы думают послать казаков на войну с Данией. А у нас с нею мир более ста лет.
И царь Михаил вкупе с государем Филаретом отказали шведским вербовщикам. И был в Грановитой палате совет с воеводами, как укрепить русскую армию и рубежи державы на западе.
— Коль вспыхнул пожар в Европе, может и нас опалить, — заявил царь воеводам.
В эти годы российских воевод интересовал опыт построения армий в некоторых европейских странах. И бывалый воевода Михаил Шеин, не раз бивший поляков и сам ими битый, сказал на совете:
— Ты, царь-батюшка, и ты, государь Филарет, отправьте рьяных до военного дела и молодых воевод в Германию и Венгрию. У них есть, что перенять в военной справе.
К чести отца и сына Романовых, они прислушались к совету Шеина. Ему же поручили отобрать молодых и способных к наукам воевод и послать их к венграм и немцам, дабы взяли всё лучшее, чем они поделятся. А к зиме, когда государева казна пополнилась деньгами от сборов налогов, царь Михаил в согласии с отцом взялся создавать новую, постоянной службы армию. Для начала он задумал набрать пять тысяч пеших стрельцов. Для их обучения пригласили учителей из Германии и Венгрии. Там же закупили мушкеты и часть пушек. Свои на Кузнецком мосту начали отливать.
Всякому делу время, а потехе час, говорили москвитяне. Но ближе к Покрову дню тот час, по допущению Господню, растянулся на недели. И то сказать, было отчего россиянам заниматься потехами, а больше на свадьбах гулять, кои на Руси в благодатные годы случаются в осеннее время во множестве. А минувшее лето одарило россиян небывалым урожаем. Всё уродилось против прежних лет вдвое, втрое.
Череда дел по осени была напряжённой. Как миновали дни ожинок, надо было засевать озимые хлеба. Пришли и миновали Спасы Яблочный и Медовый и третий, Спас последнего снопа. А молодые россияне уже в ожидании Покрова дня. «Придёт Покров, девице голову покроет», — говорили старики. И сами девицы пели-просили: «Батюшка Покров, покрой землю снегом и мою бедную головушку жемчужным кокошником, золотым подзатыльником». И вот Покров миновал, начались свадебные недели. В день Покрова в соборах и церквях прошли торжественные литургии. Сам патриарх Филарет вёл службу в Благовещенском и Архангельском соборах. Он вознёс прихожанам своё слово о том, что есть Покров. И по его повелению во всех церквах и соборах по Москве и по России раскрывалось сие явление.
— В древние времена, — начинал патриарх, — во Влахернской церкви Константинополя, где хранилась риза Богоматери, Её головной убор и часть пояса, произошло чудное явление. В нонешний день в храме во время всенощного бденья святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвёртом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу в сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова и сонма ангелов и святых. Преклонив колена, Божья Матерь начала молиться, а потом, подойдя к Престолу, сняла со своей головы покрывало и простёрла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Её блистал паче лучей солнечных.
Верующие внимали ровному и чистому голосу патриарха с душевным трепетом и в полной тишине, лишь потрескивали свечи. Он продолжал:
— Царь Небесный, говорила в молитве Всенепорочная Царица, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Моё на помощь, да не отыдет от Лика моего тощ и неуслышан.
На этой литургии в Покров день в Благовещенском соборе и свершилось маленькое чудо. В свите царя Михаила пришли на литургию князь Иван и княгиня Ксения Черкасские. И когда шла служба, Ксения только глазами да лёгким поворотом головы и мягким движением руки побудила князя Ивана посмотреть на девицу, коя стояла позади в глубине храма.
Увидев её, князь спросил шёпотом:
— Кто она?
— Судьба царя-батюшки, Дуня Стрешнева. Побуди государя посмотреть на неё, а иншего и не нужно.
Князь был скор в деле, пробрался к Михаилу, который сидел на царском месте, приник к его уху и сказал:
— Как подойду к девице, да встану рядом, так дай мне знак, и ежели подвести её к тебе, руку малость подними, нет — в сторону отведи.
— Что так?
— А то, судьба к тебе явилась. Да помнишь ли ты сон вещий?
— Помню.
— Ему исполниться дано. — И князь Иван стал пробираться к Евдокии Стрешневой.
Он встал близ неё, потеснив москвитян, повинился Стрешневой за беспокойство. Евдокия голову подняла, на князя глянула, сама открыла мягкий, прекрасный лик, большие карие глаза распахнула, и взлетели вверх два ласточкиных крыла — брови, улыбнулась, молвила:
— Бог простит.
Царь увидел её, и хотя стояла она далековато, но судьбе угодно было в сей миг ярко осветить её лицо свечами, которые поднял протопоп близ Стрешневой. И удивился царь: «Господи, почему же ране не являлась мне сия чистая душа?!» И царь даже как-то торопливо сделал жест рукой, поднял её вверх.
Когда в службе наступил малый перерыв и прихожане покупали новые свечи, ставили их, князь Иван позвал Стрешневу за собой:
— Ты, красна-девица: царю-батюшке приснилась. Глянуть на тебя он желает убедиться, ты ли была в том вещем сне.
— Полно, князь удалой, не смущай меня. Не могла я прийти царю во сне.
— Значит пришла. Идём, голубушка, да худа тебе не будет — И князь повёл Евдокию за руку к царскому месту.
Царь Михаил забыл о службе в храме и смотрел на девицу Стрешневу всё с большим удивлением. «Ой мила, ой пригожа, — кричала его душа. И тут же его потянуло сравнить Стрешневу с Ксенией, ан спохватился и осудил себя: — Ой, негоже поступаешь, государь, забудь о той ласковой зорьке».
Ксения осудила царя, глянула на него строго. И он повинился перед Ксенией и смотрел только на Евдокию, кою подвёл к нему князь Иван. И посветлело на душе у царя, и опять он подумал о Ксении, теперь с благодарностью. Она же нарекла ему в супруги сию девицу, и имя её тогда назвала, как явилась ночью в видении. Это ведь он только отцу неправду сказал, что являлась к нему Мария Магдалина, нет, то была Ксюша. «Лучше Дуняши тебе не найти», — сказала тогда ясновидица. «Да и впрямь не найти. Ишь тут сколько в соборе девиц, а она самая милая».
Князь Иван «разбудил» Михаила:
— Царь-батюшка, вижу, и впрямь она тебе в видении пришла.
— Истинно глаголешь, княже, она. — И молвил девице: — Здравствуй, Евдокия Лукьяновна.
— Здравствуй, царь-батюшка.
— В гости к тебе прошусь. Примешь ли?
— У родимых батюшки и матушки спросить нужно.
— А они строгие у тебя?
— Вельми.
— Коль так, вот пошлю князя Ивана увещевать их.
— Мы открыто живём, всем рады.
— Славно говоришь и добротою светишься. — Тут царь Михаил заметил, что к нему подходит отец, сказал князю: — Проводи Евдокию Лукьяновну, а ко мне батюшка идёт.
Филарет не мог увидеть Евдокию за высоким царским местом, но по оживлённому лицу сына понял: случилось что-то важное. И не ошибся.
— Государь-батюшка, здесь та девица, коя в видениях пришла. Она моя судьба, и иной не хочу. Шли сватов к её родимым, — горячо и торопливо выдохнул царь, словно боялся, что отец возразит ему.
Но святейший патриарх был мудр, принял сказанное сыном как должное.
— Благодарю Бога за милость к тебе, сын мой. Ноне же и пошлю, благо самое время пришло. — А заметив Ксению, добавил: — Вот и её свадьбу с князем Иваном заодно справим.
Царское желание исполнилось скоро. Патриарх позвал к себе князя Ивана, его дядю князя Юрия Черкасского, ещё старого князя Фёдора Шереметева, постельничьего Константина Михалкова и стольника Василия Бутурлина, дал им наказ, и малая рать покатила в Белый город на дворянское подворье Стрешневых. Явились вскоре же, как родители невесты вернулись из церкви.
Лукьян Стрешнев, высокий и крепкий бородач, встретил незваных гостей с опаской. Супружница его Пелагея, не по годам моложавая и статная, и вовсе во страх впала и торопливо скрылась из гостиной. Ан гости оказались весёлого нраву и в добром расположении. Князь Юрий Черкасский сразу всё и выложил:
— У вас товар пригожий, дочь на выданье, богочтимые родители, а у нас купец тароватый. Не поладить ли нам, дорогие семеюшки, да ладком за свадебку, — не особо придерживаясь канонов, сказал князь.
Сватов родители невесты всегда встречают с поклонами да провожают иной раз с собаками. Ан тут другой случай возник. Дуняша нашла своих родителей в церкви Покрова на Рву и, пока шли домой, рассказала им о том, что случилось с нею в соборе. Пригорюнились они тому что их дочь самому царю приглянулась, помнили они царские неудачи. Да вслух сего не выразишь. Делать нечего, таких сватов не враз и вытуришь. Позвал Лукьян дочь.
— Евдокия, выйди к гостям!
Дуняша, однако, с лестницы из девичьей кубарем не летела, сошла степенно. И удивились князья, знатоки женской стати: девица-то царственна и ликом мила-красива. Вот только норовом какова, не заткнёт ли за пояс мягкосердого царя? Ан нет, угадал князь Фёдор Шереметев, Дуняша и нравом покладиста, ласкова — всё на лице написано. И вздохнулось полегче.
— Евдокия, вот купцы явились, сватают тебя...
— Воля ваша, родимые, отдадите, пойду в семеюшки.
— Так ведь царь-батюшка сватается, голова садовая! — воскликнул Лукьян да по простоте душевной высказал всё, что было на уме: — Тут и от напасти недалеко. Вон как Хлоповы-то поплатились! А Долгорукие?! Ой, да что там говорить! — убивался Лукьян. Но глянул на сватов и с покаянием к ним ринулся: — Вы уж меня помилуйте, да царю о сём не говорите. Ведь одна Дуняша у нас. А мы что, как она скажет, так и будет.
Умные сваты только посочувствовали отцу невесты. Судьбы Марии Хлоповой и Марии Долгорукой им были ведомы. И не приведи Господь такой судьбы этой прекрасной россиянке, подумал князь Юрий Черкасский и спросил невесту:
— Теперь твоё слово, Евдокия Лукьяновна. Говори.
Дуняша на колени встала перед родителями.
— Судьба мне, батюшка с матушкой. Я ведь скрыла от вас встречу с ясновидицей, а она показала мне мою земную дорогу, я не хочу искать иншей. Потому не дано мне отказать царю-батюшке...
Лукьян засуетился, почувствовал себя словно сазан, выброшенный из воды на берег. «Господи, завтра моя Дуняша царицей возникнет, и как же мыто тогда. Нет, нет, не позволю!» Но здравый смысл и почтительное отношение к государю России, ко всему многострадальному роду Романовых взяли верх над безрассудной вспышкой. Лукьян услышал, наконец, слова дочери: «Благословите, родимые» и, глянув на жену, перекрестил Евдокию, положил руку на её голову, сказал:
— Благословляю с Богом — и тут же захлопотал, велел Пелагее стол накрывать, мальвазию доставать.
Однако сваты пошептались меж собой и отказались гостевать.
— Ты нас прости, Лукьян, сын Стрешнев. Нам велено возвращаться не мешкая. Потому наливай по кубку, дабы обычай не ломать, тут и пригубим, — сказал князь Юрий Черкасский.
Вино в московских домах всегда водилось. И скоренько Пелагея поставила на столешницу шесть серебряных кубков.
— Ну, дай-то Бог, чтобы наш сговор крепким и удачливым был, — сказал по праву старшинства князь Фёдор Шереметев.
И все выпили. Лишь невеста в сторонке стояла. А как уходили, князь Иван остановился в сенях и сказал Лукьяну:
— Ты уж, родитель главный, береги Дуняшу. Да пуще от всякого сглазу. Пусть кои дни в светёлке посидит.
С тем сваты и уехали.
Но забота о безопасности царской невесты теперь беспокоила не только сватов. Как доложили они царю и патриарху, так Филарет и сказал Михаилу:
— Ты, сын мой, царь-батюшка, пошли тайных стражей к палатам Стрешневых. И не мешкая. Да и я похлопочу о невестушке. Досталь нам двух потерь.
— Верно говоришь, батюшка. Да кому поручить справу?
— Вот и отдай князю Ивану. Вернее головы не найдёшь. Да накажи, чтобы молчаливых людей подобрал.
— Что уж тут наказывать, святейший, слышу же и всё исполню не обмишулясь, — отозвался князь Иван.
Царь Михаил торопился со свадьбой. Хотя его стражи и иноки Чудова монастыря хорошо охраняли палаты Стрешневых, беспокойство царя нарастало с каждым днём. И спустя неделю после сватовства он попросил отца:
— Батюшка, живу в тревоге. Милостью прошу, назначь венчание на ближние благодатные дни.
Филарет понимал беспокойство сына. Ему уже было донесение о том, что боярин Щербачёв кружил близ дома Стрешневых. И чтобы не огорчать сына, сказал ему:
— Благодатный день близко. В октябре, на Неониллу и Параскеву, и обвенчаем вас. Новобрачные сего дня под защитой Божьей Матери. Успеешь ли приготовиться?
— Успею, батюшка, успею, родимый.
Царскую невесту уберегли от всех напастей. Князь Иван Черкасский ни на один час не покидал дом Стрешневых. Он и жену свою упросил пожить у Дуняши до свадьбы. В Кремль её привезли, когда в Благовещенском соборе всё было готово к обряду. О свадьбе царя теперь уже знала вся Москва. И в день венчания тысячи москвитян стекались в Кремль, чтобы увидеть царскую невесту. И те, кому довелось увидеть её, были в восторге. Сколько помнили старожилы Москвы, не было у прежних царей такой прекрасной жены.
Царь Михаил встречал невесту близ паперти собора. Он увидел её лишь во второй раз. Но как и в первый раз, всё говорило ему, что он не ошибся в выборе. В первые мгновения она стояла перед царём опустив глаза. Длинные ресницы её вздрагивали. Но вот она собралась с духом, подняла голову, распахнула глаза и улыбнулась. И царь Михаил улыбнулся в ответ.
Обряд венчания исполнял по чину митрополит Крутицкий и Коломенский Макарий, сменивший усопшего года три назад митрополита Казанского Ефрема. Патриарх также был на амвоне и в алтаре, но службы не вёл, а был просто богомольцем. Венчание царя и царицы, царская свадьба всегда на Руси были большим событием, праздником, случалось, и на неделю пиры растягивались. Но на сей раз москвитяне вели себя сдержаннее. И свадебный пир в Кремле был скромен, и на площадях Москвы народ выпил лишь за здравие царя и царицы, пожелал им долгих лет жизни и семейного благополучия. Что-то сдерживало россиян проявить удаль молодецкую по поводу обретения новой царицы-матушки. Да и то сказать, не только у вельмож, но и у простых москвитян не выветрилась память, они помнили о судьбе двух Марий. Где уж там завидовать участи Евдокии. И спрашивали тайком досужие кумушки друг друга: «Что там с Дуняшей будет? И Господу Богу поди неведомо» И с глубокими вздохами пригубляли чашу вина во здравие сердешной Дуняши и уходили с Красной площади от винных бочек, выставленных царём.
Но на сей раз народ обмишулился в своих тревожных предчувствиях. Царское супружество потекло мирно и тихо. Через девять месяцев, как тому и положено, царица разрешилась от бремени и родила сына. Царевича назвали Алексеем. Его появление на свет больше всех радовало патриарха Филарета, дедушку будущего русского царя Алексея Михайловича, прозванного в народе за кроткий нрав «Тишайшим».
А вторая свадьба, что случилась в те же дни на подворье князей Черкасских, была весёлой, разгульной, широкой и даже с чудесами, потому как князь Иван был горазд на выдумки. Почтили эту свадьбу своим вниманием и царь с царицей. И у каждого из них была своя любовь, своё доброе чувство к виновнице и радетельнице их судьбы, к княгине Ксении Черкасской.
Глава двадцать седьмая Исход
Май 1632 года принёс в Москву и в Кремль прежде всего большую тревогу. Вновь запахло войной, о которой россияне и думать забыли. С западных рубежей державы в стольный град примчали гонцы с вестью о том, что в Варшаве скончался престарелый польский король Сигизмунд III Ваза. И докладывали гонцы, что новый король, Владислав Ваза, едва успел закрыть глаза усопшего отца, как созвал вельможных панов, гетманов, полковников и повелел немедленно поднимать войско, готовить его в поход на Россию. Поляки уже забыли о том, что в двенадцатом году россияне хорошо проучили их и отбили охоту завоевать Россию, что у русских с поляками заключено перемирие и нарушать его есть великий грех. Нет, Владиславу ничто не пошло впрок, никакие нарушения чести не угнетали его совести. Гроза над Россией собиралась быстро.
А царский двор в эту пору благоденствовал. Никто в державе не помышлял о войне. И весть о том, что мир может быть нарушен, внесла в размеренную жизнь москвитян большую сумятицу. Царь Михаил, увлечённый воспитанием сына, проводил время с царицей Евдокией в тихом уединении в Коломенском дворце. И когда этот покой был нарушен, он с неохотой подумал, что нужно заниматься военными делами, отправился в Москву за советом к отцу.
Патриарх ждал сына и уже принимал меры к тому, чтобы воеводы позаботились о стрелецких полках, приготовили их в поход. Но Филарета одолевала немощь. Он постепенно отходил от государственных дел, перекладывал заботы на царские приказы. Лишь угроза войны с Польшей заставила его одолеть телесную слабость и помочь сыну собраться с духом, пустить в ход военную машину. Как встретились они в патриарших палатах, Филарет сказал сану:
— Ты, царь-батюшка, бери ратное дело в свои руки. Да пошли гонцов в Тверь к князю Лыкову и в Ярославль к князю Черкасскому, пусть Борис и Дмитрий ополчения не мешкая по областям собирают.
— Как сказываешь, так и сделаю. Вот токмо не знаю, кого во главе московской рати поставить.
— Черкасского с Лыковым и поставь. Бутурлина им в помощь дай, молодого князя Ивана Черкасского пусти в дело.
— Но думные бояре не захотят, чтобы московская рать из рук Шеина и Измайлова ушла.
— Думные головы своё гнут. Что ж, Михаил и Артемий были хорошими воеводами, поляков не раз достойно били, да огонь в них поугас и проку от них мало вижу. Не пугайся молодых воевод выдвигать.
— Совет твой исполню, батюшка.
— А Думу собери не мешкая. Нужно всех бояр побудить к рьяности по случаю войны, за приказами следует надзирать, там тоже коснеют.
Боярская дума собиралась неохотно. По случаю наступающего лета многие думные головы уже укатили в вотчины, посмотреть-распорядиться полевыми работами. Раньше государь Филарет всех землевладельцев поощрял к такому роду действа, наказывал не только им и землепашцам заботиться о хлебе насущном, но и всем горожанам.
Скорые гонцы собрали, наконец, всех думцев. И были утверждены все указы царя о подготовке к войне. И только в одном Дума не уступила царю, да как покажет дело, себе на поруху, отдала-таки под начало Михаила Шеина и Артемия Измайлова тридцать тысяч ратников. При них было сто шестьдесят пушек. А стрелецкий полк московской пехоты, как того потребовал Филарет был отдан под начало князей Дмитрия Черкасского и Бориса Лыкова. Воины этого полка составляли регулярное начало будущего войска и были обучены ведению боя по германскому образцу. Готовились к выступлению против поляков и наёмные солдаты: германцы, шотландцы, шведы — три полка по тысяче двести человек в каждом. В эти же дни повелением царя Михаила все малые города вокруг Москвы собирали свои ополчения и слали их к стольному граду.
Но пока в воздухе витало лишь поветрие войны, государь-патриарх Филарет отдал повеление собрать Освящённый собор с привлечением всех иерархов и архиереев, с участием светских вельмож и посоветоваться с ними, как побудить Россию приготовиться к защите Москвы, дабы не повторилось недавнее прошлое. Нельзя было допустить, чтобы поляки вновь вошли в стольный град и предали его огню и разорению. Патриарх знал лучше других московских вельмож бесноватый и воинственный нрав короля Владислава. В прежние-то годы его ярую ненависть к россиянам и жажду покорить Россию сдерживал только отец, король Сигизмунд. Ноне же у Владислава руки были развязаны и он не применит воспользоваться волей, считал Филарет. И была у патриарха надежда на то, что Освящённый собор и вся православная церковь вдохновят россиян на защиту отечества, как было сие при страстотерпце патриархе Гермогене.
Однако ещё до того, как собраться Освящённому собору, патриарх Филарет пригласил в Архангельский собор многих крупных торговых людей, ремесленников и служилых, других сословий горожан и обратился к ним со словом от имени церкви:
— На вас, дети мои, полагаюсь в трудный час для отчизны. В ваших силах не допустить вражеского торжества над Россией. Вы можете помочь царю-батюшке снарядить сильное войско с пушками и ядрами, с мушкетами. Вы можете помочь войску провиантом, дабы не бедствовали в схватках с врагом, вы можете снабдить войско тягловой силой и строевыми конями. Не пожалейте своего имущества и сил ради мира в России. Да пошлёт вам Всевышний удачи в ваших делах.
Речь Филарета была короткой, но она нашла отклик в сердцах москвитян, и как когда-то в Нижнем Новгороде Козьма Минин собирал вклады-дары для ополчения, так и по Москве начался сбор пожертвований в пользу войска. Как мудрый государь, Филарет понимал, что никакой войны не выиграешь, ежели пуста государственная казна. И в лето тридцать второго года патриарх пёкся о казне больше, чем когда-либо прежде. На Освящённом соборе он призвал всех иерархов, всё белое и чёрное духовенство не пожалеть денег для казны.
— Вам есть нужда раскошелиться, — призывал он священнослужителей, — дабы усилить царское войско. Ибо без прибыльных налогов царю-батюшке не обойтись, а они не всегда во благо народу.
Слово и дело патриарха и государя Филарета возымели действие не только в Москве. Сбор средств для войска шёл по всей России. А в кузнях день и ночь ковалось оружие, литейщики отливали новые пушки, ядра, мастеровые готовили порох. Никогда ещё Россия так рьяно не готовилась к отражению вражеского нашествия. Да знали россияне, что благодатную жизнь, коей добились при царе Михаиле и государе Филарете, нужно защищать, не щадя живота и имущества, знали, что их усердие обернётся во благо потом ков.
И настал день, когда москвитяне провожали войско к западным рубежам. И грустили-плакали бабы, молодайки, расставаясь с мужьями, с сужеными, любимыми. И гордились войском. Шли ратники исправно одетые, обутые, вооружённые. На Красной площади ратников встречали и провожали царь Михаил, патриарх Филарет, многие именитые бояре, князья, иерархи. Благовестили во славу русского воинства кремлёвские колокола. Торжественное шествие войска, множество пушек, сытые кони, которые тянули орудия, — всё это вселяло уверенность в россиян об успешном походе русской рати.
Так оно и было вначале.
Летом и осенью тридцать второго года войско Шеина и Измайлова без особых потерь захватило Дорогобуж, продвинулось к Серпейску и его покорило. Там открылся путь на Стародуб. И он сдался русской рати. Гонцы в это время прибывали с места действий в Москву каждую неделю. Вести поступали в первую очередь к царю и патриарху, от них — в Боярскую думу, разносились по Москве, и москвитяне надеялись, что к зиме русская рать вернётся к родным очагам. Радовались. Усердно молились во благо скорого окончания войны.
Ан не всё получилось так, как жаждали россияне. Военные действия затягивались. Их не остановила и зима. Только в декабре Шеин и Измайлов сумели подойти к Смоленску и осадить его. Да упёрлись в крепостные стены, столь знакомые своей мощью воеводе Михаилу Шеину в годы обороны Смоленска.
Польский комендант крепости, полковник Маховецкий, тоже помнил, как войско Сигизмунда осаждало Смоленск. И сам он ходил на штурм. Теперь же Маховецкий перенял опыт смолян и успешно отражал штурмы русской рати. А крепкие крепостные стены выдерживали разрывы русских ядер, которыми россияне по первости стреляли не скупясь.
События под Смоленском развивались медленно. Русская рать простояла под городом всю зиму, весну и прихватила лета. За это время польский сейм утвердил Владислава на троне. И король собрал армию в двадцать три тысячи воинов и сам повёл их под Смоленск. На военном совете перед выступлением король уверенно заявил:
— Я возьму россиян в хомут и покончу с ними.
Ни Михаил Шеин, ни Артемий Измайлов не были готовы отражать атаки подошедшей польской армии. Король Владислав и впрямь обложил русское войско, как медведя в берлоге. Он занял все высоты вокруг осаждающих, поставил на них пушки и повелел день за днём расстреливать россиян.
Пушкари Шеина и Измайлова недолго отвечали польским канонирам, у них иссякал пороховой запас, ядра были на исходе. И не случайно. Владислав не только окружил русскую рать, но двинул часть армии дальше на восток и захватил Дорогобуж, где русские воеводы держали обозы, провиант и военные припасы.
Апрельской порой, как подсохли дороги, князь Дмитрий Черкасский и князь Борис Лыков, вошедшие в состав русской рати под Смоленском со своим полком, упорно побуждали Измайлова и Шеина разорвать «хомут» и вывести войско из окружения. Но старые воеводы не вняли разумному совету молодых воевод и продолжали губить рать под Смоленском.
И тогда князья Лыков и Черкасский решили прорваться со своим полком вопреки воле Шеина. Они выдвинули вперёд пушки и ударили в глухую полночь по полякам. И так всё было неожиданно, что поляки в панике побежали. Почти без потерь стрелецкий полк вырвался на простор, перебрался через Днепр и поспешил к Дорогобужу, чтобы отбить его у врага. Дерзость в том была большая, и она удалась бы. Но замысел князей разбился о сопротивление большого отряда казаков, обороняющих подступы к городу и завербованных в своё время королём Владиславом.
Той порой против бездействия Измайлова и Шеина взбунтовались наёмные офицеры. На военном совете шотландец Лесли выхватил пистолет и выстрелил в Михаила Шеина, но промахнулся и к несчастью убил стоящего рядом английского полковника Сандерсона.
Гонец князя Черкасского принёс в Москву весть о событиях под Смоленском и о преступной воле воеводы Шеина. Сия весть повергла царя в большое уныние. Страдание его усиливалось оттого, что он не владел военным искусством и не мог стать во главе войска и померяться силами с королём Владиславом. В мыслях он готов был выйти с Владиславом на единоборство. Однако старые рыцарские времена миновали, и теперь короли и монархи не сходились в поединках для решения вопросов чести и верховодства. Теперь цари и короли не владели искусно шпагой, мечом, саблей, копьём, но доставали противника хитростью, коварством, другими мерзкими путями. Все эти размышления изводили Михаила. Он рвался к отцу, но не смел, потому как недуги уложили Филарета в постель. И тогда он звал к себе старого князя Фёдора Шереметева, дабы посоветоваться о поведении Шеина и Измайлова. Князь Фёдор пытался убедить царя в том, что опытные воеводы наконец вырвутся из окружения, с честью выведут войско. Царь сомневался в этом.
— Твоими устами, светлый князь, мёд бы пить. У меня побывал не только гонец, коего князь Дмитрий присылал, но и другие. — И царь рассказал князю о свежих вестях из-под Смоленска. — Ноне мне стало ведомо, что Владислав потребовал от Шеина сдаться в плен всей ратью. И Шеин, сказывают попросил у польского короля время подумать.
— Господи, неужели всё так плохо?! А где же князь Митя, где соратник его Борис? И что с полком?
— Они в лесах где-то. То ли за казаками охотятся, то ли от них бегают не ведаю.
— А где полки, кои ты послал Шеину в помощь? — спросил князь.
— В пути, и они действуют. Да остановили их поляки на Днепре и за реку не пускают.
— Ну и оказия! — Старый князь выдохся. Он уже не мог ни голос возвысить, ни дать полезный совет. Он охал, растирал грудь слабеющими руками. Наконец, попросил Михаила:
— Ты уж, царь-батюшка, ради Христа, не открывай всех напастей родимому. Он уже болями Мальборга источен досталь. А сии вести убьют его.
— Давно уже тешу батюшку только добрыми вестями, — признался царь. — Иной раз и напраслиной грешу. Да и как без неё обойтись, ежели правда иной раз хуже отравного зелья.
Однако сыновье радение не смогло защитить Филарета от злого умысла. Дал о себе знать его давний враг и злодей. Немощный, почти умирающий думный дьяк Бартенев второй счёл, что ему нужно исповедаться у патриарха. Грех предательства, взятый Бартеневым на душу ещё при царе Борисе Годунове, не давал ему покоя многие годы, влёк к покаянию. А кому покаяться, как не самому патриарху? И старый дьяк велел холопам отнести себя в патриаршие палаты.
Святейший лежал в постели. Рядом с ним сидела инокиня Марфа. Она тоже сильно постарела, но держалась ещё крепко. В руках она держала псалтырь и читала Филарету псалмы. Когда услужитель доложил, что при шёл думный дьяк Бартенев, она поднялась и покинула опочивальню, дабы выпроводить дьяка из палат. Старая женщина чувствовала, что тот пришёл со злым умыслом. Между ними и никогда-то не было добрых отношений. Сын Марфы, царь Михаил, отстранил Бартенева от дел, из Думы изгнал, но иной опалы не наложил. Дьяк затаился, жил отшельником, копил в себе ненависть к Романовым. А в ту пору, когда Филарета избрали на патриаршество и когда многие вельможи приходили к нему на причастие и покаяние, в Бартеневе проявилась гордыня, она оказалась сильнее здравого смысла, и он счёл унизительным идти к бывшему князю с покаянием. Он считал, что Филарету самому нужно идти к попам на покаяние или уйти в монастырь за грехи, кои свершил, служа самозванцу и полякам. И хотя Филарет всё-таки молил Всевышнего о прощении злого деяния, причинённого всему роду Романовых и всем его сродникам, Бартенев, зная об этом, так и не проникся раскаянием.
И теперь Филарет пытался понять, что привело Бартенева в патриаршие палаты, но утешительного ничего не открыл, потому как знал зачерствевшую в злодеяниях душу дьяка.
Той порой Марфа билась с Бартеневым и вместе с услужителем не пускала его в покои патриарха. Он же приказал своим холопам оттеснить Марфу и услужителя от дверей. Они исполнили волю дьяка, и тот вскоре появился в дверях опочивальни Филарета. Жизнь пригнула его к земле, выжала соки из прежних телес. Он сопротивлялся земным законам. До ломоты в спине, до хруста усохших костей пытался держаться прямо. Однако ему это не удавалось и он стоял в дверях согбенный. И потому, как показалось Филарету, смотрел на него по-волчьи.
— С чем ты пришёл, раб Божий? — спросил патриарх. — Ежели ищешь покаяния, иди в храм к митрополиту Макарию.
— Я ищу забвения. И коль скажу тебе всё, с чем явился, так оно и придёт — Он бросил злобный взгляд на Марфу которая появилась за его спиной, и отрывисто сказал: — А ты уходи, зреть тебя не могу!
— Не вольничай, — оборвал его Филарет, — ты не у себя в палатах. Помнишь поди, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят Нет у меня ноне тайн ни от кого, тем паче от былой супружницы, — и с каждым словом голос Филарета звучал твёрже, звонче.
— Коль так, слушай, чего не убоюсь сказать и принародно. И пусть тебя постигнет разочарование и прахом рассыплются твои почины и надежды поднять Россию над Европой. Говорил же я многим, и ты слышал сие, мнимый патриарх, о том, что король Владислав будет царём нашей державы. Теперь это скоро придёт Он взял в плен рать Измайлова и Шеина, он разбил-разогнал по лесам и топям полки Черкасского, Лыкова и Бутурлина, смял ополчение и ноне победным шагом идёт к Москве. Слава царю Владиславу! Ты от имени моего будь проклят! Будь! Будь!
Марфа попыталась зажать дьяку рот, но он из последних сил оттолкнул её и, оползая по дверному косяку, упал на пол, захрипел, хватая воздух раскрытым ртом. Но сквозь хрипы ещё прорывались его бранные слова, ещё слышалось надсадное: «Слава Владиславу, царю России».
Филарет приподнялся на ложе и слабой рукой осенил своего врага крестом. Он же велел Марфе позвать услужителей. Но они сами прибежали на крики, и патриарх велел им увести Бартенева. Однако идти дьяк уже не мог, и его снесли из патриарших палат. За порогом с рук на руки передали холопам, и те бегом отнесли его к карете, умчали в Китай-город.
Думный дьяк Бартенев второй не умер в этот осенний день, потому как Всевышний не принимал его душу без покаяния. Да и слуги дьявола, казалось, забыли о нём. Его разбил паралич, лишил дара речи, перекосил лик, отнял правую ногу и руку. И теперь дьяк лежал на ложе словно зверь в образе человека, только рычал и хватал всё вокруг себя здоровой левой рукой.
Скончался в этот день другой, более достойный россиянин.
Услышав наглую и дикую ложь из уст дьяка Бартенева, но в чистоте душевной приняв её за правду, патриарх Филарет, несмотря на немощь, нашёл в себе силы встать и велел Марфе позвать услужителей. Иноки Чудова монастыря и архидиакон Николай явились тотчас.
— Оденьте меня, дети, торжественно! — повелел Филарет.
— Святейший, да как же! Тебе лежать надо, избаливаешь ведь, — попытался уговорить Филарета Николай.
— Не перечь, сын мой, и не мешкай! — твёрдо ответил патриарх.
И тут услужители засуетились. Его одежды висели в опочивальне, и они надели на патриарха стихарь, фелонь, высокий бархатный головной убор, на грудь повесили крест и панагию, а через плечо — омофор. Ещё вручили посох. И патриарх повелел Николаю:
— Пошли человека к звонарям на Ивана Великого, пусть ударят в «Горлатного», а там и во все иные колокола набатом. Меня же ведите на Красную площадь!
Николай испугался за патриарха. Впервые он видел его такого возбуждённого и в состоянии непомерного гнева.
— Святейший владыко, — взмолился Николай, — не убивай себя! Умоляю Христом Богом, скинь гнев, вспомни о милосердии, помолись заступнице нашей Пресвятой Богородице, — частил архидиакон.
— Не тщись, сын мой. Ты всегда служил верно, послужи и ноне.
— Готов служить тебе, святейший! И выйду на Красную площадь, поднимусь на Лобное место и крикну россиянам всё, что повелишь! И в колокола велю твоим именем ударить. Но пощади себя!
Марфа тем временем покинула патриаршие палаты и, как могла, поспешила в царский дворец за сыном.
Николай продолжал уговаривать патриарха, но он оставался непреклонен и двинулся из опочивальни без посторонней помощи. Но два инока, кои стояли рядом, поддержали его и повели. Видя, что Филарет твёрд в своём решении, Николай послал инока на колокольню, сам взял патриарха под руку и повёл его из палат.
Шли медленно. Ещё шагая через трапезную, Филарет почувствовал слева в груди нестерпимую боль, но виду не показал. Он молил Всевышнего, чтобы избавил от этой боли и дал дойти до Лобного места и крикнуть россиянам, чтобы шли всей землёй к Смоленску и там вызволили из плена тысячи своих сыновей, отцов, братьев, там встали на пути польского нашествия. И Филарет шёл, спешил, но с каким трудом давался ему на сей раз каждый шаг. И всё то короткое расстояние, которое в прежние годы одолевал на одном дыхании, отняло у него последние силы. Вот, наконец, он вышел на Соборную площадь, увидел много богомольцев — ведь ноне же был большой церковный праздник, вспомнил Филарет, день Покрова Пресвятой Богородицы. Патриарх подумал, что и здесь бы надо сказать своё слово, да решил поберечь силы, чтобы во весь голос возвестить своё на главной площади России.
В сию минуту ударил в набат сперва «Горлатный» колокол. Настойчиво, упорно он возвещал народу о надвигающейся беде. «Горлатного» поддержали другие колокола. Вот и в «Лебедь» ударили, обычно хранимый для благо веста. И с первыми звуками набата, как повелось извечно, москвитяне побежали на Красную площадь. Их живые потоки лились по всем улицам Москвы, ведущим к Кремлю. И в Кремле во всех палатах распахнулись двери, из соборов, из церквей, где шло богослужение, повалил народ на Красную площадь. И в толпе богомольцев спешил со свитой царь Михаил.
Филарет уже прошёл кремлёвские ворота, до Лобного места оставалось не больше ста шагов. Но их патриарху не суждено было одолеть. С первым шагом за воротами Кремля он почувствовал, что к одной боли под сердцем прибавилась новая, будто в спину под левую лопатку воткнули шило и что-то в груди со звоном оборвалось, словно лопнула тетива натянутого лука. И ноги Филарета подкосились, голова вскинулась к небу и вырвалось последнее дыхание, а с ним ввысь поднялась душа патриарха.
Инок и Николай ещё поддерживали Филарета, не давая упасть ему на землю. Но они уже чувствовали, что жизнь из него изошла. Тут подбежали многие люди и подхватили тело Филарета на руки, понесли на Лобное место. Они всё ещё надеялись услышать от него сильные слова, кои побудили бы их к действию.
На Красной площади возникло смятение. Многие москвитяне ещё не понимали, не знали, что случилось. Колокола ещё били в набат. В небе возник многотысячный вороний грай.
А в живом ещё сознании Филарета мелькнули последние слова россиянам: «Православные дети, берегите Россию!» Божественным промыслом эти слова дошли до горожан. Их воспринял князь Иван Черкасский, оказавшийся в последние мгновения близ патриарха. Сказочник, читающий с листа людские думы, побежал на Лобное место, взлетел на него, вскинул в небо руки, и потрясая ими, громко крикнул:
— Эй, люди земли русской! Слушайте, слушайте все! Умирая, он сказал: «Православные дети, берегите Россию!» Истинно вам глаголю!
Той минутой к патриарху подбежал царь Михаил и упал на грудь отцу, спину его сотрясали рыдания.
Красная площадь в этот великий день Покрова Пресвятой Богородицы не утихомирилась до полуночи. Тысячи россиян плакали, стенали, страдали, как не страдали ни за одного патриарха. И хотя Иов и Гермоген были истинными духовными отцами народа, но боль и горе о них являлись меньше, потому как россияне долго не ведали о смерти Иова, скончавшегося в глубине России, в Старицах. А смерть Гермогена вовсе случилась тайно, в подвалах Кириллова монастыря, в котором в ту пору были казармы поляков. Здесь же великий страдалец, великий государь умер на глазах у всей Москвы. Как тут не скорбеть и не проливать слёз!
Скупо прослезились лишь монахи, заполонившие Красную площадь. Они читали молитвы. И была прочитана молитва Филарета, написанная им в Антониево-Сийском монастыре. И многажды прозвучали слова патриарха из проповеди на нынешний день Покрова Пресвятой Богородицы: «Царь Небесный, прими всякого человека, молящегося к Тебе и призывающего Имя Моё на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан».
На панихиду, на погребение патриарха всея Руси и великого государя России Филарета — князя и боярина Фёдора Никитича Романова в миру — съехалось, сошлось, казалось, пол-России. Воеводы, бояре, дворяне, князья, служилые люди всех чинов и званий, купцы, ремесленники, крестьяне, духовенство со всех епархий, монахи, монахини — все пришли на Красную площадь отдать последний долг своему духовному пастырю, своему государю. Царь Михаил не уходил от тела покойного отца ни на минуту. Из тысяч москвитян он яснее всех понимал, какую утрату понёс. Рухнул столп, на который он опирался все годы своего царствования. За три дня он постарел на многие годы, и никто в эти дни не дал бы ему тридцати шести лет — старик стариком. Горе наложило свою печать и на прекрасное лицо царицы Евдокии, на лица Катерины и Ксении, так близко прикоснувшихся к судьбе Фёдора-Филарета. Катерина не смахивала слёз с непросыхающего лица, потому как её, может быть, больше, чем других, кроме царя, ударила смерть дорогого человека. Почти полвека назад полюбили они друг друга и все эти годы в мыслях и в устремлениях были рядом. Близ Катерины стояла инокиня Марфа. Она опиралась на руку ясновидицы. Всё зная о прошлом своего мужа, она не казнила ни его, ни Катерину.
Бояре и иерархи часто сменяли друг друга у гроба. И у каждого из них было что вспомнить о патриархе. Не появлялся у гроба лишь князь Фёдор Мстиславский. Да ему и не дано было встать с ложа. Всевышний наказал его за кощунство и зло, чинимое ближнему. Он лежал пластом, и теперь у него не двигались ни ноги, ни руки, не было речи и слуху. У жестокосердых было что сказать в его адрес: «Бог покарал справедливо!»
Мраморную раку патриарха Филарета поставили в царскую усыпальницу, возле стояла рака с мощами царя Фёдора Иоанновича.
После похорон царь Михаил ещё долго не мог прийти в себя. И как миновало сорок дён, подумал, что пришло время наказать виновных в смерти патриарха и государя. Царь считал, что главный виновник в смерти его отца есть князь Фёдор Мстиславский. Но он уже был наказан и так сурово, что царь Михаил не помнил, кого бы Господь ещё так жестоко покарал. Другие же виновники, воеводы Шеин и Измайлов, всё ещё пребывали с войском в окружении под Смоленском. Это их позорное бездействие, считал царь, и надломило силы и здоровье Филарета. Они открыли дорогу полякам в глубины России. А патриарх лучше других знал, что такое есть польское господство. Но если бы Измайлов и Шеин дрались с честью, считал царь, и ныне патриарх бы здравствовал, вдохновляясь их победами. Знал же Михаил, что его отец не мог побороть в себе ненависть к католикам, к иезуитам, пытающимся поработить православие в России.
Год спустя, когда русская рать была вызволена из окружения под Смоленском на унизительных для России условиях, царь Михаил повелел судить воевод Шеина и Измайлова. И суд приговорил их к смертной казни. Царь Михаил утвердил первый в своей жизни смертный приговор, а утвердив, ушёл в Благовещенский собор и долго молился, прося у Господа Бога прощения за жестокосердие. Потом же пришёл в царскую усыпальницу и помолился близ раки Филарета, словно докладывал ему о том, что Россия вновь вступила в пору благоденствия и залечивания военных ран.
Позже историки и учёные России напишут о времени царствования первого царя династии Романовых и о времени правления государством Филарета: «Исторические успехи новой династии, её укрепление во главе государства в значительной мере связаны с личностью святейшего патриарха всея Руси, великого государя Фёдора Никитича. Сама властная фигура патриарха и его сан содействовали поднятию авторитета власти. Умирая 1 октября 1633 года, Филарет покинул Московское государство окрепшим настолько, что ни внешние опасности, вызывающие тяжёлую борьбу с соседями, ни внутренние язвы народного хозяйства и государственного быта, готовящие ряд грядущих потрясений, не могли расшатать воздвигнутого из развалин политического здания. С кончиной патриарха ничто по существу не изменилось, несмотря на несомненное ослабление правительственного центра», — читаем мы в историческом сборнике «Три века», издания 1912 года.

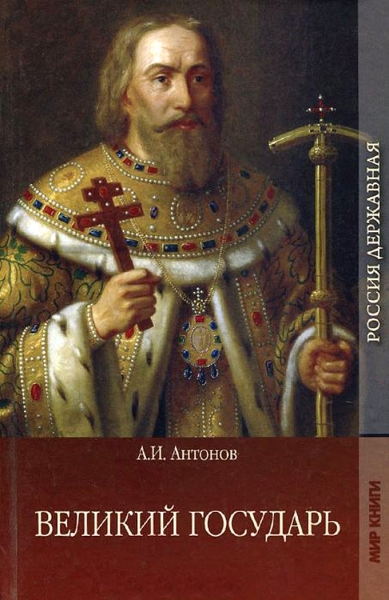

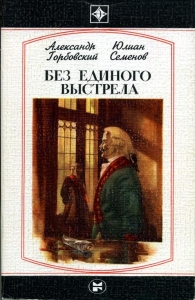

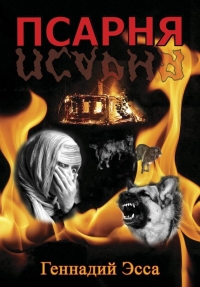



Комментарии к книге «Великий государь», Александр Ильич Антонов
Всего 0 комментариев