Девятая квартира в антресолях (книга вторая)
«…И вдохновенья новый вдох!»
***
Лиза открыла глаза и сразу все вспомнила. Сегодня какие-то мысли отошли на второй план, а то, что вчера затмевалось самим происходящим, стало выползать на поверхность. Так, например, стыд и страхи стали тускнеть – вот дом, вот за стеной все они, сама Лиза жива и невредима, что с того. А вот его она больше никогда видеть не сможет. Никогда! Никогда больше не будет того радостного предвосхищения, которое предшествовало всем их встречам – и оговоренным, и случайным. Да-да! Случайные свидания она тоже предвидела – еще спросонья, в те дни сердце билось по-иному. Откуда она могла знать? Неведомо.
И ее самой, такой, какой она в то утро выходила из дома, уже никогда не будет! Нет, и не будет уже той легкости, радости бытия и ожидания того, что же станется с ней дальше? Через час. Завтра. При новой встрече. И не будет захватывать дух, когда он наклоняется к ней и его челка касается ее щеки. И не будет…
Ничего больше не будет. Никогда. А зачем тогда жить? Зачем ей эти руки, тело, голова, которая со вчерашнего дня потеряла все свои способности к пониманию? Что было правдой? Чему верить? Его губам, его словам о невозможности жить без нее? Их бешеной скачке под венец? Или сказанному там, на аллее, где прошло все ее детство, и там же, в одну секунду, кончилось навсегда? Или словам, написанным на бездушном листе бумаги, который до сих пор зажат у нее в ладони?
Ничему. Ничему из этого верить не получается! Никому и никогда не сможет она больше поверить! А зачем тогда жить? Читать с папой газеты, ходить на уроки музыки, поливать клумбу? Зачем? Ах, если б можно было выключить все эти мысли простым усилием воли. Чтобы не было ничего. Совсем ничего!
К ней в комнату несколько раз заглядывала няня и, кажется, один раз кто-то другой. Лиза лежала лицом к стене и ни на что не отвечала. Ей нет до них никакого дела. Ничего больше никогда не будет. Оставили бы ее все в покое!
Егоровна вышла из флигеля на крыльцо.
– Павлуша, подь сюда, – она то ли проснулась ни свет, ни заря, то ли совсем не ложилась и сейчас высматривала во дворе Павла, встававшего как все деревенские жители с птицами. – Сегодня воскресенье. Так я с барышней своей всегда в церкву хожу, а тут вроде приболела она. Ну, ты ж знаешь? Проводи ты меня.
Доктор ушел только под утро, боясь оставить больного одного. Андрей Григорьевич лежал теперь у себя в забытьи, но сердце стало биться ровно и спокойно. Наталья Гавриловна не отходила от него ни на минуту. Тут Егоровна и позвала привезенного той парнишку и, надеясь по дороге выяснить у него какие-нибудь подробности вчерашнего дня, дала ему в руки два бидона да повела за собой к Похвалинскому съезду.
– Мы, Павлуша, у монастыря-то в овражке святой водички наберем, а ты мне донесешь. Поможешь?
– Сделаем, хозяйка!
– Какая я тебе «хозяйка», зови няней.
Вернувшись от Благовещенского, Егоровна отнесла по кувшину воды в комнаты отца и дочери. Пусть умоются, все легче стать должно! Что еще она может для них сделать, она не знала. Наталья Гавриловна стала протирать лицо Андрея Григорьевича влажным полотенцем сразу, и тот даже пришел в себя.
– Наташа, ты не уехала? – слабым голосом прошептал Полетаев. – Как она?
– Так же, Андрюша. Лежи, не вставай.
– Это ж я, – глаза его увлажнились. – Это ж я, дурень старый, ее на то толкнул!
– Да, прекрати. Просто дети не умеют рассчитывать свои силы. Она дома. Жива. Ничего ж страшного не случилось, – сама себе не особо веря, уговаривала его Наталья.
– Ты не понимаешь! – слезы уже текли по щекам, теряясь в седой шевелюре, и смотреть на это зрелище было невыносимо. – Где ж были мои мозги! Душа где? Мне ж сразу на второй день после выпуска надо было везти ее туда! Она ж по матери тоскует! Надо было хоть на могилку свозить. Я не отец! Я пень бездушный. Так мне. Поделом. Девочка моя! Не уберег…
– Андрей, прекрати! – прикрикнула на него Наталья. – Ничего не ясно, мы сами себе придумали с три короба. Только она сама может знать, что и как.
– Ты же видишь – молчит. Моя приветливая, радостная девочка второй день молчит. Топиться! Нет! Ей точно кто-то всю душу изранил, я же вижу. И мне жить незачем, коли так! – и он стал задыхаться, а Наталья бросилась к склянкам, что оставил врач.
Когда Егоровна зашла со святой водой, Лиза так и не обернулась. После всех расспросов деревенского гостя ничего особо страшного или утаенного не выплыло, но всяк получалось, что несколько часов дитятко было либо без просмотра вовсе, либо с чужими людьми. И что там могло статься? В доме теперь было двое больных, считай, людей. Мужики поели у себя во флигеле, к обеду в доме никто не вышел. У Егоровны опускались руки. Готовить что-то на ужин? Зачем? И вот что-то надумав, она ушла к себе, явилась через четверть часа в коридор и постучала в дверь благодетеля. Выглянула Наталья.
– Ты что задумала? В полицию никак собралась? – спросила Наталья Гавриловна, увидев непривычно одетую Наталью Егоровну.
У той это действительно был единственный костюм для посещения мест присутственных, и сейчас она облачилась именно в него.
– Нет, Наташ, но пока не скажу куда. Если получится – сама увидишь. Если что надо, распоряжайся тут по-хозяйски, а вот Кузьму я заберу. Ты ж их все равно не оставишь? Если лекарство какое, или доктора – своего парня за дворником пошли, он в соседнем доме проживает, там все знают. Ну, с Богом!
Вызвав Кузьму, она спросила:
– Помнишь, к Лизоньке подружка-княжна приезжала? Черненькая такая? Ты еще ее домой отвозил? – Кузьма кивнул. – Запрягай, Иваныч. Гони туда!
***
Дом князей Чиатурия являл нынче зрелище по-прежнему богатого, но уже опустошенного жилища. Хотя слуги и оставались в нем еще на пару дней, но основные вещи были проданы или уложены, а хозяева отбывали сегодня. Княгиня запретила скатывать дорожку с парадной лестницы до их отъезда, но все равно «разоренное» состояние интерьеров было заметно – не было ваз, картин, статуэток, канделябров и всех тех мелочей, которые и создают уют и атмосферу дома. Егоровна подъехала аккурат к тому моменту, когда уже были поданы кареты для хозяев и багажа. Она зашла в богатый подъезд и растерялась от дворцового великолепия вестибюля. Тут же возник лакей в ливрее.
– Как прикажете доложить? – спросил он с тем самым наклоном лица, которое за поклон никак принять было нельзя и что точно соответствовало статусу посетительницы. – Только сегодня не приемный день. Не изволите ли зайти в другой раз?
– Ну, какой другой раз, голубчик? – со вздохом спросила его Егоровна. – Ведь уезжают же, вижу. Скажи, хоть застать успела? Мне бы барышню повидать. До ее отъезда. Это очень важно!
– Позволите сходить узнать? – если лакей и был удивлен, то виду не показал, настолько был вышколен. – Извольте все-таки сообщить – о ком доложить?
– Значит тут еще! Ну, ты ничего не докладывай. Я подожду.
– Как будет угодно. Только. Не положено, – он не уходил.
Тут из своих апартаментов вышли князь и княгиня. Они замерли наверху огромной лестницы, а лакей стал быстро подниматься и, дойдя до середины, доложил:
– Княжну изволят спрашивать.
Мать Нины только мельком прошлась взглядом по фигуре Егоровны и вопросительно посмотрела на мужа. На счастье, из дверей напротив, тут же вышла и Нина с небольшим саквояжем в руках.
– Дочь, это к тебе, – по-русски сказал князь и кивнул на вход. Нина опустила взгляд и заметила Егоровну, но не сразу признала в такой одежде. Она сначала тоже вопросительно, совсем как мать, посмотрела на князя Георгия, он слегка кивнул ей, и Нина стала спускаться – сначала медленно, а когда поняла, кто стоит внизу, то полетела, стремительно перебирая ножками.
– Что-то с Лизой? – стараясь сохранять и спокойный тон, и достоинство, спросила она, но видно было, что дается ей это с трудом. А Егоровна впервые за эти двое суток заплакала.
– Она жива? – настойчиво переспросила княжна.
– Ниночка! Княжна милая! Поедем к ней. Только на Вас одна надежда. Жива, жива. Да нехорошо с ней. Помогите, за Бога ради!
– Егоровна! Милая! Да что нехорошо-то? – Нина сама уже чуть не плакала. Ее родители так и стояли на верхней площадке парадной лестницы, слушая разговор издалека. Отец что-то тихо шептал на ухо княгине, дважды уже остановив ее в порыве вмешаться.
– Не знаю! Знала бы – было б легче. Молчит. Лежит и молчит, – Егоровна, совсем забыв про платок, утерла слезы ладонью. Княжна протянула ей свой, а ее мать наверху снова сделала попытку спуститься, и князь снова удержал ее.
– Нино, нам пора! – отрезала княгиня.
– Егоровна. Мы же уезжаем сегодня, – расстроенно сказала Нина. – Поезд через полтора часа. Разве мы обернемся?
Княгиня начала спускаться, муж последовал за нею, догнал и подал руку.
– Так вот оно как, – Егоровна на глазах становилась как будто меньше, она поклонилась спускающейся паре – Простите. Не смею я вас просить, простите. Последняя надежда у меня была.
Родители Нины к этому моменту дошли уже до нижних ступенек, мать лишь поворотом головы обозначила свое внимание посетительнице, прошла мимо и, сделав три шага, стала ждать, не оборачиваясь. Князь отпустил ее локоть и, обернувшись, спросил:
– Мне кто-нибудь из вас может доступно объяснить, что происходит?
– Папа, с Лизой что-то случилось. Это ее няня, она просит у меня помощи, – ответила дочь, а Егоровна в это время утиралась ее платком.
– В чем должна заключаться твоя помощь?
– Егоровна, что нужно сделать?
– Я думала, если бы Вы поехали к нам, барышня, может Вам она хоть что-то рассказала. Я знаю, как близки вы с нашей Лизой. Мне кажется, она сейчас никому вокруг не верит. Я боюсь за нее.
– Папа? – пронзительно воскликнула Нина.
Тот обернулся к супруге и стал говорить ей что-то тихо на ухо, приобняв и отвернувшись к выходу.
– Этери, сули чеми. Ар гецкинос, сакварело. Друзья – что может быть главнее в жизни, когда ты нужен им? «Возьму твою боль», так говорит истинный грузин. Я сделаю, как считаю нужным. Прости, дорогая! – и уже во весь голос закричал куда-то наверх: – Ламара где? Найдите срочно. Нина, усади гостью, придется подождать некоторое время.
Пришла горничная княгини, хозяин спросил ее:
– Ламара, можете прямо сейчас собраться? Быстро? Только необходимое в дороге, все остальное упакуют и отправят с пароходом, – та присела в книксене. – Поторопитесь, милая. Поедете с госпожой первым классом.
– Георгий! – не выдержала княгиня. – Это немыслимо. Что ты хочешь делать?
– Этери, солнце мое! Мы с Ниной остаемся. Поедем позже.
– Когда позже? – с ужасом смотрела на них Этери Луарсабовна. – А как же я? Каким образом позже?
– Дорогая! У вас два купе. Езжайте спокойно. А мы либо возьмем билеты на завтра, либо отправимся вместе со слугами и багажом – на пароходе.
– В каюте горничной? Вторым классом?!
– Я думаю, что две каюты в первом – это не будет проблемой, дорогая.
– Тогда я тоже остаюсь. Вместе, так вместе.
– Это не совсем удобно, любимая. Князь Амирани будет встречать поезд. Конечно, можно телеграфировать, но разве все объяснишь в нескольких словах? Поезжай. Дождитесь нас вместе. Все, решено, едем!
***
Князь Георгий наотрез отказался входить в дом Полетаевых.
– Иди, дочь. Ты там нужна, я – нет. Ты выйдешь – я буду ждать здесь. Через час выйдешь – буду ждать. Через два. Через три – буду ждать. Когда выйдешь – я здесь. Иди!
Егоровна ждала рядом, на мостовой, ни на секунду не спуская с княжны молящих глаз, опасаясь, что ее отец в любой момент может передумать. Нина, легко спорхнув с сидения коляски, оказалась рядом с ней.
– Чего вы боитесь больше всего? – спросила Нина Егоровну за тот короткий промежуток, пока они были вдвоем, переходя улицу и двор. – Что все-таки произошло? Что известно?
– Ох, девонька, – вздохнула няня. – Ее вчера нашли, в вечеру, за городом. Внешне невредимую. Около нашей усадьбы. Где и с кем была днем – неизвестно. Точно не сказать было или нет – те, кто нашел, застали, когда только входила в воду, но есть подозрения, что хотела топиться. Отец ее узнал – слег. Он изведет себя за неделю, я его знаю! Не могу я потерять сразу их обоих. Ниночка! Они – моя семья. Помогите. А она молчит. Никого к себе не подпускает. Доктора не пустила. Нам не отвечает. Запиралась вчера…
– Я правильно поняла, что вы опасаетесь, не было ли насилия над ней?
– Ох! – только и запричитала, кивнув, Егоровна. – Негоже про такое с девицами-то, да нет мамки-то у нее. Никого, ближе тебя нет у нее, подружка дорогая.
– Она называла какие-нибудь имена?
– Нет. Вроде с богомольцами какими туда добиралась, а кто такие? – покачала головой няня и вдруг вспомнила: – Письмо! Письмо ей вчера перед домом всунули. Это после него она как неживая стала. Наташа говорит, что по дороге и рыдала, и горела вся в лихорадке, но была живая. А тут – как окаменела.
– А Наташа – это…?
– А вот, познакомьтесь! – они как раз входили в прихожую. – Наталья Гавриловна, старинная знакомая Лизиного отца, да и моя тоже. Княжна Нина – подруга Лизы.
Нина увидела перед собой приятную женщину. Ты была старше ее матери, но взгляд был ясный, молодой и только очень тревожный теперь. Она поняла, что та Лизе тоже друг и обратилась к обеим женщинам сразу:
– Я прошу вас, если вы мне доверяете, то не надо слушать, о чем мы станем говорить с Лизой. Уйдите подальше, чтобы мы могли чувствовать себя свободно, а то, боюсь, разговора с Лизой может не получиться. Обещаю потом рассказать все возможное. Но сразу говорю, что доверие подруги для меня на первом месте. Простите, если что не так.
– Так, так, Ниночка! – Егоровна была согласна на все. – А как же благодетеля слушать? Вдруг позовет?
– Андрей только уснул, я дала ему сердечных капель, – ответила Наталья Гавриловна. – Пойдем к тебе на кухню, Наташа? Княжна, отнесете ей попить? У нее со вчера во рту росинки не было.
***
– Полетаева, я принесла Вам молока. Вставайте! – дважды стукнув в дверь и не дожидаясь ответа, Нина прошла в комнату, быстро оценила обстановку и, поставив поднос со стаканом молока на стол, села в кресло, прямо на кучу наваленного белья.
Скорее от неожиданности, Лиза развернулась к ней и села на кровати. А уж встретившись глазами, отворачиваться было глупо. По крайней мере – странно. И Лиза заговорила.
– Нина! Ты как здесь? И почему на «вы»?
– Ну, так-то лучше, дружочек. Здравствуй, моя Лиза.
– Я не понимаю, – Лизино сознание сейчас действительно пропускало к себе все происходящее, как сквозь туман. – Ты попрощаться?
– Я здесь, потому что у тебя… – Нина запнулась. – А я не знаю, что у тебя. Беда? Горе? За мной прилетела твоя Егоровна и я здесь. Ты же мне друг, Лиза?
– Ах, я не хочу сейчас говорить об этом, тем более, так пафосно, Нина. Спасибо тебе, но не стоило, – и Лиза снова легла, уткнувшись щекой в подушку, но все-таки лицом к комнате. – Ничего не нужно.
– Раз я уже здесь, могу я узнать – что все-таки с тобой произошло? – Нина была совершенно спокойна и настраивалась на долгий разговор, никуда не собираясь уходить.
– Зачем, Нина? Ничего не имеет смысла, – а Лиза от разговора уже устала.
– Лиза, я уже знаю то, что знают твои близкие. Если я узнаю то, чего они не знают, мы можем вместе с тобой подумать, как помочь – и тебе, и им.
– Помочь? В чем? Я не хочу больше жить, – совершенно спокойно отвечала Лиза. – У меня ничего больше нет, и уже не будет! Я не понимаю, зачем все.
– Даже так? Значит, правильно они за тебя бояться, – задумчиво проговорила Нина, не глядя на подругу. – И чего же у тебя больше нет, Лиза Полетаева? Чести, здоровья, иллюзий?
– Чести? У меня? – Лиза возмутилась и поэтому среагировала неожиданно бурно и села на кровати. – Что ты хочешь сказать, что это я поступила по отношению к кому-то бесчестно? Я? А не со мной?
– Лизонька, – Нина постаралась теперь смягчить свои слова. – Пойми, что у тебя осталось очень многое! Даже если ты сейчас этого не хочешь понять из своей обиды. Ведь тебя обидели, правда? Но у тебя есть жизнь. У тебя есть любовь твоих близких. Разве этого мало, чтобы начать снова?
– Обидели?! – Лиза уже почти кричала. – Ты называешь это «обидели»? Да он разломал, разом разбил всю мою жизнь!
– Он? – Нина прикусила губу, почувствовав страх, который нельзя было показать. – Все-таки был какой-то «он».
Лиза, поняв, что в сердцах сказала лишнего, закрыла лицо руками. А Нина, очень бережно подбирая слова продолжала:
– Лиза. Вот сейчас я хочу, чтобы ты поняла меня очень хорошо и правильно. Для меня, именно для меня, абсолютно ничего не изменилось в тебе, чтобы ни произошло. Ты для меня такая же Лиза, как и была всегда. И ты ни в чем не виновата, я тебя знаю очень хорошо.
– Виновата? Произошло? – Лиза почувствовала, как по спине пробежал холодок, кажется, это был страх. – Ты о чем?
Они молча смотрели друг другу в глаза.
– Может быть, ты сама скажешь это? – наконец заговорила Нина. – Что произошло вчера? Ну, произнеси это уже!
– Он меня бросил! – после долгой паузы сдавленным голосом, срывающимся на шепот, прокричала Лиза, и слезы, без ее ведома, снова прокрались к глазам. – Только и не проси! Кто он, я тебе не скажу.
– Не говори! Ни в коем случае не говори, даже, если я стану настаивать, – ответила Нина.
– Ты все-таки странная, Нина! – от удивления Лиза даже забыла плакать. – Любая другая подружка сделала бы все, чтобы вытянуть у меня его имя. Ты говоришь искренне?
– Абсолютно! – Нина была прямолинейна. – Если я буду знать его имя, мне придется с этим что-то делать. Например, ненавидеть его, потому что он причинил тебе боль.
– Нина, не надо лукавить. Ты, действительно, знаешь меня очень хорошо, и скорей всего догадываешься, кто бы это мог быть.
– Это ничего не значит, дружочек. Я могу подозревать сколько угодно, но пока ты не дашь подтверждений, это ничего не стоит.
– А, не зная, а лишь предполагая, ты не можешь его ненавидеть? – первый раз за время разговора на лице Лизы появилось подобие улыбки.
– Я могу его презирать, – поставила точку Нина.
Лиза посидела еще немного молча, потом вытащила из-под подушки листок бумаги и протянула Нине.
– Прочти. Я разрешаю.
Нина развернула чуть измятое письмо и прочла: «На краю непреодолимой пропасти я прошу Вас простить мне порыв, который унес меня так внезапно. Чтобы Страсть не победила Разум, находиться рядом с Вами более было для меня невыносимо. Во имя всего, что я чувствовал к Вам, и, возможно, Вы чувствовали ко мне молю об одном – никому не называть моего имени и постараться забыть его навсегда. Счастье меж нами невозможно.
Рвётся в небо, ночь встречая,
Крепко сжатая телами,
Птица с синими крылами,
Ран в груди не замечая.
Плотный ряд, подобный стае,
Справа, слева стиснул птицу.
Не упасть, и не разбиться,
Не взлететь, изнемогая.
Растерявши перья, рвётся,
К небу устремляясь взором,
Под недремлющим надзором,
И на месте остаётся.
Замирая, к ветке жмётся,
Провожая взглядом быстрым
Две рубиновые искры,
И вот-вот сама сорвётся.
И, ударившись о землю,
Обретёт иную бытность,
Прославляя беззащитность,
Слову разума не внемля,
Воспаряя в неизвестность,
Разрывая связи с древом,
Торжествующим напевом
Оглашая всю окрестность.
Переливы, перекаты
Песни укрощенной муки,
В облаках наполнят звуки
Пламенеющим закатом.
Птица с синим опереньем
И пурпуровым отливом
Вечно мечется, пугливо,
Между славой и забвеньем.
Но, сорвётся в упоенье,
Птица, заглушая ропот,
Издававших только клёкот,
Испытавших лишь сомнения.
Прощайте! Вечный странник».
– «Пурпуровые птицы». Боже, что за образы! – презрительно прокомментировала Нина. – Позволь спросить. А что это за «непреодолимая пропасть»?
Лиза снова тихо заплакала.
– Нина, я ничего не понимаю! У меня все в голове перемешалось. Все было хорошо и тут… Последнее, что он мне сказал: «Лиза, да Вы – бесприданница!». Это она, пропасть?
Нина вскочила с кресла и отвернулась к окну, но Лиза, даже по спине, видела в какой она ярости. Чуть успокоившись, но еще сквозь зубы, Нина четко произнесла:
– Полетаева! Иногда лучший способ поступить – это следовать чужим просьбам. Какое презрение? Забвение – вот то, чего он достоин. Действительно – забудь даже имя! Давай теперь думать только о тебе. Какие могут быть последствия?
– Последствия? – снова не поняла ее Лиза. – Моего разбитого сердца тебе мало?
– Лиза, я очень переживаю за тебя, и твои родные тоже, и очень хорошо, что хотя бы не было того, чего они боятся больше всего, насилия. Но что-то было? – и Нина развернулась лицом к подруге.
– Насилия? – Лиза совсем потерялась.
– Лиза. Пурпуровые птицы пали о земь? Изменили сущность?
Лиза непонимающе молчала, лишь хлопая ресницами.
– О, Господи! – Нина вздохнула. – Вы были близки?
– Не знаю, можно ли говорить об этом, – Лиза смутилась, хотя такие подробности из романов еще в Институте обсуждались между старшеклассницами, но крайне редко и только иносказательно, – ну да, мы были очень близко. Он даже… целовал меня, обнимал.
– И это все?
– Все. Хотя был момент. Он попытался меня… ласкать, но…
– Чего ты смеешься? – спросила изумленная Нина.
– Это так стыдно, Ниночка! – Лиза схватила маленькую подушечку и зарылась в нее лицом. – Но тебе скажу. У меня вчера одна резинка от корсета оторвалась, и пришлось пришить другого цвета. – Лиза положила подушку на колени и теперь, водя по ней пальчиком, повторяла узоры на кружевах. – Я так боялась, что кто-нибудь заметит, что не давала дотронуться до своих юбок никому. Ни ему, ни потом Наталье Гавриловне, которая хотела снять с меня мокрое. Я ее, эту резинку, теперь ненавижу!
– Глупая ты моя дурочка! – тоже рассмеялась Нина. – Да ты ее на стенку в рамочку должна повесить. Может быть, это она тебя уберегла. Он ни на чем большем не настаивал?
– Настаивал, – снова потупилась и покрылась румянцем Лиза. – Как раз около усадьбы настаивал, но я сказала, что это невозможно. Что он меня обижает. И еще пришлось ему сказать, что дом заперт и нам уже не принадлежит. Тогда он просто взял и уехал.
– И ты, поэтому пошла топиться?
– Топиться? Кто? Я?! – Лиза узнавала о себе все больше подробностей. – С чего ты взяла?
– Прости, но я поняла так, что местные мужики нашли тебя в реке или у реки?
– Нина! Была такая жара! Я хотела просто умыться. Вы что, с ума сошли?
– Мы с ума сошли? – Нина сделалась вдруг очень жесткой. – Позволь, я теперь не буду тебя щадить? Ты, значит, лежишь тут молча. Ни на чьи вопросы отвечать не желаешь. Упиваешься своими страданиями. А что происходит с другими, тебя не касается? Ладно, моя мама вынуждена была одна отправиться в дальнюю поездку, а князь Чиатурия сидит сейчас как простой извозчик на улице и ждет меня! Да от твоей Егоровны осталась только половина! У этой женщины, Натальи Гавриловны, глаза как у побитой собаки, а твой отец умирает в соседней комнате! И все это из-за твоей неудачной загородной прогулки? Это ты, Лиза Полетаева, сошла с ума.
– Папа! Что с ним?! – Лиза вскочила на ноги и хотела бежать к отцу.
– Стой! – Нина была жестока и настойчива. – Мы не договорили.
– Нина! Не надо так со мной. Я сейчас сгорю со стыда! – и она снова обессиленно села на смятую постель.
– Хорошо, Лизонька. Давай теперь поговорим спокойно, чтобы хуже не наделать, – Нина села к Лизе на кровать, и они обнялись, как бывало раньше в Институте. – Значит, все, что ты мне доверила сейчас – останется между нами. Сам он вряд ли посмеет упомянуть твое имя, раз пишет такое. Давай так? Своих надо щадить. Поэтому ты ехала с богомольцами, как все об этом и думают, просто посмотреть на родные места, соскучилась. Все остальное – как есть. Пошла умываться, тебя не поняли. Про него ни слова.
«У тебя есть тот, кто защитит твою честь, пока я жив!» – вспомнила Лиза слова отца, сказанные всего пару дней назад. «Пока я жив…» Нина такая мудрая, с ней так все сразу понятно. Конечно, нельзя, чтобы отец узнал, ведь тогда он будет вынужден, как говорит та же Нина «что-то с этим делать».
– Господи! – вздохнула Лиза. – Неужели это мы, Нина? Неужели месяц… да, всего месяц назад мы чуть не поссорились из-за того, достойно ли принимать подсказку на экзамене или нет?!
– А теперь я сижу и учу тебя, как утаить правду от родных? – Нина горестно усмехнулась. – Да, Лиза, все меняется так быстро. И мы меняемся.
– Да, и мне даже не верится, что именно ты мне все это говоришь! Ты, Нина! – Лиза смотрела на подругу с удивлением, – Так просто и легко ты приняла бы эти возможные… изменения со мной? Ты?
– Я. Я сейчас стояла тут у твоего окна и думала… – Нина опустила голову. – Нет, прости, не могу произнести вслух. Я тебе потом, в письме напишу, хорошо? Это не о тебе, это обо мне. Помнишь только, тогда, когда я злилась на вас за ту подсказку, ты сказала, что я имею на это право, потому что от себя требую большего? Так вот… – Нина замолчала, не договорив.
– Помню. Ах! Возможно, та подсказка вообще была последней в жизни, – вздохнула Лиза. – Но что, Нина, что? Мы всегда говорим обо мне, а я хоть раз хочу дослушать и тебя. Что ты хотела сказать?
– Да ничего особенного, мой дружочек. Просто, оказалось, у меня нет ответа, как бы я повела себя в подобной ситуации.
– Ниночка, что ты говоришь! – ужаснулась Лиза спокойствию, с каким это было сказано. – Ты что, не можешь убедить родителей, что для тебя это замужество – мука? Неужели они не поймут? Если ты так говоришь, что согласна с первым встречным, лишь бы… Боже, Нина!
– Ты совсем не поняла меня, подружка, – Нина вытерла с лица Лизы остатки слез. – Я ничего не говорила про первого встречного, ты сама придумала. Это все сказки и легенды. Романтика. Ты неисправима, моя Лиза! И еще… – Нина вспомнила о чем-то, поняла, что встретит сейчас новую волну сопротивления и, совсем другим, бодрым тоном, заправляя подруге выбившийся локон за ухо, сказала: – Позволь осмотреть тебя врачу.
– Зачем? – отстранилась Лиза. – Это унизительно! Ты что, не веришь мне на слово?
– Верю, Лиза, – Нина прямо смотрела на подругу. – Это, чтобы успокоить твоего отца. Как бы он ни доверял тебе, сомнения будут мучить его, разжигая чувство вины. Помоги ему.
– Нет. Это противно! – вспылила Лиза.
– Лизонька, – Нина уговаривала ее как ребенка, – ведь как на это посмотреть. Или ты перетерпишь, и врач придет к тебе всего один только разочек, или он станет ходить к твоему отцу, у которого слабое сердце, но уже постоянно.
– Господи! – Лиза снова обняла подругу. – Неужели я действительно такая эгоистка?
– Ты моя самая любимая девочка. Всё? Начинаем жить? – с улыбкой спросила Нина.
– Да! – твердо ответила Лиза. – Ты не представляешь, как я счастлива, что ты у меня есть.
***
Клим сегодня сопровождал до пристани одного докторишку, что отправлялся в Рыбинск на новое место службы, по оказии сопровождая еще и немалый груз медикаментов и иных принадлежностей. Неволин должен был еще днем отследить погрузку фрахта на товарной пристани, что и было им проделано со всей добросовестностью. Представитель лекарского сословия, отличавшийся ленцой и безалаберностью, как успел заметить Клим за время их делового сотрудничества, назначил быть с докладом перед самым его отплытием. Явившись на пристань пассажирскую, Клим гадал, не за те ли самые качества, эскулап нынче и удостоился смены начальства, и что делать, если он по своей беспечности не явится совсем – куда девать сопроводительные бумаги? Но тот явился, хотя и в явном подпитии, с Климом по договоренности расплатился и на палубу взошел.
Клим решил подождать отхода судна – и вечер уж близился, и особых дел у него не предвиделось, и хотелось удостовериться, что подопечный субъект не отстанет в последний момент от борта, вдруг захотев «добавить» на берегу. Хотя это Клима вовсе уже не касалось. Но день оказался удачным, дело сделанным, а вечер обещал быть теплым. Почему бы не побездельничать в свое удовольствие? Клим сел на одну из чугунных чушек и наблюдал знакомую картину проводов. Отправление задерживали. Зная по документам, кому принадлежит данный пароходик, Неволин теперь вглядывался в пассажиров на верхней палубе, пытаясь разгадать, что служит причиной задержки. Это можно было позже обсудить за столом у хозяйки, если все закончится курьезно или благополучно, и, наоборот, утаить от нее, чтобы не расстраивать, если что-то пойдет не так. И тут он заметил ее саму.
Теперь уйти нельзя стало из любопытства. Клим никуда не торопился, поэтому просмотрел все сцены спектакля – и препирательства с капитаном, и прибытие небезызвестного гостя, и поспешное: «Отдать швартовы!» после его восхождения на борт. Ситуацию можно было оценить как пикантную, так как путешествие ожидалось с ночными переходами и не в один день. Но так как сплетником, в прямом понимании этого слова, Клим никогда себя не считал, да и не был, положа руку на сердце, то он глубоко задумался. С одной стороны – это, по сути, повод отчитаться перед доверившимся ему Леврецким. С другой – не пойман, не вор. Ну и что, что отплыли на пару? Проверить в одной ли каюте разместились гость и хозяйка возможности нет, а Корней Степанович, видать, тут действительный сердечный интерес имеет, так как бы не напортить раньше времени. Да еще в любой момент мог появиться и второй соискатель – Офиногенов. Но, хотя его-то щадить у Клима не было никаких внутренних позывов, а все ж едино – что знает один, то надо бы знать обоим. А то, что это он, понимаешь, за вершитель судеб получается! Вот задача-то!
Клим дошел до дому, так и не приняв решения. Войдя, он услышал голоса с кухни и был удивлен, так как они не были детскими. Кому бы это оказаться у них в такую пору? Он наскоро разулся в прихожей и пошел на разговор. Сказать, что он был удивлен – мало, потому что у него за столом потчевался чаем никто иной как, только что в мыслях им упоминаемый Леврецкий! Клим смешался. Стал суетливо здороваться, поглядывая то на разморенного гостя, то на Тасечку, что-то еще выкладывающую в тарелки, хотя лакомств было и так в достатке. При ней обсуждать тему Климова соглядатайства было немыслимо, так что это он зря заметался. Посидели, степенно поговорили. Тася была оживленной, как никогда – а то все одна, да одна. Мило провели вечер. Стаська заснула, Глеб подходил к новому гостю со своими поделками, тот не шпынял его, как большинство сторонних взрослых, а обстоятельно вникал в тонкости творений. Все были довольны.
Но Клим ждал момента, когда придется провожать гостя за порог. Тот обстоятельно прощался с домочадцами, благодарил хозяйку, Климу никаких тайных знаков не подавал. Но ведь приходил же за чем-то?! Ведь сидел – ждал Климова прихода! Клим вышел за гостем на крыльцо и дверку прикрыл за собой.
– Во-ооот.. – протянул он, так и не придумав, что же именно поведать доверителю.
– Вечер-то какой, Климушка! – втянув ноздрями аромат какого-то куста, что пах только по ночам, и блаженно улыбаясь, воскликнул умиротворенный гость. – Что так благоухает божественно рядом с твоим благословенным жилищем?
– Корней Степанович, да ты, никак, тоже в поэты подался? – хихикнул Клим на выспренность фразы. – То каприфоль, скорей всего. Жимолость по-простому.
– Благодать! – гость смотрел в небеса и ничего о деле не спрашивал. – Ну, прощай, Климушка. Пригрелся я у домашнего очага, душу мне порадовало твое семейство. Позволишь на досуге еще зайти?
– Да, Господи, да за ради Бога, всегда рады! – Клим пожал руку разомлевшему Леврецкому. – Только вот… Прости, друг. По твоему делу…
– Ах, да-да! Что по тому делу? Нет никаких новостей? – как-то даже вяло поинтересовался гость.
– Нет никаких новостей, – эхом отозвался Клим, развел руками и тут же принял решение, что отчитается, когда только на руках у него будет хоть один непререкаемый факт.
Так их конфиденциальные переговоры и ограничились этим вечером ботанической темой.
***
На палубе собирались обедать. Вернее, компания за капитанским столиком, меняясь в составе, формировалась здесь еще с завтрака, к которому дисциплинированно вышли всего двое – уговоренный вчера в последний момент на путешествие, упоминаемый уже, издатель и пассажир первого класса Модест Карлович Корндорф, барон. Теперь же, ожидая сбора гостей, за легким вином и неспешной беседой, сидели тут ненадолго оставивший на помощника свой пост капитан, великолепно выспавшийся Сергей и сама хозяйка.
Сергей был свеж, доволен и даже как-то жизнерадостно настроен. Вчерашние волнения остались далеко, речная волна делала их малозначимыми, а, даже временами докучливое, внимание Варвары не шло ни в какое сравнение с деспотизмом сестры или тетки. К тому же, оказалось, что, если лекарства запасено вдоволь, то одно знание этого снижает желание подлечиться, потому что потребности как таковой не ощущалось – Сергей сегодня чувствовал себя абсолютно здоровым. Вчера он увлекся пришедшими в голову рифмами, а после незаметно для себя уснул. А с утра он тоже не взял из ящика ни одного порошка – сначала привыкал к особенностям устройства корабельной жизни, умывался, чистился, приводил себя в порядок – не без помощи стюарда. А после гулял по палубе, знакомился с пассажирами и здоровался с редкими знакомыми.
Путешествие, определенно, начинало ему нравиться, и теперь он, надышавшись речным воздухом, сидел расслабленный, умиротворенный и в пол уха слушал болтовню счастливой Варвары. А окрыленная «муза», кажется, не замечала третьего собеседника вовсе, и порывалась рассказать Сергею всю свою судьбу разом. Уже пройдя период младенчества и потери родительницы, нескольких лет пансиона и скуки в отцовском доме, она дошла до периода взросления и определения жизненных склонностей.
– Вы знаете, Сергей Осипович, ведь мое нынешнее сближение с людьми искусства – это потаенная потребность юности. Я сама, мнилось мне, была исполнена стремлениями выразить свой внутренний взгляд на этот мир, средствами артистическими. Но потребностям не хватило возможностей, – она вздохнула. – Музыкальные способности у меня были самые средние, а когда я попробовала слагать нечто поэтическое, то папенька, назвав это «словоблудием», отбил у меня всякую охоту. Тогда я увлеклась рисованием. Просьба отдать меня на обучение живописи, почему-то показалась отцу крайне смешной, и больше мы к этому не возвращались. Я взяла по случаю несколько уроков у соседки по даче, но лето кончилось, не стало и наших занятий. Отец считал все мои порывы вздором, говоря, что это бессмысленная трата денег и времени, а главное для приличной девицы – это удачный брак.
– Но Ваш брак, действительно, был удачным, не так ли? – спросил Сергей, чтобы показать, что он участвует в беседе.
– Можно сказать и так, – задумчиво произнесла Варвара. – Во всяком случае, к тому времени он был для меня почти освобождением.
– Освобождением от чего, простите? – задал вопрос капитан, который слушал рассказ Варвары гораздо более внимательно, чем тот, кому он предназначался.
– От деспотизма отца, дорогой Константин Викторович. Он стал несносен к концу жизни, – по лицу Варвары проскользнула мимолетная гримаса то ли боли, то ли стыда. Видимо, вспомнив что-то нелицеприятное, она заметила вдруг, что раскрывается перед двумя молодыми и, в общем-то, посторонними мужчинами. Она стала тщательней подбирать слова. – Видите ли, он меня обвинял в том, что возраст, считающийся благоприятным для брака, был упущен.
– Позвольте! – капитан был искренен в своих комплиментах. – Да какой возраст! Вы сейчас цветущая молодая дама, а что уж говорить о тех годах?
– Благодарю Вас, но тем не менее. Я устала от ежедневных попреков, хотя, что же я могла, подумайте? Разве от меня что-то зависело? Он сам отгонял от меня поклонников, с каждым годом их становилось меньше, а папенька все боялся прогадать. Когда он стал подшучивать надо мной при своем давнишнем приятеле, который был вхож в наш дом, сколько я себя помню, то, оставшись с отцом наедине, я, один единственный раз, посмела противиться ему. Попросила не компрометировать меня перед его друзьями. Тогда он накричал на меня, и сказал, что не может быть никакой компрометации перед будущим супругом. И, что другой партии, мне все равно уже не сыскать, что дела у них с Мамочкиным общие, а объединение капиталов упрочит их положение. И, чтоб я вела себя с тем проще. Через полгода состоялось венчание.
– И Вы из одной клетки попали в другую, милая Варвара Михайловна? – спросил капитан.
– Не совсем так, Константин Викторович. Первое время нашей совместной жизни с мужем показалось мне намного радужней, чем заточение в отцовском доме. Мы много ездили, я побывала в столице, супруг не препятствовал моим склонностям. Когда мы переезжали в новый дом, я самонадеянно попросила у него разрешения самостоятельно расписать одну стену в небольшом коридоре. Я была тогда под сильным впечатлением от Рафаэлевых лоджий. Муж позволил, заказал краски и другие необходимые принадлежности. Неделю я была счастлива. Результатом моих усилий стал лазоревый цветок, который казался мне тогда вершиной совершенства, – она замолчала.
– И что с ним случилось потом? – Сергей поддерживал разговор, а сам наслаждался покоем и ветром.
– Потом муж сказал, что даже Рафаэль не мог бы себе позволить работать в таких темпах, отчего, видимо, и привлекал к работам учеников. Он нанял декоратора и тот расписал все пространство целиком за те же семь дней.
– Ваш цветок закрасили? – спросил капитан.
– Нет! – в голосе Варвары послышалась затаенная обида. – Муж запретил ему. Но новая роспись была настолько иного стиля, с четкими контурами, тяжеловесная и агрессивная, что отдавая должное всей ее читаемости общего рисунка и насыщенности колорита, мой цветок казался мне ею «задушенным» и каким-то жалким. Я старалась реже ходить по этому коридору, потому что не могла дать ему воздуха. На этом мои занятия искусствами благополучно закончились, господа! Приветствую Вас, Ваше благородие, – она кивнула подошедшему Корндорфу. – Присаживайтесь, скоро будут подавать.
– Простите, я, кажется, прервал вашу беседу, дорогая хозяйка? – расшаркался барон. – Вы говорили об искусстве?
– Нет-нет, все в порядке. Мы как раз заканчивали.
– А что, капитан, – обратился тогда барон к Константину Викторовичу, – прибудем ли мы в порт назначения с опозданием или Бог и в межень милует?
– Надеемся, что милует, Ваше благородие. Хотя дождик не помешал бы уже,– капитан посмотрел в абсолютно чистое небо, на котором не было ни облачка. – А вот как наши соратники из Твери доберутся? Как думаете, Варвара Михайловна, успеют они в срок?
– Может быть, решат берегом ехать? Уж, как договорено было – вечером сход, после ужин и обратно, не так ли? Я намеревалась завтра к вечеру вернуться домой.
– А если переговоры затянутся? Я ж рейсовый подневольный, Варвара Михайловна. Вы уж тогда замолвите словечко, чтобы мой вопрос в первую очередь разобрали, прошу Вас.
– Да что Вы, Константин Викторович, и я с Вами обратно! Никак иначе. Что там обсуждать да канителиться? За два часика все и обговорим. Вообще не понимаю, зачем надо было это сборище устраивать?
– Кхе-кхе, – кашлянул капитан, – вот и остальные гости пожаловали. Обсудим это позже, дорогая хозяюшка.
К столу подходили давешний издатель и супружеская пара, путешествующая первым классом. Все были в сборе, и капитан кивнул ожидающему в сторонке стюарду – подавать.
***
Нина не поддалась на уговоры и ушла сразу же, как только Лиза нашла в себе силы выйти к близким. Князь ждал ее на улице и, бросив лишь один взгляд на лицо дочери, расплылся в улыбке.
– «Не так страшен черт, как его картинки!», такова, кажется, русская поговорка? Все благополучно?
– Нет, не все, папа, но там все поправимо. Обошлось. И все равно очень больно откликается. Только не говори лишнего отцу Лизы, он очень плох, у него сердце не выдержало. Эх, если б вчера все прояснилось!
– Я очень уважаю Андрея Григорьевича, но… – Отец Нины велел кучеру трогать. – Я потому туда не пошел, дочь, чтоб ничего не знать! И ничего не сказать! Не понимаю, как это можно заболеть от боли? От боли можно только мстить! А уж потом…
– Папа, папа! Кому мстить? Я же сказала, что все обошлось!
– Не знаю, как у русских все это просто – обошлось. Да если б, не дай Бог, моя дочь! Если б с тобой что такое, Нина! Хоть одна слезинка! Да я б нашел виноватого, если б его даже в природе не существовало!
– Да какое «такое», папа? Говорю же, там не было ничего дурного, просто ей стыдно было перед отцом, что без спроса уехала так далеко, а потом ей солнцем голову напекло, так еще и плохо стало. Это со всяким может статься.
– Смотри, Нина! – отец резанул по дочери взглядом. – Смотри, чтоб никакое солнце тебя не обожгло! Я не посмотрю, кто и как, я и до солнца доберусь! Я найду, кого наказать! Как только услышу имя – никто меня не удержит! Не услышу – сам найду!
– О, Господи! – Нина смотрела на отца и со страхом, и с плохо скрываемым восхищением. – Как же мы с тобой похожи, папа! А к поезду мы, конечно, уже не успели?
– Не успели, дочь. Домой, или как скажешь?
– А поехали, папа, пирожные есть? В ту кондитерскую, помнишь? Ты меня маленькую возил…
Они провели этот день вдвоем, чего давно уже не было в их жизни. Переночевали в пустующем особняке последний раз, и утром князь Чиатурия решил, что новых билетов на поезд брать они не станут, а поплывут вместе с вещами и слугами, пусть дольше, но продлив это их случившееся вдруг уединение ото всех. Ведь скоро отцу и дочери придется проститься. Совсем. Другой мужчина будет принимать решения, оберегать жизнь и честь Нины и, может быть, водить ее в кондитерские.
Вечером понедельника они пробирались вдоль вереницы пристаней к своему пароходу. Там, где скорость коляски уже совсем сходила на «нет» – от мельтешащих перед ней грузчиков с тюками и чемоданами, отбывающих с детьми и поклажей, провожающих, встречающих, снующих торговцев – что-то привлекло мимолетно внимание Нины. Князь, который все эти дни постоянно всматривался в лицо уходящей от него дочери, заметил на нем гримасу брезгливости и проследил за направлением ее глаз. По сходням поравнявшегося с ними причала, на берег спускалась шумная компания только что прибывших пассажиров. Княжна смотрела на пару, в которой дама опиралась на локоть «Демона» с вечеринки Мимозовых. Князь ничего не спросил у дочери. Но взгляд этот запомнил.
***
А Лизе было по-прежнему трудно. Это только во время доверительного разговора с подругой показалось, что все разрешимо, поправимо и снова легко. Нет. Оказалось, что утаивая часть правды, нужно всю самую больную ее часть держать при себе – никто не поймет, не пожалеет, даже не выслушает. Нужно было лавировать в разговорах, стараясь не проговориться, избегать опасных тем, воспоминаний, имен. А что будет потом, если она встретит в городе Таню? Или его самого?! Нет-нет! Об этом потом.
Лиза, когда за Ниной закрылась дверь, обернулась к Егоровне, та стояла, затаив дыхание.
– Няня, папа спит?
– Не знаю, доню, – Егоровна решила ничего не спрашивать, чтоб не спугнуть, так хоть разговаривать стала. – Наташа у него. Зайди.
Лиза тихо постучалась и вошла. Наталья Гавриловна сидела на стуле подле кровати и читала какую-то книгу. Отец спал. Увидев Лизу, та беззвучно закрыла томик, положила его на столик возле лекарств и, поднимаясь, указала Лизе на освободившееся место. Они разминулись в дверях. Когда Андрей Григорьевич проснулся, то увидел рядом с собой дочь, она держала его за руку. Так они сидели какое-то время, Лиза не могла найти в себе сил – улыбнуться, а Полетаев – заговорить. Первой нарушила молчание Лиза.
– У нас была Нина, папа. Она мне порассказала много такого, о чем я и помыслить не могла. Все не так, как, видимо, вы все тут думаете, – она старалась говорить, не опуская взгляда, – Но скажи мне, как ты себя чувствуешь? У тебя был приступ? Ты можешь сейчас говорить или отложим?
– Нет-нет, сейчас! Сейчас. Ты так напугала нас, Лизонька.
– Ты тоже напугал нас, папа, – Лиза нежно гладила его пальцы, и это успокаивало Полетаева больше, чем все ее слова.
– Прости, доченька, – слеза, не удержавшись, выкатилась из уголка его глаза. – Когда ты вчера сказала… Там, сказала, что…
– Господи! Да что ж такого я сказала? – искренне испугалась Лиза и подала отцу платок.
– Что ты дурная дочь, – Полетаев захлебнулся всхлипом, Лиза упала щекой ему на грудь. – Это не ты! Это только я во всем виноват! Это я плохой, дурной отец! Прости меня, Лизонька!
– Папа! – Лиза тоже уже плакала. – Я сказала так, потому что подвела тебя. Потому что мне было стыдно – перед тобой, что не спросилась, перед Натальей Гавриловной, которую сорвала с места, перед Егоровной, что она не знала где я. Простите вы меня все!
– Во всем виноват я! Старый дурень! – дыхание Андрея Григорьевича стало прерывистым.
Лиза испугалась.
– Боже мой, папа! Нина мне такого наговорила, я бы сама и не догадалась, о том, как это все может выглядеть со стороны. Во-первых, я не топилась – мне было так жарко, что я хотела лишь умыться. Я вчера в городе встретила знакомых, ты их не знаешь, это бывшая институтка, классом старше нас, и ее семья. Оказалось, они едут в монастырь, по той же дороге, где и Луговое, – самозабвенно врала Лиза Полетаева. – И вот тут, да, я виновата! Я упросила их взять меня с собой. Я думала, что еще до темна обернусь обратно. Хотела только посмотреть усадьбу, а после зайти в Луговое и попросить лошадей. Но вышло так, как вышло. Во-вторых, меня никто не трогал. Папа! Придет наш доктор, скажи ему, я согласна – пусть осматривает меня с ног до головы! Только не умирай, папа!
И тут Лиза уже совсем разрыдалась. На шум вошла Наталья Гавриловна, увидела их плачущими и долго отпаивала различными каплями, разведя по комнатам. Пришел вечером семейный старичок-доктор, но сам осматривать Лизу не стал, а привел на следующий день даму-санитарку, дабы не смущать девицу. Все должны были после этого успокоиться. Через день Полетаев первый раз встал с постели и Наталья Гавриловна благополучно уехала с Павлом в Луговое. Началась, обычная, вроде бы жизнь.
Лиза кое-как, без души, отзанималась во вторник с Аленкой. Та, видимо, чувствуя состояние учительницы, весь день капризничала, поэтому музыки после занятий не было. Также остался неврученным доставленный накануне заяц из игрушечной лавки, заказанный Лизой, которая за этими событиями совершенно забыла про него. Он теперь так и лежал в коробке у Лизы в комнате – оказалось, для того, чтобы дарить подарки, тоже нужен «внутренний свет». Без собственной радости делиться было как бы и нечем, а просто сунуть купленную игрушку ребенку не было настроения. Лиза решила подождать праздника или иного повода. Егоровна ходила в лавки и на базар, готовила обеды, Полетаев просматривал газеты, но… Но все теперь изменилось.
Прежде всего, Лиза стала замечать такие мелочи, которые раньше проходили мимо ее сознания. Выйдя в коридор в тот день, когда у них побывала Нина, она увидела открытой дверь в самую дальнюю от входа комнату, которую до сих пор считала одной из пустующих. Заглянув туда, Лиза увидела вполне обжитое жилище, где были видны несколько вещиц, принадлежащих Наталье Гавриловне. Лиза вспомнила, как она застала замершего перед этой дверью отца, в первые свои дни после возвращения из Института. Припомнилась ей и трость отца, очень похожая на одну из тех, что стоят сейчас у них в прихожей – с головой лошади из слоновой кости вместо рукоятки. Прогулочная, папа любит с ней ходить. Когда Лиза была маленькая, то думала, что лошадь эта взята из шахмат, и что где-то есть доска, на которой невозможно играть, потому что у белых не хватает фигуры. И вот, как бы в подтверждение детских фантазий, той нашлась пара. Такую же трость заметила она и в Луговом, в сенях, когда Наталья собиралась везти Лизу в город.
И еще все чаще стала Лиза замечать, что папа, держа в руках книгу или газету, смотрит мимо строк застывшим взглядом. И что в белках его глаз к вечеру появляются красные прожилки. И про себя она заметила, что прежней радости, которой была пропитана вся ее жизнь с утра до вечера, которая была настолько привычной, что нечего было и внимания на нее обращать, как на фундамент на котором стоит дом, как на паркет по которому ходишь, как на воздух, которым дышишь – теперь этой радости не стало. Она ушла, и нет надежды, что когда-нибудь она вернется обратно.
Нет, ничего не скажешь, время лечит, и день за днем затирал все неприятные воспоминания. С родными все было обговорено в допустимых пределах, восстановлен привычный порядок жизни и отношений. Если говорить образно, то дорога перед Лизой снова была ровной, довольно утоптанной и широкой. Но раньше рядом с ней постоянно как бы катился не то путеводный клубок из сказок, не то колобок, превратившийся в маленькое солнышко и освещавший радостью все ее шаги, что бы с ней ни было. И так было всегда, все годы, что она себя помнила, если не считать тех времен, когда бывало горе, когда не стало бабушки и мамы.
Конечно, с ней и прежде случались и расстройства, и неприятности. Колобок падал в лужи, проваливался в ямки или даже канавы, цеплялся за кочки и коряги, но приходил новый день – Лиза мирилась с подружками, или разъяснялась неловкая ситуация, или прощалась нанесенная по недомыслию обида, и колобок, отряхнувшись, снова бежал впереди и освещал ей путь. А нынче они вместе провалились в какую-то глубокую пропасть. Лизу вытащила Нина, а колобок остался лежать на дне ее – так глубоко, что и света от него не видно. И сможет ли кто-нибудь достать его оттуда хоть когда-нибудь, сказать сейчас было невозможно. По крайней мере, собственных сил Лизы на это не хватало. И ей приходилось идти по серой ровной дороге без улыбок, радостей и света внутри.
***
Татьяна Горбатова, вернувшись домой после того, как Филька передал письмо Полетаевой и утверждал, что выглядит та помятой, но, в общем, целой и невредимой, не на шутку задумалась о себе. Так долго продолжаться не может. Не столь страшно, что сегодняшний день обошелся ей в копеечку, страшно то, что Сергей становится непредсказуем, а, значит, опасен. Что выкинет он в следующий раз? Сейчас у Тани не было нормального, по ее понятиям, гардероба, доступа к финансам и никакой личной свободы. Но, зато, присутствовали – отцовское имя и покровительство тетушки. К тому же, в немалой степени благодаря полученному образованию, она была вхожа в высшее общество города и имела хорошие знакомства. Плюс молодость, свежесть и личное обаяние. Но все это покатится под откос при первом же скандале, где будет упомянута их фамилия. Тетка отвернется сразу же! У отца своих денег – кот наплакал. Надо идти замуж.
Тут же вспоминались сегодняшние слова брата: «Женюсь – все сразу верну!». «Женюсь». Видимо, мысли их шли в схожих направлениях. По всем раскладам выходило, что надо ставить на эту карту, пока положение ее так выигрышно. И фамилию поменять, чтобы уж никак ее не могли связать с братцем, и денежки приобрести, и обеспечить себе некое приволье, выбрав мужа, которым можно было бы, если не вертеть, то хотя бы управлять. Но для этого надо было что-то делать. Танюша не стала дожидаться возвращения Сергея, лишь на судьбу уповая, моля, чтобы в этот раз все обошлось, и на следующее же утро отправилась подлизываться к тетушке.
– Где твой братец, Татьяна? – спросила все еще сердитая за коня Удальцова. – Он что, не ночевал дома?
– Не знаю, дорогая тетушка, – соврала Таня. – Но я бы не удивилась. Для взрослого молодого человека – не ночевать дома, это, кажется, нормальнее, чем ни с кем не встречаться вовсе.
– Что ты говоришь! Ты! Молодая девица! – возмутилась таким вольным допущением в разговоре тетушка.
– Об этом я и хотела поговорить с Вами, ma tante, – Татьяна теперь скромно потупилась. – У меня нет ни матери, ни наставницы. Вы – самая близкая моя родственница, тетя.
– У тебя есть отец! Вы, как будто, все время забываете об этом! – все еще раздраженно отвечала Удальцова.
– Это разговор не для мужчин, – потупилась, изображая смущение Татьяна. – Вы назвали меня молодой девицей, но я же помню, что все мои одноклассницы младше меня. А время так быстро летит! Я хотела говорить о моей женской судьбе, тетя. О выборе спутника, о семье.
– Тебе что, вскружил голову какой-нибудь фат, и я срочно должна отвести тебя под венец? – тетушка напускного целомудрия не замечала, пришлось сменить тактику.
– Я не такая дура! – отвечала ей Татьяна прямо.
Иногда такие выпады бывают самыми действенными. Во всяком случае, тетушке, по роду дел знакомой с различными формами общения, такая прямолинейная грубость, как ни странно, в этом случае, пришлась по нутру. Во всяком случае, она стала прислушиваться к словам племянницы внимательнее.
– И о чем же конкретно тогда разговор? – спросила Удальцова. – По всей вероятности, опять о деньгах?
– Нет! – отвечала Таня, вызвав удивленный подъем бровей у собеседницы. – Не о деньгах. А о больших деньгах! Я прошу Вас, тетя, как женщину деловую и рассудочную, рассматривать вынужденные траты на меня, как на коммерческие вложения. Мне нужно составить приличную партию, но для этого мне необходимо полностью обновить гардероб, делать выезды и приемы, бывать в обществе не только Ваших подруг по средам, но и молодых людей – офицеров, аристократов, неженатых представителей света. Тогда через год Вы избавитесь от обязанности содержать меня. Будем считать это взаимовыгодным предприятием?
– Слава Богу! – тетка откинулась в кресле и рассматривала теперь Таню как вновь увиденную. – Хоть одна, кажется, действительно – не дура!
– И хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что наличие приданого сделает мой выбор гораздо шире! – совсем обнаглела Таня.
– Об этом подумаю позже, – тетка явно что-то прикидывала в уме. – А пока так. Сегодня же напишу твоему отцу. Зная, сколько тот будет искать отговорки, как раз к зиме он должен созреть! Сезон, ты, возможно, проведешь в обществе Москвы или даже Санкт-Петербурга, но представлять тебя в нем должен именно отец. Подумаю, кого можно задействовать из тамошних знакомых, чтобы разузнать обстановку заранее. Второе. Я поеду с тобой туда сама месяца на два раньше – там все и закажем, мода переменится, тратиться на это сейчас глупо. Да и я до окончания Выставки привязана к городу. Но и совсем сбрасывать со счетов нижегородское общество тоже не стоит. Я закажу тебе верховой костюм и пару выходных платьев. И надо тебе, действительно, начинать выезжать. Вот только сейчас лето, все на дачах.
– Велите Сергею сопровождать меня! – взмолилась Таня. – Пусть хоть в театр меня вывозит. Или на пикники, какой был у Мимозовых.
– Скажу. Но, надеюсь, с вашей стороны я могу не опасаться никаких выходок?
– Что Вы, тетя! Я буду слушаться каждого Вашего слова! Вы – ангел, благодарю Вас.
И Таня твердо решила, что ради всего этого стоит потерпеть, и полгода побыть примерной девочкой.
***
А в это время о «примерной девочке» вспоминали там, где этого можно было меньше всего ожидать. И разговор, начинавшийся почти невинно, вскоре зашел в такие кущи, что негоже в приличном обществе и упоминать. Началось все с того, что после обеда с капитаном, Сергей остался на палубе со своей трубкой. Спросив разрешения, к нему вскоре присоединился барон, все остальные разошлись – кто по месту службы, кто на отдых по каютам.
– Позволите составить Вам компанию, молодой человек? – спросил Корндорф у Сергея, уже усаживаясь в соседний с ним шезлонг.
– Пожалуйте, – не смог отказать Сергей новому знакомому из уважения к соединившему их обществу и преклонному возрасту собеседника. – Если Вас не смущает дым, милости прошу.
– Что Вы, молодой человек! Может ли вызывать отторжение запах благородного табака! Изысканность благовоний, таинство звуков и ритмов, магия ритуальных событий. Как многообразна зрелость! Эх, я и сам когда-то… – барон нарисовал в воздухе замысловатый вензель, видимо, долженствующий олицетворять его бывшие проделки и безумства. – Да-аааа. А нынче уж мало удовольствий посильно бренному телу. А о молодости, что говорить – ей доступно и подвластно все! Вы сейчас считаете, что по-другому и быть не может. Я знаю! Да и как можно сомневаться в этом, когда ночной ветер треплет кудри, вселенная распростерта перед тобой, а на ее авансцене под звон бубна пляшет молодая дева!
– Простите, мы с Вами раньше не встречались? – изумился Сергей так точно угаданной картине.
– А-ааа! – погрозил барон пальцем, прищурившись. – Сознайтесь, и Вы посчитали сейчас Модеста Карловича колдуном, молодой человек?
– Я привык думать, что мы живем в реальном мире, сударь. Двойные сущности, фантастические проявления – это уж как-то совсем по-Гофмановски, – засмеялся Сергей. – А что, многие считают?
– Кто говорит – «колдун», кто называет «волшебником», – задумчиво продолжал барон.
А Сергей подумал, что тот, скорее, смахивает на гнома-перестарка.
– Самому мне более импонирует понятие «маг», – продолжал рассуждения вслух представитель мистических миров. – В нем стержнем проходит возможность могущества. Состоятельности. «Я могу!» – вот какой девиз высек бы я на своем гербе!
– Да Вы – романтик! – Сергей гадал теперь, к чему ведет этот странный старикашка.
– Так вот, ближе к существу дела, – как бы прочитав мысли собеседника, свернул рассказ о себе любимом барон. – Мы не знакомы, и раньше видел Вас только я. Да-да! В ту ночь я был среди зрителей, наблюдавших созданный Вами образ Демона. И рукоплескал, поверьте!
– Благодарю! – Сергей обозначил легкий поклон. – Но какими судьбами Вас туда занесло? А! Наверно Вы сопровождали кого-то из своих детей?
– Детей я не имею, молодой человек. Да и вас там, как мне помнится, сопровождала дама, которая ни Вам, ни Вашей сестре родительницей не доводится?
– Вы и про сестру знаете? – приподняв брови, удивленно смотрел на барона Горбатов.
– Я знаю про вас всё! – продолжал мистифицировать Модест Карлович. – Тетка, ее состояние, отец видит только государеву службу, дети от него далеко, у вас с сестрой нет ничего собственного.
– Да как Вы смеете! – вскочил на ноги Сергей.
– Ах, как вспыльчива юность! – перешел на распевный тон Корндорф. – Вы совсем такой же, как отпрыск моей покойной сестры. Именно его опекуном я обязан состоять еще почти полгода до его совершеннолетия! Но, Вы! Вы, как мне кажется, старше? И должны были уже научиться выдержке и терпению, молодой человек. Особенно, в разговорах с представителями моего поколения…
– Я не намерен продолжать беседу в таких тонах с представителем любого поколения! – Сергей стоял теперь перед бароном, опершись спиной на фальшборт. – Обсуждение чужих финансов недопустимо в благородном обществе!
– Почему же, позвольте Вас спросить? – спросил барон с ехидством. – Для обсуждения подобных вопросов созданы целые сообщества и институции! Весь мир только и делает, что обсуждает чужие финансы в надежде сделать их своими.
– Что Вы хотите этим сказать? – немного утих Сергей.
– Присядьте, молодой человек. Не нависайте над стариком. Я хочу Вам не только кое-что сказать, но и предложить. Разговор не на одну минуту, – барон искоса посмотрел на Сергея. – Куда нам торопиться? Путешествие по водной глади располагает к беседе неспешной. Не так ли?
Сергей опустился обратно в шезлонг и стал вновь набивать трубку.
– Поделитесь со мной! Каковы Ваши воззрения на сей презренный предмет? – Корндорф продолжал говорить загадками.
– Вы имеете в виду деньги, сударь? – усмехнулся Сергей.
– Я думаю, более уместным в нашей беседе будет обращение ко мне «Ваше благородие», молодой человек.
– Тогда того же я потребую и от Вас! – Сергей не давал барону откусить палец, положенный ему в рот. – Я тоже дворянин!
– Тогда это разговор равных? – не сдавался старикан. – Тем лучше, милостивый государь мой. Тем лучше. Оставим тогда в покое благородство и перейдем к предметам, как бы это сказать, от него несколько – или даже весьма – удаленных. Смею ли я спросить о широте допустимых пределов Ваших моралистических взглядов? Как мне кажется, право на этот вопрос дает мне само Ваше пребывание в этой поездке?
– На что Вы намекаете?! – снова взбесился Сергей.
– Я намекаю на явный интерес нашей хозяйки к Вам, и на ваше проживание с ней, кхе-кхе, в соседних каютах, – барон чуть понизил голос, якобы, чтобы соблюсти тайну.
– Пойдите прочь! Как Вы смеете! – Сергей снова попытался встать.
– Если Вы будете так бурно реагировать на каждое мое слово, молодой человек, то мы никогда не дойдем до сути, – невозмутимо продолжал барон. – Скажите, а Ваша сестра, какого придерживается, кхе-кхе, мировоззрения, так сказать? Насколько она невинна?
Сергей даже не вспылил на этот раз. Он просто стоял и молча смотрел на барона, искренне считая, что ослышался.
***
Савва вызвал Леву запиской, приглашая навестить его не дома, а в павильоне. Лева подумал, было, что надо что-то починить или подправить и, отпросившись со службы на целый день, явился к другу, готовый к работе. Он застал Савву в главном зале, за спинами посетителей, прислонившимся к стене и со взглядом тоскливым. «Ох, только не это!» – подумал Лева, подозревая знакомый напев: «А переделай-ка мне тут…». И вначале, действительно, было на то похоже, но Лева решил молчать до последнего, не подсказывая и не поддаваясь. Савва, увидев друга, молча поприветствовал его, потом обвел рукой раскинувшуюся перед ними картину – толпа завороженных зрителей наблюдала паровой двигатель в действии – как бы ею и объясняя свою разочарованность. Потом молча махнул этой же рукой, и так же молча, жестом пригласил пройти в техническую часть павильона. Тут им стало не так громко слышно уханье турбины, а за закрытой дверью Саввиного кабинета и вовсе наступила тишина.
– Может зря я Полетаева в свой павильон зазвал? – невпопад затосковал Савва. – Выставлялся бы себе в Кустарном отделе, как все. Его б там заметнее было. А, Левушка?
– Уж куда, как заметней! – Лева решил встряхнуть поникшего друга и выяснить все-таки истинную причину страданий. – Подобное среди подобного, кто ж запомнит! Ваше Товарищество там и так упомянуто, да кто ж ему там столько места выделил бы, чтоб все направления показать в цвете? Пол зала! А что ему там дали выставить? Два ножичка, да три замочка? Не нагнетай, Савва, скажи лучше, что случилось?
– Так прилетел он тут из своего Лугового, аж, светится весь! – если бы Лева не знал своего друга наизусть, то мог бы подумать, что в том сейчас говорит зависть. – Все, говорит, новое у меня там! Хочу, говорит, образцы на витрине менять, это уже устарело все!
– Ну, и? – не понимал Лева. – Что плохого-то? Все меняется, все развивается. Только порадоваться остается! Что ты в тоску-то впал?
– А вот и впал! – Савва вышел, наконец, из своей туманной задумчивости. – Опять дерзишь, Левка! А что ж не впасть-то?! Все меняется. Все развивается. Один я со своими старыми кастрюлями. Вон пыхтит, аж, стыдно перед людьми! Все, все менять надо!
– Тьфу ты! – в сердцах не выдержал Лева. – Ты меня не пугай так, друг сердечный. Кто там тебя в стыд вогнал? Вот те посетители, что открыв рот сейчас твои действующие экспонаты глядят? Которые на производственный поток ты только два года как наладил? Это старье, Савва? Ты, прости, но по моему разумению, выставки и призваны показать достигнутое. Не завтрашний день. Вчерашний! То, что уже состоялось! Тебе эта Выставка столько славы наработает, что c этим-то багажом потом и развивайся, сколь хочешь, себе на здоровье. Что ты сейчас-то мечешься? «От добра – добра не ищут»… Слыхал, может, народную мудрость?!
– Ох, Левушка, как не слышать: «От корма кони не рыщут…» Да, кормилица она! Это я так, с тоски. А жаловаться грех, это ты прав, прав… Все мои постоянные партнеры, у кого летом срок – все договора возобновили, продлили. Кто еще и больше заказал, чем всегда. Да трое новых за ними пришли. То-то еще по осени станется!
– Так что за тоска-то? – Борцов подошел к окошку.
– Да не поймешь! – Савва тер лоб, к другу не оборачиваясь.
– Дома что? – осторожно спросил Лева.
– Да дома-то все как раз, слава Богу. Февронии получшало, надо ее в Москву везти. Девочки уже так соскучились!
– Ну, вот и займись семейными хлопотами, – размеренно говорил Лев Александрович напряженной спине друга. – И я, может, тоже с вами выберусь – разом все там и переделаем. А о производствах забудь пока, там же тоже все у тебя ладно? Тихо? В Петербурге, говорят, в этом году тревожно было… В смысле рабочих.
– Да нет, у нас тут спокойно, Левушка, – вскинулся Савва. – Да моим-то и чего требовать? По сравнению с иными, так они как сыр в масле. И «почистили» хорошо город от этой заразы перед Выставкой, сам знаю.
– Ну, и поезжай спокойно в Москву, – Лева обошел стол и стоял теперь перед ним, не понимая толком, окончен разговор или нет.
– Не пойму я себя, – Савва скривил лицо в болезненной гримасе. – На душе как-то муторно…
– А ты не поддавайся, раз явного повода нет! – Лева уже прикидывал в уме, как выкроить время для поездки в Москву, оставлять друга одного в таком раздрае ему не хотелось. – А что твои другие дела? Партнеры? Товарищество, как понимаю, процветает? А остальные ваши пайщики? Как сам Андрей Григорьевич?
– Да вроде везде ладно, а как предчувствие какое, – потер грудь в районе сердца Савва. – А Полетаев, действительно, уже несколько дней не появлялся. Спрашивали его тут, по Товариществу-то тоже кое-какие договоры возобновлять пора, их же он подписывать должен. Да ничего, время терпит. К четвергу, думаю, объявится!
***
– А! Я догадался! – Сергей осторожно улыбнулся барону, продолжая странный разговор на палубе. – Вы из тех пациентов тихих клиник, которых во времена примерного поведения отпускают побыть среди общества? Так, видимо, настало время сообщить тем, кто над вами надзирает, что уже пора возвращаться?
– Не ерничайте, молодой человек! – барон, прикрыв глаза, подставлял лицо жаркому солнцу. – Я надеюсь еще на долгие дружеские отношения с Вами, а при благоприятном стечении обстоятельств – и на сотрудничество.
– Вы пошлый, стареющий сатир! – Сергей уже не скрывал своей брезгливости к собеседнику. – Вы позволили намекать мне на роль сутенера при собственной сестре? Идите Вы к дьяволу! Или я вынужден буду позвать стюардов.
– Нет, молодой человек! – барон был абсолютно спокоен. – То, что Вы до сих пор никого не привлекли к нашей, так сказать, интимной беседе, а Ваш покорный слуга остается невредим по эту самую минуту, а не плещется где-то в волнах далеко за кормой – все это подтверждает то, что я в Вас не ошибся. И я не сатир. Я – волшебник! Я – исполнитель желаний. Я – маг! Я многое могу.
– Вы – сумасшедший! – Сергей разглядывал мерзопакостного субъекта теперь с каким-то даже болезненным любопытством.
– Так вот, в непорочности одной благородной девицы, не станем лишний раз упоминать ее имени, я уверен практически абсолютно. И Вы зря вспылили, предполагая мои сомнения в этом. Это условие даже является желательным в моих намерениях, – продолжал свои гнусности старый гном.
– Да замолчите же Вы когда-нибудь! – уже совсем озлобился такой бесцеремонностью Горбатов, все глубже проникаясь пониманием того, что они находятся в замкнутом пространстве, и что до прибытия ему придется находиться в непосредственной близости от этого мерзейшего совратителя. Либо нужно было уже прямо сейчас предпринимать те самые действия, коими он грозил паскуднику, но на которые ни сил, ни желания в себе не чувствовал. Не вызывать же старикашку, в самом деле, на дуэль? Хоть в каюте запирайся! Тьфу, гадость какая! Вот принесла же его нелегкая!
– А невинность меня интересовала лишь только в плане мировоззренческом! – не сбивался с темы барон. – Я очень тщательно готовлюсь к подобным разговорам, господин любезный, и хочу, чтобы от меня слышали именно то, что я говорю. Вы, молодой человек, совсем не умеете слушать. Вы уже записали меня и в личные враги, и в растлители, а, тем не менее, я сам ничего подобного до сего момента не произнес, а все эти непотребности творятся исключительно в Вашем, собственном, воображении. Возразите мне, если я не прав!
Сергей только фыркнул, сам удивляясь тому, почему он до сих пор не ушел отсюда.
– Вот так-то лучше, молодой человек. А теперь послушайте старика внимательно. Если бы речь шла о забавах известного толка, то для чего мне было обращаться к Вам? Привлекать к этому неопытную девицу, да еще через посредничество? Да, что скрывать, мы все знаем, что бывают любители-первопроходцы, хотя гораздо чаще встречаются люди, знающие толк в таких увеселениях и ищущие опыта. Случаются и ценители остренького… Да! Но на любого покупателя найдется товар. Есть бездна профессионалок, весьма умелых и сговорчивых. И существует масса беднейших родителей, которые за счастье почтут за счет одной своей созревшей дочери обеспечить пропитание всем остальным детям. Причем тут Вы? И при чем тут я?
– Тогда я вовсе не понимаю Ваших намеков! – Сергей снова уселся рядом с бароном.
– А, тем не менее, я битый час пытаюсь донести до Вас сущность моей миссии. Я – исполнитель желаний. Сказочник, если угодно. Именно попадание в сказку я дарю немногим избранным.
– Что это за избранные? – Сергей покосился на Корндорфа с недоверием. – И причем тут мы с сестрой?
– Представьте себе, молодой человек, что существует некий узкий круг лиц, чьи способности к, так называемой плотской любви, по каким-то причинам угасли, или утрачены. Но душевных-то стремлений не унять! И вот один волшебник…
– Волшебник – это Вы? – скептически уточнил Горбатов.
– Ах! – барон закатил глаза к небу. – Пусть это будет некто, чья воля и фантазия призваны служить страждущим. Так вот, этот маг создает некий клуб, так сказать, по интересу, и, перемещая его участников по различным воссозданным узнаваемым обстоятельствам, погружает их в мир сказочный, мир нереальный, в котором только они и могут насладиться подобием былых восторгов. Этот мир наполнен своими правилами и устоями, своими предметами и ценностями. Сложней всего, молодой человек, дается придумать нового персонажа, кто удовлетворял бы всем их потребностям. Вот тот праздник, на котором мы оба с Вами побывали тогда, дал мне пищу почти готовую к употреблению! Да что там – пищу! Готовое блюдо, только подавай. Но, как всегда возникла масса препятствий и нестыковок.
– Вы имеете в виду моего Демона? – удивленно спросил Сергей.
– Да ну, что Вы, окститесь! – барон уже весь был в своем воображаемом мире. – Я говорю о Мертвой Царевне.
И тут до Сергея стало доходить.
– И Вы предлагаете?..
– Я предлагаю повторить выступление Вашей сестры! Только для меньшего количества зрителей.
– Но почему не пригласить на эту роль, как Вы говорите, профессионалку?
– Приглашали, молодой человек. Дважды. Нет желаемого эффекта! Первый раз была звана именно, что актриса, именно что на роль. Но так оказалась любопытна! Все время подглядывала, расплывалась в ухмылке, да еще дергалась вся от прикосновений. Фи! Никакой выдержки и достоверности.
– Так все-таки прикосновения предусмотрены? – уточнил Сергей.
– Самого невинного толка, Сергей Осипович! Непорочность после сеансов я гарантирую, я даже не посмел бы предлагать иное.
– Так почему все-таки Вы прочите это мне?
– Слушайте дальше, голубчик. Решили пригласить в клуб представительницу того самого рода занятий, что в это-то вечер как раз и не требовались, так знаете, нет никакого доверия – валяется этакая размалеванная кукла, ничего царственного, ничего тайного. А тут одно сознание того, что перед ними лежит тело девственное, истинно дворянского происхождения, да еще такой фактуры! Мы за такие билетики сотенки по полторы сможем загнуть. А то и по две!
– Так Вы сии «представления» собираетесь на финансовой основе распространять? – уже не возмущаясь, заинтересованно спросил Сергей.
– А как же! Это непременно! – Модест Карлович уже потирал ладошки. – Члены клуба конечно, и так платят взносы, но это на расходы общие. Так, например, уже заказан венец самоцветный. Платье пошьем, когда с обладательницей фигуры будем иметь твердую договоренность. Гроб опять-таки! Хрустальный. Уже готов. А сами персональные вечера оплачиваются приглашенными на них гостями отдельно. Плюс жребий.
– Что за жребий?
– Видите ли, по сценарию…
– Как! Существует некий сценарий? Это что, действительно просто домашний спектакль? – Сергей даже рассмеялся над собой внутренне, такого он нагородил в уме, а тут всего-то.
– Не совсем так, молодой человек, – унял его прыть Корндорф. – За что бы тогда такие денежки платить? Суть собрания такова, что как бы братья-богатыри прощаются с как бы внезапно умершей сестрой-царевной и берут на память о ней некие предметы. Те каждый раз закупаются вновь – кольцо, браслеты, туфельки…
– Надеюсь туфелька – это самый интимный предмет из вашего «жребия»?
– Как скажете, дорогой мой! Как скажете. Но, если кто-то из гостей пожелает, например, подвязку с ноги, я не думаю, что это станет большим препятствием? За отдельную плату, конечно!
– И сколько Вы предполагали в оплату услуг мне и сестре? – Сергей подсчитал в уме, и цифра получилась очень вкусная.
– Я не знаю, как Вы станете делить сумму между собой, а я договариваюсь с Вами, молодой человек. Вам в руки и буду отдавать гонорар. Двести рубликов за вечер для начала, как Вам?
– Да это грабеж! Семь человек по полторы сотни и все это делим на три части, две из них – наши с сестрой.
– Ха-ха-ха! Вот Вы уже и торгуетесь, молодой человек, – заливался искуситель. – Никак невозможно. И не семь, а шесть. Ваш покорный слуга всегда является одним из действующих лиц, чтобы следить за обстановкой изнутри, так сказать. И, посудите сами – из этой суммы я плачу за апартаменты, за перевозку антуража, за иные накладные расходы. Это все сразу съедает не менее полутысячи. Остальное, согласен – делим. Но только пополам! Все риски и организация – на мне. И еще, скажу честно, меня бы очень устроило, если мое участие в этих затеях осталось для Вашей сестрицы вообще сокрытым. Дамы, знаете ли, бывают болтливы.
– А как же сохранить ее собственное renommée ? Вдруг кто-то из членов клуба встретится нам позже в обществе? Может быть маска на лицо?
– Не желательно! – скривился барон. – Полумрак, колеблющийся огонь свечей, измененная прическа. Я думаю, и так вероятность узнавания ничтожно мала. Дело в том, что в масках будут сами гости. Вы знаете, не все члены клуба знакомы даже между собой, чаще только через меня. Да не бойтесь, голубчик! Ее просто не посмеют узнать. Если б Вы знали, каких вершин общественного положения достигают некоторые наши гости, Вы бы постеснялись этих страхов. Гораздо опасней, если Ваша сестра узнает кого-нибудь из них. Так что – оплата включает в себя и обязательство молчания. А Вы, я надеюсь, будете исполнять исключительно функцию сопровождения, и встречаться с гостями не сможете. Полная тайна!
– Так значит, от нас требуется… – Сергей вовсе забыл, что полчаса назад собирался стреляться с гномом.
– От Вас – привезти сестру на указанный адрес за два часа до начала, – перечислял бес пункты договора. – От нее – облачиться в царское и, лежа, успокоить дыхание, а после, не открывая глаз, молча вытерпеть время сеанса до конца, изображая мертвую. Подумайте! Всего-то! И всегда свои средства в своем же кошельке. Не ходить, не кланяться тетушке. Хотя бы – на булавки!
– Я подумаю! – ответил Сергей, а гном довольно ухмыльнулся, понимая, что уже заключил выгодную сделку.
***
Надо было ехать на Выставку. Настал четверг и оба они, и отец, и дочь, пребывая каждый в своем собственном душевном разладе как бы ждали, что другой возьмет на себя исполнение должностной обязанности по встрече посетителей. Но никто так и не решился ни вызваться сам, ни отказаться вслух. В среду вечером принесли записку от Мимозова к Лизиному отцу, и все решилось само собой. Нужно было ехать ему, так как объявились постоянные заказчики. Лиза осталась дома.
Когда Полетаев прибыл в павильон, секретарь Саввы встретил его у входа и доложил, что прибывшие гости ожидают его в кабинете. Полетаев зашел, вместе они пробыли на удивление мало, гости вскоре откланялись. Савва, на время уступивший свое служебное место для переговоров, удивленно проводил ничего не сказавшего ему Андрея Григорьевича взглядом – тот молча проследовал в свой зал ожидать группу экскурсантов.
Полетаев вместе с разрозненными посетителями бродил среди собственных экспонатов, разглядывал их, иногда останавливался почитать таблички над стендами. Савва, наблюдавший за ним из соседнего зала, покачал головой и ушел внутрь служебных помещений. Постепенно собралась группа, и Полетаев начал свое привычное перед ней выступление. Сегодня он как-то особенно вглядывался в эти лица, как бы желая удостовериться в том, что их привел сюда собственный интерес, а не какие-то иные мотивы. Он искал то единственное лицо, которому именно что хочется рассказать о своих достижениях, как научила его Лиза. Ранее он о таком приеме не знал, и говорил, глядя над головами, или переместив свое внимание на тот предмет, о котором в это время шел его рассказ.
Теперь он видел лица. Любопытные. Серьезные. Скучающие. Насмешливые. Равнодушные. Разные, всегда разные. И, как бы параллельно с теми словами, что он знал уже почти наизусть и говорил, почти не задумываясь, внутри него стал звучать свой, неслышный никому, монолог. «Что я могу дать им? Таким разным и живущим своей жизнью? Они пришли сюда, кто случайно, кто за компанию. Да, наверно есть тут персоны и искренне заинтересованные. Но! Всего час – и они забудут думать обо мне, забудут об этих предметах, в которых заключена целая жизнь. Жизнь Наташи, Антона, их сыновей. Всех тех, кто за эти годы прошел через мастерские! Рабочих и хирургов, гравировщиков и кузнецов, крестьян и морских офицеров, акушерок и извозчиков, инженеров и конструкторов. Моя, черт возьми, жизнь! Вот стоит девочка. Как она похожа на мою Лизу! Что ей до тех замков и кинжалов? Что ей до температуры плавления и твердости стали? Одно грубое слово, и вся жизнь ее полетит под откос. Один злой человек на пути – и этой жизни вовсе может не стать. И счастье, если рядом с ней есть тот, кто может ее защитить. Кто защитил мою девочку? Разве я? Нет! Только случай. Только ангелы да воля Божья. Ах, Лена, Лена! А я обещал тебе, что на меня можно положиться. Ах, я, грешник. Нет мне прощения!»
Не дойдя и до середины экспозиции, Полетаев положил указку на стекло витрины, произнес: «Спасибо за внимание, господа и дамы», – и вышел из зала. Он постучался в кабинет Саввы, зашел и, взяв оставленные здесь шляпу и трость, не присаживаясь, спросил:
– Савва Борисович! А, если не секрет, скажи – ты на дочку старшую никогда не думал оформить банковский счет? Ты же все законы знаешь, что нужно сделать, чтобы она могла сама снимать суммы, когда надо, и вообще, распоряжаться?
– К чему это тебе, Андрей Григорьевич? – приподнял свои мохнатые брови Савва. – А! Хочешь приданое Лизе прикопить? Так давно пора! Я уж лет пять, как на каждую по именному счету открыл, даже на Шурку. По мере возможности добавляю. Арине с Аглаей, конечно, в первую очередь, им раньше жизнь начинать. Ты об этом?
– И они могут эти деньги сейчас использовать? – Полетаев явно что-то прикидывал в уме.
– Да что ты, нет, конечно, – Мимозов покачал головой. – До совершеннолетия они лишь частично дееспособны. Так что все равно нужен либо опекун, либо поручитель. Какой тебе смысл с одного счета на другой перекидывать, если речь о сегодняшнем дне идет? Пока замуж не выйдут, или двадцать один год не исполнится, все только под твоим надзором можно. Да так и есть! Или не пойму я тебя?
– А если меня не будет? – спросил, глядя прямо в глаза партнеру, Полетаев.
– Ты это прекрати, друг мой любезный, – Савва припомнил вдруг все свои предчувствия. – Что за мысли у тебя? Что-то произошло у вас?
– Нет-нет, Савва. Все хорошо, ты не так понял. Если я далеко буду, то, как Лизе хозяйство-то самой вести? Может можно через банк распоряжение сделать, чтобы некую сумму каждый месяц выплачивать ей на руки? Если поручителя спросят, ты согласишься?
– Да я всегда к твоему семейству со всем своим расположением, Андрей! – Савва все никак не мог понять намерений компаньона. – А далеко ли ты собрался? Если в свое Луговое, то хоть на все лето езжай! Что ж банк-то сюда впутывать! Я Лизе, сколь надо давать буду, после сочтемся.
– Не то, не то, Савва Борисович. А если на дольше?
– Куда ж на дольше-то? – Савва совсем опешил. – Или куда на службу позвали? Что-то так быстро ты сегодня переговоры кончил? Что порешили? Скажешь сейчас, или уж до собрания Товарищества повременим? Контракт возобновили и все, или что еще предложили?
– Не предлагали ничего. Нет, – Полетаев вертел в руках шляпу. – Да и чего собрания-то ждать? Тебе сейчас скажу. И контракта никакого вовсе нет, Савва Борисович. Сказали, что повременят до конца Выставки, если решат – новый тогда заключат, а этот продлевать не станут. Я, было, скидки хотел предложить, так представитель сразу пресек, сказав, что полномочий торговаться не имеет, а только предупредить послан, что поступления с будущего месяца прекратятся. Собрание-то внеочередное созывать будем? Или до осени подождем? Я бы, Савва, совсем от дел отошел и свою долю хоть сегодня на тебя переписал, да на мне долгов столько, что не смею. А уехать мне надо.
– Ты! От дел бы отошел? Нет, что-то происходит у вас, я чую! – Савва ответа не дождался, долго вглядывался в напарника и уже спокойным тоном продолжил: – Да какое собрание, Бог с тобой. Езжай спокойно. Я сам на днях в Москву собираюсь. Подумаешь, один клиент отвалился! Разве это повод? Даже и не думай, и внимания не обращай. Это рутина.
Полетаев вышел из павильона, сел в пролетку и велел Кузьме:
– В банк!
***
Принесли записку и Лизе. Жизнь не прекращала своего течения, ей дела не было до полетаевских переживаний и желаний уединиться, разбираясь в своей душе. У жизни были свои расчеты, события, резоны. Писала Лида Оленина. Просила зайти на следующий день к вечеру по адресу, что приложила к записке – она собиралась завтра уходить из Института домой, потому что в субботу приезжали ее домашние. Напомнила она Лизе и об обещании в помощи по уборке и просила дать знать – рассчитывать на ее няню, или самой что организовывать? Егоровна тут же отправилась к женщине, что приходила к ним убираться, и, вернувшись, сообщила, что у той завтрашний день оказался свободен, и они обе готовы к работе. Лиза написала подружке ответ, и в нем предложила забрать ее от ворот, и уже вместе поехать к ее дому, назначила время.
Вернулся отец, они сели ужинать и Лиза все время ловила на себе его короткие взгляды. Как будто он жалел ее. Или прощался. Но, так как в последнее время, говорить они стали между собой совсем мало, то спросить Лиза не решилась. А «поймать» ни один из его взглядов не получилось, отец тут же отводил глаза. Так же перестали они обмениваться и планами на следующий день. Почти в полном молчании проходили теперь все трапезы, которые от этого стали и короче, и безрадостней. Но Лиза только вздыхала, а говорить настроения так и не приходило. Полетаев молчал. Егоровна гремела посудой. День кончался.
Утром Лиза нашла на столе в столовой конверт со своим именем и недоуменно посмотрела на Егоровну, узнав почерк.
– Что ты на меня-то смотришь, доню? – Егоровна водрузила на стол самовар. – Все молчите и молчите между собой. Вот и докатились, письма теперь писать друг дружке станете. Он-то спозаранку уже укатил куда-то!
Конверт был от отца. Лиза заглянула внутрь и увидела небольшую записку и ключик. С удивлением прочла: «Милая Лиза! Прости своего нерадивого отца. Так мало уделял я внимания Богу, что, видимо, решил Он мне о себе Сам напомнить. Спасибо, что не наказать. Забыл я свой долг, не смог тебе стать опорой и защитой, все Его милостью только. Не знаю, как и наверстывать. Если Он решит покарать, то пусть только меня одного, а тебя не тронет и по-прежнему хранит. Храни тебя Господь, девочка моя! Ключ этот от секретера, ты знаешь какого. Там деньги на первое время. Как кончатся – обратись к Савве Борисовичу. Хозяйствуй сама, меня не ищите».
Лиза прошла в отцовский кабинет, отперла секретер и увидела пухлое портмоне, до отказа набитое мелкими купюрами, которые, видимо, специально так разменяли для удобства. Она пересчитала – там было ровно две тысячи рублей. Как бы ни была Лиза неопытна в ведении хозяйства, она понимала, что такие деньги не могут «кончиться» ни за два, ни за три месяца. Сердце захолонуло. Она побежала на кухню, к Егоровне. Прочитав вслух письмо, не называя сумму, но сообщив сам факт об оставленных на хозяйство деньгах, Лиза ждала ее вердикта.
– Ох, вот оно аукнулось, – няня опустилась на низкую скамеечку, на которой всегда чистила картошку и другие овощи. – Видать защемило душу-то благодетелю нашему. Да только куда ж ему податься-то? Обожди, доню. Вот Кузьма возвернется, все обскажет, что, где и как. Небось, к Наталье под крыло снова улетел, грехи-то замаливать. Куда ж он от своих ножичков да замочков далеко денется? Тоже ведь – долг. Хотя, уж если от тебя убёг, то и не знаю, что думать. Пусть как есть идет, обождем. Не мальчик, чай. Не затеряется.
– Няня! – Лиза от возмущения, аж всплеснула руками. – Как это не затеряется? Он, что, вот так, ничего не сказав, ушел из дому?
– Не он первый, – вроде как безадресный укор бросила няня, перебирая картофелины в корзине, но Лиза тот час же покраснела.
– Боже мой! Это папа меня так наказывает, да? Что ж мне еще-то надо сделать, чтобы вы все меня простили?! – и Лиза разрыдалась.
– Поплачь. Покричи. А то, как неживая ходишь! – у Егоровны самой покраснели глаза. – Ох, намучилась я с вами!
– Няня! Что мне делать? – спросила Лиза совсем по-детски.
– А и не скажу я тебе ничего нового, доню, – Егоровна утерлась уголком фартука. – Делай, что должно, а там видно будет.
Лиза пошла в Большой дом и через силу отзанималась с Аленкой, потом вернулась во флигель. Так как Кузьма все еще не появился, то надо было выйти из дому пораньше, чтобы взять извозчика. Лиза глубоко вздохнула и стала приводить себя в порядок, чтобы ехать в Институт за Лидой.
***
Забрав подругу, Лиза смогла поговорить с ней только по пути, узнав свежие новости об Институте, о Леночке. А потом весь вечер чувствовала себя неприкаянной и лишней. Женщина, что пришла наводить порядок вместе с Егоровной, постоянно обращалась с вопросами к молодой хозяйке – где что лежит, кому какое белье стелить, в чем кипятить воду. Егоровна была у нее на подхвате. Лида распоряжалась и носила нужные вещи с этажа на этаж, во двор, бегала в лавку. Лиза пыталась помогать, но ей ничего не давали делать: «Не барское это занятие, не мешайся, доню». Разговора не получалось, Лида тут же убегала снова. Лиза измучилась, ожидая окончания этого муторного дня, чтобы вместе с Егоровной поехать домой.
– Завтра встречу своих, но… В первый день, знаешь же как, Лиза? – Лида была не похожа на себя институтскую, совсем другая дома, может просто растерянная от нового своего положения. – Пока все распакуются, пока устроим Петю. В баню пойдем, наверно. А вот в воскресенье приходи. К обеду! Вы нам так помогаете, спасибо – и тебе, и няне твоей. Я б одна совсем растерялась… Я и города-то совсем не помню, и цен не знаю, и как что вообще. Мама тоже тебе благодарна будет, приходи. Сему помянем, в среду сорок дней было. С братом поближе познакомишься, с мамой. Прости, что сегодня так суетно все.
Лиза обещала прийти. На следующий день она осталась во флигеле надолго одна, Егоровна ушла на базар. Лиза села за пианино в людской и начала разбирать этюд, к которому давно не решалась подступиться. Поняв, что, на удивление, у нее все получается с первого раза, решила отложить вовремя, чтобы не сглазить и не заиграть. Стала «для себя» наигрывать знакомые сто лет вещи. Но то начла – бросила, это не пошло… А! Вот, что ей нужно сейчас!
Когда Егоровна отперла снаружи дверь, то поняла, что весь дом наполнен громкими фортепианными звуками. Лиза часто поигрывала и до этого, но такой силы и напора исполнения никогда не позволяла себе, если кто-то бывал в доме, а до сих пор так было практически всегда. Музыка была тревожной, волнующей и как будто сметающей на своем пути все невидимые преграды. Мятежной! Егоровна застыла с кошелками в прихожей, чтобы не вспугнуть. Пусть себе – выплеснет все, что накопилось, а то, сколько ж так можно! Музыка оборвалась, видимо, Лиза все-таки услышала звук открывающейся двери.
– Ты давно здесь, няня? – спросила она застигнутую врасплох Егоровну.
– Да только вошла, доню. Заслушалась! Ах, как хорошо ты играла. В церкву-то пойдем сейчас, собралась ты? – без перехода сменила она тему.
– Почему сегодня-то? – удивилась Лиза, хитрый ход Егоровны удался. – Может, как всегда, в воскресенье? С утра, до гостей? Я успею.
– Ох, перепутала я все, старая! – закудахтала няня, перетаскивая поклажу в кухню. – Конечно, конечно завтра! Сегодня делай, что хочешь, дитятко.
А «дитятко» вовсе не могло придумать себе занятия в опустевшем доме. В город ехать было немыслимо после тех ее, еще не забытых, прогулок. Да и незачем. Намаявшись от безделья, Лиза достала припрятанный с пикника журнал и до темноты читала неоконченный роман – раньше все ждала, что, может, найдется, где продолжение. А утром в воскресенье в церкви молилась истово, как давеча играла – на разрыв. Потом вспомнила маму, и как та ее учила – если уж принесла страсти к Богу, то тут, наоборот, утихни, да старайся приводить все к спокойствию и пониманию. Стала мысленно проговаривать слова своей мольбы более осознанно, даже для себя точнее выражая свои взывания ко всевышнему. А чего, собственно, она просит? Чего хочет? «Чтобы было, как раньше!» – совсем по-детски сложилось желание у нее в голове. И снова вспомнилась мама, их самые первые походы на службу с маленькой Лизой. Уже тогда мама объясняла ей, что «как было когда-то» боженька не поймет, не услышит, потому что считает, что все это уже прожито, пройдено с его помощью, кончилось. Что нынче все вовсе другое! Что даже если хочешь похожего на то, что было прежде, то скажи чего именно из того времени тебе надо, не полного же повторения всего сразу, а так, чтобы было ясно – того-то и того-то. И Лиза стала думать.
«Чтобы дома было хорошо, все снова были вместе». Но вот позавчера же еще были все вместе, разве было хорошо? Уже нет. «Чтобы дома был мир и понимание, радость, спокойствие, чтобы все были довольны». Будет она довольна, если папа вернется? Да, конечно! Но, если он будет дома, но как всю эту неделю, снова будет при каждом случае всматриваться в нее с болью и страхом, то нет! Мало того, чтобы просто вернулся. Довольной она сможет стать, только, если глаза отца снова будут молодыми и сияющими. Счастливыми! А для этого, получается, счастливой должна быть она сама, иначе никак.
Но это же невозможно, невозможно, невозможно! О, Господи! Или все-таки есть какая-то надежда? Ну, не может же быть, чтобы вот так на всю жизнь? Сергей… Нет, «он». Лиза даже в мыслях не могла вспоминать его имя, так было больно. А вдруг, она что-нибудь неверно поняла? Что, если он тоже страдает сейчас, но не смеет пойти на сближение? Может быть, если поговорить, встретиться вновь? Но, нет! Она не сможет даже взглянуть ему в глаза. Еще и то письмо! Там все сказано так однозначно. Какое уж тут «счастье»…
А когда она последний раз видела счастливым отца? Да, верно, вот, когда он из Лугового вернулся. Тогда, может не только она может быть залогом его счастья? Спокойствия – да! Но она больше и не выйдет из дома никуда! Да-да! Не выйдет. Лиза ничего не хочет для себя, только душевного спокойствия папе и няне. А счастья, может, ему даст что иное – мастерские, успех? Да, вот это. «Пусть у папы наладятся дела!» Ну, вот вроде так. И еще! «Пусть найдется, наконец, Митя». Лиза подумала еще. «И пусть у Нины все сложится так, чтобы ее душа была довольна и согласна. Пусть она будет счастлива!»
***
Лида провела первую свою самостоятельную, взрослую ночь в родимом доме одна. Долго не могла уснуть, вспоминала. Сначала припомнила старое – как маленькими детьми жили они тут все дружно, как братья опекали ее, как не боялась она ни одного чужого мальчишки, ей стоило только свистнуть – все в округе знали, чья она сестра. Свистеть дочь полковника научилась с раннего детства, все-таки росла с мальчиками. Вспомнила, как родилась потом Леночка. Как не стало папеньки. Как трудно ей самой было первое время в Институте. Там девочки делились на группки, а она долго не могла ни с кем сойтись близко – у тех, кто принадлежал к высшим слоям общества отношение, к таким как Лида, было снисходительным, а принимать его она, выросшая в дружной большой семье, не умела вовсе. А из девочек «попроще» никак дружба ни с кем не завязывалась.
Вспоминала, как позже, когда они все повзрослели, поумнели и во многом сравнялись, стала она много разговаривать с Лизой Полетаевой, как им стало интересно вместе, как они учились помогать друг другу, ничем не ущемляя ни гордости, ни заслуг друг друга. Как потом к их «кружку» присоединилась Нино Чиатурия. Представительница высших кругов аристократии, девочка с волевым характером и вполне уже к тому времени сформировавшимися взглядами перфекционистки, она была сильна и сама по себе. Но, объединившись втроем, они, такие разные, но в чем-то неуловимо схожие – в душевных устремлениях, в чистоте помыслов, в предрасположенности к самопознанию и развитию – они дополнили друг друга и стали чем-то единым. Поэтому очень тяжело для каждой из них давалось расставание и разрушение этой целостности. Теперь приходилось узнавать себя заново и учиться жить и принимать решения, не всегда имея возможность опереться на подруг. Странно, Лида вовсе не могла сейчас вспомнить их обеих в младших классах. Вспомнила про сестренку. Как она там, теперь одна, без нее?
Старый дом напоминал о себе забытыми звуками, поскрипывал половицами, пугал несуществующими шагами на первом пустующем этаже. Лида заснула только под утро, думая как бы не проспать. Она хотела еще успеть приготовить какую-нибудь еду до встречи поезда. У нее оставалась часть тех денег, что субсидировали ей однокашницы, да и maman заплатила ей небольшое жалование за тот месяц, что она выполняла обязанности воспитателя. Хотя готовить Лида умела только в пределах той программы, что давали им в Институте по домоводству. Предмет излагался поверхностно, так как считалось, что дамам света эта часть женских проявлений вряд ли сможет пригодиться.
Лида Оленина приехала на вокзал заблаговременно, встав утром легко, и, на удивление, чувствуя себя отдохнувшей и свежей. Решила купить только молока и хлеба и ничего более не делать заранее. Приедут домашние – решат все вместе, может, сегодня они пообедают в кухмистерской или трактире. Мама скажет.
Стоя на платформе, она опасливо косилась на топтавшегося неподалеку долговязого детину простоватой внешности. Лида вовсе не знала, как вести себя с навязчивыми кавалерами, а ей показалось, что преследует этот персонаж именно ее. Она первый раз столкнулась с ним еще на площади, сходя с извозчика – он задел ее, вроде бы случайно, не заметив, на бегу, и чуть не отдавив ей ногу. Мельком извинившись, он умчался вперед, но пару раз оглянувшись, сбавил свой темп движения. Потом они потерялись в вокзальной толпе. Разобравшись в хитросплетении переходов, Лида нашла нужное ей направление и тут второй раз увидела возвышающийся над головами уже знакомый картуз. Узнав у вокзального смотрителя, где будет остановка нужного ей вагона, она, через пару минут ожидания в указанном месте, снова заметила длинную фигуру, и теперь та маячила постоянно рядом.
Но вот раздался гудок, и показались клубы пара. Прибыл поезд. Из вагона постепенно спустились все пассажиры, и лишь в конце она увидела маму. Та еще сильней поседела, но выглядела энергично и давала кому-то распоряжения вглубь тамбура. Со ступенек ловко соскочил пропущенный ею вперед незнакомый молодой человек, он подал Олениной руку, а после они вдвоем помогли спуститься плохо еще двигающемуся Петру. Его Лида узнала с трудом! Похудевший, осунувшийся и с каким-то странным выражением глаз, брат показался ей не только резко повзрослевшим, а чуть ли не постаревшим. От былого круглолицего весельчака и простака Петруши осталась лишь неясные воспоминания.
Тут полковница заметила встречающую их дочь и, распахнула навстречу ей руки, желая подойти и обнять Лиду, но наперерез кинулся давешний долговяз в картузе и бесцеремонно вклинился меж ними.
– Госпожа Оленина? Мне Вас точно описали, Вы да двое сопровождающих. Ну! Привезли? – и он вопросительно уставился на полковницу.
– Господи, да кто Вы, молодой человек? Что «привезли»? Почему Вы кидаетесь на людей? Алексей, Алексей, разберитесь, голубчик.
– Что Вам угодно? – спросил у картуза молодой человек, помогавший Олениной выйти из вагона. – А! Вы, видимо, Кириевский, как я понимаю?
– Кириевских! Простите, в суете не представился, – долговязый явно пребывал в нетерпении, но стянул с головы картуз в знак приветствия и теперь мял его в руках. – Кириевских Игнат. Игнат Федорович. У мадам для меня должна быть посылка.
– Да, да, дорогой Игнат Федорович. Но не все сразу, – у Алексея были такие глаза, будто он каждую минуту собирался заплакать. – Повремените, как багаж получим.
– Алешенька, что за посылка? – недоуменно спросила Лидина мать.
«Получим», «Алешенька» – с удивлением услышала Лида, – Так он вместе с моими что ли? Знакомый, или так – попутчик?» – Она все-таки решила сама подойти к матери и они, наконец-то, обнялись.
– Так как же, Ольга Ивановна! – продолжал объяснения полковнице большеглазый Алешенька. – Подарок к свадьбе. Помните, просили доставить?
– Ах, это! – мать отстранила от себя Лиду, чтобы лучше рассмотреть, как та изменилась за месяц. – Ничего себе «посылочка», да там целый ящик! Познакомьтесь, Алексей, это моя старшая дочь. Лидия.
После началась вокзальная суета. Лиду оставили с Петрушей, и, пока получался и грузился на ломовика багаж, брат с сестрой беседовали, как бы заново узнавая друг друга.
– Петенька, ну ты как?– осторожно спросила Лида.
– С божьей помощью, сестренка, с божьей помощью! Ты-то как? Я ж тебя с осени не видел. Взрослая. Барышня.
– А я еще не поняла, Петь! – с облегчением ответила Лида, не заметив в речи брата ничего из того, чего боялась после писем матери – ни явной душевной смуты, ни помрачения разума. – Я же только вчера из Института. Только ночь без вас дома была. А кто это с вами?
– Алексей! Божий человек. Спаситель мой, брат теперь кровный. Ты полюби его, Лидушка! Когда-то его, еще там, в Москве, к нам на фатеру селить не хотели, а я настоял, пожалел неприкаянного. Он и на курсе все один, да один мыкался. А мне его тогда, оказывается, ангелы за руку привели, так-то вот.
– Так это тот самый Семиглазов? – Лида аж всплеснула руками. – С собой привезли! Молодцы какие. А я все его мужеством восхищалась, как мамины письма читала. Представляла его совсем другим. А он такой… Мелкий. Щупленький. Совсем не геройской наружности. А глазищи, это да!
– Да уговорили! На старую-то фатеру никто из нас не вернулся. Не смог. – Петр вздохнул. – Он так с нами и ютился после больнички, там, где маменька поселилась. А как ехать нам сюда уж время было, так она и говорит – пока лето, да учебы нет, давайте с нами, Алексей, у нас дом большой. Он и согласился. В первом этаже его поселим.
– Ох, мне сегодня ночью чудилось, что там кто-то ходит, – по секрету, как бывало в детстве, поделилась с братом Лида.
– Думаешь, душа Семкина не угомонилась? – напрямую спросил ее Петр.
– Ох, я не знаю! – перекрестилась Лида. – Я решила, что показалось мне.
– Ничего, сестренка. Я уже почти целый. Вот еще малость поправлюсь, отмолю Семку. И себя, и всех. Сто земных поклонов бить стану! На коленях до заступницы доползу! – взгляд брата стал неистовым и темным, Лида никогда прежде не видела таких глаз у него и испугалась.
– Да ладно тебе, братец. Как Бог сил даст, – она решила от греха переменить тему. – А встречал вас кто? Вот этот длинный? Он что, жених?
– Да не знаю он сам жених, или кто из дружков его. Это с Семкиного курса один знакомец на поминках попросил, как узнал, что мы поездом в Нижний поедем. Переправить подарок к свадьбе, вроде как сервиз какой. Не смогли мы его однокашнику в просьбе отказать, все равно багажом многое пришлось везти. Я же, сестренка, насовсем домой вернулся. Так-то. Со всеми пожитками. Кончилась моя учеба. Баста!
– Может быть, ты еще передумаешь? – Лида была очень удивлена. – Ведь в университет столько сил вложено, столько лет?
Петр посмотрел на нее долгим вдумчивым взглядом и ничего не ответил.
***
У Лизы продолжалась жизнь самостоятельная. Егоровна, попривыкнув к отсутствию хозяина, взяла, что называется, волю. Да Лиза и не возражала, обходились они мирно. Днем, собравшись к Олениным, Лиза принарядилась, ведь она была звана в гости. Увидев ее, Егоровна, не прекращая затеянного дела, оценивающе глядела из проема дверей кухни, пока Лиза обувалась.
– Что не так, няня? – Лиза раздражалась, чувствуя себя под этим взглядом неуютно, а, зная Егоровну, понимала, что взгляд этот неспроста и той есть, что еще и сказать.
– Да так, все так, доню, – и Егоровна оттопырив нижнюю губу, продолжала начищать мелом серебряную ложку.
– Ну, не так, я ж вижу, – Лиза распрямилась и спрашивала уже без вызова в голосе. – Ну, смотри, ты же на пол сыпешь.
– Ты, дитенок, вроде мудрая девочка у нас. Добрая. Ты ж была у них в доме, – мел сыпался на паркет в коридоре, а няня вроде как того не замечала.
– Ну, была, и к чему ты это? – непонимающе ответила Лиза.
– К тому, что ты ж видала, как они живут. Какое у них бельишко. Какие шторки.
– Господи, шторки-то их причем? – Лиза подошла к няне ближе. – Егоровна, милая, ну не воспитывай меня сейчас. Скажи прямо, я в догадки играть нынче не настроена, правда.
– У тебя вон – чулочки кружевные. Простых что ли нет? – кивнула няня Лизе на ноги.
– Есть, но они же на каждый день. А сейчас гости, – Лиза смутно начинала догадываться.
– И платье, чуть не шелк! Ты б еще незабудки свои надела!
– Няня! – Лиза снова прикусила губу, это уже становилось ее новой привычкой. – Ты хочешь сказать, что надо одеться проще?
– Самое простенькое, что есть, надень, доню. Оно так лучше будет.
Лиза побежала переодеваться.
У Олениных было шумно. Хоть повод был трагическим, а сборище оказалось неожиданно юным, а потому горластым и звонким. Всего две женщины пришли возраста Лидиной матери, остальные, кто собрались – молодежь. Одеты все были не то что просто, а многие бедно. Видимо, это были студенты, такие же, как Петр и Семен. Лиза, увидев других гостей, няню, в которой раз, в мыслях, поблагодарила. Даже ее «самое простенькое» летнее платье казалось здесь неуместным вызовом – и ткань, и фасон, и отделка. Лиза пообещала себе, что первое, что она сделает на неделе, это пойдет к модистке. Из оставленных отцом денег она возьмет только самую необходимую сумму, но ей нужен костюм для экскурсий и какое-нибудь совсем простое одеяние, чтобы не отличаться от Лидиных приятелей. Ведь после отъезда Нины, они теперь самые близкие подруги остались, и Лиза надеялась видеться с ней часто.
За столом все перезнакомились. Приехавший из Москвы вместе с Олениными Алексей Семиглазов смотрел на Лизу с таким восхищением, что она даже засмущалась.
– Алексей, Вы на мне дыру прожжете своими глазищами! – смеялась она.
За столом пили красное вино, но Лиза, помня о ярмарочных похождениях, даже глядеть на него не могла и пила квас, но, кажется, захмелела просто так, за компанию со всеми. После первых слов о погибшем сыне и брате, помянув его как положено, разговор стал более оживленным, да и молодость брала свое. Поздравили Лиду с окончанием Института и с медалью, пожелали всего-всего и ей, и Лизе. Все делились впечатлениями – кто от дороги, кто от Выставки, кто от учебы в других городах.
В разгар застолья в дом пришел вчерашний долговязый «жених». Лизе поведали его историю с посылкой, которую накануне он так и не смог получить – у багажного вагона железнодорожные служащие, не предупрежденные заранее, погрузили все числящееся по квитанции имущество на заказанного ломовика гуртом. Ящик Игната Федоровича оказался в самом низу, и разбирать всю поклажу, конечно, не стали.
– Вам прямо нынче необходимо? – горевал Семиглазов вместе с незадачливым получателем. – Свадьба-то сегодня или завтра? А то приходите по адресу, как распакуемся.
– Не могу дольше ждать, у меня собрание через час, – отказался Кириевских.
– Собрание? – не понял Алеша. – Мальчишник, что ли?
– А! – только невнятно махнул рукой то ли жених, то ли нет.
– Тогда завтра, милости просим в любой час, – пригласила его Ольга Ивановна. – Жаль, но мы не знали, что Вы будете встречать нас на вокзале, нас не предупредили. Простите, что так получилось.
– Ничего! – Кириевских погладил свой ящик ладонью и даже улыбнулся впервые. – Полгода ждали, еще денек обождем!
И вот он образовался на пороге, упираясь макушкой в притолоку. Гости, обрадовавшись поводу, высыпали во двор. Игнат Федорович явно этого не ожидал, и все пытался какими-то знаками объясниться с Семиглазовым, коего уже посчитал тут главным ответственным за свою посылку. Вещи все еще вчера разобрали с повозки, и ящик стоял теперь в сарае.
– Вот! – отпер дверь Алеша. – Забирайте. Тяжеленький сервиз, хочу я Вам сказать, милостивый государь. Аж, тряслись все над ним, чтобы не побить. А ну, вспомогни, ребята. Да аккуратненько!
Гости дружно вытащили ящик во двор.
– Да Вы с ума сошли! – шепотом кричал на Алексея Кириевских. – Вы еще громче орите, на всю улицу! Еще околоточного пригласите, пока сам не догадался.
Алеша опешил. Эти слова услышала только Лиза, оказавшаяся рядом, остальные крутились подле ящика.
– А как же Вы один понесете такую громадину? – спросила она у Игната. Тот почесал в затылке.
– А и славный ящик! – нахваливал Алексей и переглядывался с Лизой, не поняв слов про околоточного. – Уж, не знаю, какая ценность внутри, а мне сама тара глянется! То-то будка для пса вышла бы. Ах, как я хочу собаку, друзья мои! Здоровенную. Волкодава. Ну, или хоть какую. Да я, знаете ли, ни дня с детства в собственном доме не жил, все по родственникам, да по чужим углам. Эх, если б мне свое жилище! А у вас такой двор, Петро, что можно было бы завести.
– Нечистое животное – собака! – нахмурился Петруша. – Благодати Божьей помехой стать может. А, если в дом забежит, то его святить будет надобно. Не держим мы собак. Никогда!
– Как же, Петруша? – изумилась таким словам сестра. – А Боцман, помнишь? Папенька даже на охоту его брал. А после еще Плутон был.
– Да что Вы, Петр! – подхватила одна из гостий. – Почитай, в каждом дворе по псу живет. Что ж тут нечистого? С ними спокойней – охрана.
– Да, заводи, Алексей, я не против, – Петр вдруг опомнился, что говорит со своим спасителем.
– Так хотите, я Вам ящик уступлю? – Кириевских все еще был в растерянности, он не подумал о габаритах послания, так был увлечен тем, чтобы его получить.
– Взаправду? – прищурился Алексей. – За так?
– За так. Берите. Он мне не нужен.
– А ну, сестренка, где у нас топор? – спросил Петруша, собираясь сорвать крышку, пока владелец не передумал, тот побледнел.
– Что с Вами? – спросила, заметившая это Лида.
– Да, что-то, знаете, во рту пересохло, – хрипло отвечал долговязый.
– Ну, так пройдемте к столу! – Лида стала приглашать всех обратно. – Вы же сегодня не спешите, я правильно понимаю? Посидите с нами, а после все и заберете, как уходить станете. Может, кому по дороге, так и поднести помогут, а? – все вокруг согласно закивали головами.
Вечер прошел просто замечательно, душевно, только что без танцев – все-таки поминки. Отлучившись в уборную, Лиза случайно увидела, как уходил Кириевских. В ящике не оказалось никакого сервиза, а была только плоская большая коробка, но судя по тому, как гость согнулся под ее тяжестью, довольно весомая. Лиза удивилась, но спрашивать ничего не стала. «Наверно, я неправильно поняла. Не сервиз, а столовые приборы там. Но сколько ж их? И не понятно, зачем было упаковывать небьющиеся предметы в такое количество соломы!» Ящик был больше коробки во много раз.
Расходились в сумерках. С хозяевами Лиза договорилась встретиться в четверг на Выставке. Ее не пустили одну на улицу, Семиглазов сбегал и пригнал извозчика прямо к калитке. Уезжая, Лиза обернулась и махала рукой новым приятелям – те всей гурьбой шли провожать остальных барышень по домам пешком. Уже отъехав, она услышала, как компания, удаляясь, затянула песню.
***
Кузьма вернулся только после трех дней отсутствия, в понедельник к вечеру. Всегда невозмутимый, даже он сейчас казался растерянным. Егоровна начала допрашивать его прямо во дворе.
– Ну!
– Не запрягай, Егоровна, дай распрячься. Иди в дом, я сам к вам зайду, и к тебе, и к барышне.
– Да, ладно, хоть скажи как там, в Луговом? Наталья его успокоила хоть немного? А то сам не свой уезжал благодетель-то наш. Письма, вон, дома писать взялся, вроде как не в себе. И девка мается.
– Не были мы в Луговом. Вовсе не были, даже не заезжали. – Кузьма повел лошадь к стойлу. – Иди, Егоровна, дай отдышаться.
Егоровна поплелась в дом. Сказать, что она была ошарашена ответом Кузьмы, этого мало. Она практически была уверена, что растерявшийся от непривычной для него ситуации с дочерью, не зная как вернуть душевное равновесие, благодетель ее мог поехать только в одно место! В Луговое. К Наталье, от которой всегда возвращался умиротворенным. Куда ему еще было податься, она не могла даже ума приложить.
Но вот Кузьма почистился, переоделся и пришел в господский дом с докладом. Он долго вытирал до блеска начищенные сапоги в прихожей и все не решался пройти дальше – он тут частым гостем не был. Лиза сказала няне:
– Егоровна, подай чаю. Кузьма Иванович, проходите в столовую.
– Нет-нет, барышня! Как можно. Я тут уж. Да давайте я прямо тут обскажу все по-быстрому и пойду! К себе.
– Ну, так я просила тебя по-быстрому, змей! – шипела на него няня. – Взбаламутил ребенка, а теперь «по-быстрому»! Давай уж теперь обстоятельно, голубь ты наш! Иди в кухню, там накрою, раз так!
– Да, няня, давай на кухне, – Лиза приглашающе показала на ближайшую дверь и Кузьма, расшаркиваясь, проследовал вперед.
– Ну, не томи! – взмолилась Егоровна, когда все расселись, а она взялась раздувать самовар.
– Ну, значит, едем мы, едем, как всегда, он все в думах своих. А как к мосту сворачивать уже, так он как очнулся. Езжай главной дорогой, говорит. Я: «Куда ж?», а он: «Езжай!». Вот.
– Что «вот», змей окаянный! Где он? Ты ж душу всю из нас вымотал! – Егоровна хлопнулась на табуретку рядом с Кузьмой и бубнила ему почти в самое ухо, пристально буравя его взглядом.
– Вы угощайтесь, Кузьма Иванович, – Лиза пододвинула ему поближе варенье в вазочке на высокой ноге.
Кузьма с благодарностью кивнул, но хрупкого сооружения коснуться не рискнул, а стал обстоятельно переливать чай из чашки в блюдце. Егоровна в сердцах плюнула, встала из-за стола и начала греметь посудой, как она это умела. Кузьма громко прихлебывал. У Лизы по щеке потекла слезинка. Кузьма Иванович, заметив это, чуть не выронил блюдце и со звоном поставил его на стол.
– Ну вот! Что наделал, окаянный! – воскликнула Егоровна, тыча скомканной тряпкой чуть не в лицо плачущей Лизе. – Добился своего? Довел дитятко до слез! «Ты», да «мы», да «он»! Где благодетель? Почему один возвернулся, без него? Где столько дней носило? А ну, отвечай, чаи он тут распивает!
– Барышня! Да Вы что! – Кузьма уж не рад был своему визиту, надо было все там, во дворе няньке рассказать, да и вся недолга, а то, вот же, мучение. – Елизавета Андреевна! Да живой он, здоровый. Домик сухой, чистый ему достался. Все путем там.
– Какой домик? – с ужасом спросила Лиза и посмотрела беспомощно на няню.
– Кузьма, ей-богу! – пригрозила Егоровна и на лице у нее нарисовалась готовность к решительным действиям, а терпение стерлось почти окончательно.
– Да я ж и говорю! – Кузьма забыл про чай и стал рассказывать довольно понятно и последовательно. – Приехали – монастырь. А рядом деревенька. Там дом гостиный. Остановились, осмотрелись. Барин пошел внутрь, службу стоять. Вечером – снова! Переночевали. Наутро – и я с ним. Я там, днем-то, пока он поклоны бил, кой с кем поговорил, расспросил. И гостей, таких же, как мы, и пару черненьких выловил. Ничего, помолчат, помолчат, да и отвечают.
– «Черненькие» – это кто? – спросила всхлипывающая до сих пор Лиза.
– Монахи, барышня. Там разные. Черные, это те, которые при монастыре служат. Есть еще и другие. Те в скиту. Они в сером, но к ним не подступись, все там их знают. Молчат! И вообще, мало кого внутрь скита пущают, только, если старцы велят. Старцев нынче осталось двое. Один совсем на ладан дышит, уж больно старенький. А другой – покрепче. Но к нему мало кто идет, говорят, больно лют.
– Так что папа? – снова спросила Лиза.
– Так вот и говорю. Думал, помолится барин раз, два, да и домой. Ан, нет! Он все приглядываться стал, что и как там устроено. На другой день мне так и говорит – езжай, мол, домой, а я тут сам уж управлюсь. Я: «Как так! Не поеду взад один! Дождусь тебя, барин!». А он: «Не жди, я насовсем сюда!». Во как.
– Как насовсем? – Лиза все смотрела на няню, как будто Кузьма говорил по-басурмански, а та была переводчиком.
– Что такое «насовсем», сдурел ты что ли? – растерянно и уже совсем без прежнего напора переспросила Егоровна, начиная понимать, что, видимо, все это взаправду.
– Там, если через перелесочек пройти, то, сначала как бы ничейная земля, а после еще один монастырь за монастырем стоит – скит называется. Строго все. Внутрь только по слову старца пускают. Кто из страждущих паломников побогаче, тот жертвует. А кто победнее, то милостью тех, кто богаче довольствуются. Охотно жертвуют, помногу. Отмаливают. Перед заборчиком скита домики стоят, на те пожертвования там квартируют и кормятся. Живи, пока старец не созреет для разговора. Но, кто того приема ожидает, те уж за ограду большого монастыря более не выходят. Одна престарелая полковница, говорят, третий год там сидит! Все не допущает ее старец. Вот грехов-то насобирала, бедная.
– Третий год? – Лиза прикусила губу.
– Старцы-то принимают лишь того, кто к разговору с ними готов будет. А как о том прознать, то только они сами ведают. При нас примчался один барин, молодой совсем, так служка на него только глянул, да сразу побежал своему докладывать. Через час приняли. Тот весь слезьми умылся, как выходил от старца. Это от того, который добрый. Старенький. А тот, что строгий – тоже, не смотри, что к нему меньше народу ездит. Он тоже может и неделю, и месяц до себя не допускать. А как же! Нагрешил – жди. Раз сам разобраться не можешь. Вот на второй день комната в таком домике освободилась, так наш в нее и переехал, а мне уж туда ходу нет, велел домой.
– Да какие ж такие грехи тяжкие у благодетеля-то нашего, что к старцам на поклон? – Егоровна всплеснула руками.
– Да вот жеж! – Кузьма утер пот со лба, то ли от чаю, то ли от натуги. – Всю дорогу барин-то про себя приговаривал: «Грешник я, отмаливать теперь стану. Не сдержал слово, не сберег, не защитил…» А я спрашиваю: «Кого ты, барин, защищать собрался, чай, не война?» А он только вздыхает.
Лиза с Егоровной переглянулись. Лиза закрыла глаза и застыла, а Егоровна, поняв, о чем речь, вздохнула:
– Вот они все сразу-то и сошлись клином.
– Кто они, няня? – Лиза чувствовала, что слезы у нее кончились, а внутри разливается холод.
– Да отговорки его: «Вы уж сами, вы уж без меня…» Говорила, давай сходим в церкву? Постоишь. Попросишь. Покаешься. И иди себе живи снова. Все «потом», все «после»! – она спокойно налила чаю и себе. – Разве ж боженьке так нужно – то ничего, то на тебе полный воз!
– Все хорошо в меру! – народная мудрость пришлась, как нельзя, кстати, Кузьма и вставил ее с достоинством и степенностью, и снова налил себе чай в блюдце.
– Надежда да вера – добрая мера! – в тон ему отвечала пословицей и Егоровна.
Лизе сказать было нечего.
***
Стася разбила перед обедом свою любимую чашку – снизу та была нежно голубая, с переходом в белый и опоясывали ее бордовые розочки. Теперь голубые черепки были рассыпаны по полу, а сестра ревела во весь голос. Мама с полчаса, как ушла на двор. Глеб не знал, как успокоить Стаську, та свою чашку действительно любила, пила молоко только из нее. Еще в первое лето их житья у дядечки, тот принес им всем с ярмарки подарки – ему чайную пару, сестре эту чашку с волнистым дном, а маменьке замечательную фарфоровую фигурку, где ребенок в синей рубахе ласкал кошку. Глеб с радостью забрал бы фигурку себе, но мама даже в те времена, когда еще не выздоровела после смерти папеньки, начинала улыбаться, когда ей показывали фарфоровую умильную сценку, и фигурка по праву считалась ее собственностью. Свой же подарок Глеб, поблагодарив дядечку, тогда еще убрал в буфет, решив, что он же не девчонка, чтобы пить из чашки с картинками.
Сегодня сбереженный подарок пригодился. Глеб достал ярко-красную чашечку и издалека показал сестре. Рыдания стихли, и Стаська заинтересованно подошла ближе.
– Вытри руки, они у тебя все в масле, а то и эту уронишь! – сказал Глеб сестренке.
Та послушно побежала на кухню и насухо вытерла ладошки маминым полотенцем.
– Дай! – тянула она свои чистые ручки к брату.
– На, держи, – и он протянул новое сокровище сестре.
На красном фоне, по которому светились золотом разбросанные листья, было оставлено окошко, в котором художник нарисовал целую сценку – девушка в старинном голубом одеянии и в кокошнике, с двумя своими подружками, заглядывалась на стоящих вдалеке добрых молодцев, в красивых одеждах и с саблями. Стася крепко схватила подарок обеими ручками и завороженно разглядывала картинку, но нижняя губа все еще оставалась надутой. Тогда из-за спины, как фокусник, Глеб достал блюдце. На нем девица в белом шарфе убегала от кавалера в красном кафтане. Улыбка расплылась по личику сестры, но рук у девочки не хватало, чтобы забрать все богатство себе разом.
– Пойди, поставь на стол! – счастливо засмеялся брат, видя такое ее восхищение, и ему отдавать свое не было жалко вовсе.
Со двора зашла Тася, неся что-то в подоле. Тут же у нее за спиной раздался стук в калитку. Она высыпала на стол несколько светло-зеленых огурчиков и, чуть не поскользнувшись на черепках, снова выбежала за дверь. Глеб прошел на кухню, взял веник и стал заметать осколки. Тася вернулась вместе с гостем. Леврецкий в этот раз специально «заглянул на огонек» в разгар дня, рассчитав, что Клима не должно быть дома. Хозяйка сразу предложила чаю, а то и отобедать с ними. Он попросился «просто посидеть», Тася достала большую миску, схватила огромный кувшин, чтобы налить воды, но гость отобрал и сделал все сам. Тася смеялась заливистым смехом, Стася вторила ей, а Глеб предвкушал, как они все вместе сейчас сядут за стол, жаль, что дядечки нету. И думал, что давно не видел свою мать такой быстрой, радостной и молодой.
Тася купала в миске огурчики и приговаривала.
– Надо же! Только июль начинается, а уже урожай, смотрите! Как Вы кстати пришли сегодня, Корней Степанович. Пробуйте, пробуйте! Глебушка и ты бери, на здоровье, да на силу! Помнишь, как бабушка с тобой маленьким присказку учила, когда первый раз в году что-то пробуешь?
– Новая новизна в рот,
Здоровье в живот,
Заячьи бега,
Да медвежья сила! – продекламировал Глеб, хрустя огурцом.
– Сладкие! – похвалил Леврецкий угощенье.
– Это что! – сияла довольная хозяйка. – Вы приходите чаще, сейчас все начнет созревать, я вас еще вареньем свежим угощать стану, как время придет. Теперь до самой осени дел будет!
– Да вот, Таисья Михайловна, боюсь, что по осени-то я к вам, дорогие мои, ходить уж и не смогу, – задумчиво протянул гость.
– Что так? – Тася на глазах сникла, расстроилась, так она уже привыкла к этим визитам, которые стали для нее неким личным стимулом – удивить, угостить.
– Наследство, Таисья Михайловна. Недвижимость в том числе. Надо ехать принимать. Да владеть, – с глубоким вздохом произнес богатый отныне наследник.
– Далеко отсюда? – Тася опустилась на лавку, комкая в руках полотенце.
– Да посчитай, что в самой Москве, – все вздыхал Леврецкий. – Верстах в пятидесяти от заставы. Имение теткино. Никого у нее не осталось. Только я.
– Похоронили? – сочувственно спросила Тася.
– Да вот, только вчера вернулся. Надо здесь все дела в порядок привести, да через месячишко и поеду, – тут гость, до этого смотревший в пол, резко вскинул голову и посмотрел прямо в лицо Тасе, как будто пытаясь там разглядеть ответ на какой-то свой, незаданный вопрос.
– Далёко, – протянула вновь потухшая Тася, а гость почему-то, наоборот, воспрянул.
– Ну, так чай-то будет, хозяюшка? – бодро спросил он.
– Да-да, – засуетилась Тася.
– Что-то разбилось у вас? – спросил Леврецкий, наступив на незамеченный под столом черепок.
– Моя чашечка! – ответила Стася, и протянула гостю красное блюдце посмотреть. – А у меня теперь новая зато!
– Ах, как красиво! Это тебе братик подарил? – догадался Леврецкий. – Прежнюю-то не жалко?
– Не жалко! – звонким колокольчиком рассмеялась Стася.
– Ну, и правильно. На счастье! – сказал гость.
– На-щастье! – повторила за ним Стася.
***
В четверг Лида с братом и Алексеем слушали лекцию в павильоне Саввы Мимозова. Если бы не они, то, возможно, Лиза никогда не рискнула бы, без отца, сама решиться и поехать вести экскурсию. Но, уже собираясь накануне «просто погулять», как они и договаривались с Лидой, к ней все время стали приходить и возвращаться мысли об экспозиции. Как она завтра пройдет мимо ставшего уже родным павильона, зная, что в этот назначенный день там будут ждать приехавшие из других городов и губерний люди, специально выбравшие время, чтобы ознакомиться с продукцией именно их Товарищества?
Встретившись у главного входа с подругой и новыми знакомцами, Лиза поделилась с ними сомнениями и, не желая быть навязчивой, предложила встретиться еще через час. Но, узнав причину, новые приятели тут же, с восторгом, согласились начать осмотр с павильона Мимозова. Лиза в этот день поняла, как ответственно и непросто выступать перед людьми близкими, знающими тебя в повседневности. Завоевание и удержание именно их внимания, сохранение его на протяжении всего рассказа на уровне серьезного и внимательного отношения, оказалось чуть ли не сложнее, чем ее самое первое выступление на публике. Проводив посетителей, она впервые после лекций воспользовалась своим правом и ушла в подсобные помещения.
Весь лоб ее был покрыт испариной и ей потребовалось время, чтобы привести себя в порядок. Потом она еще минут пять просто сидела в одиночестве, чувствуя себя измотанной и опустошенной. Но, собравшись с силами, она вышла к друзьям на улицу уже прежней Лизой – подружкой и одноклассницей. И теперь они, наконец, отправились гулять.
– И что, так никто никогда и не открыл ни одного замка с секретом? – выпытывал у нее Алексей, только что воодушевленно, но безрезультатно участвовавший в завершающем этапе экскурсии.
– Почему же? – смеялась Лиза. – Дважды гости уходили с трофеями.
– С трофеями?
– В запертых ларцах спрятаны подарочки. Кто открывает – может забрать их себе.
– И что там хранится? – с любопытством вступила Лида.
– Нет-нет-нет! – смеялась Лиза. – Это тайна. Сначала надо отгадать секрет замка.
Лиза, как заправский корифей Выставки, должна была, по идее, продолжать роль экскурсовода, но ей сейчас хотелось чувствовать себя такой же свободной и беззаботной, как и остальные. По чувству долга, мучавшего ее изнутри, она попыталась описать пару достопримечательностей, мимо которых они проходили, но делала она это коротко и вскоре умолкла. Каково же было ее удивление, когда оборвавшийся рассказ подхватила Лида! Та знала про многие павильоны, про их владельцев и создателей, и даже про некоторые экспозиции внутри них.
– Лидочка! Да ты была здесь уже? – воскликнула удивленно Лиза.
– Да, как-то к слову не приходилось, но была. Даже, можно сказать, бывала. Нас же не посвящали во все это, Лиза, потому что мы готовились к экзаменам, а другие классы активно принимали участие, тут же и Мариинский павильон есть. А когда я осталась после выпуска в Институте – да еще то ли ученица, то ли работница – то меня привлекли и к Выставке. Я сопровождала оставшихся на лето малышей сюда на осмотр, и еще пару раз – приезжих гостей. И в павильоне помогала.
– Ах, как здорово! И как мы не встретились с тобой? Но, веди нас туда! А я ни разу в родной-то павильон и не зашла. Можем мы встретить там кого-нибудь из знакомых?
– Если только из Института сегодня туда направят группу. Но в самом павильоне постоянно служит Рашель Ивановна, помнишь ее?
– Это приходящая учительница словесности, она вела у нас уроки классе в пятом, да?
– В четвертом. Она еще преподает в женской гимназии и в воскресной школе. В этом году у нее Леночка училась.
Они вошли в павильон, и Лиза сразу вспомнила не только саму преподавательницу, но и их отношение к ней в Институте, как к человеку строгому, но справедливому, при этом очень интересному и энергичному. Еще пришло ей на память, что девочки, придумывая всем институтским дамам прозвища, Рашель Ивановну звали «наша Белочка». По всей вероятности это был сокращенный вариант от первоначального «белка в колесе», потому что не только видеть, но даже вообразить эту женщину сидящей или ничего не делающей, не представлялось возможным. Ей удавалось все и сразу, она делала сто дел одновременно, раздавая задания всем, кто попадался под руку, причем после всегда помня кому и какое.
– Оленина, здравствуйте! – приветствовала она Лиду, как только они переступили порог. – Почему так давно не приходите? У меня накопилась куча дел для Вас!
– Здравствуйте, Рашель Ивановна! Но разве я обещала? Простите, я совсем не помню этого.
– Нет-нет, мы ни о чем конкретно не договаривались, просто я запомнила наш разговор с начальницей о преподавании и имела Вас в виду. Но, если Ваши планы изменились, то я предложу другим, не беспокойтесь.
– Рашель Ивановна! – Лида указала ей на пришедших вместе с ней гостей. – Познакомьтесь, мой брат Петр, его друг Алексей Семиглазов, а Лизу Полетаеву Вы должны помнить по Институту. И расскажите нам подробно о Вашем предложении. Мадам Вершинина ничего мне не могла передать, потому что я уже покинула Институт.
– Покинули? – с разочарованным видом переспросила учительница.
– Да, насовсем. Я приняла решение не оставаться в пепиньерском классе.
– Жаль, – Рашель Ивановна явно была опечалена расстройством каких-то ее планов, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась друзьям. – Жаль, Оленина, у Вас есть определенные задатки к преподаванию. Здравствуйте, Полетаева! Поздравляю вас, барышни, с окончанием учебы и началом самостоятельной жизни.
– Благодарю Вас, – ответили девочки почти хором.
– Ну, так Вы теперь свободны, Лидочка? Тем более я хотела бы задействовать Вас в своих прожектах. Как Вы смотрите на то, чтобы поездить по губернии?
– Поездить? Я? – Лида опешила. – Вы предлагаете мне одной ездить в другие города?
– Ох, скорей нас интересуют деревни, – вздохнула Рашель Ивановна.
– Нет, это невозможно! Я уже имею одну ученицу здесь, в городе, я обещала ее родителям постоянные занятия. Да, боюсь, и мама меня не отпустит! – объяснила свой отказ Лида.
– А Вы, Полетаева? А молодые люди? Возможно, они взяли бы на себя роль сопровождения?
– Молодые люди – студенты Московского университета и здесь проводят летние каникулы, – улыбаясь, ответила за всех Лида. – А в чем все-таки суть вопроса? Мне уже жутко любопытно! Может быть, мы сможем помочь каким-то иным способом?
– Дело в том, что у группы городских преподавателей возникла идея, объединив накопленный опыт, и усилив учительский состав энтузиастами из молодежи, изменить положение дел в губернии с неграмотностью, – начала энергичный рассказ Рашель Ивановна. – Но необходима подготовительная работа, без нее – никак. Если кто-то из ваших знакомых, может быть по роду службы, связан с поездками по губернии, испросите для меня его участия. Нужно заблаговременно объехать как можно больше окрестных сел и пригородных усадеб, узнав, где хозяева согласятся на устройство школ, и будут содействовать этому, хотя бы выделив помещение и не препятствуя занятиям, – она посмотрела на изумленные и недоверчивые лица ее слушателей и продолжала: – На этой выставке неимоверный успех имеют наши воскресные школы. Огромное внимание к ним! Вы не представляете, как это вдохновляет. Через пару лет, я уверена, что в таких школах будут обучаться даже взрослые ученики. Вот увидите! Даже в самом городе, здесь!
– Может быть, мы могли быть Вам полезны именно здесь, в городе, мадам? – спросила Лиза.
– В городе была идея создать ряд публичных библиотек и читален, но это решается совместно с епархией. Наверно ближе к осени, нам потребуются добровольные помощники, да. Хотя бы по сбору литературы. Я буду иметь вас в виду, барышни, благодарю!
***
– Наша Белочка всегда берет быка за рога! – смеялась Лида, выйдя из павильона на территорию Выставки. – У нее удивительная способность держать в уме множество людей, дел и планов, тасовать их и распоряжаться ими.
– Я уж, было подумал, что нам не отвертеться, и уже вечером надо будет трястись в телеге, объезжая губернские села, – вторил ей Семиглазов. – Хотя начинание достойно уважения! Я сам знаю, как тяжело пробиться мальчику из маленького местечка, даже если к этому есть огромное желание. А уж безграмотному, то совсем край!
– А как пробились Вы, Алексей? – спросила Лиза. – Я из Ваших слов, сказанных по разным поводам, представляю так, что Вы давно живете без родителей?
– Да, Елизавета Андреевна, но мне повезло. Грамоту я выучил, как к крестной попал. А у нее братец служил при монастыре, так меня на лето отдавали монахам… А там между делами, один из них обучал меня наблюдениям за природой, географии, истории и немного математике. Потом я сам много читал, благо у крестной дом был с книгами. Потом смог поступить в городское училище, ходил за восемь верст туда. Первый год за меня монахи платили, после стал стипендиатом, вот, как и Лидия Пантелеевна. А как окончил, то сам давал уроки, поднакопил и поехал в большой город. Крестная-то деньгами помогать не могла, а вот харчей, когда, с оказией и присылала. Так за год я в гимназии сдал экстерном весь курс. Ну, и в Москву!
– С Божьей помощью! Всё праведное только через Него! – мелко крестился Петр.
Если домашних и настораживало это резкое изменение мировоззрения студента-биолога Петруши и его уклонение в сторону религии, то они старались принимать это за что-то неизбежное, понимая, какое потрясение пережил он совсем недавно. Может, успокоится со временем, да и дурного в том ничего нет, думалось им, не сравнить с Леночкиным заиканием. Но разговоры такого плана они старались не поддерживать, потому что Петр в них доходил иногда до состояния экзальтации, впадая в роль обличителя пороков и, указывая всем, каким путем нужно их искупать. А это становилось угрожающе-навязчивым и неприятным, тем более, что в семье хоть и придерживались традиционной религии, но особого рвения к церковным проявлениям до этих пор ни у кого не наблюдалось.
Лиза побаивалась подобных его выступлений еще с первого дня их знакомства, но теперь, думая об отце, страх в ее душе уступал место то ли состраданию, то ли снисхождению к беде парня, и она его скорей жалела и тоже старалась сменить тему при таких его выпадах, чтобы не усугублять.
– Посмотрите, Петр! – захотела она переключить его внимание на что-нибудь внешнее. – А вот этот павильон вы с Алексеем, возможно, могли уже видеть. Не узнаете?
– Мы могли его уже видеть? – удивился Семиглазов, который ловил каждое Лизино слово. – Да где же, Елизавета Андреевна, ведь мы только неделю в городе, а на Выставке впервые. Это же все возводилось к ее открытию, и даже приезжая сюда на побывку, вряд ли и Петр мог бы попасть на строительство. Как же?
– Да это же Центральный павильон с прежней выставки! – с веселой укоризной излагала Лиза жителям Москвы историю постройки с прошлым. – Московской Выставки! Ему уж больше десяти лет, а он все служит. Еще лет пять назад в нем устраивали Французскую торгово-промышленную выставку, а год назад разобрали и перевезли в наш город. Вы не узнали его?
– Да, мы, знаете, как-то раньше по выставкам и не…– начал было оправдываться Алексей, но тут все обратили внимание снова на Петра.
Вместо того, чтобы отвлечься рассказом о приключениях выставочной постройки, он, видимо, еще глубже впал в свой религиозный экстаз, и, приникнув к фундаменту описываемого павильона, начал бить тому земные поклоны. Надо было уводить его с глаз публики! Кто угодно мог позвать городового и хлопот после не оберешься.
– Как пить хочется! – придумала на ходу Лиза, уже прикусив по новой привычке губу и чуть не плача, но на этот раз, кажется, угадала.
– А я ужасно проголодалась! Петенька! Пойдем на берег Волги, накупим пирожков и кваса, будем кутить! – попыталась спасти положение сестра, и тот поддался уговорам, а шагов через двадцать и вовсе пришел в себя и начал обсуждать со всеми, с какой начинкой пирогов они возьмут.
Алексей предложил Лизе руку, и они парами покинули территорию Выставки.
***
Молодые люди сидели на траве, и река плескалась вдалеке. Были видны снующие с берега на берег пароходики, проплывали мимо большие речные суда, и мост на тот берег, как бы подчеркивал масштабы разросшегося Выставкой города. Отсюда была ощутима и наглядна вся его мощь и ширь, люди на том берегу казались крошечными точечками, такими же, наверно, казались им оттуда и они сами. Лиза, обещавшая няне больше никогда не пробовать ничего в городе, старалась незаметно скормить свой пирожок птицам и только пила чистую воду. А Лида и Алексей только что перекусили, и теперь никому не хотелось ни говорить, ни двигаться, а лишь сидеть вот так да смотреть на реку, за реку, на небо.
Один только Петр снова впал в задумчивость, ничего не ел, а только мусолил пальцами давно остывший пирожок. Наконец тот разломился у него в руках, и из него на землю посыпалась начинка из ливера с луком. Лида первая заметила, как трясутся у брата плечи, и кинулась к нему, но уж было поздно. Слезы прорвались сквозь сдавленный стон, неудержимые всхлипы вспенили слюну на искореженных гримасой боли губах, и он, рыдая, упал лицом в траву и его долго не могли ни успокоить, ни поднять.
– Оставьте, пусть, – пытался Алексей отвести от него Лиду, потом оставил ее и сел на траву рядом с перепуганной Лизой, которая руками зажала свой рот, чтобы тоже не закричать и не заплакать.
Зрелище было ужасным. Но вот, постепенно, рыдания стали затихать, Петр положил голову на колени сестры и так же лежа стал, как в бреду, что-то говорить или с кем-то спорить.
– Да нет же! Это точно были не колодцы. Я по тому колодцу еще ногами шел, и те доски под ногами чуял! Старые, склизкие, чуть не споткнулся там. Чудом из оврага поднялись. Чудом! А потом меня понесло. Господи помилуй! Как по воздуху, ничего не помню. А потом снова под ногами то твердое, то мягкое. А тогда яма была. Простая яма. Господи, спаси-сохрани, мя грешного! Мне потом уже, в больничке один солдатик рассказывал. У них на том поле учения, они знают, где что. Там песок копают, вот и ров. А колодцы старые, гнилыми досками заколоченные, туда сразу все провалились. А это – яма была. Он говорит, павильон на другую выставку увезли, а ямы-то от опор так и остались. А пред гуляньями их просто деревянными щитами прикрыли. Новенькими! Дерево еще белое было. Мне как щепки из рук вытаскивали – я сам видел. Вот мне и повезло! Я падал, все бока ободрал, да неглубоко. А там уже мягко было. Как заснул сразу, тепло, мягко. А сверху-то тоже на меня навалился кто-то, да повезло, не задохнулся я. В больничку привезли, а там Алексей – божий человек. Мне его ангелы послали. Повезло мне… Господь спас.
Он всхлипывал все реже, голос его становился все тише, а рассказ – прерывистей. Как только еще он начал говорить, Лиза почувствовала, что ее сейчас может вот-вот стошнить, она помнила, как это внезапно происходит, но понимала, что сейчас этого никак нельзя допустить. Еще она вспомнила, как Лев Александрович кричал ей тогда с козел: «Лиза, думайте о другом!» и она стала заставлять себя сосредотачиваться на каких-то привычных, безопасных предметах. Трава. Зеленая свежая трава. Ее колышет ветер. Ветер нагоняет рябь на поверхности воды. Вода. Речка. В речке отражаются облака. Облака бегут по небу. А небо синее-синее! И судорожный рассказ Петра стал вдруг не главным, он отошел куда-то на задний план, она слышала слова, но ее это, как бы, не касалось больше. Тошнота отступила.
И вот Петр замолк. Лида гладила его по волосам, как маленького, а он лежал и молча смотрел на проплывающие облака, потом глаза его стали слипаться. Сестра достала из кармана платок и начала вытирать ему лицо, но он не открывал глаз, и постепенно уснул. Алексей встал и, свернув, подложил Петру под голову свой пиджак. Все молчали. Говорить сейчас было просто не о чем. Мимо них проходили люди, но со стороны все казалось безмятежным – вот отдыхает компания молодых людей, один из них задремал на воздухе, что тут такого?
Первым нарушил молчание Семиглазов:
– Он даже мне этого не рассказывал, – Алексей как от боли потирал пальцами виски, что и говорить, принять бесстрастно описанную только что картину не мог бы, наверно, даже бездушный человек. – До сих пор ничего про тот день не вспоминал.
– Может быть это хорошо? – неуверенно спросила Лиза. – Может быть, теперь ему станет легче?
Лида беззвучно плакала, видимо, представляя муки брата старшего.
– О, Господи, всеблагий, всемилостивый, помилуй нас, грешных, – прошептала и она.
– Может быть, Петру надо побыть где-нибудь там, где… – Лиза запнулась.
– Где, Лизонька? – сквозь слезы вопрошала ее Лида. – В больнице он уже был.
– Я не то имела в виду, – продолжала Лиза, она не могла оставить все как есть, уже почувствовав, приняв на себя чужую боль. – Где-нибудь, где его душа сможет вернуться на место. Он так много говорит о Боге. Может быть – монастырь? Здесь, в округе, ты сама знаешь, есть несколько мужских монастырей. Может быть поспрашивать? Вот я знаю про один, там живут двое старцев, и люди приезжают издалека, и ждут там подолгу, чтобы те им помогли жить дальше.
– А вы знаете, не лишено смысла, – сказал Алексей, обращаясь сразу и к сестре, и к спящему брату. – Надо бы обдумать, да действительно расспросить людей.
Лида смотрела на подругу с затаенной надеждой. Мимо проходили двое парней, один из них выделялся своим неимоверно высоким ростом, второй был обычного, ничем не примечательного сложения, но в его глазах блестела незаурядная лихость, и смотрел он на мир с каким-то пронизывающим прищуром. Они остановились подле.
***
– О! Кого мы видим! Приветствую, Алексей, здравствуйте барышни, – узнал их идущий мимо с приятелем Игнат. – Пикник устроить изволили? А Петр Пантелеевич, видимо, притомился?
– Здравствуйте, Игнат! – приветствовал его Семиглазов. – Да, мы уж с самого утра гуляем, Выставку смотрели, скоро домой собираемся. Как Ваша свадьба прошла, удачно?
– Свадьба? – ухмыльнулся незнакомец и вопросительно посмотрел на Игната.
– Да свадьба как свадьба, что свадьба. Прошла и бог с ней, – Кириевских стушевался под прищуром товарища. – Вот, познакомьтесь, мой друг и соратник Арсений Хохлов, рекомендую.
– Приветствую! – Хохлов продолжал ухмыляться, теперь в упор рассматривая Лизу. – Позволите присесть?
Не дожидаясь разрешения, он сел на траву между Алексеем и Лизой, да еще сделал приглашающий жест Игнату. Тот явно был не рад остановке и тому, что сам стал ее причиной, заметив своих недавних посыльных, и остался стоять.
– Так это вы Игнату ящик из Москвы доставили, как я понимаю? – продолжал солировать в полнейшем молчании новый гость. – О! Да у вас тут пир!
– Угощайтесь, – сказала Лиза и ее щеки предательски покраснели под его пристальным взглядом, который ей напомнил сейчас Сергея там, на поляне. – Кушайте, у нас много осталось.
– Барышня из благородных, как я погляжу? – то ли утверждая, то ли вопрошая, не сводил с нее нагловатых глаз Хохлов. – Не зазороно ей с таким простым людом совместную трапезу совершать?
– Прекратите говорить глупости! – разозлилась Лиза, как с ней это порой бывало в неожиданно повернувшемся разговоре. – И извольте обращаться ко мне в первом лице!
– О! Да тут еще и характерец есть! – хохотнул новый знакомец, откусывая пирог.
– Милостивый государь! – Алексей Семиглазов встал в полный свой небольшой рост, явно волнуясь. – Извольте сменить тон! Вы находитесь в приличном обществе и будьте любезны вести себя подобающе!
– Простите, сударь! – Хохлов тоже встал, оказавшись на целую голову выше Лизиного защитника, продолжая жевать и наступая на Алексея грудью. – Приношу свои извинения. Вы – дворянин?
– Нет, – отвечал не сходящий с места Алексей. – Но это не имеет никакого значения!
– Арсений, прекращай бузить, – нерешительно попытался вмешаться Игнат. – И, если ты помнишь, нас ждут.
– Ничего, подождут, – отвечал Хохлов. – Я хочу поближе узнать твою новую компанию, друг. Господа и дамы, примите мои извинения! Сожалею о так неловко начатом знакомстве. Попробуем с самого начала. Меня вам уже представили, так давайте знакомиться ближе. Я – рабочий одной из пригородных фабрик. Бедненькая фабричка, скажу я вам, да и от города далековато, да уж что есть. Служил в том году у Мимозова, да был вышвырнут за дверь. С полгода мыкался впроголодь, вот на лето пристроился.
– Вы, наверно, не очень хороший работник, – все еще не могла успокоиться Лиза. – У Саввы Борисовича люди служат по многу лет и за работу держаться. Он мне сам говорил.
– Милая барышня! – Хохлов обращался снова только к ней. – Я не плохой работник. Я – опасный работник. Но, прошу Вас сменить свой гнев на милость и назвать Ваше имя.
– Лиза Полетаева, – представилась Лиза, опустив глаза.
Хохолов, видимо, решил, что с нее достаточно и лишь дотронувшись до кончиков ее пальцев, отпустил руку и обратился к Алексею.
– Приятно познакомиться, мне понравился Ваш характер, молодой человек. Надеюсь, что мы сойдемся ближе! – и он протянул Семиглазову ладонь.
Тот пожал руку и молча кивнул.
– Оленины, брат и сестра, – снова вступил в разговор долговязый Игнат. – Петр и Лидия.
Петр в это время стал просыпаться, долго не мог понять, где они все находятся и что за люди появились вдруг рядом. После, проморгавшись, тоже пожал руки Хохлову и Кириевских.
– Между прочим, наш отец имел личное дворянство! – знакомясь с Арсением вставила Лида.
– Я обязательно учту это обстоятельство, барышня! – улыбаясь, ответил он, и задержал ее ладонь в своей.– Ну, мы пойдем дальше, спасибо за угощение и прощайте, товарищи.
– Да мы тоже уже собирались, – ответил за всех Алексей, и компания гуртом побрела вдоль берега.
Общей беседы не завязывалось, все просто смотрели по сторонам, любовались рекой.
– Какой все-таки у нас красивый город! – вырвалось вдруг у Лиды. – И как я рада, Петя, что ты снова дома, и я тоже, и можно вот так ходить, гулять! Смотреть на реку. Посмотрите, какой простор, какая сила! Какое величие. Не покорить, не переплыть! Только смотреть не нее можно!
– Ну, почему ж только смотреть? – ухмыльнулся Арсений. – Плавали.
– Все плавали! – вступил Петр. – Да не переплывали же.
– Про Волгу врать не буду, – невозмутимо гнул Хохлов. – А Оку переплывал, и на стрелку вышел.
– Что-то не слышно про такой Ваш подвиг, – скривил рот Петр, а Лида распахнула в удивлении глаза. – Если на веслах, то – то не диво, а если вплавь… Уж про такое чудо весь город бы этим летом судачил.
– Так то не летом было, – уверенно говорил Арсений и глядел теперь на Лиду Оленину. – То в ледоход было, позапрошлым мартом.
– Ой, да Вы шутите! – рассмеялась Лидочка.
– Отчего же! Нет, не шучу, – продолжал буровить ее взглядом Хохлов. – Отплыл, действительно, на лодке, да она худая оказалась, и ее почти сразу раздавило льдом. Пришлось вплавь.
– Прекратите красоваться перед барышнями, сударь! – возмутился Алексей. – Это невозможно, я как биолог Вам говорю. Физические параметры тела человека не предназначены для таких температур. У Вас бы сердце не выдержало.
– Мое сердце много чего еще выдержать сможет! – глядя на Лиду щурился Хохлов. – Да вон, у Игната спросите, на Бору все про то знают.
– И все-таки Вы смеетесь над нами, – уже почти прошептала Лида.
– Да что Вы! Никак не смею.
– Зачем же Вы, лодку не проверив, сами себя опасности подвергали? Нешто в ледоход плавают?
– Я, милая барышня, жизнь – страсть как люблю! – уже только Лиде, как бы забыв про остальных, говорил новый знакомец. – Нужда была сильная. Доплыл.
***
Лев Александрович не застал лекции Товарищества Полетаева, опоздал, пришел позже. Что нужно было ему в этот день здесь, он и сам толком не мог себе объяснить. Савва увез жену в Москву, его в павильоне точно быть не могло. Что бы какое-то конкретное дело было у Борцова к Андрею Григорьевичу или Лизе, так тоже – нет. Лев Александрович даже не знал, кто из них будет сегодня встречать гостей, и только надеялся, что Лиза будет вместе с отцом. Но он так долго собирался и уверял сам себя в том, что ничего особенного нет в его желании встречи, что явился, когда в павильоне оставались лишь разрозненные посетители, а все группы уже миновали. Но он все равно хотел ее видеть!
И он ее увидел. Медленно бредя к выходу, он заметил за оградой небольшую дружную компанию. Двое молодых людей и две барышни покупали пироги и набрали их целый кулек. Две пары. Темноглазый молодой человек все время крутился подле Лизы, подавал ей руку, держал зонтик, пока она указывала торговке на выбранный товар, и не сводил с нее этих своих глаз. Потом все они переместились к буфету с напитками, и парни набрали бутылок с водой, ситром и квасом. Потом, все вчетвером стали медленно удаляться в сторону реки. Борцов к ним подходить не стал. Зачем? Они были такими молодыми, свободными, довольными друг другом, что Лев Александрович почувствовал себя, вдруг, старцем Мафусаилом и понял, что вписаться в эту компанию у него нет никаких шансов. А быть представленным «старым другом семьи» не желал.
Борцов немного прошелся за ними, наблюдая. Лиза участвовала в общей беседе, даже иногда улыбалась, но тут же уходила в какие-то свои мысли и не производила впечатления радостной и беззаботной выпускницы, какой он помнил ее в Александровском саду на прогулке. Лев Александрович как-то понял и догадался, что причиной тому является не нынешнее ее окружение, потому что он видел и чувствовал даже на расстоянии, что она сама старается быть приветливой и жизнерадостной, но у нее это получается плохо. Хотя из трех ее спутников этого никто не замечал вовсе. Что-то произошло у нее? У них? Эх, и Саввы нет, не спросишь! Надо снова найти повод и напроситься в гости, там все разузнать. Так?
Нет! Не так! Что он бегает за этой девочкой, что он думает себе, старый пень! Она почти ребенок, что может их связать? Связывать? Зачем морочить себе и ей голову и трепать душу? Это невозможно! Надо разом оторвать от сердца все мечты и глупые фантазии. И забыть ее. Уехать! А вернуться только поправившимся и полностью излечившимся. И дружить с этой милейшей семьей, как прежде. Да, только так. Лев Александрович резко свернул в сторону и поймал извозчика. Уже следующим утром он договаривался об отпуске с начальником, а днем сидел в московском поезде, направляясь к Савве.
***
Савва уже второй день вместе со старшими девочками ночевал в городе. Француженка и вторая гувернантка попросилась поехать с ними. А Феврония захотела побыть на даче, сильно стосковавшись по младшим. Летний бал, из-за которого отец и повез Арину с Аглаей в Москву, уже состоялся вчера, и к вечеру вся семья должна была вновь объединиться. Анфису с няней в этом году, как «уже взрослую» отправили погостить на пару недель в имение к троюродной тетке, дочь которой была ее ровесницей. Кроме младших девочек, в доме остались их гувернантка и слуги. Дашенька сейчас стелила скатерть, собираясь накрывать к обеду. Девочки с Аннушкой только что пришли с прогулки и побежали умываться.
– Аннушка, пообедаете сегодня с нами, по-простому, все же разъехались? – предложила ей Феврония, тяжело вставая с кресла, у нее с утра тянуло поясницу.
– Благодарю Вас, мадам, с удовольствием! – Анна была девушкой общительной и говорливой, и обедать одной для нее было почти наказанием, а слуги кушали всегда отдельно, в своем флигеле.
– Даша, поставьте еще один прибор, будьте добры, – сказала хозяйка.
– Слушаюсь, барыня! – горничная сочувственно смотрела на Февронию, которая даже поморщилась от боли, вставая с кресла. Разложив ножи и вилки возле тарелок, спросила: – Прикажете цветов свежих нарезать, или Вас мутит от запаха?
– Пусть будут цветы, Даша. С тем, надеюсь, покончено, – она погладила живот. – С первыми девочками, например, так было только в самом начале. Я полежу у себя наверху, как будет готово, кликните, я спущусь, хорошо?
– Слушаюсь, мадам! – собралась бежать в сад Даша.
Но тут на дорожке к дому они заметили приближающегося садовника, за ним шел грузный человек в мундире. Даша из любопытства осталась, делая вид, что выбирает под цветы вазу в застекленной горке.
– Вот, барыня, хозяев спрашивают! – доложил садовник.
– Ступай, Степан, спасибо, – Феврония снова опустилась в кресло, долго стоять ей было уже трудно. – Проходите, Кирилл Семенович, я узнала Вас, хоть мы уже пару лет и не виделись. По делу к нам, али так, по-соседски? Милости прошу! Обедать с нами станете?
– Никак нет, милая Феврония Киприяновна! – урядник закрутил ус. – Токмо по долгу службы! Обхожу участки, оповещаю дачников.
– Что-то случилось? – забеспокоилась Мимозова.
– Никак нет! – замялся Кирилл Семенович, только сейчас обратив внимание на заметное уже положение хозяйки. – А дома ли Савва Борисович? Может, я лучше ему доложу? Это так, пустяк, предостережение.
– Так он в городе, здесь будет лишь к вечеру. Если сообщение терпит, то заходите после ужина.
– Ах, он сегодня будет! – обрадовался урядник. – Очень хорошо, тогда я спокоен. Меня становой пристав послал обойти всех на нашей стороне, вряд ли успею к вам еще раз заглянуть. Вы ему передайте, что из Звенигородской уездной тюрьмы побег дерзкий совершен был. Трое ушли лихих людишек. Хоть и далековато от нас, да мы обязаны всех предупредить. Никак они на Москву пойдут? И девочек одних пока никуда не пускайте. День-два, мы их обязательно возьмем. Хорошо, что ночью мужчина в доме будет.
– Обязательно передам. Вы уж нам тогда сообщите, как все обойдется, – Феврония снова захотела встать и Аннушка даже бросилась помочь ей, но хозяйка жестом остановила ее: – Ничего, сама.
– Всенепременно! – пообещал Антон Семенович. – Супругу поклон от меня. Разрешите откланяться?
Урядник направился к соседней даче, хозяйка поднялась к себе наверх, Даша убежала за цветами. Девочек еще рано было собирать к столу, и Аннушка, пользуясь случаем побыть на барской половине, пролистывала иллюстрированный журнал. Но тут прибежала Шура и стала показывать пойманного только что огромного жука.
– О, боже мой! – скорей от неожиданности, чем от страха, воскликнула гувернантка. – Сашенька, Вы бы его хоть в коробок какой посадили, а то заползет матушке в тарелку, а ей пугаться нельзя.
– А почему ей нельзя пугаться? – спросила Шура с таким хитрым видом, что было понятно, что ответ ей известен, или она догадывается о нем и только ждет подтверждения от старших.
– Потому что маму надо беречь! – нейтрально ответила Анна. – Вы теперь ступайте и снова помойте руки, прошу Вас. Скоро за стол.
Вернулась Даша с букетиком садовых цветов и уходить стало глупо, потому что появился еще один объект, которого можно было напугать жуком. Зажав его в мокрой уже от пота ладошке, Шура терпела его щекотку лапками и ждала, пока Даша поставит цветы на стол. Та расправила их уже в вазе и, удовлетворенная результатом, взяла с веранды швабру и стала заметать несколько опавших на пол лепестков. Тогда Шура выпустила жука на розовый цветок флокса, и соцветие тут же прогнулось под его тяжестью.
– Как красиво! – сделала Шура вид, что нюхает букет. – Дашенька, а как зовут этот цветочек?
Даша обернулась, наклонилась, громко завизжала и, закрыв лицо руками, убежала через сад к кухне. Палка швабры стукнулась об пол, Шура расхохоталась.
– Александра! – старалась быть строгой Аннушка, хотя удавалось ей это с трудом. – И Вам не стыдно? Мне придется теперь наказать Вас.
– За что? – Шура пыталась теперь поймать жука обратно, но он умело увертывался от ее рук и прятался в разноцветной пене цветов. – Сама она виновата, если такая трусиха. Девочки не должны ничего бояться!
Сквозь верхнюю стеклянную часть двери, затянутую с одной стороны кисеей и ведущую во внутренние комнаты, было видно, что сюда идет Настя. Она налегла на створки, распахнула их и, застыв на пороге, спросила:
– Шурка! Ты опять поймала какую-то гадость? Выкинь сейчас же, я не войду в столовую, пока сама не увижу, что ты от нее избавилась!
И тут, не со стороны калитки, а перелезая прямо через балюстраду веранды, из сада, показались две заросшие мужичьи морды. Это было настолько неожиданно, что никто даже не закричал. Тот, что перелез первым, окинул быстрым взглядом всю обстановку и скрипучим голосом сказал:
– Лезь, чертушка, здесь одна токмо баба. А вы цыц! Кто заорет – шею сверну как куренку!
Он был весь заросший клокастой бородой, глаз не было видно из-за нависших густых бровей, и в руке у него поблескивала какая-то железка. Он стал по стенке медленно обходить комнату, и тут Анна поняла, что она одна здесь из взрослых и, если им отрежут путь внутрь дома, то убежать через сад у детей шансов нет совсем.
– Девочки, – как можно спокойнее постаралась произнести она, – уходите в гостиную. Медленно.
Второй мужик оказался еще страшней первого, потому что улыбнулся беззубым ртом на слова гувернантки.
– Цыпа-цыпа-цыпа, – подзывал он ее и трусил тремя пальцами, как бы сыпля корм. – Ах, какая резвая курочка!
Настя от ужаса окаменела в дверях, а Шурка медленно-медленно опустилась на корточки.
«Испугалась, деточка моя», – пронеслось в голове у Анны, а после мысли замелькали, как стеклышки в калейдоскопе, только совсем не такие радужные: «Кричать нельзя, барыня побежит, оступиться может. Да лестница еще! А ну, как выкинет. Нет, нельзя. А позвать кого-то надо! Одной не справиться с двумя. Девочек. Девочек надо убрать от греха!» Она посмотрела на Александру и не увидела страха в ее глазах. Анна, продолжая глядеть на Шурку, потянулась к бронзовым каминным часам, изображавшим пастуха и пастушку.
– Э-е-ей! Ты что задумала, дева моя! – просипел первый разбойник. – Не надо!
Аннушка кивнула Шуре и та молнией метнулась к Насте, зажав в руке швабру, подобранную с пола. Шурка со всей силы пихнула оцепеневшую сестру, сбив ее с ног, захлопнула за собой дверь и, пока второй разбойник преодолевал смешное расстояние в два шага до нее, успела сунуть палку в ручки двери и теперь они прилипли лицами к стеклу с двух сторон – ребенок и старик.
– Бегите! – теперь уже ничего почти не соображая кричала им Анна. – Через окно, к соседям! Бегите!
«Девочки не должны ничего бояться!» – прошептала она сама себе, и, с откуда-то взявшейся силой, запустила тяжеленными часами в окно столовой. Посыпались стекла, необычный шум привлек внимание, за оградой послышались людские голоса.
– Зачем же ты, – укоризненно прошептал первый разбойник. – Не надо шуметь.
Он подошел, почти обнял Анну, сделал какое-то короткое, почти незаметное движение, и теперь смотрел ей прямо в лицо. Она охнула, но боли почти не почувствовала. Бандит дождался, пока глаза ее стали мутнеть, и тогда потянулся рукой к сережкам. Он сорвал их, и долго не мог снять с пальчика кольцо одной рукой. Тогда он бросил Аннушку на стол, и, провернув его несколько раз, все-таки снял.
– Эх, девка! Ну, зачем? – сокрушался он, собирая со стола серебряные ножи, ложки и вилки.
Второй в это время выворачивал ящики шкафов и комода, собирая в мешок все, что ему приглянулось. Со стороны кухни раздались женские крики и визг, от соседней дачи бежали мужики. Разбойники бросили все как есть, удовлетворившись уже содеянным и собранным и ушли через парадную дверь, куда получасом раньше вышел урядник.
На столе, на белой накрахмаленной скатерти лежала Аннушка. Ваза опрокинулась, и цветы теперь рассыпались у нее по шее и плечу. Вода замочила ей весь лиф и бок платья и растекалась дальше, вокруг. Мокрое пятно становилось почему-то все больше и больше и постепенно окрашивалось в ярко-алый цвет. Черный жук, до крайности недовольный происходящими с ним сегодня событиями, покинул цветущую ветку и искал теперь дорогу домой. Он переполз с ткани рукава на кожу лежащей неподвижно девушки, неспешно направляясь к тому месту, где на пальце оставался незагорелый след от колечка.
***
Лев Александрович с вокзала решил заехать в московский особняк Мимозовых – вдруг кто-то из них окажется в городе, ведь он ехал наугад, без предупреждения. Если его кто-нибудь впустит, то он напишет Савве записку и останется руководить обещанной переделкой, материалы должны были быть готовы со дня на день, а мебель можно было забрать у Антона в любой день. Если не окажется даже слуг, то придется устраиваться в гостинице, а вечером ехать в Успенское, на дачу.
Вместо знакомого швейцара дверь ему открыл полицейский. Лева тут же попал в его служебные тиски и вынужден был отвечать на множество вопросов. Еще двое стояли у подножия лестницы и преграждали проход в дом. Ответов на свои расспросы Борцов не получал, что происходит не понимал и дальше передней так и не продвигался. На удачу, вдалеке проходил камердинер Саввы, Лева вынужден был окликнуть его. Тот удивился, но тут же подошел ко входу:
– Пропустите, это свой. К барину.
– Что происходит? – спросил его впущенный, наконец, Лева, идя знакомыми коридорами к кабинету Саввы, а камердинер почему-то провожал его как гостя.
– Беда у нас, Лев Александрович, – пожилой слуга вздохнул, явно сдерживая слезы. – Да барин сам расскажет.
– Господи! – не на шутку испугался Лева. – С женой его что? С ребенком? Как он сам-то?
– Да нет, семейные все целы, – он снова вздохнул и добавил: – Пока целы.
Савва не сразу вышел из какой-то болезненной задумчивости, в коей застал его приход друга. Лева поймал на себе «стеклянный взгляд» и подумал уже, что потребуются силы и время, чтобы пробиться сквозь эту преграду, но Мимозов вдруг потеплел глазами и усталым, но совершенно осознанным тоном тихо обрадовался Леве.
– Левушка, как кстати! Ничего не могу. Держат, аспиды, в четырех стенах, да еще дознание завтра. Помогай, друг. Ты будешь моими руками нынче.
– Да что стряслось-то? Отчего полиция в доме?
И Савва рассказал. Он со старшими девочками подъехал в тот вечер к даче, когда там было уже полно полицейских. О случившемся он составил себе представление из обрывков рассказов жены, слуг и вопросов следователя. Феврония собиралась выйти к столу, когда услышала крики – сначала внизу, потом на улице – и выглянула в окно. С удивлением, она успела заметить, как обе ее младшие дочери пролезают в дырку забора, что было им строго-настрого запрещено. Спустившись, она увидела картину разорения, бездыханную Аннушку в цветах и потеряла сознание.
Тут как раз подоспели их ближайший сосед со слугами и местные мужики, одного разбойника схватили сразу, по горячим следам. Его жертвами стали повар с проломленной головой, попытавшийся защищать женщин, оказавшихся рядом с ним в кухне, и кухарка с Дашей, отделавшиеся обмороком и легкими ссадинами. Когда прибежали люди, повар был еще жив, и теперь над ним колдовали лучшие московские хирурги, и надежда пока оставалась. А тех двоих, кто орудовал у них в доме, ищут до сих пор. Кроме гувернантки за ними тянулся кровавый след по всей губернии, видимо они совсем обезумели и шли, не оставляя свидетелей, нападая даже средь бела дня, напролом.
Девочки перенесли случившееся без видимых потерь, хоть Настя и плакала постоянно, к тому же они оказались единственными, хоть и малолетними свидетелями. Показаний с них официально брать никто не посмел, но Шурка довольно подробно описала бандитов, и эти описания полностью совпали с полицейскими бумагами на сбежавших острожников. Савва тут же увез все семейство обратно в Москву, ночевать в том доме было немыслимо. Домашний доктор долго ругался на него за это, опасаясь за состояние подопечной. Феврония лежала теперь в соседней комнате, Савва больше не хотел отпускать ее от себя дальше, чем за пределы слышимости. Дверь была приоткрыта.
– Милая, ты спишь? – спросил он, чуть повысив голос, когда закончил горестный рассказ.
– Нет, совенок. Кто там у тебя?
– Левушка приехал. Можно мы зайдем к тебе?
– Как я рада ему! Конечно, идите.
Феврония в домашнем платье полулежала на кушетке с высокой спинкой, рядом лежала раскрытая книжка.
– Посидите со мной, – сказала она мужчинам. – Совсем не могу читать, ни одного слова не понимаю, забываю сразу же, что там было до этого, – пожаловалась она с беспомощной улыбкой.
Савва подсел к ней и молча стал целовать пальцы.
– Бедная девочка! – в голосе Февронии послышались слезы. – Моих защитила, а сама…
– Вороненок, не плачь, тебе нельзя, доктор велел, – Савва сам готов был заплакать.
– Хорошо, хорошо, – соглашалась с ним жена, гладя по плечу.
– Господи! – не выдержал вдруг Савва, и сдерживаемое рыдание вырвалось наружу. – Что я скажу ее родителям?
– Ну, не убивайся ты так! – теперь жена успокаивала мужа. – Что же ты мог, милый? Это же случай! – Она помолчала. – А родителей нет у нее, только тетка в Воронеже, надо бы телеграфировать. Ведь все хлопоты мы на себя возьмем, да, Саввушка?
– Да что ты говоришь, это само собой, – Савва потер лоб. – Вот ведь как. А я даже не знал. Ну, да, она и на праздники-то никуда не уезжала. Все время дома, все время Аннушка тут, как и всегда была. А я, пень бездушный, даже про родителей не спрашивал. Есть она, и есть, как так и надо.
– Учиться дальше хотела, все деньги откладывала… Да…, – вздохнула Феврония.
– Да, друзья мои, пока все эти дела не закончатся, можете полностью располагать мной, – Лева хоть чем-то хотел облегчить ситуацию. – Я в Москву надолго. Сколько нужно, столько пробуду.
– Видишь, как обернулось, не до переделок нынче, – вздохнул Савва. – Придется отложить. А новый дом загородный мне к будущему лету построишь? В тот мы не вернемся, нет.
– Вот они, твои предчувствия, Савва! – вспомнил Лева.
– Да вообще все как-то катится не по-людски. Как полоса какая! – возроптал Савва.
– Мужчины. Мужчины! – Феврония приподняла брови. – Что за настроения? Уж вам-то не пристало кликушествовать, право слово. Давайте думать, что если уж полоса, то за ней будет другая – светлая!
– Ты у меня известная оптимистка, – погладил жену по щеке Савва. – Если бы так.
– Так, – твердо сказала Феврония. – И только так. За ночью всегда приходит рассвет, за болью – радость и надежда. Во всяком случае, я желаю жить именно в таком мире. И мы все-все должны пережить с божьей помощью. И со временем на душе станет лучше, я знаю. Если хотите, то я обещаю вам это!
– Перебирайся-ка в Москву, Левка! – вдруг невпопад предложил Савва. – Я ведь теперь своих надолго не оставлю.
***
Лиза впервые поругалась с Лидой. Причем из-за такой ерунды, что даже сказать стыдно. Да и не то, чтобы поругались они, нет, конечно. Просто не сошлись во мнениях. Но Лиза, первый раз за много лет, не смогла понять подругу и ушла от нее с чувством, похожим на обиду. Скорей – на досаду. Или на то, что она запачкалась в чем-то. Но, может быть это гордыня? Может быть были правы они, а Лиза, действительно, «чистоплюйка»? Но, теперь все по порядку.
Именно это «они» и стало началом раздора. Лиза, зайдя к подруге, застала у нее всю давешнюю компанию – Кириевских и Хохлова. Мать Олениных уехала в город, она теперь дважды в неделю забирала Леночку из Института и возила ее к доктору, там они занимались речью. Потом они где-нибудь перекусывали в городе, мать везла ее обратно в Институт и домой возвращалась только под вечер. И сегодня дома хозяйничала Лида. Она наварила картошки, а к ней предполагалось подать селедку.
Лиза сразу почувствовала некую напряженность, которая уже проскальзывала раньше и только усилилась с прошлого раза. Она как будто оказалась одна против целостной и какой-то помимо нее сложившейся компании. Даже Алексей, который неотлучно выполнял роль ее «рыцаря», все-таки неоспоримо был частью этого, вновь образовавшегося сообщества. А Лиза была инородным здесь телом, и она ощущала это почти физически. Хотя никто, кроме Хохлова, этого не позволял себе ничем выражать.
– Изволит ли барыня откушать картохи с холопами? – не удержался от выпада Хохлов.
– Я не знаю, почему именно меня Вы выбрали мишенью для ваших уколов, – пытаясь сохранять спокойствие, отвечала ему Лиза, – но хочу еще раз сказать Вам, что подобный тон не уместен. Я пришла не к Вам, а в дом к своей подруге. И я ничем Вам не могла досадить, мы почти незнакомы. И Вам никто не давал права так себя со мной вести.
– Права не дают, их берут, милая барышня! – Хохлов буравил ее взглядом. – Вас я, может, и не знаю, но знаю многих, подобных Вам. Избалованные неженки, все в жизни получающие даром! Загребающие добро, заработанное чужим горбом. Но, подождите! Придет время, мы возьмем у вас все – и права, и добро.
– Я не понимаю, – растерялась Лиза. – Меня в чем-то обвиняют? Я у кого-то взяла какое-то добро? Что? Когда? Лида?
– Не обращай внимания, Лизонька, – как ни в чем не бывало хлопотала Лида. – А Вы, сударь, извольте не распространять свои марксистские взгляды на моих друзей. Фу! Сей же час извинитесь!
– Прошу пардону, возможно перегнул! – Хохлов привстал из-за стола и обозначил Лизе поклон. – Только Вы путаете, Лидия Пантелеевна! Это Игнат у нас марксист, а я – социалист!
– Только вы двое и понимаете разницу между этими понятиями, – засмеялась Лида.
– Нет никакой разницы, не бузи, Хохлов, – нудно вторил ей Кириевских.
– Как это нет? – Хохлов взял со стола кусок хлеба и, не дожидаясь еды, стал жевать. – Вы все застряли в своих кружках, в домах, на явочных квартирах и мусолите экономические постулаты. Надо переходить к открытой борьбе! Идти с агитацией на фабрики, на заводы, не сидеть по углам. Политические лозунги – вот сегодняшний и завтрашний день революционера. Надо всеми силами вовлекать рабочих в процесс борьбы, это нам, самим, прежде всего и нужно.
– Арсений! – Игнат аж побелел весь. – Ты забываешься, здесь же не кружок. Ну что и кому ты говоришь!
– Ну, пока не кружок, а там видно будет. Или ты тоже про нашу барышню? А? Барышня? Не побежите ли Вы прямиком отсюда в охранку?
– Лида, извини, я пойду! – Лиза встала из-за стола. – Право, я сыта.
– Не уходи, Лизонька, уже все почти готово! – Лида бегала между столовой и первым этажом, где была кухня, и многое из разговора упустила.
– Если Вы, милостивый государь, будете продолжать в том же духе, то я вынужден буду просить хозяев, чтобы это Вы покинули этот дом! – вмешался Алексей.
– Товарищ! – отвечал, не вставая, Хохлов.
– Что, простите? – не понял Семиглазов.
– Мне больше нравится обращение «товарищ», а не «милостивый государь». Называйте меня так, прошу Вас. И мне бы хотелось дождаться хозяйку дома и переговорить с ней уже сегодня. У меня к ней выгодное предложение.
– Извольте. Товарищ, – увидев, что Лиза не уходит, Алексей притих.
– Да не дуйтесь вы все! – примиряюще распростер над столом руки Арсений. —Не обижу я вашу недотрогу, присаживайтесь, мадемуазель. Мир? Вот уже и кушать несут.
Лиза села обратно, не желая обижать хозяев. Петр нес большую кастрюлю с картошкой, а Лида масленку и глубокую миску, в которой валялись неровно нарезанные куски селедки, с хвостами и головами вперемешку. Из них во все стороны торчали кости. Лизу замутило от этого вида.
– Что не так, Лизонька? – спросила Лида, перехватив взгляд подружки, теперь уже и в ее голосе послышались нотки насмешки.
– Она же не чищенная, – растеряно заметила Лиза.
– А вот у нас так принято, барышня! – встрял Хохлов. – По-простому. Да, хозяюшка?
Лида посмотрела на рыбу и потом кивнула.
– А почему ты ее не разделала, как нас учили? – искренне удивилась Лиза.
– И не подала на фарфоре, с кольцами лука и укропом во рту? Извини! В следующий раз. Сейчас и так все заждались, я не могу тратить еще час на хирургическое препарирование селедки. Каждый почистит себе сам, – Лида уже откровенно ехидствовала.
Лизе даже на миг показалось, что делает она это нарочно, показательно, чтобы понравиться Хохлову. Но тут же отогнала эти мысли, как вызванные обидой, а потому несправедливые. Хохлов явно наслаждался ситуацией, с трудом удерживаясь от высказывания, а потом все-таки сказал, но явно иное, не то, что хотел.
– Вас учили? – церемонно обратился он к Лизе. – И Вы смогли бы сейчас проделать это, продемонстрировав нам результат?
– Я, право, не все помню, это было в пятом классе. И там нужна целая рыба, с кусками, наверно, сложнее. Но да! Могла бы, что тут такого? Давайте я сделаю? – и Лиза потянулась к миске.
– Лиза, сядь! – Лида одернула ее почти грубо. – Будет так, как сделала я. Хозяйничай у себя.
За столом воцарилась тишина. Лиза пыталась понять, за что ее наказывают. Потом нашла в себе силы не разрыдаться, отдышалась и тихо сказала:
– Прости.
– Ешьте, ну что же вы, – Лида сидела все еще злая, но уже начала отходить.
Мужчины стали раскладывать еду по тарелкам. Алексей, ухаживая за Лизой, положил ей одну картофелину и больше ни на что не решился. Лиза посидела еще минут пять для приличия, слезы все равно находились где-то совсем близко, есть она не могла, а только поковыряла вилкой картошку.
– Простите, мне пора. Лида, я только заходила спросить, когда мы пойдем к модистке? Мы же собирались? Проводи меня, пожалуйста, мы там договоримся. До свиданья, – сказала она всем за столом, и они с подружкой спустились вниз.
– Прости и ты меня, – у калитки сказала ей Лида. – Но ты тоже хороша! «Давайте я, давайте я!». Зачем ты меня позоришь?
– Я действительно, не понимаю, Лидочка, зачем делать плохо, если знаешь, как сделать хорошо. Но ты права, это твой дом, твои правила. И все-таки, мне кажется, что никогда не нужно опускаться ниже того, что когда-либо было достигнуто. Ты же умеешь и знаешь, как сделать блюдо красивым.
– А может быть ты просто чистоплюйка? И побоялась запачкать свои нежные ручки? – снова сорвалась Лида.
– Закончим этот разговор! – гордо подняв голову, снова не позволила себе заплакать Лиза.
– Ну, прости! Прости меня, Лизонька! На меня как нашло что-то сегодня. Я наверно просто боялась сделать что-то не так. Я же впервые на хозяйстве. И ты думаешь, я все помню, чему нас учили? А тут люди пришли. Я спешила и волновалась. Давай забудем все. К модистке! Давай пойдем к модистке, как собирались. Вместе. Вот в понедельник, давай? Я отзанимаюсь с Аленкой, и пойдем? Хорошо, подружка моя единственная?
И они обнялись.
***
По уговору девушки встретились вновь, и все недавно произошедшее между ними показалось вздором и недоразумением. Они, как и прежде болтали, рассматривали модели в журнале, что отец выписал специально для Лизы, отмахивались от навязчивых забот Егоровны. Лида вначале побывала в большом доме, решено было, что точными предметами девочке лучше заниматься с утра, на чистую голову. Потом ожидала в людской, пока Лиза переоденется и завершит свои приготовления к выходу в город, а, когда та вошла к ней, стала потрясать номером газеты.
– Смотри, что я нашла! Это совсем недалеко от тебя, на Рождественке. Недорогая распродажа готовых платьев. Может быть, заедем посмотреть?
– Конечно, Лидочка. Все равно по пути. А, кстати, как думаешь, сколько брать с собой денег, вдруг попросят задаток?
– Задаток? – Лида задумалась. – Я рассчитывала в конце месяца получить за уроки и тогда рассчитаться. Мне еще ботиночки нужны, у меня ж только те, в которых я из Института ушла, но я их уже второй год донашиваю.
– Мне папа оставил денег. Я пока дам тебе, если хочешь. Так сколько брать, если на двоих?
– Нет, Лиза, – твердо ответила Лида. – Я пока подожду. В долг не возьму. Я должна точно понимать, сколько у меня будет своих денег, и сколько из них останется на одежду.
– Но это не очень умно, Лида, – начала было Лиза, но испугалась новой обиды подруги. – Хотя, как знаешь! Давай уже поедем, может сегодня и вообще денег не понадобиться.
Но Лида, как будто снова злилась. Лиза стала замечать, что в разговорах с ней она перестала чувствовать себя свободной и все время старается чем-нибудь не задеть гордость подруги. Но все равно промахивается. Вот и сейчас так получалось.
– Правильно мама говорила, – себе под нос бубнила Лида. – Какая модистка! Иди к Кристине.
– Лидочка, а кто такая Кристина? – старалась оставаться спокойной и приветливой Лиза.
– Это портниха. Она всю нашу улицу обшивает.
– Хорошо, давай потом заедем и к ней.
Лида потеплела. Они взяли с собой выпуск газеты с объявлением и, крикнув няне, что уходят, вышли из флигеля. В салоне на Рождественской улице они ничего не выбрали. «Дешевая» распродажа у Лиды вызвала ужас своими ценами, а у Лизы – фасонами. Они вышли на улицу и сели в повозку к Кузьме молча. Лиза улыбалась, вспоминая несуразные наряды.
– Давай никуда не поедем? – спросила вдруг, ни с того, ни с сего надувшаяся Лида, когда они уже отъехали на приличное расстояние.
– Почему, Лидочка? – удивилась Лиза. – Ты устала уже? Или хочешь вернуться в тот салон?
– Нет, – ответила Лида, и надолго замолчала, задумавшись. – Я подумала, если тут такие цены, то в том месте, где шьешься ты, мне и вовсе делать нечего! Зачем и ехать тогда?
– Ну, мы же договорились? – Лиза растерялась. – Я тоже не собираюсь тратить там много денег, мне нужен совсем простой костюм для экскурсий, не маркий и не жаркий летом. Всегда же можно договориться, выбрать ткань попроще…
– Лиза Полетаева! – Лида то ли снова злилась, то ли в чем-то осуждала Лизу. – Давай выясним раз и навсегда, что «мало денег» для тебя и для меня – это совсем разные вещи!
– Прости! – Лиза снова оказалась в чем-то виноватой перед подругой. – Но мы же условились вместе. И к Кристине твоей после едем. Закажешь у нее, если тебе так лучше и удобней. Почему ты со мной-то не хочешь пойти? Ты можешь ничего не заказывать. Но прицениться и просто посмотреть ты же можешь? Войти, посмотреть, что предлагают в этом месте? Ты же – свободный человек.
– Хорошо, не проповедуй, я и так уже еду! Смотри, какой смешной дядька семенит! – Лида сменила тему, и Лиза неохотно улыбнулась.
У модистки Лиза впервые была одна, в смысле – без сопровождения взрослых. Они с Лидой вошли внутрь знакомого ей дома и оказались во власти некой дамы, которая была вежлива и услужлива и расспрашивала их о всяких мелочах. Лиза отвечала, что да, ранее для нее уже заказывали здесь платье, но мерки ее все прошлогодние, а она выросла и нужно снимать их снова. Да, и с подруги тоже. Нет, заказывать будет только она одна, но на будущее, пусть и Лидины размеры сохранятся. Нет, не помнит кто исполнял заказ. Всегда к ним выходила сама мадам.
– Простите, у мадам нынче важные клиентки и она будет ими заниматься долго, там целый гардероб, – дама махнула рукой в сторону занавешенного входа в служебные помещения и, как по волшебству, в комнату вошли сразу четыре девушки. – Обслужите барышень, все запишите… Мадемуазель, на чей счет записать услуги? – спросила она у Лизы.
– Полетаева Елизавета, собственный дом Полетаева, – отрекомендовалась Лиза. – Но я хотела бы заплатить наличными, как все будет готово. Нужен задаток?
– Ах, мадемуазель! – дама хлопнула в ладоши и возникла еще одна девушка с кипой журналов. – Выбирайте фасон, а после мы обсудим ткани и отделку. Вот, рекомендую. Недорогая модель, у нас подобный костюм заказывала одна молодая учительница. Она много разъезжает, осталась довольна, говорит удобно и не мнется.
Девушки включились в процесс выбора. Лида оттаяла и тоже принимала активное участие в обсуждении, а при обмерах руководила швеями:
– Пройму ниже! Мне нужна полная свобода рук! Если я что и стану заказывать, то это не для посиделок и балов. Мне нужно в этом будет трудиться!
– О, да! Я вижу, вы обе барышни современные и вовсе самостоятельные! – поддакивала клиенткам принимающая их дама. – Ах, такое наше время! Дамы сами должны быть себе опорой. Кому, как ни нам, это отлично известно, медам.
Лиза не удержалась и выбрала ткань, качеством отвечающую всем ее требованиям, хотя и чуть дороже, чем другие образцы. Но она сэкономила на отделке, остановив свой выбор на простом шнуре из шелка. Девушки получили свою порцию удовольствия от женских хлопот и примерки, Лизин костюм обещали сделать через неделю. На выходе подружки столкнулись с Татьяной Горбатовой и ее тетушкой, они видимо и оказались теми важными персонами, которыми занималась лично мадам. Это было так неожиданно для обеих сторон, что ни Лиза, ни Татьяна не успели испугаться или придумать себе манеру поведения при новых обстоятельствах.
***
– Здравствуйте, Оленина! Здравствуйте, Полетаева, – первой опомнилась Таня, которая с утра играла роль благонравной племянницы, – Тетушка! Познакомьтесь, это мои одноклассницы.
Обе бывшие институтки присели в книксене перед мадам Удальцовой.
– Добрый день, медам, – жестом подняла их Гликерия Ивановна. – Эту девочку я не знаю. А Вас, Лиза, хорошо помню по пикнику. Передавайте привет Вашему батюшке. Очень мило мы с ним тогда побеседовали. Прощайте, медам. Таня, подай руку.
Они загрузились в свою карету и тут же уехали. Пожилая мадам явно была не в курсе похождений своего племянника, а Татьяна, если и была посвящена в них, то виду не подала. Земля не разверзлась, Лиза сквозь нее не провалилась. Можно было вздохнуть с облегчением, но на Лизу, наоборот, навалилась прежняя тяжесть. Она попыталась разобраться, что именно стало причиной этой внезапной тоски, неужели она все еще думает о нем? Но нет, не то. При воспоминании о Сергее, в груди Лизы возникло сейчас ощущение некой гадливости, но не сожаления. Нет.
Рядом была Лида, и разбираться в себе при подруге Лизе показалось неудобным, тем более, что та уже заподозрила что-то неладное и надо было на что-либо отвлечь ее внимание. Делиться с Лидой, да и ни с кем другим, Лиза и помыслить не могла. Ниночка! Ах, как жаль, что она теперь так далеко, единственная, кому можно было доверять полностью. А, может, Лиза тогда так и раскрылась пред княжной лишь потому, что знала, что та уезжает навсегда? И не сможет изо дня в день напоминать Лизе о случившемся? Отчего же такая тоска на душе все же?
– Что? Что, Лиза? – Лида вглядывалась в лицо подруги, когда они тоже уселись в коляску. – Ты расстроилась из-за этой встречи? Какая строгая тетя у Горбатовой! Да! Но вы ведь уже виделись раньше? Или она сказала что-то не то? А что? Ведь – только привет передать твоему папе.
– Эх, барышня! – протянул тут с козел Кузьма, глубоко вздохнул и хлестнул коня. – Эх, милай! Давай теперь в слободку, да с ветерком!
– Лиза, что-то с твоим папой? – притихла Лида. – Я думала, он на службе.
– Он, Лида, отошел от дел… – Лиза подбирала слова, не желая сказать лишнего, и сама удивилась, что слез в голосе не было вовсе. – Он сейчас далеко. В отъезде. Мы тут пока управляемся сами.
– Как сами, Лизонька? – Лида сейчас стала снова похожа на себя прежнюю, институтскую. – Ты что же, одна живешь? Ты ничего не говорила!
– Ну, почему одна? – Лиза указала на спину Кузьмы. – И Кузьма Иванович, и Егоровна со мной всегда. Я просто соскучилась сильно. Я увидеть папу хочу. Поговорить.
– Кто ж Вас, барышня, в скит-то пустит? – Кузьма не пропускал ни слова из беседы подруг. – И в сам монастырь-то, небось, только по стремлению души, а мирских да праздных они сразу определяют… Эх! Только ждать теперь!
– Да мне, Кузьма, хоть увидеть. Хоть издалека, – Лиза вздохнула. – Что жив-здоров…
– Это ты про тот монастырь тогда говорила? – спросила Лида. – Ну, когда с Петром-то было?..
– Да, про тот. Вон, Кузьма Иванович там был. Говорит, что не только с нашей губернии, со всех краев туда съезжаются. Так старцам верят, да, Кузьма Иванович?
– Так старцев-то на всех не хватит, к ним по ерунде не ходят, – хмыкнул возница. – А так – место уж больно намоленное, народ говорит. Верят.
– Может, правда, свозить Петрушу? – Лида, когда речь заходила о здоровье родных, могла горы свернуть. – Пусть хоть посмотрит, как это взаправду. А то мне, Лиза, иногда кажется, что он сам себе что-то придумал, чего и не существует вовсе. И наказывает сам себя, потому так и неприятно его слушать, ведь вроде все о душе, да о вере, а как-то неловко.
– Молодой человек, знакомый Ваш? – Кузьма не оборачиваясь продолжал встревать в разговор. – Свозите, барышня. Хужее точно не будет. А, так, глянь, душа-то и станет на место.
– Брат, – тихо ответила Лида.
– Кузьма, а ты мог бы нас туда отвезти? – спросила Лиза. – Только надо ехать тогда уж вчетвером, а если маму вашу с собой звать, то и впятером, да, Лида? Как поместимся-то?
– Дык, – Кузьма почесал в затылке. – У нас, барышня, сама знаете как нынче с экипажами. Не то, что раньше. В этой-то пролетке и третий – только со мной на козлах, если, поместится… А вот в сарае много разных стоит. Вот хоть у Вересаевых взять – дорожная повозка, вместительная. Четверых на ней точно увезу. Вы бы, барышня, поговорили с ними, может на денек уступят?
– Лида, а ты поговори с домашними. Может, на выходные и соберемся? Возьмем с собой еды в корзинах. Я скажу, Егоровна наготовит, что в дорогу можно.
– Ах, как хорошо бы было! Лиза! – Лида вся загорелась поездкой. – Только надо будет Петрушу так спросить, чтобы не взбрыкнул. Время выбрать. А по дороге можно будет еще в пару усадеб заехать, про сельские школы переговорить, – уже дальше фантазировала Лида. – И Белочкину просьбу исполнили бы!
Но тут они подъехали к дому портнихи, и Кузьма остался ждать их в проулке. Лида заказала себе платье, пару блузок и один костюм из темно-синего ситчика в мелкий цветочек – с рюшами и широкой юбкой в тон. У Кристины в комнате под ногами путались две девочки-погодки, и все время норовили стащить со стола то катушку ниток, то моток лент, то цветные лоскуты. Мать их не ругала, а как-то незаметно успевала отобрать все обратно, убрать подальше ножницы с булавками и переброситься парой шуток с девушками. Лизе так понравилось здесь, что возясь с девочками и ожидая Лиду, она решила себе тоже сделать такой же «крестьянский» наряд. А что! Тогда уж ее точно никто не отличит от Лидиной компании.
– Ну, что, барышня, решились? – весело спросила у нее Кристина. – Скидавайте платьице, обмерять стану. Только Вам больше пойдет голубое!
***
Голубая полоса неба занимала все верхнее пространство человеческого взгляда, уходя и справа, и слева в бесконечность. Внизу крутого склона холма, на котором угадывались разрушенные временем ступеньки некогда существовавшей лестницы, видна была подъездная дорога, а за ней простирались поля, прорезанные человеческими тропками, обрамленные по краю бархатной кромкой леса из островерхих елок и других, неразличимых отсюда деревьев. Блестели вдалеке под солнышком воды реки и редких прудиков и озер, и, сколь хватало глаз, всюду была необъятная родная сторона. Деревни, поселения, хуторки, домишки.
В скольких из них можно найти счастливых жителей? Где те, все верно делающие по жизни люди, довольные собой, своими близкими, своими делами? Как сосчитать их, да и есть ли они? А, если есть, то, сколько длится их безмятежность? До прискакавшего гонца, до новой вести в конверте, до запертой перед тобой дочерью двери? Ведь совсем недавно он сам мог отнести себя к таковым, и вот… Андрей Григорьевич, как уже освоившийся житель «слободки ожидания», впервые сегодня удостоился права прогулки за стенами монастыря. О тайной калитке в стене, пару дней назад, поведала ему его соседка по домику, немногословная вдова Угрюмова. Лишь только заселившись в освободившуюся комнатку, Полетаев в тот же день столкнулся с ней, следуя ко всенощной. Они раскланялись.
У другого своего здешнего знакомца, бывшего прокурорского секретаря Демьянова, а нынче соискателя монашеской жизни, узнал он, что вдова живет тут уже с прошлой осени, сильно сдала здоровьем последнее время, и выслушал одобрение того, что подселили к ней крепкого мужчину. Имя бывший прокурорский секретарь имел необычное – Рафаэль Николаевич. Проживал он отдельно ото всех мирских, в совсем разваливающейся хибарке на отшибе, был легко вхож на половину старцев, исполняя между ними и ожидающими некую роль вестового, но пока не удостоился даже звания постоянного послушника.
Разговоры среди проживающих при монастыре были не приняты, совместные трапезы проходили после общей молитвы в безмолвии, новостей тут, как таковых, не случалось, а жизнь была размерена и молчалива. Забывшихся и разглагольствующих сверх необходимых потребностей вежливости или просьб, проходящие мимо монахи обжигали такими взглядами, что охота балаболить отпадала надолго. Исключением оказался Рафаэль Николаевич – тот мог болтать при встрече не хуже какой-нибудь свахи. Будучи человеком души чуткой, Андрей Григорьевич очень быстро понял, что ни одна сентенция Демьянова не произносится всуе или бездумно, а, как правило, имеет либо предложение к размышлению, либо даже скрытый указ. Он стал прислушиваться, и, выполняя негласные послушания, влился в жизнь «слободки ожидания» довольно быстро, приняв все ее условности и ограничения.
На второе же утро своего пребывания в монастыре, он сам встал засветло, и к моменту пробуждения немощной соседки, уже натаскал воды в стоящую в сенях бочку. Та, заметив это, поблагодарила нового соседа, даже слегка улыбнувшись, хотя этому новому для нее выражению лица и пришлось прорываться сквозь прилипшую, как маска, гримасу то ли боли, то ли брезгливости. Неприятное было лицо. Прежде с ней в домике соседствовала глухая старуха, и ни о какой помощи с ее стороны, конечно, речь не шла. Вдова сама помогала той иногда перешагнуть порожек. Но над старухой сжалились быстро, принял ее старец всего лишь через месяц ожидания, и та отбыла в свой уезд накануне. До этого была девица, у которой отнимались ноги, а до нее толстенная попадья, что плакала и днем и ночью, почти не замолкая. Все это Полетаев узнал много позже.
Как ни строги были правила, а любопытство человеческое сильнее. Живя в замкнутом, хоть и огромном, пространстве монастыря, узнав его распорядки и обычаи, Андрей Григорьевич, уже через неделю пребывания здесь, мог с уверенностью определять нахождение в любой момент времени своих сожителей по «слободке». Вот сейчас все отправились на обедню, вот вернулись из трапезной, вот две сестры идут позже всех – исполняли послушание, убирали храм после службы.
Заметив, что соседка-вдова иногда на час-два исчезает из его поля зрения, он не удержался и как-то по дороге от храма к домику спросил ее об этом обстоятельстве. Тут и выяснилось, что так называемым «долгожителям», с благословения старцев разрешены прогулки. За монастырской стеной, над обрывом, идет узкая стежка, в конце ее рябина, посередине – скамья. Спуска вниз давно нет, заканчивается тупиком, вдоль шагов всего с сотню. Вроде как на воле, да и не в миру.
***
Ольга Ивановна приняла Лидин рассказ всерьез, но явного одобрения не высказала. «Делай, как знаешь, дочь. Ты теперь взрослая», – ответила она ей на предложение отправить Петрушу в монастырь. Сам он, неожиданно трезво и спокойно, выслушал сестру и, будучи в состоянии видимого душевного здоровья, согласился на поездку, оставив принятие решения о проживании в монастыре на потом. Отправились вчетвером. Кузьма, предупредив, что дорога дальняя, заставил их выехать по прохладце, чуть не затемно. К полудню они подъезжали к воротам монастыря.
Войдя с паломниками внутрь по указанию Кузьмы, уже бывавшего здесь, они сразу нашли главный собор. Пока следовали к нему, Лиза все оглядывалась, надеясь в одном из прихожан узнать отца. Народу вокруг было так много, как в праздничный день у них в городе, но ни одного знакомого лица. Кто-то шел на службу в собор, кто-то в тихий храм, где нынче стоял прохладный полумрак, кто-то целенаправленно приехал поклониться святым мощам, а кто-то спускался к источнику. Жизнь в монастыре была организована подобно городской – потоки людей текли по своим надобностям, совершались назначенные беседы с батюшками, оговаривались свершения таинств, монахи, минуя мирскую суету, исполняли назначенные послушания, все имело свой смысл и назначение.
Лиза отчаялась, озираясь. Лида и Петр тоже оказались растерянными, не ожидая такой толпы, и не очень понимая, что им теперь тут делать. Кузьма, проводив молодежь до ворот, вернулся к повозке. И лишь Алексей, обычно тихий и нерешительный, но с детства привыкший к монастырскому житью, не оробел, а сообразил задать вопрос проходящему мимо человеку в облачении.
– Скажите, Вы же тут все знаете? К кому бы нам можно было обратиться?
– Простите братья и сестры, мне не дозволено говорить с мирскими. Вон идет отец Павел, он поможет, – и монах, не разнимая рук, сцепленных под длинными рукавами рясы, кивком указал на идущего в их сторону батюшку.
Батюшка охотно остановился возле них, подробно рассказал, где и какие службы ожидаются до вечера, как набрать святой воды из источника, и где расположена купель. Всматриваясь во время разговора в лица молодых людей и барышень, приветливый батюшка вдруг замолк и, обращаясь теперь только к Петру, сказал:
– За избавление, сын мой, желаешь свечечку поставить? Пойдем, покажу где.
Он увлек их к той небольшой церквушке, что нынче была свободна от службы, и по дороге все рассказывал про какую-то тутошнюю икону, про ее чудеса и ограждение от бед. У порога он их оставил. Набравшись смелости, Лиза спросила у уже уходящего пресвитера:
– Скажите, а где здесь скит?
– На что тебе, дочь моя? – обернулся тот.
– Я хотела повидать одного человека, что сейчас живет при нем.
– Никак не возможно, – покачал тот головой. – Туда даже нам, монастырским, ход только по благословению. Если только он сам возжелает, тот человек.
– Скажите, неужели они вовсе оттуда не выходят? – опешила Лиза, не ожидавшая такого поворота дел. – Как же это! Я так издалека ехала…
– Дочь моя, в скит уходят, все равно, что из жизни, – батюшка смотрел на девушку с сожалением, но без сочувствия. – Из мира. Твое желание нынче не важно. Смирись.
– Но как же так! – снова и снова повторяла Лиза. – А может быть он и захочет, ведь он просто не знает что я здесь. Можно ли послать кого-то сообщить?
Батюшка покачал головой и долго смотрел на Лизу молча, пока она не опустила требовательный взгляд.
– Молись, дочь моя, – батюшка перекрестил всю компанию и снова собрался уходить, но потом обернулся и с улыбкой изрек: – К трапезе-то выходят, как не выходить.
Молодые люди поставили свечи в пустующей церкви, помолились каждый о своем, потом отстояли большой молебен в центральном храме. Перед их глазами сменялись довольные и упитанные тетки с румяными младенцами на руках, сухонькие старушки, как бы, уже одной ногой находящиеся в царствии небесном, и оттого взгляд имеющие неземной, устремленный куда-то вдаль, за невидимую грань. Мужички, вполне благополучные с виду, но что-то имеющие на душе лишнее, какую-то занозу, об избавлении которой и просили тут. Шепчущие то ли молитву, то ли просьбу девицы, мало, чем отличающиеся от Лизы с Лидой. Зрелые женщины с пустыми глазами, и с глазами, полными надежды или боли, пожилые матроны, стоящие службу как исполнение долга, как солдатский пост.
Больше всего поразил Лизу молодой парень, почти мальчик. Наверно, ровесник ей, или чуть помладше. Нет, ему не могло быть больше лет пятнадцати, а взгляд был «как в последний раз!». Он молился так истово, так взахлеб, так, не замечая никого вокруг, как если бы испрашивал жизнь по новой, вот прямо сейчас и никогда больше. Себе ли? О себе ли? Неважно это было сейчас вовсе! Просто это было так сильно, так взаправду, так на разрыв, что Лиза, если бы мольба была обращена к ней, не выдержала бы и секунды, исполнила сполна. «Пусть у него сбудется, ему так надо, – подумалось ей вдруг про себя. – А тебе? Тебе самой разве не нужно? Нужно. Но, если почему-то нельзя обоим, то тогда, Господи, лучше ему. Я не вынесу все время вспоминать этот его захлебывающийся шепот!»
Дорога, долгое стояние, новая обстановка, совершенно забытый голод, потому что корзины остались у Кузьмы, а обедать решили не выходить из ограды – все сложилось в одно и легло на плечи тяжестью безразличия. День клонился к закату. Надо было принимать решение – искать ночлег рядом с монастырем, или уж отправляться в длинную обратную дорогу. Ни о каких заездах в усадьбы речи уже не шло. По лицам своих спутников, Лиза поняла, что они всей душой рвутся обратно в город, что все, что могли, они здесь для себя уже почерпнули, что они устали, что хотят в привычную, понятную обстановку, но ради нее согласны терпеть.
Толпа паломников рассеялась, редкие группки отставших и отдельные прихожане медленно покидали монастырские пределы, и вот из-за деревьев, которые приезжие приняли за опушку леса, показалась небольшая вереница разномастной публики. В основном, это были женщины. Кто в повседневном платье, кто в дорогом барском, кто почти в монашеском, но с простыми косынками, двое в откровенном рубище – все они направлялись к трапезной. Мужчин среди них было трое. Отца Лиза узнала сразу, окликнула негромко. Он обернулся, увидел ее ясно, потому что был недалеко от аллеи, на которой стояла Лиза с друзьями, наклонил голову, как бы вглядываясь против заходящих закатных лучей. Узнал. Не остановился, а опустив голову, проследовал дальше. Ждать стало нечего.
***
Городской шлагбаум повозка монастырских паломников миновала уже в полнейшей темноте. Половину обратной дороги Лиза и Алексей молчали, а Лида и Петр переговаривались с Кузьмой, постепенно передавая ему все события дня, стараясь при этом обходить стороной последнюю сцену. Тот комментировал в своей манере особо яркие моменты, но к Лизе напрямую не обратился ни разу и про отца ничего не спросил. Миновав поворот, который вел к мосту, Кузьма проехал еще с четверть часа и остановился у обочины.
– Поешьте, ребятки. Весь день же впроголодь, – он кивнул на укрытые от солнца корзины. – Еще больше часа ехать. Да и Егоровна меня со свету сживет, если поймет, что мы ее стряпню не уважили. Давайте.
– Кузьма, ну, совершенно не хочется! – впервые за всю дорогу подала голос Лиза.
– Ну, вам не хочется, а вот я, старый, проголодался. Неужто, пирожка пожалеете, барышня? – схитрил Кузьма.
Пристыженная Лиза раздала свертки и сверточки друзьям и старику, и сама бросила в рот выпавший кусочек. И тут только поняла, насколько она проголодалась. Они разорили нянькину корзину почти до дна, оставив только пару краснобоких яблок. Выпили весь компот, бережно процеженный ею в бутылки, сыто отвалились на спинки дорожной повозки, и уже лениво перешучиваясь и пересмеиваясь, медленно продолжили путь к городу. Про монастырь и поездку в целом больше не поминали. Лишь, подъезжая к заставе, Петр, оказывается переживавший о чаяниях сестры, стал размышлять вслух:
– Не дело, что по усадьбам-то не проехались, – он вздохнул. – Теперь знаем, что на то целый день нужен. Лидочка, если тебе это важно, то давай так же соберемся и съездим?
– Мы, конечно, никому не обещали, – задумчиво отвечала ему сестра. – Но, Петя! Представляешь, как я явлюсь к Белочке и дам ей целый список мест? Вот она обрадуется!
– Одну тебя не пущу, – строго говорил брат. – Может так же? Снова? Все вместе? Лиза, скажите, можно ли будет еще эту повозку попросить?
– Не знаю, удобно ли это, – замялась Лиза, которая понимала, что злоупотреблять великодушием Вересаевых совестно. – Да и есть ли смысл ездить такой толпой? Если мы разобьемся по парам, то сможем охватить больше усадеб и сел. Так, Лида?
– Ах, как здорово ты придумала! Конечно, парами, – Лида чуть не хлопала в ладоши. – А то, что это? Заявимся целым кагалом, так нас еще и не каждый хозяин примет. Хорошо придумала! Да, Алексей?
Тот смущенно кивнул, понимая, что в пару ему достается Лиза. На том и порешили.
Лиза никогда прежде не бывала в городе в такое позднее время. Она удивилась, насколько он тих и пуст, как только они въехали на окраину. Ни огня, ни звука. Только собаки побрехивают, провожая стук колес вдоль заборов. При подъезде к слободке, где жили Оленины, им стали встречаться редкие парочки, а раз мимо проследовала довольно шумная и не очень трезвая компания. Но все было благочинно. Распрощавшись с попутчиками, Лиза согласилась ехать через центр города, где было не столько ближе, сколько светлей и безопаснее. На главных улицах и проспектах жизнь не затихала и ночью. Разъезжались гости из ресторанов и театров, гуляющие компании переходили шумно из одного заведения в другое, встречались экипажи с пестро одетыми и шумными барышнями, фланировали молодые бездельники.
Проезжая мимо салона, где на днях с них с Лидой снимали мерки, Лиза с удивлением заметила около его входа карету. Окна ее были зашторены. Кто же в такой час может заказывать наряды, и разве заведение не закрывается на ночь? Это показалось Лизе необычным, странным. Поэтому только она и обратила внимание на молодую, по всей вероятности, пару, что как раз выходила из дверей модного салона. Точнее было не разобрать – широкополая шляпа скрывала лицо и волосы кавалера, а его дама была в густой непроницаемой вуали.
В самом салоне все барышни, оставленные на сверхурочное обслуживание, тоже были в некоем недоумении, но высказывать его вслух мадам строго-настрого запретила. Она объяснила ночной визит причудами заказчицы, известной актрисы, пожелавшей остаться инкогнито. У той свободными оказались только поздние вечера после спектаклей и репетиций, а платить она собиралась столько, что можно было и промолчать о странностях. А странности были. Сняв вуаль, посетительница оказалась в маске-домино и расстаться с ней так и не пожелала.
Но, действительно, чаевые превзошли все ожидания, так что девушки согласны были вовсе забыть о ночном визите. Да и платье заказано было явно для какой-то исторической постановки – тяжелого бархата, с накидкой из парчи, расшитое золотом и самоцветами. Лишь у одной из служительниц салона сорвались с губ неосторожные слова: «Надо же! Никогда не видела двух дам со столь схожими мерками! А эти цифры я помню, и видела совсем недавно. Если полистать книги, то можно…» Но тут мадам посмотрела на нее такими глазами, что барышня осеклась и более клиенток и их обмеры не обсуждала.
Лиза с Кузьмой добрались, наконец, до дома, но и тут неожиданности этого длинного дня еще не оставили их в покое. В воротах они еле разъехались с повозкой доктора, который вид имел усталый, и только приподнял шляпу, приветствуя дочь хозяина. Лиза заволновалась и, соскочив с подножки, прямиком бросилась к своему флигелю. Егоровна открыла ей дверь живая и невредимая, но нахмуренная и озабоченная. Лиза облегченно выдохнула.
– К кому доктор приезжал, няня?
– Ох, доню, – Егоровна, видимо, действительно устала без хозяина, все беря на себя. – Приехал раньше, чем всегда, сошел с повозки, да на ступеньках большого дома и упал. Горничная Вересаевых его нашла. К нему-то на половину она заходить боится, ко мне прибежала. Камердинера его я вызвала, мы вместе поднимать его стали, а кровь горлом-то как хлынет. Ужас что было! Я уж адрес нашего доктора им дала, так тот камердинер так и полетел.
– Да чей? Чей, няня? – Лиза мало что поняла из сумбурной речи Егоровны.
– Да этого басурмана, что вас с Аленкой напугал давеча. Ах, бедолага! Доктор-то сначала все говорил: «Желудочная болезнь. Или язва, голубчик. Разве ж мыслимо столько пить!»
– А потом?
– А потом ему цвет чего-то там не понравился, так он нахмурился весь и говорит: «Ах, как бы, не яд тут побывал! С точностью ответить могут только лабро… лаборито… ла…» В общем, анализы увез, завтра, говорит, ясно станет, – закончила свой красочный рассказ няня. – А у тебя что, доню? Хоть повидала благодетеля-то?
– Повидала, – тихо ответила Лиза и, обогнув няню, направилась к себе в комнату.
– И что? – в спину ей, уже совсем безнадежно, спросила Егоровна.
– Жив, выглядит здоровым, – обернулась к ней Лиза.
– Домой-то не собирается? – в глазах Егоровны затаилась надежда.
– По всей вероятности – нет, – Лиза гладила ладонью свою дверь, но пока не отворяла.
– Так что говорит-то? – няня была настойчива, но поняв, что Лиза молчит в ответ, дала отступного. – Да вы хоть поговорили, дитятко?
Лиза мотнула головой.
– Я только издалека…
Поняв, что сейчас может пролиться дождь, няня вновь сделалась собранной и энергичной.
– А ну-ка отправляйся спать! А то – ночь-полночь на дворе, – она мелко перекрестила Лизу издалека. – Повидала, и уже – слава Богу! Утро вечера мудренее.
– Спокойной ночи, няня, – дверь за Лизой затворилась.
Обе разошлись утирать слезы в одиночестве, по своим углам.
***
– Почему надо было объявиться именно тут? – шипела Таня, усаживаясь в занавешенную карету. – Нет что ли во всем Нижнем Новгороде других пошивочных заведений? Здесь мы с теткой знакомы каждой гладильщице! Ты с ума сошел, братец!
– Сестренка! Ты в маске! Кстати, привыкай к ней, – Сергей отдернул шторку посмотреть насколько они отъехали от центральных улиц. – Ты молодец! Держалась как надо. А салон выбирал не я, а тот, кто платит.
– И кто же это? – презрительно скривила губу Татьяна. – Кто он, твой теперешний «хозяин»?
– Он такой же «мой», как и «твой»! – начал злиться Сергей. – Согласилась, значит ешь, что дают! И не задавай лишних вопросов.
После своего речного вояжа Сергей Горбатов изменился. Он стал спокойней, у тетки и сестры больше ничего не просил, но поставил себя дома так, что все очень быстро привыкли к тому, что он может ночь-две вовсе там не появляться. Тетка своими путями тут же разузнала, где находятся сейчас истинные интересы племянника, ему ничего не высказала, но убедилась в относительной безопасности, так как про вдову никто плохого сказать не мог. То, что племянник свою новую пассию под венец не тащил, в свет с ней не выходил, да и клянчить дома перестал, вполне Удальцову устраивало. Лишь бы не попал в какую-нибудь шумную историю. И она полностью занялась устройством будущего племянницы.
Отношения Сергея и Варвары были настолько неопределенными, что сама она устав мучиться надеждами и попытками объясниться, согласна была уже на то, что есть. Никаких слов он ей не говорил, вел себя с ней на людях, да зачастую и наедине, по-прежнему, редкие порывы страсти никак после не комментировал, а, наоборот, мог уйти наутро и не появляться два-три дня. По началу, окрыленная любовница, по женской своей логике решила, что теперь они являют из себя пару и попыталась одаривать нового спутника теми радостями, что сама считала стоящими. Например, созвала гостей на именной ужин в честь Сергея. Он не явился вовсе. Попадая впросак, Варвара пробовала обижаться, но Сергей вежливо раскланивался, обещая зайти позже, когда хозяйка будет в настроении. Выяснять с ним отношения оказалось делом практически невозможным. Он ускользал. Она смирилась. На вопросы общих знакомых: «А что нынче Сергей Осипович?», она научилась отвечать оплывшими фразами: «Был зван, если дела позволят – будет непременно». Что устраивало всех и отменяло вопросы последующие.
Единственное, что Горбатов благосклонно принимал от Мамочкиной – это устройство его публикаций. Уже вышли подборки прежних лет в двух солидных журналах и на вычитку приносили из типографии гранки его полного сборника, что готовился к тиражу в следующем месяце. Варвара прикармливала издателей, а тот господин, что ходил с ними на пароходе, стал теперь чем-то типа личного литературного агента при Сергее.
Лекарства было вдоволь, но Сергей, памятуя о приятных днях поездки и уже понимая, что и без порошка он может чувствовать себя не хуже, чем с ним, старался лишний раз не злоупотреблять, но таскал из запасов коробочки, чтобы не возникало вопросов, а было пополнение. К тому же еще не прошел страх после обморока, случившегося с ним до отплытия. Так у него возник некий личный запас в доме у тетки. По-прежнему, не было только наличных. Просить и брать деньги у Варвары он считал ниже своего достоинства.
И вот, как-то раз, сидя дома и выдерживая очередной воспитательный момент для Варвары, он так и так крутил и рассматривал предложение, полученное от барона на палубе. Прикинув все риски, пребывая нынче в состоянии ясной памяти и сознания, он решил, что опасность не превышает возможной выгоды. И он решился открыть все Татьяне. Вначале та возмутилась. Потом и вовсе рассвирепела: «Ты, братец, совсем докатился! Не смей трепать мое имя с какими-то проходимцами! Тетка будет заниматься мной, только в том случае, если этот год я буду вести себя идеально. Я ей обещала, что наша фамилия не будет упомянута ни в одном происшествии. Уж будь любезен, посодействуй мне в этом. Год – это не так долго! Можешь ты не влезать никуда хоть сейчас? Пощади меня».
Сергей как на духу, раскрыл ей все свои размышления, опасения и расклады. Сто раз повторил, что участвовать в затее будут люди не только, что из общества, а такого положения, что никаких упоминаний и фамилий не может быть в принципе. На таком уровне случайностей и проколов не бывает. Имя и честь ее в полнейшей безопасности. Это как артистический спектакль. А деньги в собственных руках не помешают никогда. Тетка теткой, и платья платьями, а на ленточки-туфельки-колечки у нее каждый раз не допросишься! Татьяна, будучи натурой авантюрной, на уговоры поддалась быстро. Глаза ее загорелись при мыслях о собственных расходах, а участие в необычном действе, она приняла как вызов. Вон, даже ее товарки-зануды, Полетаева и Чиатурия, и те по усадьбам с какими-то танцами ездили, выступали. Что ж она! Не справится что ли? В обмен Таня потребовала у брата выходов в свет. Решение было принято, Сергей встретился с гномом-искусителем, завертелись приготовления.
***
Андрей Григорьевич имел теперь возможность брать ключ от калитки. Благословили. Этому предшествовал его разговор с Демьяновым, который случился между ними, когда все трое мужчин получили послушание на монастырском огороде. Как правило, такие работы поручали женщинам, но тех услали куда-то всех вместе в этот день, а полоть-поливать было надо. Пока таскали воду, Полетаев и Демьянов помалкивали, а суровый дядька, что и был третьим среди них, как-то сразу взял командование, осуществляя его отрывистыми окликами или просто поднятием бровей или кивком головы.
– А ну, это! – он приподнял свою лопатную бородищу, осмотрев лейки, коромысло и пять ведер, одно из которых оказалось дырявым. – Давай оба. По два. А я тут буду.
Бородатый дядька пропустил крайнюю морковную грядку у себя промеж ног и, нависнув над ней, быстро-быстро стал продвигаться задом. Не разгибаясь. В межу ложились ровные букетики сорняка. Переглянувшись, двое оставшихся мужчин взялись за ведра. Полетаев быстро отстал от более резвого напарника, и они врозь теперь семенили к колодцу и обратно. Коромысло – не мужское дело, да его еще и носить нужно умеючи, так что скоро руки у Андрея Григорьевича почти онемели от тяжести двух ведер, но бросить порученное занятие не позволяла гордость, и он таскал их, кажется, только из одного упрямства.
Солнце клонило к закату, но жара и усталость все еще потом заливали лоб и глаза, мыслей в голове становилось все меньше, пока там не осталась одна-единственная: «Сколько ж ведер еще влезет в эту бездонную бочку!» Когда перевернутое очередное ведро плеснуло холодным лезвием по ногам, Андрей Григорьевич решил, что больше не сможет поднять сегодня даже кружки воды. Дрожащие руки покрылись вздутыми венами, он утер лоб и, перевернув вверх дном сухое прохудившееся ведро, устало опустился на него. Демьянов подошел с полными ведрами и присел рядом на корточки. Из одного «лишнего» ведра они умылись и напились, а бородатый мужик оглянулся, по звукам определив, что оба его напарника вернулись.
– Ну, что сели? – распрямился он. – Работнички. Еще ж и не начинали! А?
Рафаэль Николаевич вскочил, как нашкодивший школьник и стал переливать воду по лейкам. Полетаев наблюдал за льющейся струей, и было это отчего-то самым важным сейчас. Как только первая лейка наполнилась до краев, он подхватил ее и, повернувшись к грядкам с огурцами, стал лить с высоты своего роста. Руки тряслись, и вода расплескивалась из-под ручки.
– Куда ты! – укоризненно протянул бородатый, бросил свое занятие и подошел ближе. – Городские? – оба кивнули. – Ну, куда ж ты по солнцу льешь! Дождись, пока тень найдет. И листья побереги, погорят. Эх! Давай сам я. А вы уж тут. Резное оставляй. Остальное рви. Если две рядом, то мелкую тоже рви. Эх!
Он ловко подхватил обе полнехонькие лейки, и отправился в край огорода, где тень уже успела остудить требующие влаги посадки. «Городские» остались на прополке. Так быстро, как у мужика, у них не получалось, да и вниз головой долго не простоишь. Они все чаще распрямлялись, давая отдохнуть ноющим ногам, спине и почему-то плечам, и стали перекидываться сначала малозначащими фразами.
– Вот делишки-то, братец, – утирая лоб, с улыбочкой качал головой Рафаэль Николаевич. – Действительно, что это мы за работнички с тобой. Сколь здесь живу, на огороде ни разу и не бывал, так-то.
– Простите, мы с Вами на «ты» перешли, сразу так коротко? Я не заметил, – отвечал доброжелательно Полетаев.
– Да мы с тобой, братец, и словом-то не перемолвились ранее, ты ж новенький тут? – Демьянов смотрел не в лицо собеседнику, а на то, что вдалеке делает бородатый мужик. – Да и этого почти не знаю. Хотя он уж с месяц тут. Молчун. А я, знаешь ли, как дома тут уже. Все жду, когда милость старцы окажут. Прижился уж. Желаю, видишь ли, мил-друг, в монахи уйти, от суеты мирской и грехов тяжких. На прежнем месте все с батюшкой говорили, говорили. А он возьми как-то, да и отправь меня сюда, в скит. Я в ноги схимникам – сперва к одному, потом ко второму. Они не сговариваясь: «Нет, не пора еще тебе, не все в миру исполнил». Я: «Да что ж? Деток не нажил, родных не имею, пустите служить да грехи отмаливать». А те все велят – исполни то, исполни се, не готов еще, рано. Так я и что ж! Жду. А уж как по-ихнему славно-то, хорошо – «брат», «батюшка». Вот я и привыкаю.
– Так я ж гораздо старше Вас буду, как-то неудобно, – мялся Полетаев. – Может, попривыкнем пока?
– Да уж не настолько старше, чтоб в отцы сгодиться? А? – подмигнул Демьянов. – Не годишься в отцы-то? Брат?
– Да уж, – покраснел от такого прямого попадания Андрей Григорьевич, – В отцы-то я, как оказалось…
Он умолк и, нагнувшись, продолжил крестьянскую работу.
– А что приуныл? Никак я тебя обидел? Ну, прости. Не хотел, – Демьянов тоже стал выщипывать травку. – Ты, мил-друг, не сердись.
– Да что Вы… – Полетаев все никак не мог приноровиться к новому обращению. – Да что ты, добрый человек. Просто у меня это больное оказалось, ты ж не мог знать. Все хорошо.
– На меня сердиться что! – продолжал балагурить будущий монах. – Я со зла не скажу, а если ж по недомыслию, то, что ж… Прощенья просим! А детишки-то у тебя, поди, взрослые уже? Что ж это – прежде хорош был, а нынче не удался? Не хочешь, не говори. Только мне все можно. Я как трава в поле – услышу, так, по ветру прошелестит, да и все.
– Дочка у меня, – тихо сказал Андрей Григорьевич.
– Обидела тебя, не чай?
– Нет, что Вы… Что ты! – Полетаев загорелся взглядом. – Она не может. Она у меня такая… Институт благородных девиц с шифром от самой императрицы окончила. И помощницей мне стала, сама вызвалась. И уважает. И добрая. Вежливая. Родная моя девочка. Нет, не обижала.
– Так, значится, ты ее обидел? – продолжал расспрашивать Демьянов.
– Да нет, – по щеке Полетаева покатилась неожиданная слеза, а горло сжалось изнутри. – Да я с нее пылинки сдувать готов. Как можно! Наоборот! Я как подумаю, что ее кто-то обидеть мог… Может! Так дышать не могу. Ох! – и Полетаев положил ладонь на левую грудь, где тоже что-то перехватило сейчас.
– Сердечко? – заботливо кивнул на то собеседник.
– Да, пошаливает, – ответил Полетаев и, чуть отдышавшись, наклонился к грядке.
– Ты особо-то не рвись с непривычки, – Демьянов закончил свою грядку и теперь встал над незаконченной соседской, и продвигался теперь Полетаеву навстречу. – Что не успеем, завтра доделаем. А то нехай больше народу на это послушание выделяют. А лучше, чтобы сюда бабы вернулись, а мы к привычному. А? Соседушка? – он привстал и оглядел проделанный труд. – Нам бы поносить чего, да? Так? Разгрузить-разобрать, дров наколоть. Я еще маляром могу!
– А я, знаете, как-то не привычен, – честно признался Андрей Григорьевич. – Если цифры какие посчитать, или наперед прикинуть, чтоб запасов хватило, то это могу. Поля знаю, какие под пар пустить… Мастерские наладить…
– Мастерские? Ух, ты! – воскликнул сосед. – Так я тебя в кузню сведу завтра, там поспрошай, может, чего и присоветуют, как тебя лучше пользовать. Батрак-то из тебя… Как из меня почитай! – и он рассмеялся. – Я б тоже все с бумажками бы сидел, да вот жизнь по-иному решила. Так что, теперь, что велят, то и в радость!
– Да. Брат? – неуверенно пробовал непривычное обращение Андрей Григорьевич. – Физически я много не могу. Если в дом воды натаскать, то – это пожалуйста. Потихоньку. В своем темпе. А вот как мы сегодня наперегонки, то уж тяжеловато.
– Ноги? – спросил тот.
– Да нет, с ногами вроде все ладно, только к дождю ноют. А с чего ты спросил?
– Да видел я тебя с тростью, как первый день прибыл. Чего сейчас ее не берешь с собой?
– Да, знаете… – снова сбился на «вы» Полетаев. – Ой. Знаешь… Как-то тут неуместно это, что ли… Вроде как форс. Я ж без нее в принципе могу, она только помогает равновесие сохранять.
Полетаев распрямился, потому что пот уже тек через брови, и щипало глаза, и потер грудь с левой стороны, где щемило.
– Тебе с твоим сердечком гулять надобно, – Демьянов тоже встал, оба работника сошлись впритык, грядка была выполота. – Послушания-то – они ж не всякий раз на свежем воздухе будут. Это я тебе безо всякого доктора скажу, мил-человек.
– Мне соседка по дому сказывала, что есть тут какая-то тропа прогулочная, да не всем к ней ход дозволен. Что для того нужно? Как-то отличиться? Или определенный срок тут пробыть?
– Да разве ж для здоровья выслуга требуется? – Рафаэль Николаевич покачал головой. – Тут все проще, мил-друг, благословения надобно испросить у старца, да и вся недолга. А там уж, как он решит. Тут все просто, все за тебя решают. Тебе только о душе своей остается заботиться, с ней решать, о ней думать. А все остальное – как велели, так, значится, и лучше.
– Да как же я к старцу попаду? – Полетаев растерянно улыбнулся. – Его ж благосклонного приема и ждем здесь, днюем и ночуем. Уповаем. Если допустит, то не о прогулке ж я его просить стану. О главном сразу скажу, как увижу. Как же?
– Дык, – Демьянов почесал в затылке. – Дык, я, мил-человек, почитай каждый вечер перед старцами нашими отчет держу, такая на мне епитимья. Спросить за тебя при случае?
– Благодарю, – Полетаев склонил голову. – Если не затруднит.
***
И вот Андрею Григорьевичу стали выдавать ключ, и прогулки над холмом сделались привычным делом. Ключей от калитки оказалось два – у каждого старца свой – и иногда Андрей Григорьевич заставал на тропинке кого-нибудь, явившегося до его прихода. Если та, или тот, сидели в задумчивости на скамье, то, не нарушая молчаливого уединения, Полетаев прогуливался к рябинке и обратно, а устав ходить, обнаруживал скамейку уже пустой. Он все больше проникался душой к этому месту, откуда простор открывался неимоверный, где сидеть, казалось, можно было бесконечно, без единой связной мысли в голове, просто смотреть вдаль. Ни о домашних, ни о своей будущей или уже прожитой жизни мысли тут не приходили вовсе. Если и являлись они, то были большей частью величественными и всеобъемлющими, о людях «вообще», о чувствах и боли человеческой.
Захаживал сюда и Демьянов. Он как-то угадывал тот момент, когда Андрей Григорьевич уже собирался вот-вот встать, вдоволь наглядевшись и надумавшись, и они еще с четверть часа предавались ненавязчивому разговору. Тут, как правило, по скрипу калитки они определяли, что явился кто-то новый, и Полетаев раскланивался, оставляя будущего монаха наедине со вновь пришедшим. В этот раз Демьянов сообщил новость, которая для всех жителей «слободки ожидания» должна была являться радостной и обнадеживающей – старец назначил на завтра исповедь одной из паломниц.
Назавтра был день выходной, народу ожидался наплыв. Явился после завтрака в дом к Полетаеву Демьянов и протянул ключ от калитки.
– Послушание у тебя сегодня послеобеденное, знаю, брат. Ключ велено вернуть только к вечеру, так что можешь улучить часок.
– Благодарю, – ответствовал Полетаев, который только что мучился вопросом, чем занять себя до обеда – читать псалтирь или молиться наедине с собой, он так пока и не смог себя приучить подолгу.
Он сидел над обрывом, солнце начинало припекать, и все чаще подъезжающие внизу повозки не давали ему предаваться величавым раздумьям. После тщетных попыток поразмыслить о вечном, Андрей Григорьевич сдался, и стал просто и искренне наблюдать за приезжими. С одной повозки сошли четверо. Вслед слез с козел и кучер, чья фигура показалась Полетаеву ужасно знакомой, и повел стайку молодежи за поворот, где находились центральные ворота монастыря. Пока они не скрылись, Полетаев вглядывался, и почти уверился, что одна из барышень, несомненно, его дочь. Возница вскоре явился один и, развернувшись, стал отгонять повозку в тень. Это был Кузьма, сомнений не осталось.
Полетаев стал заглядывать внутрь себя, чтобы понять, что же он чувствует. Первым делом, еще только заподозрив приезд домашних, он испытал испуг. Да-да. Даже не удивление. А удостоверившись, что не ошибся, и что, скорей всего, сегодня ему предстоит встреча с Лизой, в груди его стало разливаться что-то неприятное, к чему он вынужден был прислушаться, чтобы понять природу этого ощущения. Это была досада. Причем уже знакомая, испытанная прежде. «Как? Когда это началось?» – подумал Андрей Григорьевич. – «Это же Лиза. Моя Лиза! Что происходит?»
А происходило то, что он не испытывал радости от присутствия любимой дочери, а самой первой, самой честной мыслью при виде ее было: «Ну, зачем?» Ах, как трудно было признать это. Но еще трудней было сейчас встать, пойти и разговаривать с ней. «Почему?» – снова сам с собой выяснял Полетаев. «А потому, что, чтобы я ей сейчас ни сказал – все будет ложью. Потому что нечего мне ей сказать по большому счету, а говорить о повседневном, о еде и здоровье, вовсе немыслимо, вовсе бессовестно, вовсе лживо. Она неприятна мне. Неприятна всем своим видом, хоть плачущая и страдающая, хоть собранная и гордая. Любая. Не хочу ее видеть!»
– Подумываешь о дороге, брат? – прозвучало над ухом.
– О, боже! – Полетаев вздрогнул. – Я вовсе не заметил тебя, Рафаэль Николаевич. Давно тут стоишь?
– А лицо-то, лицо у тебя какое, брат! – не ответил тот и присел рядом на скамейку. – Нет, тут не о путешествии думы. Вспомнил кого-то? Да ты ж страстями обуян, как я посмотрю.
– Послушай, оставь этот балаганный тон, прошу тебя, – опершись на трость, Полетаев не поднимал больше лица, и получилось, что он снова смотрит на дорогу.
– Ну, прости, прости, брат, – как ни в чем не бывало, продолжал разговор Демьянов. – Хотел взбодрить тебя, да снова не угадал.
– А чего угадывать? – сегодня и Демьянов был отчего-то неприятен. – Возьми да спроси.
– Вот и спрошу, мил-друг, – продолжая оставаться в радужном настроении, все больше раздражал его бывший судейский. – Никак, привиделось что? Или узнал кого внизу?
– Дочь там моя! – вскочил Андрей Григорьевич. – Моя родная дочь! Что Вы понимаете, бездушный человек!
– Да то и понимаю, что раз не бежишь к ней по сию пору, значит не в масть тебе эта встреча, и приезд ее не в масть. Так ли, мил-друг? – Демьянов похлопал ладонью по скамье. – Да ты не дергайся, присядь обратно. Давай поговорим, чего от себя самого-то прятаться, а? Это та самая, что ты мне рассказывал? Которая тебя не обижала, и которую ты не обижал?
– Прости, – Полетаев сел обратно. – Я сегодня отчего-то сильно раздражен, сорвалось. Та самая, да она одна-единственная у меня и есть. Лизонька.
Демьянов молчал. Андрей Григорьевич тоже замолк, то ли ожидая очередного вопроса, то ли просто не зная, что еще и сказать-то. Помолчали. Через пару минут Полетаева как прорвало.
– Ты понимаешь! – развернулся он лицом к собеседнику. – Я не могу ее видеть! Это черт знает, что такое! Я не могу даже вспомнить, когда это началось. Но не сегодня, не сейчас. Это было, было уже там, дома! Неприятно видеть ее лицо, ожидание чего-то на этом лице! Ах, как мне мерзко сейчас!
– Выросла девочка, – задумчиво произнес Демьянов и вновь умолк.
– Да причем тут «выросла», – уже упавшим голосом пробормотал, внезапно уставший от своего выплеска Полетаев. – Выросла-то она, выросла. Это я знал и вчера, и месяц назад, и когда только собирался забирать ее из Института. Это все не то. Это все после того случая изменилось.
Демьянов молчал. По звону колоколов главного собора, они поняли, сколь долго уже сидят тут вместе. Полетаев теперь смотрел вдаль, на маленькие домишки, дрожащие в полуденном мареве, и на душе было тоскливо и муторно.
– Служба скоро, – констатировал Демьянов. – К обедне-то пойдешь?
– А где нынче?
– Да у Николая Угодника.
– Пойду.
Снова воцарилось молчание.
– Ты только себя не казни, – тоже глядя куда-то в поля, сказал Демьянов. – Ты сам хозяин своему времени и вниманию. Раз к Богу под крылышко прибило тебя нынче, в тишину, да в раздумья, так значит Ему и видней. Так значит и правильно. Сам себя слушай, да верь. И гневу своему верь, и злости, коль надо.
– Да как же можно! – возроптал Полетаев. – Человеческий разум на то и даден, чтобы гасить в себе этакие…
– Да ты послушай, – прервал его Демьянов. – Что толку насиловать себя постоянно, если все равно прорвется. Всему же есть причина, исток. Твоя злость тебе и указывает, что не все так гладко ищи, мол! Очисти душу-то! Ты ищешь? На одном характере долго не сдержишься. И разум твой…, – он махнул рукой, но сразу продолжил. – Болит-то у тебя не разум, а душа. Вот ты сейчас накричал на меня… Постой! Не извиняйся снова, лишнее это… Вот ты на меня собак спустил, а окажись она перед тобой, то и на нее смог бы. Кому от того лучше? С тем ее отпустить домой желаешь? То-то. А это ж не я виноват нынче, да и не она. Да и не ты, друг мой милый! Так что, не хочешь ее видеть, так значит и пореши. На том и стой! И на том будь спокоен. Так, значит, и лучше сейчас. Мы часто на близких своих выплескиваем то, что внутри клокочет, потому, как времени на раздумья не имеем. А ты ж сюда и закрылся, друг мой милый, чтобы ответы получить. Разве не так? То-то. А какие ж ответы, если у тебя пока и вопросов-то толковых нету? Или есть?
– Есть. «Почему так?» – ответил Полетаев и сам замолчал надолго.
***
Давали оперу. Сергей взял три кресла в партере, на ложу тетушка не разорилась. Он обещал ей и сестре сопровождение в день спектакля, но, вызванный в город запиской, узнал, что на этот же вечер барон назначил первое собрание «братьев Мертвой царевны». Сестра не расстроилась. Выход в свет будет совершен, новый наряд продемонстрирован публике, завистливые взгляды дам и барышень света – собраны. Татьяне вполне хватило бы на это первого отделения, сама театральная постановка ее привлекала мало. Брат и сестра собирались в антракте оставить тетушку в одиночестве и сделать вид, что они вместе сбежали от нее в ресторацию. Зная их склонности, она бы этому вовсе не удивилась, хотя и ворчала бы о плебейских нравах, но увязаться за ними у нее не возникло бы и мысли, она сама подобных мест не переносила. Но вышло еще удачнее – тетка накануне приболела. Не сильно, но с чиханьем и другими мелкими неприятностями, с коими на люди не выйдешь.
Уже в начале десятого вечернего часа, экипаж, которым Сергей управлял нынче собственноручно, въезжал в ворота загородного особняка. Это была частная резиденция, сдаваемая под гостиничное проживание. Молодые люди прошли в третий этаж, Сергей отправился искать барона, а Татьяна начала преображаться в Царевну, найдя разложенные на кровати платье и иные принадлежности в той комнате, куда ее проводили. На туалетном столике грудой лежали браслеты, жемчужные нити и золотая цепь. Но все это великолепие затмевал массивный венец, сплошь усыпанный самоцветами, которые сияли под колеблющимся пламенем свечей. Татьяна зажгла свет электрический и стала внимательно изучать украшение, едва сдвинув его с места. По ее наблюдениям и металл, и камни были настоящими, драгоценными. Она попробовала водрузить сооружение себе на голову, но поняла, что носить эту сказочную корону в обычной жизни невозможно, если не придерживать ее обеими руками. Тяжести та была неимоверной.
Раздался тихий стук в дверь, это вернулся куда-то отлучавшийся Сергей.
– Ну, что? Готовишься, сестренка?
– А как я все это сама надену, кто-нибудь подумал? – Таня начинала злиться. – Мне нужна хотя бы одна девушка. Изволь пригласить!
– Кхе-кхе! – Сергей слегка смутился. – А вот это вряд ли возможно… Ты уж разденься до панталончиков, сестренка. Белье-то остается твое, собственное, его снимать не нужно. А уж твоей горничной придется побыть мне самому.
Они с трудом одели Таню в тяжелое бархатное платье, потом последовали парчовая накидка, круглый царский ворот, шитый золотыми нитями, такие же манжеты… Сергей долго путался в многочисленных застежках. Таня даже вспотела, и, полностью облаченная, присела к столику остыть и успокоиться. То, что дома казалось развлечением, легким способом «ни за что» получить денег, оказывается, уже начинало требовать к себе внимания и терпения. Таня нанизывала на запястья многочисленные браслеты, когда в дверь постучали, но уже настойчивей и уверенней, чем ее брат. Сергей выглянул в коридор для объяснений.
– Позволите войти? – раздался приглушенный скрипучий голос. – Ах! Сию же минуту погасите верхний свет, молодые люди!
Корндорф вошел внутрь комнаты, прикрывая глаза ладонью. Верхнюю часть его головы скрывала маска с подобием клюва, и, видевший ранее его лицо открытым Сергей чуть не захихикал, подумав, что рельеф домино всего лишь утрированно повторяет черты собственной физиономии Модеста Карловича. Но он сдержался. И послушно погасил люстру. Барон оглядел все вокруг и протянул Сергею коробку и небольшой футляр.
– Опаздываете, молодые люди, – с укоризной проскрипел он. – Вы уже час валандаетесь с переодеванием. Вы сами назначили такие сроки, хотя можно было прибыть заблаговременно. А барышне еще предстоит занять свое… э-эээ… ложе. И достичь состояния покоя. Кстати, простите за интимный вопрос, я надеюсь, барышня ничего не пила нынче вечером?
– Вы имеете в виду алкоголь? – не понял вопроса Сергей. – Запах?
– Я имею в виду естественные потребности тела, молодой человек. Которые удовлетворить барышня сможет только по окончании сеанса. И вот это, – он указал подбородком на переданные Сергею предметы. – Наденьте, милая. Если гости привозят с собой некие детали женского туалета, то по окончании игры, естественно, могут унести их с собой. Но сначала они хотят снять их. С тела. Сегодня принесли вот это. Да-да! Гости уже съезжаются! Могу дать вам четверть часа, не более.
– Простите! – наконец подала голос оробевшая, и, отчего-то онемевшая при приходе барона Татьяна. – Венец. Я пробовала надеть. Он падает от тяжести.
– Ах, ты! – озаботился гном и всплеснул руками. – Не рассчитали! Но этот атрибут непременно должен быть, без него никак нельзя. Голубчик, давайте попробуем надеть на уже лежащую голову!
Теперь Таню прошиб холодный пот, и она жалостно посмотрела на Сергея, как будто бы он мог избавить ее от напасти и защитить от этого колдуна, так свободно распоряжающегося ее головой. Барон первым вышел вон. Сергей заглянул в переданные им свертки – в одном был массивный золоченый браслет под стать венцу, во втором – пара золотых расшитых туфелек.
– Сережа, я боюсь, – Таня сейчас была правдива, как никогда.
– Ну, потерпи, сестренка, – Сергей вытер пот и у себя со лба. – Глупо убежать сейчас, не дети же! Пойдем, я помогу тебе лечь.
Таня прислушалась к себе, подумала о справедливости слов мелкого страшного человечка, но поднимать сейчас все эти тяжеленные юбки, ютиться с ними в маленькой комнатушке, или, тем более снять все это… Нет! Уже вовсе нет времени! Не может же «это» продолжаться долго? Она потерпит. И она решительно переодела туфли и нацепила на руку еще один браслет.
Благодаря непокорному венцу, Сергею удалось увидать место самого действия. Комната была украшена с почти театральной нарочитостью, и действительно напоминала терем. Освещение было тусклым, свечным, и колышущиеся тени придавали всему некую таинственность. Татьяну еще раз затрясло, когда она поняла, что нужно ложиться именно в гроб. Но, отдать должное бутафорам, или иным мастерам – гроб был сказочным! Полупрозрачный, мерцающий на просвет голубыми огнями, отраженными от свечей, он будто бы сам чуть светился в полумраке. Из него свисали длинные концы погребальных тканей, устилающих хрустальное дно, а в изголовье даже лежало нечто похожее на подушечку. Таня не могла произнести ни слова и поэтому не возражала. Укладываясь, она ощутила под лопатками жесткий валик и попыталась привстать, думая, что это замялись какие-то полотна.
– Терпите, красавица! – скрипел клюватый барон. – Так надобно.
Таня поняла, что благодаря этому возвышению, грудь ее пиками вздыбилась в потолок, но ей уже было все равно, она только мечтала, чтобы все это поскорей закончилось.
Она закрыла глаза и после только по ощущениям понимала, что происходит вокруг. Вот на нее возложили корону, вот чьи-то холодные пальцы разгладили складки на ее одежде, поправили юбки и украшения на шее. Вот зажгли еще свечей, потянуло какими-то ароматами или благовониями. Наступила полнейшая тишина. «Только бы не чихнуть, как тетка!» – подумала Таня и услышала, как под поминальные песнопения отворяются двери. Действо началось.
***
Лиза забрала у слободской портнихи наряды, встретившись там с Лидой. Они обе вышли на улицу, довольные обновками. Лида расплачивалась сама, вчера Вересаевы заплатили ей за Леночкины уроки. Лизе тоже. Она не стала смешивать эти деньги с отцовскими, а сложила все в тот же, прежний, «мимозовский» конверт. Ей почему-то было приятно дотрагиваться до его прохладной голубоватой бумаги с трогательной нарисованной розочкой в уголке. Конверт был «счастливым» и все время пополнялся. Лиза сидела в своей комнате у стола, раскладывала бумаги и слышала, как Егоровна собирается куда-то в город. Лиза тоже думала с утра, что прогуляется с подругой, но та сослалась на дела, к себе не позвала, а как-то быстро распрощалась, лишь выйдя от Кристины. Лизе пришлось вернуться домой.
– Няня! Ты в город? Или в лавку? – выглянула в коридор Лиза.
– Да до базара с Иванычем проедусь. По рыбным рядам похожу. Свеженькой ухи нашему болезному надо, густой, клейкой! Все как рукой снимет. Если уж ночь-другую перемогнулся, пережил, то теперича, хоть какая отрава там была, мне тех анализов и глядеть не надо! Выхаживать бедолажного надо. Ершиков да окуньков с карасиками для навару возьму, – медленно перечисляла, собираясь, няня. – Осетринки. Икорки красной – в бульончик пару ложек кинуть, чтоб прозрачный стал, как слеза.
– Няня, купи селедки, – вдруг попросила Лиза.
– Да ну! Шуткуешь, дитятко? Или, взаправду, соскучилась? – Егоровна закатила глаза в потолок. – А и, впрямь, давно не едали. Это благодетель ее не жалует, а ты, как маленькая была, так с картошечкой очень любила! Наварю молоденькой, потопчу с молочком, как тогда, да, доню? Да с укропчиком! Или, может, все-таки семужки лучше?
– Нет, няня, купи селедку. Только целую, с головой. И ты ее не разделывай! Я хочу вспомнить, чему нас в Институте учили. Сама приготовлю.
– Ах, ты, батюшки! – непонятно в одобрение, или напротив, в осуждение всплеснула руками Егоровна да так и вышла из дома с удивленно распахнутыми глазами.
Лиза осталась одна. Пойти к инструменту? Но ей сегодня совершенно не хотелось играть. С тех пор, как душа Лизина была не на месте, оказалось, что музыка больше не может творить с ней то, что совершала раньше. Не может взбодрить, не может выплеснуть через себя накопившиеся страсти, не может взволновать, довести до частого дыхания, до умиления, до слез. Не может оставить после в благостном опустошении, которое сменяется вскоре на жажду новых впечатлений и чувств, освобождая для них место и наводя порядок и чистоту внутри. Теперь все было не так. То есть Лиза, конечно же, продолжала свои музыкальные занятия, чтобы не потерять технику, она тренировала пальцы и память, но делала это почти механически, расставляя акценты лишь умом, переходя на пьяно и форте лишь по велению знаков в партитуре.
Пойти на кухню? Но, что там делать, в царстве Егоровны? Без няни даже чаю не хочется. Нет, потом, позже там еще будет у нее дело, сама захотела. Не сейчас. Пойти во двор? Полить клумбу? Да, вон – сияет она, блестя свежими капельками на солнце. Цветы пышные, обильные. Дворник не забывает про нее каждое утро, а сейчас поливает подъездные дорожки, раскалившиеся на солнце. Так что Лизе и там делать нечего. Открыть папин кабинет? Но она отпечатала все материалы для его докладов еще недели две назад, а новых он, по понятным причинам, не приносил.
Лиза никуда не пошла, осталась у себя. «Ну, что? Вот ты и осталась сама с собой. Поговорим?» – внутренняя, и какая-то очень взрослая Лиза, давала понять ей, Лизе, сидящей за столом и бесцельно перекладывающей бумажки, что пора, отступать дальше некуда. Что произошло? Как жить дальше? Неужели не будет больше радости в этой, ее, тоскливой жизни? Но это же невыносимо! Вот так, ровно, спокойно и без души? Нет. Давай сама себе сейчас скажи, что для тебя выйдет непременной радостью. Что?
Папа. Что почувствовала она тогда на дорожке монастыря? Когда, вопреки надежде и даже простой вежливости, принятой у них в доме, в ее кругу, среди всех ее знакомых, папа не подошел к ней, а, опустив глаза, удалился прочь? Будто она досадное препятствие для него. Или пустое место. Или чужая вовсе.
Как ни странно, Лиза не почувствовала боли. Скорее жалость к отцу, и только. И даже не было досадно, что все это произошло на глазах у ее знакомых, которые старались после всячески проявлять свою тактичность. Она, как бы изнутри себя, наблюдала за ними всю обратную дорогу, но сама ничего особого не чувствовала, а молчала, потому что вступать тогда в любой разговор казалось ей фальшивым и наигранным. Петр от отрывистых возбужденных реплик, видимо призванных загладить недавнюю неловкость, переходил внезапно к состоянию угрюмости. Его сестра часто забывалась и отвлекалась на дорожные впечатления, а потом, как бы опомнившись, сдвигала брови и от естественного смеха переходила к показному сочувствию, в котором Лиза уж точно, вовсе не нуждалась. А сердобольный Алексей своими глазищами, казалось готовыми каждый миг пролиться слезами, вызывал только досаду, хотя Лиза и понимала, что он за нее переживает искренне.
Папа. Конечно, первейшей радостью будет, если папа вернется! Но непременно нужно, чтобы он вернулся прежним, привычным. А какой, какой он настоящий, Лиза? Чуть робеющий перед ее девичьими нуждами… Собранный и слегка горделивый перед посетителями экспозиции… Уверенный и деловой в мастерских. мягкий и нежный с ней, мягкий и спокойный с Натальей Гавриловной. Надо будет спросить у няни про ту комнату…
Конечно! Еще же Митя! Безоговорочной радостью будет, если вернется сын к матери! Лишь бы живой. Невредимый.
И Нина. Ниночка! Вернуться она, конечно, вряд ли сможет. Но хоть письмо от нее пришло бы. Весточка. Это будет радость, да.
Как-то получается, что все радости связаны с чьим-то возвращением, подумалось Лизе. Это как проверка, да? Потерять, чтобы оценить? А вот он… Лиза впервые с тех пор позволила себе подумать о нем. Она медленно выдвинула ящик стола, и из «потайного» места достала альбомчик. Развязала его тесемочки и вынула смятый, а позже разглаженный конверт, заложенный между страниц. Достала письмо. Перечитала. В нынешнем ее состоянии и оно читалось бесстрастно. «Прощайте. Не называйте…» Лиза и не могла! Даже в воображении своем до сих пор не могла она произнести его имя.
Он. Что будет, если в ее жизнь вернется он? Радость будет?
Лиза вспоминала тот день. Его руки, губы, свое смятение. И странную, незнакомую негу. Ей было приятно, когда он ее целовал, чего уж врать-то! И, когда они лежали в высокой траве и цветах, да! Ни одного того мгновения не отдала бы она обратно. Стыдно? Может, она действительно дурная – и дочь, и воспитанница, и девушка… Но за это не так стыдно. Стыднее, гораздо стыднее – за произошедшее позже, когда на пороге ее родного дома он говорил эти грязные слова, тащил ее куда-то. Если бы слышала мама! Какой позор!
А, может быть, она и «слышала»? Где ж еще находится светлой ее душе, Лизиному ангелу-хранителю, как не там? Может, это она и «не пустила», выставила обидчика дочери за ворота? Оттого и помутился у него разум, и оставил он Лизу одну? Но оставил там, где ей уже ничто не угрожало. Где каждый встреченный по пути человек становился помощником ей и спасителем.
Так что радости не будет, даже если он снова окажется рядом. Даже прежним! Даже шепчущим ей на ухо нежности, даже наклоняющимся к ней в поцелуе, со свисающей челкой, что закрывает половину его лица. Ни ему, никому не поверит отныне Лиза. Никаким словам. Лиза все время теперь будет со страхом ждать этого ужасного «после». Искаженного гримасой лица, других, жестоких слов. Какая уж тут радость!
Достаточно о радостях. Лиза как-то успокоилась и стала глубже дышать. Радости радостями, а вот съездить в имение снова, по-хорошему, она себе обещает. Сходить к маме на могилку. Поблагодарить мужиков, которые нашли ее, Лизу, у речки, поклониться Наталье Гавриловне. Поставить свечку в том храме, куда, сломя голову мчалась она «венчаться» без благословения. Если не радость, то покой и удовлетворение эти ее действия ей принести должны. Она чувствует потребность в них. Она так и сделает.
Надо что-то делать. Надо что-то делать прямо сейчас, потому что ей очень неуютно стало с самой собой. Вот хорошо, что, наконец, произвела она эту ревизию чувств. Хорошо, что сказала себе многое. Но легче не стало. Нет. Надо поговорить с кем-то, кто видит все по-другому, шире, взрослей. С кем-то еще…
С кем? Папа? Савва Борисович? Нет, он не настолько близок ей, чтобы так открывать душу. Про папу он понял бы, а остальное? Можно было бы попробовать поговорить с Аришей, если бы она была тут… Но ее нет. Няня – это вовсе не то! Подруги? С Лидой стало трудно говорить даже о повседневном. Нина далеко. Письмо? Можно же не ждать, а первой написать ей! Но, слова на бумаге – это же не живой разговор. Да и куда писать? Адреса пока нет.
Лев Александрович. Почему-то ей вспомнился сейчас Лев Александрович. Он дружит с папой, с Мимозовым. Но ей с ним легко, не так, как с прочими взрослыми. И после разговоров и встреч с ним, она как будто бы становится сильней. Или лучше узнает себя. Как помог он ей перед первым выступлением в павильоне! Тогда, в Александровском саду. В тот день он назвался ее другом и просил помнить об этом. Вот Лиза и вспомнила.
Она под влиянием момента тут же написала записку, в которой просила о встрече, вышла во двор и отдала ее дворнику. Тот сказал, что сам нынче отлучиться не может, а пошлет кого-нибудь из мальцов. «Нужен ли ответ, барышня?» Лиза задумалась. Лев Александрович человек занятой, возможно ему нужно будет освободить время для нее, торопить его неловко. «Нет, пусть просто отнесет на адрес и отдаст хозяйке, сам адресат может быть на службе».
Лиза вернулась к себе в комнату и тут ее стали одолевать мысли, что это стыдно – когда барышня пишет мужчине. Она хотела уж, было, пойти забрать записку обратно, но в окно увидала, как, посланный дворником пацаненок, поднимает босыми пятками пыль уже за воротами. Ему обещали гривенник. Не бежать же вслед? Лиза постаралась успокоиться и отвлечься. Но вернуться к своим мыслям больше не удавалось. Читать не хотелось.
Хлопнула дверь. Вернулась няня. Лиза надела передник и отправилась на кухню.
– Пойду обмоюсь, доню, – утирала пот Егоровна. – Что за лето нынче! Погорит все, ни одного дождя! Пора бы уж! Ну, хозяйничай тут пока мест без меня.
Лиза развернула толстую промасленную бумагу и стала вытаскивать серебристые рыбины. Всего их там было три – Егоровна должна была еще накормить Кузьму, да и, тот самый, соседский дворник частенько заходил поужинать, если у его господ не готовили или те были в отъезде. Лиза промыла рыбины в глубокой миске с водой и, взяв нож, счистила чешую. Выложив первую селедку на доску, Лиза завела лезвие под жабры, отрезала ей голову, от этого среза вспорола брюхо, и аккуратно, до последней темной пленки, вычистила его от требухи. Срезала нижние плавники и выдернула верхний.
Хоть ногти у Лизы были короткими и аккуратно стриженными, как велели в Институте, но и их хватило, чтобы подцепить прозрачную шкурку. Лиза снимала ее, как тончайший плащ с лоснящейся рыбины, и в этот момент у нее зачесалось ухо. Она терпела, но пришлось все-таки, склонив голову, потереться им о плечо. Она сняла кожу и со второй половины, и, запустив большой палец в зазор на спинке от верхнего плавника, нащупывала теперь костяной хребет, чтобы пройдясь вдоль него, отделить верхнюю часть. Обе руки были полностью выпачканы пахучей рыбой. Ухо чесалось все нестерпимей! Вновь потершись о плечо, она немного уняла зуд, но тут из прически выбилась длинная прядь и повисла вдоль щеки, щекоча ее, и постоянно попадая в глаз. Лиза отделяла верхнюю половинку лежащей на боку селедки, стараясь, чтобы на костях не оставалось мяса, и вспоминала, как строго в Институте следили за тем, чтобы ученицы не только прибирали волосы на занятиях по кулинарии, но и обязательно являлись на них в туго повязанных платках.
Отделить кости вместе с хвостом от нижней половины, придерживая ее двумя пальцами, было уже совсем простым делом – селедка постепенно сдавалась на милость победителя. Лиза выискивала, выбирала и выщипывала мелкие оставшиеся косточки, когда вернулась няня.
– Няня, поправь мне волосы, пожалуйста, – попросила она.
– Да не майся, доню, дай дальше я сама! – бормотала Егоровна, заправляя прядь на место. – Все правильно помнишь, уже ж видно!
– Нет-нет! Я почти уже все! – Лиза кивнула на буфет. – Дай мне то блюдо, ну ты знаешь, длинное, на лодочку похоже.
– Лук тоже сама? Заплачешь же! Дай хоть почищу его?
Лиза кивнула. Она нарезала каждую вычищенную половинку селедки на одинаковые мелкие ломтики и разложила по одному борту поданного блюда. Полюбовалась проделанной работой и взялась за вторую рыбину. Няня вздохнула, но молча отправилась за луковицей.
***
Клим теперь из дома уходил нехотя, так хорошо сделалось здесь в последние недели. И к Мамочкиной он забегал все реже, да и всего на минутку – так, чтобы не забывали. Он видел их союз с Сергеем, и свербило внутри, что вот надо бы доложить Офиногенову, который куда-то запропастился, да и Леврецкому, который заходил часто, тоже не мешало бы. Но тот ничего больше не спрашивал. А положение дел, думал Клим, должно быть видно не ему одному. Может, повезет, и сообщит соискателям благосклонности вдовы об их напрасных надеждах кто-то другой, не он.
Климу хотелось быть дома, сидеть на кухоньке, держать на коленях Стаську – та взрослела на глазах, почти каждый день учась чему-то новому. Он принес ей красок и бумаги, и она теперь «рисовала» целыми днями, перепачкав все свои одежки. Тасе пришлось сшить ей из лоскутов «рабочий» фартук, а вскоре и второй, потому что один из них постоянно сушился во дворе на веревке после стирки. Хотелось слушать Глеба, бесконечно читавшего какие-то истории про моряков и путешественников, а после своими словами пересказывающего их дядечке. Любоваться на ожившую Таисью.
Клим понимал, что все эти благостные изменения в его доме основой своей имеют похорошевшую вновь сноху – ее чистый голосок, напевающий что-то постоянно, где бы она ни была, ее легкую проворность, стремительность, способность все успевать и радость, исходившую от всех ее дел. Тем неожиданней для него стало увидеть ее с опущенными руками, когда он раз вернулся со своего «промысла», где теперь пропадать стал не каждый день, да и не подолгу. Вроде им всего и так хватало. Но вот, вернувшись как-то, он застал Тасечку, сидящей в кухне с полотенцем в руках, с закушенной губой и с тоскливым взглядом, устремленным в окно.
– Тася, что? Дети? – с порога кухни спросил Клим.
– Нет-нет, все хорошо, Климушка, – «отмерла» сноха. – Глеб повел Стаську на соседского петуха глядеть, им разрешили.
– А ты тут что? – все еще подозрительно оглядывал ее Клим. – Я ж вижу, сама не своя ты. Что, Тасенька?
– Ох, Клим, – вздохнула Таисья, встала и, улыбнувшись, как прежде, взялась за хозяйские дела. – Да ерунда все, не бери в голову. Это я так, по-женски взгрустнула.
– Да хоть бы и «по-женски», скажи мне что, Тасечка? Может я пойму? Заходил кто сюда? Может, обидели тебя?
– Да, ну, что ты! Кто ж может! – она снова затихла, что-то припоминая. – А заходили только молочница утром, после сосед наш – деток к петуху звать, да Корней Степанович ненадолго забегал.
– Что ж ненадолго? – успокоенный Клим вернулся в прихожую и стал разуваться. – Может это он чего не то сказал? Да, нет… Он не может…
– Сказал, Климушка, – сноха зарделась, как девица. – Хорошее сказал. Да я не могу…
– Чего ты не можешь Тасенька? – не понял Клим. – Да что он сказал-то?!
– Ой! – она махнула в сторону Клима полотенцем, а потом зажала рот рукой, так что он не понял, не плачет ли она, и совсем перепугался. – Он меня в театр позвал, постановку драматическую глядеть, – чуть слышно произнесла Тася.
– Тьфу ты! – опустился на табуретку Клим. – С чего такие страсти-то тогда? Ты уж не пугай меня так, Тасенька. Театр – не пыточная камера, сходи. Ты была хоть раз?
– Была. Как свадьбу сыграли, так ходили и в театр, и в оперу раз… Видала я, какие дамы туда приходят. Глебушка-то меня приодел тогда… Я, как барыня, вся в шелку выходила в город-то! Куда ж сейчас-то… В чем мне…
Ах, ты ж, неладная! А ведь, действительно – пока Тася болела, надобности в выходных нарядах не было, а после как-то само собой сложилось, что она все дома, да по хозяйству. До базара добежать было в чем, а дома, да на огороде и того проще, что уж тут. Все больше на детей тратили. У Клима в городском банке хранилась некая сумма, но, с общего согласия, ее решили не трогать ни при каких обстоятельствах, кроме тех, что в народе называют «черным днем». Пережив пожар, естественную смерть и внезапную гибель родных, и Клим, и Тася, оба понимали, как судьба может застать врасплох. Тех денег касаться было нельзя.
– Я понял, Тасечка! Даже не думай. Принарядись. Бери из «шубки» сколь надо, хоть все. Я пополню на днях, а то совсем разленился, – Клим почесал в затылке. – А в театр поезжай! Негоже все дома на печи сидеть. И я вот… Засиделся.
На следующий же день, Неволин отправился туда, где можно было ненароком подхватить сразу приличную сумму. К Варваре. Благо был день ее журфиксов, и можно было объявиться по старой памяти без приглашения. Из знакомых встретил он там всего пару студентов, остальная публика поменялась. Не было и его двоих приятелей, ни Офиногенова, ни Леврецкого.
Новый дух воцарился в этом собрании. Верховодство теперь держал здесь некий «литературный агент», мужчина полнеющий, с отдышкой, возраста далеко не юного, поучающий молодежь с видимым наслаждением. Он своим менторством затмил даже влияние самой хозяйки, а Сергей на пребывание в центре внимания и не претендовал, предпочитая многозначительно переглядываться с Варварой, наблюдая за собравшимся у нее бестиарием, изредка поправлять кого-нибудь из спорящих литераторов или свысока отпускать колкие замечания в их адрес. Все играли свои роли, получая от них некую порцию удовольствий.
А Климу почему-то стало тут душно. В том смысле, что он уже подзабыл, как это – подстраиваться под тон хозяйки, лебезить и угождать. А теперь, кроме хозяйки был еще явный лидер, которому не хотелось попасться под руку, и негласный, которому не хотелось попасться на язык. Неволин хотел домой, где можно было свободно дышать, смеяться, говорить то, что хочешь именно сейчас. А хотелось там только хорошего и чистого, потому что таковы были его собеседники – дети и Тасечка. Да и Леврецкий вписался в тон их домашнего общения, не мешал.
Клим смотрел на Сергея, на Варвару. Оба были по-своему довольны. Но Неволин видел все уловки, какие приходилось прилагать Мамочкиной, чтобы удержать это зыбкое равновесие и подобие благополучия. И видел, что это именно лишь подобие. Понимал, что Сергей готов взбрыкнуть в любую минуту, остервенело охраняя свою свободную волю даже от мнимых поползновений и нападок. Но все же не уходил. Мучил свою спутницу, но оставался, видимо тоже выгадывая какие-то незримые блага. И Клим спрашивал себя, на что же идут люди, чтобы быть вместе? Вместе с кем? С тем, кто избран? Кого любишь? Кто просто встретился на пути? Он невольно задумался, что у него самого, вот так, случайно, Божьим провидением появилась семья. Вспомнил времена с бабушкой. Сравнил. И впервые задумался над тем, как сложится его дальнейшая судьба, появятся ли у него жена, свои детишки. Какими они будут? А как же Тасечка, дети?
Клим вернулся домой поздно, долго стоял в дверях комнаты и смотрел на спящего Глеба, который все больше походил на его старшего брата…
***
– Ах, тетенька! Как и благодарить тебя – не знаю! – больной приподнялся на кровати и, облокотившись, доел из тарелки, стоявшей на придвинутом столике, последнюю ложку со дна. – Благодетельница! Спасительница!
– Ну, не шуми, не шуми, барин, – Егоровна, скрывая довольную улыбку, собирала посуду. – Вон и доктор, хоть и говорит, что на поправку пошло твое здоровье, а все просил покой соблюдать.
– Какой покой! Какой такой покой! Вы – мои избавители! Уж пятый день валяюсь. Все пропустил, все упустил! Нынче же вечером в ресторан еду! На Выставку – уж завтра поутру, нынче обойдется.
– Да ты сбрендил, барин, дурная твоя голова! – воскликнула от неожиданности, совсем забывшая субординацию нянька. – Какой ресторан! Тебя еле на ноги подняли. Ты хоть докторский труд пожалей! Неужто так тянет опять зенки залить?
– «Зенки залить»? – больной спустил волосатые ноги на ковер и плотнее запахнул на груди яркий шелковый халат. – Что ты это говоришь, тетка? Не понимаю.
– Не понимает он! – бурчала Егоровна. – Пьянствовать опять едешь? Уж прямо невтерпеж тебе? С виду – приличный человек, а что с собой сотворяешь? До чего довел!
– А ну, пойдем! – пиратского вида жилец вдруг порывисто вскочил, сверкнув темными глазами. – За мной, тетка, сама увидишь! А то – «чих-пых»!
Спальню гостю соорудили из бывшей комнаты бонны. Игровая теперь, как самое большое из помещений этого крыла, исполняла роль столовой, а повел няньку жилец к бывшей детской – маленькой узкой комнатенке с одним окном в торце. Он распахнул перед опешившей от такого напора Егоровной дверцу, и взорам их предстало все сплошь заставленное ящиками пространство, лишь шага на три у входа уже освобожденное от бутылок.
– Ах, мила-ааай! – Егоровна зажала рот концом висящего у нее на плече полотенца. – Да тут не хочешь, а запьешь. Это ж, откуда у тебя столько?! Чего ж и по ресторанам-то ездить, когда все под рукой!
– Да не люблю я пить! – чуть не плача кричал на нее болезный. – Я люблю на крыльце сидеть, на младшего сына смотреть, как он по двору бегает, на коне вдоль шпалер долго-долго скакать люблю со старшим, со средним арифметикой заниматься, жену люблю, тещу свою люблю, дом. Как виноград зреет, глядеть люблю. Как море плещется. Как корабли причаливают. Мне аллах вообще пить не велит, а что делать?! Эх!
– Да не кричи, не рви так душу, сердешный! Пойди, ляжь, эк тебя разобрало, – нянька потянула гостя за рукав, и тот покорно поплелся за ней обратно в спальню.
Там он понуро сел на краешек кровати и стал рассказывать все первой попавшейся благодарной слушательнице. История выходила такая.
Вся жизнь семейства Гаджимхановых испокон была связана с виноградарством. И дед, и прадед занимались этим. Многое менялось, случались неурожаи, выводились новые сорта, семейному промыслу суждены были взлеты и падения. И, если ислам отвергает все, что пьянит, то в христианских общинах вино необходимо хотя бы для церковных нужд. Поселившаяся неподалеку колония немцев принесла новое занятие в не знающую доселе спиртных напитков местность – изготовление вин и коньяков. Очень быстро взлетело оно на невиданную высоту и получило признание своих результатов, как в стране, так и по всему миру.
Строгие запреты веры отошли в прошлое, хозяева стали дегустировать произведенное ими самими, дабы знать вкус и предлагать покупателям лучшее. А для производства стали необходимы другие объемы сырья, и несколько поколений Гаджимхановых занимались тем, что расширяли владения земель под виноградники. Успех был заслужен трудом и усердием, и вот, несколько лет назад, Ваш покорный слуга, удостоился чести сопровождать продукцию своей губернии на Парижскую выставку. Там он впервые попробовал французские коньяки и впал в уныние. То, что этим же словом называлось дома, было лишь жалким подобием, и ни в какое сравнение не шло ни по мягкости и глубине вкуса, ни по легкости послевкусия, несмотря на всяческие награды и призы. Если не превзойти, то хотя бы приблизится к тому, что он посчитал совершенством, стало отныне делом всей его жизни.
Вернувшись на родину, Руслан Гаджиевич Гаджимханов стал объезжать все крупные коньячные центры империи и знакомиться с их продукцией и заводчиками, стремясь отыскать наилучшее. Ему повезло, и он встретил единомышленника – «Батоно Дато». Батоно Дато был человеком не только увлеченным, но и по-европейски образованным. Он изучал секреты коньячного вкуса на химическом уровне, исследовал в лабораториях состав различных сортов винограда, обучал своих людей за границей, да и сам отучился как в Германии, так и в самой Франции.
Пробуя грузинские коньяки, которые тот создал на момент их знакомства, Руслан Гаджиевич понял, что эта встреча не случайна. Батоно Дато также был энтузиастом своего дела и уже открывал заводы в тех местах страны, которые считал подходящими по качеству выращенного материала. Гаджимханов стал расхваливать своему новому знакомцу родные виноградники и тот, поддавшись такому напору и вере, посетил Бакинскую губернию. Результатом этой поездки и взятых там образцов стало то, что несколько лет назад совместными усилиями оба радетеля коньячного дела открыли маленький ректификационный заводик на пробу, благо мазута для организации производства в округе было в достатке.
Подоспела Нижегородская Выставка. Хотя никто в империи знать не знал про их небольшое производство, Гаджимханов решил ехать с первыми трехлетними образцами. Батоно Дато, напутствуя его, сказал: «Дерзай, Русланчик! Если поймешь, что мы можем конкурировать, что нас узнают и помнят, то будем расширяться! Быть тебе управляющим на новом большом заводе, обещаю. А то и одним из директоров! Удачи!»
На стенде Бакинской губернии Гаджимханов выкупил себе местечко, но все усилия его направлены были здесь на то, чтобы использовать собрание в одном городе огромного количества заинтересованных лиц, дабы ознакомить их со своей продукцией, так сказать, в ее естественном качестве. Он понимал, что никаких наград неизвестным производителям не светит, заметить их среди корифеев и монстров этой отрасли вряд ли кто сможет, но действовал своим, пусть и «кустарным» способом.
– Обидно, тетенька, понимаешь? – продолжал рассказ молчаливо внимающей Егоровне гость. – Говоришь «французский коньяк» – все многозначительно сдвигают брови и целуют пальцы, вот так «Ах!». Говоришь «Эривани. Коньяк! Пробовал?» – чешут затылок, тыр-пыр, вроде как припоминают. Говоришь: «Бакинский попробуй, от французского не отличишь!» – смеются. Вот я и приглашаю неверующих вечером в ресторан. Тары-бары, слово за слово, знакомимся. Они заказывают бутылку французского коньяку, я привожу полдюжины своего. Завязываем глаза, пробует один из компании, потом другой, потом все хотят, видят, что не хухры-мухры. Потом по плечу меня хлопают, потом прощения просят, что не верили, потом до утра гуляем как братья.
– Вот кто-то из «братьев» тебе и сыпанул отравы! – Егоровна рассказ приняла близко к сердцу и теперь сочувствовала постояльцу. – Ах, ты ж бедолага. А тебе-то! Тебе, самому, зачем с ними столько пить? Ну, рюмку-другую выпил вначале и сиди, закусывай.
– Ты, тетенька, душевная женщина! – вздохнул Гаджимханов. – Только не понять тебе, что такое купеческая гульба. Там чих-пых не выйдет! Там же все – мужчины! Настоящие мужчины! Как можно обидеть? Нет, взялись гулять, так уж всем вместе держаться надо, каждого уважить. Как же!
– Вот я и смотрю, что женщин там на вас нету! – нянька встала и собралась уходить, и так, больно уж засиделась. – Ты хоть жирного и острого там не ешь! Попроси, чтобы на пару тебе что-нибудь приготовили, да без соли. Эх!
– Женщины, – закатил глаза к потолку жилец. – Нет, тетенька, коньяк – мужской напиток.
– И то верно, – уже в дверях отвечала Егоровна. – Да и клопами пахнет, даром, что французский!
– Да ты, никак, пробовала его, тетенька? – удивился Гаджимханов.
– А чего ж нам! – Егоровна уперла руку в бок. – На прошлой Пасхе благодетелю в дар поднесли, так и Наталья Гавриловна хвалила, да и мне рюмочку налили. А то!
Гаджимханов вскочил с кровати и нагнал уходящую няньку уже в коридоре.
– Тогда возьми, тетечка! – он указал на распахнутую до сих пор дверь в детскую. – Кабы я знал, что и дамы-медамы его пробуют! Возьми, сколь унести сможешь! Хоть чем тебя отблагодарю.
– «Дама»! Да ну тебя, совсем дурной! – Егоровна раскраснелась, махнула на постояльца полотенцем и, громко расхохотавшись, вышла из апартаментов в вестибюль.
***
Сергей, придерживая сестру ладонью за талию, следовал к указанному половым столику. Это было заведение среднего пошиба, он специально выбирал такие – во-первых, здесь было меньше возможностей встретить людей их круга, чтобы лишний раз не доложили тетке, а потом глупо было истратить весь полученный от гнома-искусителя гонорар в первый же вечер. Он вспоминал цены в выставочном ресторане и мысленно качал головой. Нет, тогда цель была – показать себя, посмотреть людей, да и деньги были теткины, чего уж. А нынче простой ужин, да еще и не с дамой, а с собственной сестрой. А эти ужины уже становились традицией. Сегодня Татьяна, усаживаясь в коляску после «сеанса», удовлетворенно потянулась и велела:
– Вези-ка меня кормить, братец!
Тот, ставший для всех первым раз, оказался настолько удачным, что барон собрал участников для следующего буквально за неделю. Таня имела уже некоторый опыт и помнила, как в тот раз еле дотерпела, пока не погаснет последняя свеча и не удалится последний гость. Она еле дождалась, пока не услышала тихий шепот братца:
– Не уснула? Можешь вставать, Царевна, все разошлись.
Тогда она, открыв глаза, уже полные слез, и прошептала ему:
– Помоги мне подняться!
Лишь ступив на ковер, она сбросила, оставшуюся единственной, туфельку и босиком, на ходу задирая юбки, и не думая уже ни о каких приличиях, метнулась по коридору в поисках уборной. Облегчение было неимоверным! На вопросы братца, как все прошло, Таня отвечала: «Потом, потом…». И, лишь переодевшись и усевшись в коляску, каждую секунду помня, что в радикюле у нее теперь лежит бумажка в пятьдесят рублей, она рассмеялась и спросила:
– А ты ничего не слышал, как они причитали? Как будто, действительно, родная сестра померла! Ах, смеху-то!
– Нет. Я сидел в той комнате. Ждал. Потом поскребся барон, и я пошел к тебе.
– Барона голос я узнавала, он ими управлял. То есть не управлял, конечно, в том смысле, что… Он торопил, если кто-то слишком долго меня трогал, или подсказывал, что делать, если кто-нибудь тянул время.
– Трогал? – Сергей оглянулся с козел. – Сестренка, скажи. Они не позволяли себе… лишнего? Никто тебя не… не обидел?
– Не будь ханжой! – фыркнула Татьяна. – Они для того и устроили весь этот балаган, чтобы позволить себе «лишнее». Иначе откуда бы денежки и за что? Я же знала, на что иду.
– И все же? – настаивал Сергей, которого терзало какое-то нездоровое любопытство. – Скажи, что они себе позволяли?
– Ну, один, который плакал больше всех и, видимо, взаправду, потому что мне капнуло что-то на щеку, когда он наклонился над моим лицом. Очень я тогда испугалась. Даже вздрогнула! Так вот он все перебирал пальцами мои бусы, теребил их так, что одна нить порвалась. От него пахло таким же табаком, как у тебя. Барон шептал ему: «Ты старший, братец! Можешь снять на память о нашей сестрице что угодно, мы все подождем». Тот всю шею мне измусолил, пока отцепил что-то.
– А еще?
– Да ну, что ты пристал! Надоело! – Татьяна откинулась на сидении коляски. – Другой так долго гладил мою ногу, что барон даже цыкнул на него. Тогда тот заскулил шепотом: «Эти туфельки я сам подарил Царевне!», потом стало горячо, наверно он прижался лицом к моей лодыжке и снял одну. Сергей, а, может, мы еще успеем поужинать, как собирались? Так не хочется нынче домой.
На следующий раз Таня была умнее, и собиралась, как перед выпускным балом в Институте, не есть и не пить ничего с вечера. Давалось ей это с трудом, потому что покушать она любила. И брат, который накануне их выезда никуда из дома не отлучался и сидел за одним столом с ней и с тетушкой, видимо, понял ее тайные планы. Улучив момент, когда Удальцова давала какие-то распоряжения и на них не глядела, он прошептал сестре на ухо: «Не думаю, что кому-то понравится, если у Мертвой Царевны будет урчать в животе от голода. Не переусердствуй, сестренка!» И Таня стала ужинать. Но утром выпила лишь чашку чая, и весь день «держала характер».
Но уж ночью, когда все испытания были позади, она требовала праздника. Таня и не подозревала, какую именно часть из полученных денег Сергей оставляет себе, а то бы одним рестораном дело не обошлось. Но в этом он ей отказать не смел. Таня, как правило, заказывала что-нибудь «вкусненькое» и целую корзинку пирожных. Вино ей Сергей дал тайком попробовать еще лет пять назад, наблюдая, что будет с девочкой. Она легко выпивала два-три бокала, и лишь становилась чуть игривее и веселее, видимо материнская привязанность ей не передалась, и, слава богу. Тане про ее мать рассказывали мало, и она всю жизнь считала, что та умерла от чахотки.
В этот вечер рядом с ними гуляла, сдвинув несколько столиков, довольно шумная, но чисто мужская компания. Дамы в ресторации тоже присутствовали, причем, как заметил Сергей, не все они были, что называется «из общества». Ну, да что уж тут! Таково заведение. Он надеялся, что Таня не разберет этого или не обратит внимания на род их занятий. Но были дамы и благородные.
Сергей с любопытством наблюдал, как один бородатый господин из соседней компании, с безошибочным чутьем подходил к столикам, за которыми присутствовали именно что дамы света и, обращаясь к их кавалерам, приглашал пары поочередно к своему столу. Часть публики сразу отказывала и он, поклонившись, удалялся, но некоторые соглашались, и тогда за большим столом вновь присоединившихся гостей приветствовали, что-то предлагали и с четверть часа приглашенные проводили там за каким-то увлекательным рассказом. Потом они возвращались к себе, а действо с малыми отклонениями, повторялось снова.
Горбатовы уже завершали свою трапезу, когда странный господин приблизился и к их столику. Таня ждала, когда официант принесет упакованными несъеденные пирожные и поэтому приняла визит с любопытством. Сергей ждал расчета и допивал из бокала вино.
– Милостивый господин, прошу прощения за вторжение, – начал визитер издалека. – Позвольте, не разводя цирлих-манирлих, отрекомендоваться: участник Выставки, действительный статский советник, гость этого гостеприимного города из далекого Азербайджана – Гаджимханов Руслан Гаджиевич.
– Чем могу? – лениво отвечал Сергей, доставая трубку.
– Как Вы, может быть, успели заметить, наше собрание обездолено на предмет присутствия дам. Если Вы соизволите представить меня Вашей спутнице, то я буду иметь честь пригласить вас обоих ненадолго в наш круг и угостить изумительным напитком моей родины.
– Простите, любезный, мы уже собирались уходить,– хотел было отвязаться от назойливого кавказца Сергей. – Благодарю за приглашение, но… – Но тут он перехватил взгляд сестры, увидел, что брови ее стали хмурится и дал обратный ход. – Извольте. Это моя сестра, Татьяна Осиповна Горбатова.
– Мои восторги, мадемуазель! С кем имею честь, сударь?
– Горбатов Сергей Осипович, – представился Сергей и, чуть задумавшись, скромно добавил: – Поэт.
Сергей расплатился, они пересели за соседний стол и выслушали лекцию о бакинских виноградниках, французском коньяке и грузинском волшебнике. Не попробовать после этого созданный такими усилиями напиток было бы верхом неприличия, и они пригубили. Время вежливости визита уже подходило к концу, когда Сергей первым заметил перемены в своей сестре. Глаза ее заблистали мелкими переливами огней, как будто в них отразились все многочисленные отблески хрустальных подвесок со всех люстр разом. Она попросила еще коньяку и ей налили. Через пять минут Танюшу было не узнать!
Фурия. Тигрица. Перед ними сидела не выпускница Института благородных девиц, лишь с месяц назад покинувшая его стены. Нет! Сергей видел перед собой опытную, взрослую, и, черт возьми, очень соблазнительную даму. Она вскочила из-за стола и, обернувшись в сторону небольшой сцены, где играл оркестрик, изрекла:
– Да она фальшивит, как несмазанная дверь! Гоните ее! Разве это – певица? – и, откинув шлейф искрящегося платья назад, она засмеялась отчего-то и сама направилась по проходу между столиками к разносящимся звукам музыки. Сергей впервые посмотрел на сестренку отстраненно, трезво, как мужчина. В новых, взрослых нарядах она была необычайно хороша! Он заметил, как все мужские взгляды в зале сейчас прилипли к ней, привлеченные ее громким живым смехом.
***
Как все-таки наряд может изменить женщину! Вроде бы – что такого, обычная тряпка? Нет! Это не было «тряпкой» и «обычным» тоже не было. Клим даже не ответил бы сразу на вопрос о цвете ткани, что таким волшебным образом преобразила привычную домашнюю Тасечку – то ли серый, то ли синий. Она какими-то складками и изгибами обтягивала, обволакивала ее фигуру, делала длинней шею, оттеняла глаза, ставшие темней и глубже. Вглядываясь в оказавшуюся вдруг такой величественной осанку Таисии, сидящей пред выходом в свет за их кухонным столом, на самом краешке стула, Климу казалось, что это вовсе незнакомая барышня случайно заглянула к ним, ошиблась, сейчас улетит! Он увидел, какая прозрачная кожа у невестки, какие плечи, какими плавными движениями она перекладывает в ожидании перчатки и маленькую сумочку. Дама! Он метнулся на второй этаж, зашел в бывшую бабушкину комнату и вытащил из ее шкатулки нитку жемчуга, спустился, молча протянул Тасе.
– Ой, спасибо, Климушка! – Тася подошла, посмотрелась в зеркало и как будто оробела. – Я ли это? А так, с бусиками, красивей. Спасибо тебе!
Они присели, теперь уже пред самым выходом, и напряженно ждали, пока не подъедет Корней Степанович и не увезет Тасю в театр. Детей на время сборов снова отправили к благодушным соседям, чтобы можно было спокойно переодеться, чтобы они не дергали мать, не крутились под ногами и не задавали сто вопросов в минуту – Тася боялась опоздать. Но вот все было сделано, собрано и случилось это томительное ожидание.
– Стаська расстроится, что не видела тебя такой нарядной, – чтобы разрядить обстановку заговорил Клим. – Ты вернешься, они же уже спать будут.
– Да Стаська уже расстроилась, когда узнала, что ее в театр не берут, – улыбнулась Тася.
– Может, сводить их куда-нибудь, действительно? – как родитель озаботился Клим. – Не такие уж большие деньги?
– Сводим, Климушка, сводим. Да и Корней Степанович обещал им за то, что меня сегодня отпустят – в выходные ехать за город, кататься. Как, прямо, баре какие, – она засмеялась и стала еще красивей.
– Ты такая необыкновенная сегодня! – не удержался от восклицания Клим.
Тася ничего не ответила, только улыбнулась чему-то своему, не словам Клима, и надолго замолчала. Слышно было, как за воротами перекликаются какие-то прохожие люди, лают вдалеке собаки, но лошадей слышно не было. Они сидели в тишине, и каждый думал о чем-то своем, друг другу они в этом вовсе не мешали. Тасечка заговорила первой:
– Климушка, а ты стихов больше не сочиняешь?
– Да уж, давненько! А чего это ты вдруг вспомнила? – удивился он.
– А тетрадки твои где? Не выкинул, часом?
– Да нет, валяются где-то наверху. Да на что тебе?
– А найди сейчас? – попросила вдруг она. – Или, может, ты на память помнишь? Почитай мне то, про синие цветочки.
– Да ну тебя, – с улыбкой махнул на нее рукой Клим, думая, что она шутит.
– Нет, правда, – она почти с мольбой посмотрела на Неволина. – Мне очень нужно сейчас.
Клим стал припоминать, понял, что память хранит не все, обрывками, и он может сбиться. Тогда он поднялся к себе и стал выдвигать ящики стола. Леврецкий по-прежнему не ехал. Клим отыскал старые тетради и стал листать, нашел нужное, спустился.
– Тась, стишки-то дурные, мне и приятели мои сто раз говорили. Может не надо?
– А мне, что за дело, что дурные? Какие ж они дурные, если я помню! Я не понимаю, как твои приятели – по правильному ты слагаешь, или нет, ты прочти. Для души.
Клим вздохнул и, немного смущаясь, как школьник перед доской, сначала вовсе без выражения, стал читать из тетрадки:
– Израненный стрелою друга,
Хирон страданья принимал,
Безмолвной тишине округи
Он в предрассветный час внимал.
Он видел, как родные братья,
Лишь только отгорел закат,
Открыли пылкие объятья
Толпе хохочущих дриад.
Как корибанты в пьяном танце
Кружили дев – и стар, и млад,
И как впивались в новобранцев
Глаза безумные менад.
Тряслись тела, мелькали лица.
Буянил хор чужих забав.
Хирон хотел уединиться,
Но оставался среди трав,
Где боль была порукой вечной,
Бессмертной жизни. И, мудрец,
Центавр мечтал о человечьем,
И о конечном, наконец!
Умолкло всё, трава измята,
Осколки чаш и тут, и там…
Прикрыв лицо, бредет Никата
И мглою покрывает срам.
Недвижим воздух, смолкли звуки,
Не дрогнет лист, не вспыхнет свет.
Нет смысла для продленья муки.
Стремлений нет, и силы нет.
Но вот уж первые зарницы
От серых отразились скал.
На золоченой колеснице
Феб лучезарный проскакал.
Зефир порывом дуновений
Колосьев выгнул стебельки,
И стали видны средь растений
Лазурных васильков цветки.
Один из них, сорвав поспешно,
Страдалец к ране приложил,
И боль уняв, вполне успешно,
Прощанье с жизнью отложил.
Внимая утра пробужденью,
Он сил почувствовал прилив,
И, озираясь, с удивленьем
Благодарил, за то, что жив,
За дня грядущего познанье,
За то, что мир не так уж плох,
За вихрь чувств, поток желаний
И вдохновенья новый вдох!
Пока он читал, Тася не глядела на него, а тихо улыбалась чему-то неведомому. Клим замолк. Она покачала головой, как бы, не веря во что-то, и повторила почти неслышно:
– «И с удивленьем благодарил за то, что жив…». Я раньше думала – почему «с удивлением»?
– Тася, ну, говорю, это же все так…
– Нет-нет! – она подняла глаза на Клима. – А теперь знаю. Действительно, это так удивительно! Спасибо тебе.
Клим вовсе не понял ее слов, но тут она встала и, подойдя вплотную, обняла его за шею и положила голову ему на грудь. Они хоть и доводились друг другу родственниками, никаких нежностей с женой брата прежде не случалось и не мыслилось. Клим растерялся, а потом неловко обнял невестку. Так они и застыли в прихожей. Казалось, остановилось само время. Раздался сначала конский топот, а потом и стук в калитку. Клим глубоко вздохнул и, отпустив Тасечку, пошел открывать.
Отец
***
Варвара ждала Сергея, прислушиваясь, не раздастся ли в коридоре звонок, и поэтому никаких дел не начинала. Он не то, чтобы обещал прийти к определенному часу, но накануне они так много говорили о Волге, о той поездке, о благотворности реки, что общая идея повторить прогулку, но уже в другом, узком, интимном составе, кажется, принялась обеими сторонами. Откладывать путешествие причин не возникало, и Варвара поняла так, что они едут сегодня же. Она не хотела оказаться вновь на одном из собственных судов и утром просмотрела газеты, хотя и так знала все приличные пароходные компании, только сомневалась в ценах, не следила за ними. А цены-то, оказывается, и вовсе были мелкими… Хотя, что ей цены! Мужниных денег хватит на всю жизнь. И она снова стала листать страницы с объявлениями.
Варвара Михайловна хотела быть простой пассажиркой, а не хозяйкой, которой, может, и угождают, но требуют ответа на сотни вопросов, решения сиюминутных проблем, а за спиной все равно перешептываются, смеясь. Она видела себя путешествующей дамой. Праздной спутницей своего кавалера. Чуть капризной, разборчивой, даже привередливой. Но в меру, лишь для получения дополнительного удовольствия. Представляла, как они обедают с Сергеем на палубе, а ветер колышет подол льняной скатерти, как светится на солнце рубиновое вино в бокале. Или янтарное. Как мерное движение вдоль берегов умиротворяет сытое тело, спокойную душу и любящее сердце.
Любовь. Варвара Михайловна позволила себе подумать и об этом. Любит ли она Сергея Осиповича? А он ее? Страшно… Не задумывалась раньше, и не надо! Он нравится ей, этого не отнять. Он, несомненно, самый яркий из всех, кто посещает, да и посещал прежде, ее салон. И он выбрал ее. Он с ней. И она так хотела, так добивалась этого. Даже, пожалуй, что влюблена. Это точно. И она счастлива сейчас? Да… Чего же больше?!
Счастье. Сегодня мысли приходили сами, безо всякого разрешения. Эх, надо бы заняться чем-нибудь до его прихода, а то она так и будет мучиться глупыми вопросами. Да, она счастлива. Была ли она так же счастлива когда-либо прежде? Нет, не так. В детстве было счастье, но оно было вовсе другим. С отцом? Нет, с ним было трудно каждый день, а в последние годы особенно. Муж? Да, первое время после свадьбы очень было похоже на счастье. Но это счастье никаким образом не было связано с другим человеком. Мужа она уважала, была благодарна ему, сравнивая с отцом, отдавала ему несомненное предпочтение.
А вся радость тогда была ее, собственная, полностью и безраздельно. Делиться ею с супругом было немыслимо, лишь рассмешила бы своими мелочами. Как объяснить, что ей было хорошо лишь от того, что он забрал ее из ненавистного дома, от того, что ставил на место лишь изредка, а, не унижая ежедневно, как папа. От того, что она увидела мир, верней что-то, кроме герани на своем окошке, да пыльного двора, по которому гуляют утки. Что он не считал ее, как отец, совсем уж тупицей, а позволял пробовать свои силы, потакал, хоть и свысока. Это уж ее вина, что способностей в ней, действительно, нет никаких.
А потом муж то ли охладел, то ли «наигрался» с ней. Это слово она подслушала один раз, когда Мамочкин с ее отцом ругались уж больно громко. А ругаться бывшие приятели стали все чаще. Действительно, характер ее отца все больше портился с годами, а срывать его дома было больше не на ком, и он по привычке все хаживал в семью дочери, забывая, что это теперь чужая территория, где есть свои права и правила. Мамочкину это вскоре надоело и стычки между мужчинами происходили все чаще. Отец попрекал мужа приданым и вложенными в его дело тысячами, тот отвечал, что к ним имеется никчемное приложение в виде Варвары, она это слышала. Жизнь становилась снова невыносимой. Отец чего-то требовал от Мамочкина, тот свирепел и часто стал срывать злость после его ухода на жене. Варвара плакала. Потом прощала мужа. Потом были несколько дней безмятежности. Потом приходил папа.
Последний, подслушанный ею разговор, касался вывода капитала, которым грозил ее мужу отец. К удивлению, между противниками после этого наступило перемирие, видимо, совместные интересы финансового плана оказались все же сильнее эгоистических мотивов. Но длилось это недолго. Через месяц папа отравился грибами и умер в местной больничке – компаньоны как раз ездили тогда в соседний городишко по каким-то общим делам. Его привезли в Нижний и пышно похоронили на фамильном погосте. После этого, все вроде бы должно было пойти на лад между супругами, да дела пароходства стали отчего-то сильно колебаться. Возможно, это папаша вредил и с того света, но настроение мужа никак не соответствовало семейной идиллии. Он бился больше года, и положение не только выправил, а и преумножил доход, наладив все так, чтобы работало без указки, расставив на должности людей проверенных и способных.
В тот день он явился домой сияющий, похвастался завершением всех дел, «каких – твоим умишком все равно не понять, женушка» и сообщил, что теперь они могут ехать куда угодно, хоть за границу. Варвара, как девочка хлопала в ладоши от счастья. Вечером муж отправился праздновать удачу с купцами в Пароходство, взял с собой кучу денег, чтобы пустить тем «пыль в глаза» и ночевать не приехал. А уже под утро в двери постучался пристав, сообщив, что барина нашли под сходнями одной из пристаней, с пустыми карманами и проломленной черепушкой. Каким образом он оказался там в одиночестве, выяснить следствию не удалось, но факт остается фактом. Варвара Михайловна неожиданно сделалась вдовой.
Так вот, о счастье. Вдовство, само по себе, стало для нее, как ни грех такое говорить, отдушиной, глотком свободы. Никогда прежде не имела они ни дня, когда полностью могла распоряжаться сама собой – что кушать, куда пойти, что почитать, во что одеться. Ну, ходить-то, вначале было и некуда, вдова держала строгий траур. Но вот она заскучала, почуяла волю. Попав к приятельнице на журфикс, она хоть и просидела весь вечер в углу под черной вуалью, положенной ей по статусу, но все равно веселилась, как никогда. Обсуждали публикации в столичных журналах, ругали новомодный роман, читали из него вслух. Так и пришла ей мысль собрать свое общество, благо средств на это было теперь не занимать.
Сложилось так, что вокруг нее вились в основном мужчины, хотя сама она дам не отвергала, просто тем было либо скучно, либо тесно с ней. Тех редких студенточек и мещаночек, что приживались у нее в салоне, и дамами-то назвать было сложно – в очечках, с зализанными волосенками, в коричневых платьицах. И Варвара в отсутствии соперниц и конкуренток, вдруг почуяла свою женскую силу. А раз, почуяв ее, остановиться уже было невозможно, и жаждалось доказательств. Варвара влюбилась. Первый раз ее закрутило так, что она сама не заметила, как перешагнула все пороги приличий, а потом уж поздно было. Но избранник оказался не только подлецом, но и выжигой, и трепачом.
Обида проходила долго. Но прошла. А дальше все пошло как-то само собой. Хотя в душе она осталась все той же девушкой у окна с геранью, не развращенной вовсе, в чем-то наивной и в глубине души вовсе не уверенной в себе. И, отдать должное, она не вела разгульный образ жизни. Сергей стал всего лишь вторым кавалером в ее послебрачной жизни, хотя, разве количество играет тут хоть какую-то роль? Он явно тоже не собирался признавать ее официальной спутницей, да она и не смела того требовать. Уж будь как есть. И, так же как с мужем, она не могла делиться с ним своими настроениями и чаяниями, он посмеивался над ними. Но она скучала по нему, ждала встреч, пыталась угадать желания. Вот и сейчас. Что же он все не идет?
В коридоре прозвенел долгожданный звонок. Что-то там происходило, кто-то переговаривался. Варвара Михайловна смотрела на дверь. Ну, где же он? Что ж эти курицы его так долго не ведут к ней?
***
Постучались. Зашла Крыся.
– Барыня, к Вам гость.
– Ну, так что ж ты не пускаешь-то его, тетёха! Я знаю и жду давно. Сергея Осиповича не надо держать в прихожей, не надо провожать! Он сам тут все может найти и пройти, куда пожелает. Он должен себя чувствовать тут как дома. Я сто раз вам говорила!
– Барыня, это не он. Это – другой! А Вы в домашнем платье. Я побоялась так сразу чужого мужчину проводить к Вам. Он ждет. Что сказать-то? Примете?
– Что за чужой? Бывал тут раньше?
– Никак нет! Не припомню.
– Господи! – Варвара всплеснула руками. – Ну, может он хоть представился? Что ты как глупая коза!
– Представился, барыня! – горничная прикусила губу. – Да разве ж я не сказала? Ой, простите, барыня! Это Вы меня с панталыку сбили.
– Да не тяни ты! Кто?
– «Капитан Емельянов» говорит.
– Господи! – заметалась Мамочкина, понимая, что переодеться не успевает, так как долго держать такого визитера грех. – Ну, веди его в библиотеку! Неужели что-то в Пароходстве стряслось? Почему сам? Прислали бы курьера…
Она посмотрелась в зеркало, пригладила щеткой прическу и, накинув на капот вязаную шаль, вышла встречать незваного гостя. Лишь только она вошла, Емельянов привстал с пуфика, где он притулился, ожидая хозяйку, и его стройная могучая фигура, с почти военной выправкой, составила забавный контраст с качающимися кисточками бахромы. Мамочкина жестом указала ему на два массивных стула с высокими спинками, что стояли подле круглого стола.
– Прошу Вас, Константин Викторович. Право, не ожидала. Приветствую Вас. Что-то стряслось?
– Простите за вторжение, Варвара Михайловна, но Вами же назначенные сроки вышли. И вот я у Вас, – говорил он, усаживаясь в пол-оборота к Варваре.
– Какие сроки? – растеряно улыбнулась Варвара Михайловна, искренне не понимая о чем речь. – Ну, да после об этом. Желаете курить, велите подать пепельницу?
– Я не курю, – вскинул на нее недоуменный взгляд Емельянов.
– Ах, простите, – нервно рассмеялась хозяйка. – Ну, тогда, может прикажете чего-нибудь закусить? Или чаю?
– Варвара Михайловна! – Емельянов попытался перейти на тон официальный, но сидя это было не совсем ловко, и он встал. – Благодарю, но, как бы это… Я тут с визитом по долгу службы, так что… Вы… обещали. Вы не явились в Пароходство, поэтому правление откомандировало меня на переговоры к Вам лично. Вы уж простите за назойливость.
– Да Вы садитесь, садитесь, – Варвара продолжала сохранять беспечную безмятежность в тоне. – Право, Вы так серьезны! Я никогда Вас таким не видела, даже при команде. И я снова в недоумении – что я обещала? Кому? Когда?
– Милая Варвара Михайловна, – Емельянов присел обратно и, видимо, выбирал тон, с которым он сможет пробиться к сознанию собеседницы, что для него было, как видимо, важно. – Помните ли Вы собрание, произошедшее в Рыбинске и решения, принятые там?
– Помню, помню! Конечно, помню. Я не страдаю склерозом, это же было так недавно, – снова переводила все в шутку Варвара. – Я даже помню, что просила собрание дать мне две недели на раздумья.
– Ну, так они миновали, дорогая хозяйка. Вcю неделю Вас ждали в Пароходстве, но день так и не был назначен.
– Назначен для чего, простите? – Варвара нахмурила бровки. – Я, по всей вероятности, не вникала в мелочи тех решений. Я что-то упустила?
– Ну, хорошо! – капитан дотронулся до края стола и разгладил рукой скатерть. – Не сердитесь на меня, дорогая Варвара Михайловна, это не в упрек Вашей великолепной памяти, просто, чтобы картина была более стройной. Разрешите восстановить все, как было?
– Да, конечно, Вы очень любезны.
– Так вот. На собрании учредителей и крупных акционеров обсуждалось несколько жизненно важных для Товарищества вопросов. Первым было избрание пятого директора, потому как со дня кончины Вашего супруга это место вакантно, а необходимо по уставу именно такое число. Претендовали несколько акционеров, имеющих на руках не менее 30 акций, а к этому сезону и Ваш покорный слуга набрал, выкупив у частных держателей, необходимое число. Так что именно я сейчас и представляю официально решения Совета.
– Так Вы победили? Избрали именно Вас? – опровергая все дифирамбы своей памяти, простодушно обрадовалась Варвара. – Поздравляю Вас, дорогой мой. Мне это очень приятно, общаться именно с Вами.
– Благодарю Вас, – наклонил голову Емельянов и чуть улыбнулся такой непосредственности. – И, наверно, из приятного – это все. Далее говорилось об уменьшении прибыли, о неудачном планировании выставочного сезона, о конкуренции, о необходимости пересмотра – срочного пересмотра – стратегии пароходства и исправлении ошибок еще в эту воду… Простите – навигацию.
– И, так что же? – спросила Варвара, когда тот замолчал, глядя прямо ей в лицо.
– И Вы попросили две недели отсрочки, не высказав своего мнения ни по одному пункту.
– А что, их было много? – снова, улыбаясь как девочка, спросила игриво Варвара.
– Переориентация с пассажирских перевозок на легкие грузы. Либо открытие постоянного рейсового сообщения с Рыбинском. Перегон готового заказа из Бельгии. Закладка новых судов, либо барж – по выбранному курсу. И мой вопрос. Прошло времени больше запрошенного. Вы в Пароходство не пришли, сбор не назначили.
– А что за Ваш вопрос? – как будто не слыша последних слов капитана, переспросила Варвара. – Простите, я право, видно не была внимательна тогда. И это все я должна решить?
– Вы – совладелец. Да, решить должны Вы. Или лицо, официально представляющее Ваши деловые интересы. Управляющий или что-то в этом роде. А мой вопрос о собственности на «Полкана».
– То есть как? – Варвара Михайловна была мало сказать, что удивлена. – «Полкан» – первое судно, с которого и началось пароходство мужа, он сам говорил. Вы – его капитан и не более! Я ни разу не слыхала, чтобы часть собственности выводилась из владения пароходных компаний. Это – общая собственность!
– Активы и не выводятся, – продолжал растолковывать ей Емельянов. – Но любая собственность подлежит купле-продаже. Наш договор с Вашим супругом был составлен так, что я обязуюсь пять лет отработать на компанию, а после на выбор – либо выкупаю «Полкана» и могу делать с ним, что хочу. Могу войти с ним в наше же Товарищество, но уже как пайщик. Могу открыть собственное дело. Я только из-за этого условия согласился оставить государеву службу, дорогая Варвара Михайловна. Либо мне выделяется количество акций, равное по сумме нынешней стоимости судна, и я все равно вхожу в число соучредителей. Либо предоставляется иная собственность равной цены, причем с возможной доплатой с моей стороны. Вы же не хотите отдать мне новый пароход, что только сходит со стапелей Коккериля? Хотя у Вас есть выбор. На подходе еще парочка – наших, Сормовских.
– Вы улыбаетесь? – Варвара не могла ума приложить, что же ей говорить и делать дальше. – Это шутка, Константин Викторович?
– К сожалению, нет, Варвара Михайловна, – Емельянов посмотрел на нее с сочувствием. – Я уполномочен не оставлять Вас вниманием, пока не будет назначен точный день. Пайщики согласны собраться в Нижнем, коли Вам так будет удобнее, но в этот раз все решения необходимо довести до конца.
– Ну, давайте, перенесем это еще раз? – взмолилась Варвара. – Дело в том, что я уезжаю на некоторое время, поездка уже назначена.
– Позволите поинтересоваться, поездка эта деловая? Представляет интересы нашего пароходного общества? – спросил Емельянов.
– Да нет, – Варвара снова растерялась, но врать не посмела. – Это мое. Личное.
– Варвара Михайловна! – Емельянов снова встал. – От имени директоров Товарищества прошу Вас отложить, отменить или перенести все личные дела, и не далее, как через неделю назначить общее собрание пайщиков и администрации. Дела не терпят отлагательств.
– Ну, хорошо, – сдалась под таким напором Варвара. – А Вы? Вы не согласились бы представлять мои интересы как управляющий?
– Это невозможно! – опешил Емельянов. – Вы же понимаете, что у меня есть свои интересы в компании, и они, как это не грустно, но иногда могут расходиться с Вашими, дорогая, милая Варвара Михайловна! На этом месте должен быть человек сторонний, на жаловании или представляющий Ваши интересы по степени родства. Вы уж избавьте меня от такой ноши, никак нельзя.
– Ну, простите, простите, голубчик. Назначьте день сами, я согласна. Я поняла про выбор претендента.
– Пусть это будет будущая суббота. Я оповещу, все съедутся.
– Хорошо, голубчик, пусть будет суббота.
***
Утро в доме Горбатовых было вовсе не добрым, а скорее – предгрозовым. И погода за окнами вторила утреннему затишью – если больше месяца стояла жаркая, солнечная погода, то сегодня небо заволокло клокастыми тучами и все ожидало дождя. Племянники воротились в дом только под утро, этого скрыть от Удальцовой никто из слуг не посмел, когда молодежь не явилась к завтраку. А чуть позже доставили прессу.
Сергей забылся тревожным сном, но спал плохо, вскочил около полудня, и тут же бросился в комнаты сестры. Испуганная горничная не пускала его, утверждая, что пробовала будить барышню, но безрезультатно, хотя приходили от самой барыни уже трижды. Сергей отодвинул ее с пути и бесцеремонно вошел в спальню Татьяны. Та, вольно раскинувшись на широкой кровати, спала глубоким сном на смятых простынях, чуть похрапывая. Брат, не в пример горничной, сейчас больше опасался гнева теткиного, чем Таниного, и, взяв с туалетного столика кувшин для умывания, не раздумывая вылил его на лицо и подушку сестры. Она вскочила.
– Ты что творишь, братец! – гневно воскликнула она спросонья.
– Это я творю? – Сергей выдвинул стул и сел нога-на-ногу, лицом к постели. – Это ты творишь! Ты хоть что-нибудь помнишь из прошедшей ночи?
– Ночи? – непонимающе спросила Таня, начиная подозревать, что братец не шутит таким глупым образом, а что-то действительно неладно. – Вечер помню, а ночью… Ночью же мы спим! Спали…
– Спали? – Сергей театрально захохотал. – Ха-ха-ха! Да я гонялся за тобой по всему городу до рассвета!
– Твои фантазии мне сейчас не ко времени! – снова разозлилась Таня, все-таки подозревая розыгрыш. – Ты испортил мне всю постель! Я спать хочу, пойди прочь!
И она, проверив сухость собственного одеяла, стащила его и, волоча по полу, побрела к дивану, стоявшему у стены.
– А ну-ка сядь! – пригрозил ей брат, и Таня затихла на диване. – Ужин помнишь? – та кивнула. – Как коньяк пила помнишь? А как выходили оттуда? Как ехали домой? Ну, так слушай, сестренка!
Рассказ получился не быстрым. Выходило, что Таня многого не помнила. А, по словам Сергея, дело было так. Прогнав с ее законного места ресторанную певичку, Таня объявила во всеуслышание, что будет петь сама. Публика зааплодировала. Таня села за фортепьяно, и аккомпанируя себе, спела три романса. Публика была в восторге, потому что пела она, действительно, недурно. Но, распаленная, то ли всеобщим вниманием, то ли парами крепкого алкоголя, Таня на этом не остановилась. Она встала, кивнула местному таперу, и, шепнув ему что-то, когда он подошел, приподняла подол платья, как ее на каникулах учил брат, и приготовилась исполнять что-то, видимо, с танцем. Сергей побледнел, потому что понял – что именно.
Он поспешил к месту действия, желая вовремя перехватить и увести сестру, но вокруг импровизированной эстрады уже собралось небольшое общество поклонников новой дивы, желая рассмотреть ее ближе. Они подбадривали Таню колкими репликами и возгласами, а Сергея остановили.
– Погодите, сударь, всем любопытно, но не надо же быть таким назойливым. Постойте здесь!
Двое придерживали его за плечи, не лезть же было с ними в рукопашную, самому создавая скандал, от которого он всеми силами и пытался оградить их с сестрой. Таня начала исполнение. Дамы легкого поведения, присутствующие в зале, встретили первые такты песенки приветственными криками и свистом, потому что это был знакомый им репертуар. Когда ближе к завершению, Таня попыталась изобразить в узком платье, что-то напоминающее канкан, то стоящие ближе всего мужчины приветственно захлопали и, переглянувшись между собой, подхватили Таню и поставили на крышку рояля. Сергей готов был провалиться на месте.
– Ах, какой шурум-бурум, как неудобно получилось, молодой человек, – услышал он шепот над своим ухом, это давешний бородач-азербайджанец сокрушенно качал головой, глядя на непотребство, творящееся у них на глазах. – В этом есть и моя вина, нельзя было давать пить совсем юной девушке. Эх! Не умею я с барышнями, у самого-то только сыновья, с ними все по-другому. Давайте вместе выпутываться, сударь.
– Как? – так же шепотом отвечал ему Сергей. – Ее теперь не уведешь, пока сама не захочет! Уж я-то ее характер знаю.
Как только туфли Тани вновь коснулись пола, бородатый господин ринулся к ней. Был он чем-то похож на пиратов, как их рисуют на детских картинках для вырезания, и его-то остановить никто и не подумал. Целуя руку певице и, не умолкая, говоря ей кучу комплиментов, Гаджимханову удалось вновь отвести ее к своему столу.
– Остыньте, царица! Все эти танцы-шманцы отнимают столько сил! Вы поразили всех, выпейте воды. Или заказать лимонаду? Вы так горячи, что никакие горячительные напитки Вам не нужны вовсе! Официант! Мороженого барышне! – и уже снова на ухо Сергею, усевшемуся рядом: – При первом же удобном случае увозите ее, сударь. Клянусь, я не успел назвать вашу фамилию никому за столом. Простите меня за головотяпство и за такие последствия. Ах, я, пустой бочонок!
Но «случай» все не подворачивался. Возбужденная успехом Татьяна принимала восхваления и восторги, а один кавалер, держа ее за руку, и вовсе уж не держа дистанции, норовил под предлогом того, чтобы шепнуть ей что-то на ушко, еще и пощекотать ее кожу своими усищами.
– Танюша, нам пора, – осторожно напомнил ей Сергей, опасаясь, что и за столом может произойти нечто неприличное, подобное давешнему, потому что сестра не отстранялась от докучливого ухажера, а лишь разражалась громкими всплесками смеха. Ее репутация висела на волоске.
– Тебе пора, ты и ступай! – вдруг с неожиданной злостью бросила ему сестра. – Как вы все мне осточертели! Езжай, куда хочешь. А я – вот с ним поеду, – и она ткнула пальцем в грудь держащего ее за руку соседа, который, видимо, и сам не ожидал такого поворота.
– Таня, опомнись! – Сергей взглянул на Гаджимханова, тот потупился взглядом в свою тарелку, потом на усатого господина. – Но, а Вы-то сударь! Наступит утро, Вам же придется отвечать за свое поведение. Вы бы хоть пришли в разум. Таня, вставай, пошли!
Усатый господин понял, что имеет дело с дворянином и тут же отсел от опасной спутницы. А Татьяна, рассвирепела от вмешательства брата, схватила корзиночку с кремом и швырнула в него. Пока Сергей стирал салфеткой остатки пирожного с лацкана сюртука, а его соседи помогали ему в этом, о Тане на секунду забыли. Она улучила этот момент и, выскочив из-за стола, метнулась к выходу. Через секунду ее уже не было в ресторане, а выбежавший вслед Сергей, увидел лишь отъезжающую запряжку – извозчиков в ожидании тут всегда было полно.
И началась ночная гонка. Таня ехала куда угодно, только не к дому, это Сергей понял быстро. На очередном повороте ему повезло – он увидел, что пролетка, в которой ехала сестра, остановилась. Это не выдержал возница. В начале, у ресторана, и позже, во время езды, он пару раз спрашивал у своей пассажирки: «Куда изволите, барышня?». И каждый раз слышал «прямо», «направо» или «налево». В конце концов, ему это надоело, и он остановил лошадь.
– А ну, давай не дури, барышня! Куда едем-то? И сколь платить станешь? Надо сразу уговориться.
– Да есть у меня, чем платить, дурак! – Таня полезла в радикюль и показала извозчику единственные имеющиеся у нее с собой деньги – две четвертных бумажки, заработанный нынче гонорар. – Езжай, куда велю! Да быстрей, он уже нагоняет!
– Ах, ты ж! От кавалера сбежала? А денюшки-то прихватила! А ну, вылазь! Мне еще с полицией не хватало разбираться!
– Да ты за кого меня принимаешь, сволочь! – хмельная Таня не стеснялась в выражениях. – Это я сейчас тебя в полицию сведу, за то, что благородную барышню оскорбляешь! Это мои деньги! А ну, вези меня, а то бляху завтра отберут!
– Как же, «благородная», – под нос себе шептал теперь кучер. – По ночам-то в одиночку шляться! А шут вас разберет! – он теперь точно решил не связываться с подозрительной полуночницей, и уговаривал ее уже благожелательно: – Слазь, дева. Все равно у меня сдачи не будет. С такой-то деньжищи! А это, считай, тебе расплатиться-то и нечем! Ступай себе, с богом!
Таня поняла, что толку не будет, да тут еще и братец подкатил. Она спрыгнула на мостовую и убежала в ближайший проулок. Бежать особо тут было некуда, и за вторым поворотом, Сергей ее непременно перехватил бы. Но, как известно, у пьяных, как и у влюбленных, есть недремлющие ангелы-хранители, и Танин сегодня, явно потешался над ее братом, послав ей навстречу другого извозчика. Таня взлетела к тому в повозку и, крикнув: «Трогай!», вновь скрылась за поворотом.
***
У второго извозчика сдача нашлась, и у Тани теперь было много разного калибра денег, и мелких тоже, поэтому игра в догонялки продолжалась еще пару часов. Потом Татьяна то ли устала, то ли выдохлась, то ли стала трезветь, но ее бешеная энергия стала постепенно сходить на убыль. Да и Сергей уже набрался кое-какого опыта. Потеряв ее первый раз из виду, он не на шутку перепугался – тетка же его убьет! Он начал беспорядочно метаться по соседним улицам, пока случайно не выехал на нужную, заметив вдалеке одинокий экипаж. Теперь же, под утро, он понял, что город пуст и, в очередной раз, упустив сестренку, он просто останавливался на месте, вместо того, чтобы дергаться туда-сюда, и прислушивался. По цокоту удаляющихся копыт, он определял направление и продолжал погоню уже целенаправленно. Он нагнал сестру, когда она в очередной раз расплачивалась за поездку. Молча остановился рядом.
– Садись, – опустошенно сказал он Тане, когда та отпустила извозчика.
Уставшая Татьяна покорно залезла на сидение и тут же уснула, свернувшись калачиком. Благополучно, на этот раз, добравшись до теткиного дома, Сергею пришлось на руках тащить сестру в спальню. И вот он снова был тут и ждал объяснений. Но ничего не успел дождаться, кроме того, что Таня спрятала лицо в ладонях. Тут отворились двери, с шумом хлопнув распахнувшейся створкой о стену, и вошла тетушка, потрясая свежей газетой, а после швырнула ее пред Сергеем на стол.
– Яблочко от яблоньки! – прогремела она непонятно для Тани. – Смотреть на меня!
Сергей покосился на развернутую страницу и сразу обратил внимание на небольшую заметку «Как отдыхает аристократическая поросль». Видимо, пока они колесили по всему городу, не спалось в нем и еще кому-то, типография успела в срок.
Как отдыхает аристократическая поросль
Сегодня репортерская судьба сделала меня свидетелем незабываемого зрелища! Наблюдая нравы публики, привлеченной в нашу губернию устройством небезызвестной Выставки, я уже неоднократно имел возможность делиться с нашими читателями различными проявлениями человеческой натуры, попавшей в обстоятельства вседозволенности, торжества наживы и власти денежного попустительства. Но впервые мною в этом замечены были не гости, для коих перемена места пребывания, эйфория внезапной прибыли и оторванность от привычного уклада могли бы послужить хоть каким-то оправданием. Нет, это были наши с вами соседи, горожане, представители одного из известнейших семейств местной аристократии.
Виденный мною случай вопиющ! Незамужняя девица в сопровождении мужчины посетила одно из питейных заведений нынешней ночью. «Что за нравы!», – скажете вы, и будете сто раз правы. Хотя, будем справедливы и не станем приписывать ближнему своему лишних грехов. Вполне возможно, что спутник этой любительницы остренького, не кто иной, как ее собственный брат. Но не хуже ли от этого станет вся рисуемая мной картина? Разврат и разложение! Вот, что вижу я в рядах нынешней молодежи, в ее, так называемой, элитарной среде. Ведь только сам факт посещения подобного заведения в подобное время мог бы вызвать ужас на лицах наших благородных отцов. Не то нынче! Девица не ограничилась употреблением немалого количества ликеров, а пожелала привлечь к себе всеобщее внимание исполнением романсов. Отдать должное, она имеет хорошо поставленное меццо-сопрано. Но, господа! Чуть позже, ваш покорный слуга, много видавший в жизни, и мало уже чему удивляющийся, был эпатирован. Это юное дарование отплясывало на столе, превращая степенное заведение для вкушения пищи в подобие кафе-шантана. Этому ли учат в Институтах благородных девиц!
Иоанн Грозящий
Таня опустила руки, с ужасом посмотрела на суровую Удальцову, не выдержала ее тяжелого взгляда и перевела глаза на брата. Тот не хотел встревать, пока гроза не миновала, но тоже не выдержал молящего взгляда сестры.
– Тетушка, – он бегло пробежал глазами заметку и снова положил газету на стол. – Какое отношение это может иметь к нам? Вы, право, не можете…
– Я? – гремела Гликерия Ивановна. – Я могу! Я здесь все могу! И не сметь мне врать! Вы в моем доме! Хотя бы не делайте из меня идиотку! Романсы, Институт, брат и сестра, явились под утро. Вам мало? Благодарите Бога, что там не было фотографического аппарата!
– Но, простите, – Сергей продолжал бороться, не пойманный за руку. – Да, мы вернулись поздно, но это не доказывает… Все было совсем не так!
– Сергей! Иди к себе. Немедленно. Я с тобой буду говорить позже, – Удальцова принимать никакие оправдания не собиралась. – Ты, видимо, не желаешь понимать, что такое ответственность. За себя, за другого человека, за лошадей, в конце концов. И говорить, да и поступать с тобой, как со взрослым, адекватным человеком, видимо, смысла нет. Я доверила тебе честь сестры. Честь семьи. Больше такой глупости я не совершу. Ступай вон отсюда.
– Но…
– Ступай, я сказала!
Сергей ретировался. Тетушка обессиленно опустилась на освободившейся стул и вовсе безжизненным голосом изложила Татьяне свои выводы.
– Значит так, красавица. Много воли себе взяла? Так бери же всю! Я твоей судьбой больше заниматься не желаю.
– Но, тетушка, – Таня сейчас была само послушание. – Это случайность. Мы просто задержались в городе. Обещаю, больше такого не повторится! Простите меня.
– Я эти слова сто раз слышала. Не верю!
И тетушка поведала повзрослевшей дочери плачевную историю последних лет жизни ее родной матери. Мигом превратившись из генеральской дочки и племянницы миллионщицы в «порождение гулящей пьянчужки», Таня потеряла дар речи. Она больше не умоляла тетку ни о чем, пытаясь уложить в голове только что открывшуюся правду. А тетка продолжала диктовать свои планы.
– Сейчас ты приведешь себя в порядок и оденешься, как приличная барышня из приличного дома. В новом твоем гардеробе есть и пристойные платья! Будь любезна! Скромно. Аккуратно. И быстро. Через час мы с тобой обедаем в кофейне. Прополощи рот мятной водой. И запомни! Все утро мы провели за покупками. Об их наличии я позабочусь. Встретим знакомых, сетуй на то, что у Стрельцова нынче лавка закрыта, только время потеряли – у них все водой залило с утра, водопровод прохудился, весь переулок в потоках, даже подъехать нельзя. Упомянут эту статью, закатывай глаза и ужасайся вместе со всеми!
– Тетя, у меня совсем нет сил, – попыталась оградиться Таня.
– Поднимай жопу и одевайся! Через полчаса жду во дворе. Это последнее, что я могу для тебя сделать.
***
В монастыре произошел безобразный случай. Подобного здесь припомнить не мог никто. Все развивалось настолько стремительно, что даже сами участники событий, вряд ли заранее могли предвидеть последствия ряда незаметных вроде бы изменений. На следующее утро после того неудачного визита Лизы с компанией, Андрей Григорьевич проснулся, как ни странно, в хорошем настроении, и, если засыпая, он все еще корил себя, то выйдя после сна на порог, вчерашнее вспоминалось уже как сон и на душе было, если и не спокойно, то, как говорится «отпустило». Светило яркое солнце, щебетали ранние пташки, день обещал быть жарким и ясным, ни одного облачка не было видно на небе.
Андрей Григорьевич услышал, как проснулись его сожительница по дому и приставленная к ней женщина, которая ухаживала за вдовой во время ее приступов. Они настигали хмурую женщину все чаще, и помощница оставалась при ней теперь почти неотлучно. Но ночь была спокойная, Полетаев не слышал стонов через стену, как бывало порой, и он обернулся поприветствовать Катерину Семеновну, так звали его временную соседку. Она прошла мимо него молча, сжав губы до синевы, и Андрей Григорьевич подумал, что боль все-таки преследует ее и в душе пожалел женщину.
Вновь встретились они за завтраком. Разговоры в трапезной были недопустимы, но на приветственную улыбку Полетаева вдова, сидящая напротив за длинным деревянным столом, в ответ прожгла его долгим пристальным взглядом, а после швырнув ложку со злостью и силой, нарушила благостную тишину. Все посмотрели на нее. Она терпела пару минут, но видно было, как клокочет внутри нее что-то невысказанное – дожевав, она прекратила еду, но мышцы лица ее продолжали двигаться отчетливо, видимо она скрежетала зубами от напряжения. Потом она порывисто вскочила, неуклюже перешагнула общую лавку, потому что выйти обычным путем можно было только по очереди, а все еще сидели. Ее шаль зацепилась за какой-то сучок или гвоздь и, потянув ее, но поняв, что та не отцепляется, она с утробным возгласом рванула ее, оставив клок выдранным, и ушла на улицу в одиночестве.
Сомнений не было – причиной ее такого бурного недовольства был не кто иной, как Андрей Григорьевич. Теперь все смотрели на него. Он сам недоумевал, потому что никакой вины или проступка за собой не помнил. Он решил выяснить все позже и стал кушать, все вокруг тоже успокоились и почти сразу забыли о происшествии, мало ли у кого бывает плохое настроение, просто смирения в ней мало. Вернувшись в домик, Полетаев соседки не застал, а после был длинный день с его заботами и делами. Лишь под вечер они снова вынужденно встретились. Прошло уже столько времени, что чувства, вызванные утренним инцидентом, у Андрея Григорьевича притупились. Но он все равно, увидев соседку, спросил, не вызвал ли чем ее недовольства? Она сквозь зубы процедила «нет» и скрылась на своей половине.
Следующий день принес перемены к худшему – с утра было прохладно, а небо затянуло серой хмарью. Ветер нагонял тучи, хлестал по лицу, гулять на тропинке не было ни у кого никакого желания. Полетаев вышел было на холм, да пару раз чудом удержав шляпу, понял бессмысленность затеи и вернулся в дом – заданий от батюшки на сегодня у него не было. Соседки тоже никуда не выходили, он слышал их присутствие. К обеду вышли порознь, он дождался, пока те ушли и неспешно последовал за ними через лесок. Уже на подходе к трапезной, куда с разных сторон стекались гости и послушники, он увидел облокотившуюся на товарку вдову, она согнулась, явно от боли и поджала ногу, видимо оступившись. Как нормальный мужчина, Андрей Григорьевич предложил свою помощь – довести пострадавшую вдвоем. Тут все и произошло. Увидев, подошедшего так близко Полетаева, злобную сдержанность вдовы прорвало потоком брани.
– Дрянь! Гадина такая! Он ходит тут еще, как ни в чем не бывало, грехи замаливает! Дочь! Родная дочь к нему приползла, а он! Да ты бежать за ней должен! Если бы я могла! Если бы я только могла! Сказать, обнять! Все бы простила. Сама бы в ногах валялась. Хоть краешком глаза еще раз увидеть! А эта – стоит на дорожке, чуть не плачет. Живая! А он морду в землю уткнул, да мимо чешет. Скотина!
И, забыв про ушибленную ногу, вдова рванулась к нему и вцепилась сначала в одежду, а после в седую шевелюру Андрея Григорьевича. Женщина, помогавшая ей идти, не смогла ее сначала удержать – от неожиданности, а после оторвать от жертвы – из-за неимоверной силищи, невесть откуда взявшейся в немощной тетке. Когда подоспели еще люди, и ужас этот закончился, наконец, то Андрей Григорьевич ощутил боль на лице, а проведя ладонью по щеке, увидел красные полосы. Вдова расцарапала его в кровь. Сама она в бессилии упала на руки подоспевшим прихожанам, и те унесли ее прочь.
Обедать никто из участников происшествия так и не смог. Полетаева зазвал к себе вызванный монахами батюшка, расспрашивал, успокаивал. Предлагал доктора, Андрей Григорьевич отказался, батюшка обработал ему ссадины самостоятельно и оставил до вечера у себя, пока все не прояснится, а сам ушел куда-то. Вернулся, спустя примерно час, и сетовал, что отселить Андрея Григорьевича никак не получается. Все комнаты для гостей заняты, обжиты, свободных нет, и не предвидится. Местные распорядители хоть и старались селить отдельно мужчин и женщин, да вот так сложилось, что в «мужском» домике от ветхости осталась только одна пригодная к жилью половина, там квартирует знакомый Полетаеву по огородным работам земский ветеринар. Полетаев был согласен жить в любой полуразвалюхе, ничего, лето ведь – вон Демьянов в такой хибаре ночует, что та даже снаружи кажется покосившейся. Но оказалось, что это невозможно, так как непригодную для жилья часть того дома монахи уже приспособили под хозяйственное хранилище, и вынести все оттуда было делом нереальным. Полетаев вздохнул.
Отселить саму вдову, поменяв ее на кого-либо другого, тоже оказалось сложно. Из старух добровольно никто не желал покидать насиженного места, а женщин моложе селить с мужчиной не желали сами монахи. Полетаев уж был не рад всей этой суматохе вокруг него, и спросил, наконец: «А как там она сама-то?». Оказалось, что плоха, выплеск гнева забрал у нее много сил и к ней пригласили-таки врача, опасаясь не только за ее рассудок, но и за саму жизнь. Она была в забытьи и в память не приходила. Тогда Андрей Григорьевич попросил разрешения вернуться к себе, ведь случая столкнуться с ней вновь в ближайшем будущем не предвиделось, а там, может, что и образуется. Это решение принесло облегчение всем, хоть временное. По дороге его ожидал Демьянов.
– Ну, ты как, брат? – спросил он, протягивая Андрею Григорьевичу трость, видимо взятую им из домика на свой страх и риск.
– Да твоими молитвами, – попытался улыбнуться Полетаев, приятно удивленный такой заботой. – Благодарю, очень кстати.
– Ты сильно-то не серчай на нее, – начал было Рафаэль Николаевич. – У нее, говорят, двое взрослых детей было, сын и дочь. А сейчас никого не осталось. И вроде бы оба ушли как-то трагически, я не особо знаю эту историю, так, с чужих слов.
– О, Господи! Бедная женщина! Да я и не злюсь вовсе. Я только не ожидал. Опешил, – Полетаев посмотрел на небо. – Сейчас дождь польет. Эх, а так бы посидели на той скамейке, домой не хочу.
– А, пойдем, брат, ко мне? Пересидишь. Поболтаем.
Так Андрей Григорьевич впервые оказался в чужом жилище этого странного сообщества. Кроме своей комнатушки он ничего доселе не видел, и считал, что аскетическое ее убранство есть принадлежность всей этой общины, ее образа жизни и назначения. Думал, что отсутствие излишеств оправдано, а недостаток привычных удобств соответствует цели пребывания – думать о душе. Но, увидев, жилище бывшего судейского, понял, что грех гордыни им еще не изжит, а то, что он мужественно принимал за лишения, есть всего лишь необходимый и достаточный набор, приспособленный для жизни. У Демьянова в комнате стоял запах сырой плесени, стола не было вовсе, а из мебели – деревянная лавка, сундук, покрытый лоскутным одеялом и табурет, на который хозяин усадил гостя. Все.
– А где же ты спишь? – недоуменно спросил Полетаев.
– Давай не будем обсуждать мое хозяйство, прошу тебя, брат. Кокетничать не желаю, а при любом объяснении выйдет криво. Самоуничижение – та же гордыня, только в другую сторону. Не вынуждай. Не от того все, да объяснять долго. Времени просто жалко на ерунду.
– Да, нет, ты не подумай, я не сужу, – стушевался гость. – Просто любопытно – кровати-то нет.
– Ну, коли так… – Демьянов почесал в затылке и сел на лавку. – На сундуке удобнее, если в каком месте капает, его передвинуть легче. Ну, давай о тебе, братец.
Полетаев поднял взгляд и сквозь прорехи в потолке увидел просвечивающие щели. Промолчал. Пола в этой избенке не было вовсе, а была утоптанная земля.
– А что обо мне? – Андрей Григорьевич пристроил трость сбоку, уперся ладонями в колени и вновь улыбнулся. – Вот, братец, пострадал, а за что не ведаю.
***
Лиза сидела дома уже третий день безвылазно. Вчера шел дождь. Да и не в этом было дело. Дело было в том, что как-то так, внезапно обнаружилось, что идти ей вовсе некуда и не к кому. Верней так. Лиза снова побывала у Олениных, и в этот раз все было хорошо, так что после Лиза боялась испортить это воспоминание и больше к ним не шла. Она заметила, что если между ней и Лидой вдруг воцаряется мир, то на другой раз они обязательно повздорят, или произойдет еще что-то нехорошее, и Лизе потом приходится жить с неприятным осадком на сердце, пока все снова не пойдет на лад. Конечно, это не была очередность встреч – плохих и хороших – с математической точностью через раз, но и желания рисковать не было. Пусть остается так, как сейчас.
В тот визит Лиза надела пошитые Кристиной обновки и совершенно слилась с гостями Лиды, а их снова набился полный дом. Даже Хохлов почти не поддевал ее, а он там был. Он становился частым гостем в этом доме, навещая своего приятеля – долговязого Кириевских, который переехал сюда насовсем. Вообще, у Олениных было шумно и весело теперь почти всегда, так как жильцов прибавилось, все вместе обедали раз в день, а по выходным и праздникам гуляли в столовой второго этажа допоздна. Это Хохлов, еще в тот раз, сделал Ольге Ивановне заманчивое предложение и она, подумав, приняла его.
– Что за расточительство, мадам, в самом деле? – спрашивал он Оленину с пристрастием. – Простите, за прямоту, но я же вижу, что семья ваша не располагает средствами даже в необходимом объеме, а уж…
– Простите, молодой человек! – прервала его гордая полковница. – Свои финансовые дела я не обсуждаю даже с детьми, не то что, с посторонним, хоть и очень энергичным, недавним знакомцем.
– Если бы я обижался каждый раз, когда мне дают по носу, я и сотой доли того, что могу, не сделал бы, – засмеялся в ответ Арсений. – Я не только энергичен, но и настойчив, мадам. Итак. Вы не располагаете денежными накоплениями, но владеете этим домом. А в первом этаже у Вас проживает единственный постоялец, да как я успел расспросить, еще и на Вашей милости, то есть забесплатно. Погодите, мадам! – остановил он вновь желающую прервать этот монолог хозяйку. – Я договорю в любом случае. Я не поленился обождать Вас пару часов, пережду и Ваши возражения. Мой интерес в этом деле тоже есть, не сомневайтесь.
– И каков же он? – Оленина сдалась. – Видимо легче будет Вас выслушать, молодой человек. Только сразу огорчу Вас – подобные коммерческие намерения неуместны в моей семье, мы не так воспитаны, это Вы просчитались. Я не нуждаюсь ни в агентах, ни в посредниках! Здесь будут жить только наши гости. Это дом, молодой человек, а не ночлежка…
– Ну и глупо! – совсем уж нагло перебил женщину Хохлов. – К чему такая излишняя гордость? Сейчас город переполнен гостями, цены на квартиры взлетели неимоверно, взять приличное жилье по разумной цене вовсе не представляется возможным. Вы, с вашей все равно пустующей площадью, могли бы не только упрочить семейное материальное положение, но и помочь таким же, стесненным в средствах, людям. Рабочим, студентам. Сдавайте, не заламывая, по-божески! Причем, мадам, надо ловить момент, и предлагать это именно сейчас, ведь осенью, с окончанием Выставки, все вновь переменится. А так жильцы привыкнут к Вам, а там целый учебный год впереди. Если у вас еще и приличный стол организовать, то я сам приведу сюда хоть полдюжины претендентов. И не смейте записывать меня в капиталисты! – продолжал посмеиваться он. – Ни копейки процентов я с Вас и не собирался брать, приглашайте меня изредка на званые вечера, вот и вся моя корысть.
И вот теперь эти «званые вечера» стали частыми в доме Олениных, как поняла Лиза со слов Лиды. Той в них нравилось все – и споры, и шум, и новые лица, и чтения, и музицирование. В музицировании Лиза сама принимала участие, а что за чтения так и не уловила, при ней не читали ничего, а Лида объясняла сбивчиво. Лиза поняла только, что это не роман, и не с продолжением. А, как будто какие-то статьи. Каждый раз – новые. «Из газет, Лида?» – попыталась уточнить она у подруги, но та замялась, как, если бы проговорилась в чем-то, и нехотя ответила, переводя разговор на другую тему: «Из брошюрок, или просто с листочков, да это неважно, Лизонька. Как тебе наши новые жильцы?»
Жильцы были все молодые и веселые, и хоть с отсрочками и перебоями, но за постой и стол платили. А Петр и Алексей, чтобы не бездельничать все лето, устроились на полставки санитарами в одну из городских больниц. Разговор перешел на то, что теперь денег в доме появилось столько, что, наконец, наняли постоянную кухарку. «Ты ж знаешь, – самокритично подшучивала над собой Лида, – готовить ни я, ни маменька особо не умеем».
При Лизе никаких брошюр не доставали, а если кто-то в разговоре пытался вернуться к незаконченным спорам или прошлому обсуждению, то на того смотрели «страшными» глазами, указывая на Лизу или Лидину мать, которая тоже часто посиживала с молодежью. Из этих обрывков Лиза уловила что-то про «свободу, освобождение и равенство».
В выходные Лида и Петр попросили запряжку с Серко, и Кузьма повез их по губернским селам. Лиза с Алексеем договорились на другую неделю. Дни тянулись, зарядили дожди. Лиза скучала и иногда почти с ужасом думала, что вот так и будет идти теперь вся ее жизнь – дом, окошко во двор или окошко в переулок, уроки в большом доме да редкие поездки «по делам». Она умрет с тоски!
Борцов на ее записку не ответил, сам не появлялся, и Лиза, измучившись от стыда и досады, написала вторую. То она думала, что он презрительно отнесся к ее навязчивости. Потом ее кидало в краску от того, что она осмелилась писать взрослому человеку, а он, конечно, даже не воспринял ее записку всерьез. Она долго сочиняла, что бы написать такого бодрого и беспечного, чтобы он и думать не смел, что она ждала его. Но, что бы ни придумывалось, все выходило с обидой. «Вы не ответили мне, да и надобность прошла…» Не то, не то. «Лев Александрович, простите, что хотела оторвать Вас от дел. Понимаю Вашу занятость и не сержусь. Никакой срочности нет, я просто рада видеть Вас, как выдастся случай. Лиза Полетаева» Уф! Теперь можно хоть сколько-то успокоиться и не думать об этом. Или не так? Надо было написать по-другому? Но записку снова уже унесли. Не вернешь. Да что же это такое! Не посылать же третью!
Лиза взяла ключи от большого дома, вышла во двор и спросила у дворника садовые ножницы. Он принес. Лиза отперла залу, а потом двери в сад. Надо было хоть чем-то себя занять, и она стала обстригать ветки, чтобы можно было пройти по дорожкам к забору и обратно, а то они лезли прямо в глаза или цепляли платье. Благо, сегодня дождя не было.
***
Возвращаясь во флигель, Лиза увидела, что дворник громко препирается с кем-то у входа. Приглядевшись, она поняла, что в ворота настойчиво рвутся двое парней, одетых пестро и странно. Может это были коробейники, которых отец строго-настрого запрещал пускать даже во двор. А может, бродячие фокусники. Все равно – народ подозрительный и возле дома лишний. Пару они представляли, во всяком случае, издалека глядя, комичную – один был миниатюрного сложения, худой и невысокий, а другой атлетической наружности, крупный. Большой. Лиза пожалела, что няни нет дома, та ушла за покупками уже часа два назад. Егоровна умела избавляться от подобной публики парой фраз, а теперь Лизе самой придется вмешиваться, ведь она сейчас единственный представитель хозяев, а сделать вид, что она не заметила происходящего уже не получится. Неудобно перед дворником. А шумное событие явно перерастало в конфликт.
Лиза глубоко вдохнула и направилась к воротам. «В конце концов, пригрожу околоточным. Главное говорить твердо, спокойно и уверенно. Чтобы послушали!» – настраивала она себя на сражение. Солнце светило в спину непрошенным гостям, и разглядеть их вид и точный возраст она пока не могла.
– Лизавета! Ну, наконец-то! Скажи ему! – крикнул вдруг тот, кто был выше ростом, и Лиза замерла, как вкопанная на месте – так ее называл один единственный человек на свете.
– Митя, – растеряно произнесла она шепотом, а после, осознав до конца, что вот он стоит перед ней живой и невредимый, бросилась к решетке ограды. – Митя! Ты нашелся? О, господи! – и уже со слезами на лице велела дворнику: – Да открывай же! Отопри быстрей. Это – Митя!
– Сию минутку, барышня! – засуетился дворник. – Ах ты, батюшки! Знакомый Ваш? А я думал – охальники какие лезут. Сейчас, сейчас!
Шагнув во двор, Дмитрий распахнул свои ручищи, и Лиза повисла у него на шее.
– Ну, не плачь, не плачь, сестренка моя нареченная! – улыбался Митя широко и довольно. – И что значит «нашелся»? Дмитрий Кузяев никогда себя не терял! Я вернулся. Вернулся! Егоровна, давай чаю нам! – крикнул он флигелю. – Знакомься, Лизавета, друг мой – Николай Рихтер. Рекомендую. Приютите до вечера? Никого из моих в городе нету. Разъехались. Лето! Сунулись было на прежнюю квартирку, да там меня давно уж в утиль списали, все чужие какие-то живут. Давай, веди меня к Андрей-Григоричу, побираться у него буду, поиздержался вдрызг! Пусть Кузьма меня отвезет в Луговое. Вот, Николая с собой притащил. У него тут родственники, так что от вас мы прямиком к ним. Посажу его вечером на питерский поезд и – домой! Я, Лизавета, ему многим обязан.
– Здравствуйте, милая Елизавета Андреевна, много о Вас наслышан, – Николай поклонился и в поклоне легко пожал Лизе протянутую руку. – Простите моего шумного друга. Да Вы, наверно, пуще меня, его знаете. Простите за вторжение, но других столь близких знакомых у него в городе не оказалось. Я предлагал ему денег на извозчика, как сам получу, да он все к вам в дом рвался, они, говорит, как родные, так отвезут. Мы только час, как с Одесского поезда.
– Добро пожаловать, а папы нет сейчас, – Лиза беспомощно глянула на дворника, тот лишь глубоко вздохнул. – Да вы проходите, проходите. И рассказывайте! Где, как? Егоровна ушла, скоро будет. Да я сама сейчас самовар…
– Уж, позволь, сестренка, я тут похозяйничаю? – гремел Митя. – Какой уж ты самовар? Мы сами тут! А как там матушка моя, слышала, знаешь?
Они пили чай, когда вернулась Егоровна. Она тоже плакала от радости, обнималась с Митей, знакомилась с Николаем. Перебираться в столовую никто не пожелал, и кухонный стол постепенно заполнялся разносолами, вкусностями и няниными плюшками да пирогами. Самовар в этот день кипел беспрерывно. И все длился, и длился рассказ о заморских приключениях двух атлетов.
Они благополучно сели на пароход в Одессе и без происшествий дошли до порта назначения. В Константинополе, узнавая как легче добраться до Афин, они встретили нескольких соотечественников, уже возвращающихся оттуда. Все они были разочарованы и поведали друзьям о неимоверной дороговизне, на время игр охватившей греческую столицу. Многие, даже заявленные уже на состязания спортсмены, разворачивались и разъезжались по домам еще до открытия Олимпийских игр. Узнав порядок цен, приятели поняли, что им там вообще ничего не светит, так как у них впритык было отложено денег на обратную дорогу, а оказалось, что участники должны не только сами обеспечивать себя экипировкой, но и проживание, и кормежку искать и оплачивать самостоятельно. На две недели их средств явно не хватило бы ни при каких раскладах.
Николай мечтал участвовать в плавательных соревнованиях, так как в училище он был не из последних в этом виде, а Дмитрий, соответственно – в схватках по борьбе. И те, и другие состязания назначены были не в начале игр, и успеть еще было можно. Приятели решили задержаться на несколько дней и подзаработать в портовом городе. Но человек предполагает, а… Присев как-то отобедать в уличном кабаке, Митя доверчиво повесил свой пиджак на спинку стула. Надо ли говорить, что окончив трапезу, приятели не обнаружили не только портмоне, хранящегося в кармане, но и самого одеяния. Благо половина денег была у Николая. Митя сокрушался, Николай хоть и смотрел на друга с выражением лица «Я же сто раз тебе говорил так не делать!», но вслух ничего не высказывал, а только все обдумав, выдал: «Про оставшиеся деньги надо забыть теперь, как будто их и нет вовсе! Это шанс хоть одному из нас вернуться на родину и уже оттуда вытаскивать второго. Пошли искать работу, как и собирались, да жилье подешевле. Ни о каких гостиницах и речи быть не может, во-первых, надо договариваться в долг, да и бумаг у тебя теперь тоже нет, так ведь?» Вспомнив про документы, Дмитрий схватился за голову.
***
Комнату они нашли не сразу. Кормились первые дни, спуская взятую с собой приличную одежонку. Со временным трудоустройством все обстояло тоже не совсем ладно. Верней Митю с его силищей тут же взяли грузчиком, хоть на неделю, хоть на сколько. Причем трое хозяев нарасхват зазывали его к себе. А вот Николай остался не у дел, и если первые ночи Кузяев спал прямо на складских мешках в порту, то где скитался Рихтер, это ему одному ведомо. Новые соратники силача, заметив бедственное положение друзей, на ломанном русском объяснили им, что самое доступное жилье нужно искать у армян, те много не возьмут. И в выдавшийся у Мити перерыв, они с Николаем планомерно стали обходить дворы армянского поселения. Но нигде неизвестных чужеземцев не впустили, объясняя это очень схоже: «Полным-полно уже у нас, вот жена брата с детьми приехала, теперь здесь жить будет».
Митя своим простодушием большого ребенка очень скоро расположил к себе как собратьев по тасканию мешков и бочек, так и ближайших конкурентов, с которыми после смен грузчики часто устраивали приятельские поединки. Как-то амбалы с соседнего пирса привели к нему схожего с нижегородцем по сложению и росту армянина и рекомендовали: «Это – Затик. Он про тебя знает». Тот осмотрел русского с ног до головы и сказал: «Жить негде? Если не пугает каждый день переправляться через залив, то могу предложить чердак в доме дяди. Приходи с братом к ночи, вот адрес. Мы живем в Галате».
И началось житье в большой армянской семье. Кроме племянник, у хозяина дома – дяди Агаси – оказалось двое взрослых сыновей Теван и Тигран, один мальчик-подросток Мнацик и дочь Сате, красавица, в которой вся мужская часть семьи души не чаяла. Еще была бабушка Гинуш, которая почти не вставала, но весь день сидела на дворе и всегда видела и знала, кто куда пошел и чем сейчас занят. Хозяйничали в доме жена дяди Агаси – Лусинэ, которую Митя почти сразу стал называть «тетя Люся» и ее вдовая сестра Мануш («тетя Маша»). Еще за столом собирались дядя Натан, дядя Мигран и почти ровесник Мнацика – Арташез, родство коих с главой дома друзьям точно отследить не удалось. В семье не очень хорошо знали, но понимали русскую речь поселившихся друзей, которых упорно принимали за двоюродных братьев. Сносно говорили с ними на родном языке только хозяин, Теван и Затик. Через неделю уже бегло болтал по-русски и Мнацик.
Николай объяснил ему значение нескольких слов по-английски. Тот запомнил. Потом по-немецки – мальчик сооружал из них осмысленные предложения.
– Ваш сын имеет необычайную расположенность к обучению языкам, знаете ли Вы это? – с восторгом делился своим открытием Рихтер.
– В любом портовом городе каждый с малолетства может объясниться с покупателем на любом языке мира, – смеялся отец мальчика.
– Но это не обычные, не средние способности. Грех оставлять такой дар без развития. Отдайте его в обучение! А то, что из него вырастет, если он в свои двенадцать так ничему и не учится, а только бегает с другими мальчишками по городу?
– Грузчик из него вырастет, грузчик! – отмахивался дядя Агаси. – Как из братьев и иных родичей. Будет как все!
– Вы не понимаете! – дотошный Николай хотел убедить родителя в своей правоте.
– Я не понимаете? Это ты не понимаете, – благодушно растолковывал ему хозяин. – Где я денег учителю возьму? Семью кормить надо? Родственников кормить надо? Вас кормить надо? Сами-то в долг живете. А моя Сате? Вот-вот невестой станет, не сейчас, так в будущем году. Мне приданое надо готовить, свадьбу не хуже, чем у других справить. Эх, ты, пустопляс мой дорогой!
– Пустозвон, – понуро отвечал Рихтер.
– Что говоришь? – переспросил дядя Агаси.
– У нас говорят «пустозвон» или «свистопляс», – вздохнул безработный жилец. – Вы не сомневайтесь, мы Вам все до копеечки заплатим, как Мите жалование дадут. Вы к нам так отнеслись! Поверили. Даже на билет после копить станем, сначала все Вам!
– Как сможете, так и заплатите. Одной веры мы, что уж тут считаться. Сказал же – подожду, – пожилой армянин почесал в затылке. – Только долгонько вам с братом на обратную дорогу собирать придется, в порту-то гроши платят. Эх, кабы его в городе где приткнуть, с его-то умениями и силищей! Вон, мои-то молодцы, раза в три больше приносят.
– Ну, так куда ж ему в город без документа! – сокрушался Николай. – Спасибо, что хоть там хозяин никаких бумаг не спрашивает. Эх, мне бы еще самому где-нибудь пристроиться! Хотите я, пока делать все равно нечего, Мнацика сам учить стану, за так? Вы только ему чернил и тетрадок купите?
– Ну, давай попробуем.
Они помолчали. Сыновья дяди Агаси работали где-то в самом городе, не в порту. Николай спросил где. Оказалось – в посольствах. Тоже грузчиками, но совсем другого качества. И работа не такая грязная, и авралов почти не бывает, и платят лучше.
– А что ж Затик ваш? – Николаю хотелось поболтать хоть с кем-то, друг, приходя с работы, валился без сил, а еще затемно он и такие же работники из Галаты спешили на баркас, перевозивший их через Золотой Рог в центральную часть города.
– А Затик всего год в Константинополе, – отчего-то осунувшись, отвечал хозяин. – Все будет со временем. Он-то как раз учился, ему место получше обязательно найдется. Пусть приживется здесь.
– Он из дома на заработки приехал? – настойчиво продолжал расспросы Николай, не замечая перемены настроения хозяина. – У вас всегда такие большие семьи! А он тут один. Где вся его семья? В другом городе?
– В другом городе, – еле слышно прошептал дядя Агаси. – Была в другом городе. Теперь нету. Убили всех.
Он встал и молча ушел в дом. А Николай еще долго сидел под раскидистым деревом, крона которого даже в жаркий день создавала островок прохладной тени на раскаленном дворе, и тер лоб, коря себя за бестактность.
***
Успехи Мнацика были столь красноречивы и скоры, что вызывали неподдельную гордость всех домашних, хоть сами они не понимали ни слова из того, что болтал мальчик на иностранных языках. Артика тоже никто не гнал с уроков, но посидев пару раз с учителем и благодарным учеником, он взмолился, и его отпустили гулять. Совершенно не завидуя достижениям родственника, он снова носился с мальчишками по пыльным улочкам или околачивался на берегу, наслаждаясь вольной жизнью, где все понимали друг друга и без нудного писания непонятных закорючек на бумаге. Он непрестанно рассказывал приятелям о способностях Мнацика, превозносил учителя и всячески восхвалял их домашние перемены с воцарением в доме двух русских гостей. А Митю все дети в округе знали напрямую и полюбили мгновенно. Взрослые тоже не могли отказать себе в удовольствии похвастаться неожиданно раскрывшимися дарованиями одного из мальчиков, и со слов дяди Тиграна вся обслуга австрийского, а из рассказов дяди Тевана российского посольств была осведомлена об армянском вундеркинде.
Слух дошел и до личного помощника первого драгомана русского посольства. Он, как-то выходя вечером, не удержался, и подошел к Тевану.
– Правду ли говорят о твоем племяннике, Теван? Что будто бы он, ничего не зная до того, вдруг взял, да сам языку за три дня выучился?
– Врут, господин Денисов! Не племянник он мне, а брат родной. И не за три дня, а за три недели. И не сам, а нам Господь хорошего учителя послал.
– Кто таков?
– Русский.
– Приведи мальчика. Я сам – переводчик, мне любопытно. Я его поспрашиваю, не возражаешь?
Теван Мнацика привел, экзамен тот выдержал с достоинством, и Денисов захотел познакомиться и с его толковым учителем. Они сошлись с Николаем и вскоре стали приятелями. Чуть лучше узнав нового знакомого, Рихтер поведал ему историю их одиссеи и под секретом доверил нынешнее положение друга, надеясь на порядочность Денисова. Тот в полицию не пошел, но объяснил Николаю трудности восстановления документа именно здесь, за границей. Но помочь в переправкой в Россию обещал, это возможно было и со временной бумагой. Он велел передать другу, что не дело прятаться, а надо явиться к властям с повинной, все решаемо, правда о работе и заработке на время придется, видимо, забыть. Но зато он обещал найти учеников Николаю.
Так прошел месяц и второй. Приятели пока думали над предложением Денисова, работали оба, расплатились за жилье с дядей Агаси, да и их накопленная сумма увеличивалась на глазах. И тут случилась беда. Заболела Сатеник. Она мучилась от боли в животе, местный лекарь выписывал ей какие-то порошки и капли, но они мало помогали, а на вторую ночь стало совсем худо. Слыша ее стоны, уже начинавшие переходить в крики, друзья не выдержали. Митя взял Николая за грудки и потряс как грушу.
– Они загубят ее, понимаешь ты? Как же ей больно! Что делать? Что делать, Николай?
Николай молча стряхнул с себя могучие Митины кулачищи, так же молча полез в укромное место и, вынув из тряпицы пару бумажек, скрылся в ночной тьме. Через некоторое время он вернулся с русским доктором – благодаря рассказам Денисова, он знал теперь почти все места проживания соотечественников в этом городе. Врач осмотрел больную, обругал ее родных за упущенное время и, видя в их глазах лишь слезы и ужас, вновь обернулся к приведшему его Николаю.
– Молодой человек! У нее уже перитонит, понимаете ли Вы, что это такое! Не мотайте головой, это был вопрос чисто риторический. Нужна срочнейшая операция, никаких гарантий я Вам дать не могу, все в руках божьих. Но, пока есть хоть какая-то надежда, надо бороться! Остается только молиться.
– Что он сказал? – заглядывая в глаза мужу, по-армянски спросила тетя Люся.
– Он велел молиться за нашу девочку, – отвечал тот, бледнея.
– Вы понимаете, что это не Россия, тут нет богаделен? – уже более спокойным тоном продолжал врач. – Я учился у Домбровского , видел подобное, но сам не оперировал ни разу. Возьмусь, конечно. Но! Операционная, анестезия, ассистенты. Тут за все надо платить.
Митя метнулся наверх, и через минуту в руках у доктора оказалась тряпица и все, что в ней оставалось. Митя подхватил девушку на руки и только спросил:
– Куда нести?
– В город! В город, молодой человек!
Тут же Тигран с Теваном разбудили соседей, и через десяток минут баркас был готов к отплытию. Сатеник спасли. Она долго и мучительно выздоравливала, но было ясно, что самое страшное миновало. Она теперь смотрела на Митю совсем другим взглядом, часто вздыхала, наблюдая из окошка, как он поднимается к себе наверх, и никак не могла забыть его крепких объятий, когда он нес ее на берег. А Митя ничего не замечал. Дядя Агаси в первое же утро после успешной операции сам поднялся к проспавшим до полудня друзьям.
– Низкий поклон вам, сынки. Теперь я ваш должник. По гроб жизни моей должник. И денежный долг отдам! Вы не раздумывая все достали, спасая мою дочь, я тоже долго раздумывать не стану. Все продам, а отдам. Живите сколько хотите, здесь, у моих родичей, у друзей моих родичей, везде, где меня помнят и знают. Вы теперь – члены моей семьи. Я все сказал.
Друзья, конечно же, не позволили дяде Агаси «все продать», понимая, что выложить такую сумму сразу он просто не может. Тем более, что восстановление здоровья Сате тоже требовало немалых затрат, а «кормить семью надо» и этого вовсе никто не отменял. И хоть за жилье им теперь платить было не нужно, перспектива возвращения домой отодвигалась на неопределенное время. Но приятели об этом не жалели. Сате уже часто напевала что-то в своей комнате, и ее ангельский голосок опровергал всю ценность денежных знаков. Во двор она пока не выходила.
***
Как часто бывает, друзьям помог случай. Как-то под вечер в ворота постучались – каким-то чудом их пристанище нашел Денисов, который до этого в гостях тут ни разу не был. Сославшись на спешку, он отказался от гостеприимных предложений хозяев, которые друга своих спасителей рады были бы угостить, чем могли, и поднялся на чердак к русским. Поговорить. Николай уже давно понял, что у Денисова есть сведения не только о местоположении всех соотечественников, но и вообще, он, скорей всего имеет и иные, скрытые возможности, кроме секретарства. Нечто подобное и вышло.
– Господа, – с порога, почти по-военному, начал переводчик. – Александр Иванович недавно делал запрос об усилении нашей эскадры в порту, и нынче пришел ответ. Удовлетворительный.
– Кто такой Александр Иванович, простите? – озадачился Митя. – И какое до нас касательство это может иметь?
– Погоди, Дмитрий, – отодвинул его на задний план Рихтер, догадываясь, что по пустячному поводу помощник драгомана вряд ли явился бы в их лачугу. – Я так понимаю, это российский посол. Надеюсь, Вы не выдали нам никаких государственных секретов, господин Денисов?
– Ну, что вы! – улыбнулся тот. – Эти перемены в скором времени будет лицезреть вся турецкая столица. Но у меня лично это вызывает легкую печаль.
Друзья переглянулись. Денисов продолжал говорить загадками.
– Позволите поинтересоваться, эта печаль имеет происхождением политическую основу? – спросил Николай.
– Никак нет! – отвечал Денисов. – Основа сугубо человеческая. Расставание. На смену вызванным военным кораблям те, что несли вахту до сегодняшнего дня, возвращаются нынче на родину.
Друзья переглянулись вновь, теперь с неясной надеждой.
– Вы провожаете кого-то из своих… знакомых? – попытался прощупать почву Николай.
– Возможно. Возможно и знакомых, – представитель посольства задумчиво рассматривал то свою безукоризненно начищенную обувь, то идеально отполированные ногти. – Сие зависит не только от меня, а и от их решимости. А вот с родным братом я прощаюсь, это точно, сегодня же буду на пристани при отплытии. Он у меня, знаете ли – капитан первого ранга. По долгу службы нам выпало много месяцев вместе, в одном городе. Нынче вот отбывает.
– Капитан? – переспросил Митя и ничего не понимая посмотрел на Николая.
– Нет ли у него в команде каких-нибудь вакансий? – спросил уже сияющий и более догадливый Рихтер.
– Нехватка матросов, знаете ли. Иной климат, слабые желудки. Конечно, не так, чтобы уж совсем нельзя было выйти в море, но есть, есть вакансия. И хоть устав не велит… Я тут, по случаю, рассказывал ему о своем новом знакомстве, о том, что Вы – будущий мичман. Он заинтересовался.
– А как же – карантин? – Рихтер уже, видимо, принял решение.
– У меня тут шлюп, если на сборы уйдет не более получаса, то – вперед! – Денисов вдруг сделался стремительным, упер руки в колени, а глаз его загорелся. – Отходят через два часа, я сам узнал только недавно. Ну?!
– А я? А как же я?! – почти плакал, уже начинающий прозревать Митя. – Я вот – будущий корабельный механик! И что же? Я тут что ли один должен… На чужбине…
– Кочегарка! – ткнул в него пальцем Денисов, уже полностью преобразившийся в начальника военного совета. – И до берега носа оттуда не казать! Ясно?
– Ясно, – расплылся в улыбке Дмитрий. – Да чего там, полчаса, мы уж, считай, что и собрались! Эх, золотой Вы наш человек!
Прощание было пронзительным и быстрым. Уже обнявшись со всеми во дворе, пожав руки, написав на клочке бумаги адреса в России, заручившись кивком Денисова, что он не оставит ученика на полпути, а возьмет на себя языки Мнацика, утерев слезы, набив котомки «чем бог послал» на дорогу, друзья вдруг заметили в проеме двери исхудавшую Сате. Ее темные глаза стали, казалось, еще огромнее и сейчас из них неудержимо катились крупные слезы.
– Уезжаешь? – по-русски спросила она одного Митю. – Не можешь остаться?
– Сате, дорогая, ты уже вышла! – Он бросился к ней и, взяв за кончики пальцев, помог переступить порог. – Ну, теперь мы уедем со спокойной душой! Будь здорова всегда. Будь счастлива! Мы всегда будем помнить всех вас.
Счастливый Митя привычно оглянулся на своего друга, как ребенок оглядывается на мать в поисках одобрения, и с удивлением увидел, что тот укоризненно покачал головой, а после опустил взгляд в землю. Митя стал думать – что же не так? Он обернулся и тут только заметил, что девушка плачет.
– Сате, милая, тебе больно еще? – с тревогой спросил он.
– Больно, – тихо ответила она. – И еще долго будет больно.
– Ну, что ты! – успокаивал ее Митя. – Доктор сказал, что у тебя все идет на лад. Скоро совсем поправишься. Мы еще не доплывем до дома, а ты уже будешь совершенно здорова! Обещаю тебе.
– Обещай мне, – она подняла на него взгляд и слезы застыли на длинных ресницах. – Обещай мне сейчас, что ты будешь счастлив там. Обязательно будешь счастлив! Мне это необходимо. Как жизнь.
Николай решил прервать душещипательную сцену и подошел ближе.
– Прощай, Сате, – он протянул ей руку и мягко улыбнулся. – Обещай и ты нам то же самое. Я в каждом письме буду спрашивать у Мнацика про тебя, а ты предавай нам с ним приветы.
– Пора, пора, господа! – вмешался Денисов. – Время не терпит!
***
В Одессе друзья сошли на берег без копейки денег, но это была уже сущая ерунда! Это была своя земля, родная, Российская империя. Оставалось только найти способ переправиться отсюда по домам. А пока жутко хотелось просто поесть, корабельный завтрак остался в далеком уже прошлом. Первым делом друзья пошли по базарам. Только что отстроенные павильоны Нового рынка отпугнули их своим великолепием и масштабностью. Лишь войдя под высочайшие своды, приятели застыли, рассматривая стеклянную крышу здания, и дождались того, что в их сторону направился, подкручивая ус, явный представитель торговой полиции. Но они быстро ретировались.
– Не боись, Колян! – оглядываясь, прибавлял шагу Кузяев, вида на жительство не имеющий. – Уж чего-чего, а базаров в Одессе не пересчитаешь. Хоть в торговых рядах, а хоть на конном или Греческом рынке пристроимся. Но начинать нужно с Привоза!
Это был зов судьбы. На Привозе они нашли не легкий заработок, не случайную кормежку, а самого «посланца» Фортуны. Да-да! Так бывает, когда сильная тяга к чему-либо выводит тебя на верную дорогу. Тогда все силы, коим есть или нет названия, как будто собираются вместе и содействуют скорейшему достижению цели. Потолкавшись всего лишь с четверть часа в шумной и разноцветной толпе возниц, торговцев и пришедших за выгодной покупкой горожан, прислушиваясь к напевным отголоскам сговора между ними, наслаждаясь радостью обретения родной речи вновь, друзья разобрали вдруг среди голосов знакомые интонации. Вернее, их узнал Митя.
– И что Вы мне суете этот ворох снулых бычков? Покажите мне одну рыбку, но чтобы она была красавица! Молто белло! Фреско! – мужчина спорил с продавцом.
– А на что Вам одна рыбка? Одна рыбка заскучает на Вашей сковородке! Берите всех! – продавец доставал из корзины блестящих рыбин и тыкал их хвостами почти в лицо покупателю. – И Вы не правы, они резвые и молодые, и только утром брыкались, как невеста на брачном ложе! Виваче и мобиле! Гляньте, гляньте!
– А что Вы кажете мне их с тылу? Вы покажите мне их в лицо! – торг продолжался. – И на что мне столько? Мы живем вдвоем с мамой.
– Что за Вашу маму, Лёнечка, то все знают, что она может получить радость, скушав три таких рыбки за один присест! Так что берите все пять!
– Дьяболо! Пять – это ни туда, ни сюда. Что это за число – пять? Это невозможно. Импосибль!
– Батюшки! – Митя от неожиданности присел, хлопнув себя ладонями по коленям, да так и застыл. – Мамма кара! Лёнечка, значит? Ну, здравствуйте, синьор Луиджи!
Перед ними стоял не кто иной, как директор бродячего итальянского цирка синьор Луиджи Фаричелли собственной персоной. Персона сначала опешила, а после, узнав в плохо одетом громиле парня, принесшего ему однажды неплохой куш, хоть и потрепавшего нервишки, обрадовалась.
– Кажется, Кузякин? Какими судьбами! – он вглядывался в щуплого спутника Мити и смутно узнавал его. – Гардемарин с маслом. Так вы знакомцы, вот оно что. Ну, рассказывайте, как вы тут? Каким ветром?
Мама Лёнечки «Луиджи» оказалась очень заботливой, гостеприимной, радушной и говорливой, как, наверно, и все остальные мамы этого благословенного города. Сын являлся к ней при любой оказии, летом реже, но обязательно два раза в год – весной на Песах и осенью на День покаяния. Нынче сезон не удался, труппа разбежалась и вот он тут. Синьор Луиджи плакался двум друзьям, что все его бросили, что удержать артистов ему было нечем, что лакомый Нижний в этом году ему недоступен из-за Выставки – никто до ее окончания, конечно, и не подумает уступить площадку проезжим конкурентам. Что борцы его разругались вдрызг – сначала Крайник затребовал такую же сумму за выход, какую получал «чемпион». А потом его амбиции пошли еще дальше, и он захотел и сам титул. Потом он плюнул на них всех, и теперь борется где-то то ли в Киеве, то ли в Харькове. Что мечта иметь собственный шатер, собрать постоянную труппу шапито и не быть связанным ни с какими директорами и администраторами, уходит все дальше за горизонт. И года уходят. И силы уже не те. А вот, если бы, Дмитрий подумал и помог старому другу Фаричелли, то…
– Не агитируйте меня, Леонид! Это тема закрыта навсегда, – Митя был вежлив, но тверд. – Я теперь отношусь к спортивным занятиям с должным уважением и ответственностью. Дурить публику извольте без меня. Простите, мы, наверное, пойдем…
– И даже думать не пробуйте! – мама усадила обратно за стол, привставшего было гостя. – Кушайте, мальчики! Кушайте. Исхудали-то как на заморских харчах. Не слушайте моего непутевого сына. Он сам выпутается из любой ситуации, я-то его знаю. Николай, кладите себе еще селедочки.
– А где же теперь Георг Крафф? – спросил Митя, которому чемпион импонировал более других циркачей, хотя он его так и не сумел положить на лопатки. – Уехал к себе на родину? Или тоже где-то борется сам по себе?
– Жорка-то? – спросила мама Леонида и чему-то засмеялась. – На родине, конечно, где ему еще быть!
– Да тут он, – отвечал синьор Фаричелли. – Как без работы остались, так оба сюда и вернулись. В доках он, Жорку Кравчука там каждый знает. Мы ж с ним неразлучны с юности, росли вместе, на соседних улицах. Он такой же «Крафф», как я – «Фаричелли»! Сегодня вечером и увидитесь.
Нужно было отправить путешественников по домам и купить два билета – один до Питера, второй – до Нижнего. Одесситы, хоть и с причитаниями о последней рубашке, но наскребли, скинулись и дали приятелям в долг. И принарядили их со своего плеча. Так что Мите досталась золоченая жилетка Георга Краффа, а Николаю – полосатые штаны и что-то еще из сэкономленного Фаричелли реквизита. По дороге на вокзал друзьям попался на глаза телеграф, и Николай из своей доли дал кому-то длиннющую телеграмму. Теперь денег на два билета снова не хватало. Оба решили ехать в Нижний, потому как это было ближе и дешевле. Поезд отходил через два дня. Накануне отъезда, вечером, пришел ответ на телеграмму.
– Синьор Луиджи, – размахивая бумажкой, вопрошал Николай. – За месяц соберете труппу?
– Что Вы, Коля? Зачем? Летний сезон, считай, упущен. Нет смысла.
– Три недели августа в ярмарочном цирке Нижнего Новгорода, после – на Ваше усмотрение любые два города губернии на выбор. По-моему, неплохой задел можно отбить? Там, глядишь, и на шатер насобираете. Аренда божеская. Там же, в Нижнем, и долг наш получите. Жаль, что никто не додумался, чтобы деньги можно было переправлять с телеграфом! Или хотя бы с почтой , – Рихтер улыбнулся своей шутке. – Ну, так что? Едете?
– В Нижнем? Да рядом с Выставкой? Да в ее разгар? – Леонид недоверчиво кривил губы в ухмылке. – Нехорошо так издеваться над пожилым человеком, юноша. Сердце бедного итальянца может не выдержать. Вы же не волшебник?
– Я – не волшебник, – скромно подтвердил Рихтер. – А вот моя матушка является родной и единственной племянницей супруги директора цирков. Родственники мои уже не чаяли увидеть меня живым, поэтому, получив весточку, готовы сделать для меня многое сейчас. Вот подтверждение аренды.
– Так вот откуда места в первом ряду! Ха-ха! – хлопнул по спине друга Митя, от чего тот чуть не улетел прямо в объятия синьора Фаричелли.
***
Андрей Григорьевич Полетаев ворочался и никак не мог заснуть. Стоны за стеной то стихали, то возобновлялись с новой силой, а с недавних пор к ним добавился и еще какой-то хриплый неравномерный звук, который пугал его своей неопределимостью. Уж, не задыхается ли там вдова? Куда ж смотрит ее компаньонка?
Андрей Григорьевич встал, надел брюки и как был, в ночной сорочке навыпуск, вышел из своей комнатки, прихватив керосиновую лампу – единственный источник света по ночам, свечей он не держал. Пройдя сени, он застыл перед дубовой дверью соседки и прислушался. Звуки стали отчетливей, а затем резко прервались. У него заколотилось сердце. Через минуту все началось опять – стон, пауза, стон, хрип. Полетаев подумав, что все совсем худо, постучал. Стоны стихли, хрип продолжался, но никто ему не ответил. Он толкнул дверь и вошел, не разобрав в полумраке ничего.
Такая же, как у него керосинка, коптила, хлюпая и мигая. Он подошел и подкрутил ее, довольно низко наклонившись над вдовой. Дыхание ее было ровным, спустя два-три вдоха, он услышал знакомый стон. Обернулся оглядеться. Смотрящая за вдовой женщина сидела поперек принесенного специально для нее узкого топчана, прислонившись спиной к стене и крепко спала, периодически громко всхрапывая, что Полетаев и принял за предсмертные хрипы. Все стало понятно и не страшно. Он уже собрался уходить, как понял, что у вдовы глаза открыты.
– Простите за вторжение, – шепотом извинился он. – Так неудобно получилось, я стучал.
– Ты-ыыыы? – ненавидящим тоном простонала больная.
– Давайте Вы как-нибудь потом меня уничтожите, когда Вам лучше станет? Сейчас Вы еще очень слабы, – Андрей Григорьевич отступил на шаг от ее ложа. – Простите еще раз, я подумал, что здесь что-то неладно – никто не отвечал.
– За что-ооо мне такие му-ууки? – вдова сморщилась.
– Вам больно? Может подать чего-нибудь? – Андрей Григорьевич поставил керосинку на тумбочку и стал шарить в поисках лекарства. – Это?
– Вон из той коричневой склянки налей. Ложку в стакан. И водички туда. Хватит, спасибо.
Катерина Семеновна поднялась повыше, облокотившись на подушку. Выпила большими глотками. От лекарства ей мгновенно полегчало, это было видно.
– Не смотри на меня, я растрепанная, – велела она Полетаеву, даже в болезни оставаясь женщиной.
– Да что Вы, я не смотрю, – потупился Полетаев. – А Вы уже лучше выглядите, у Вас вон и цвет лица стал здоровее.
– Это ты в темноте тут разглядел? – усмехнулась больная. – Иди уж. Спи.
Андрей Григорьевич кивнул, взял свою лампу и пошел к дверям. Уже почти пройдя до них недолгих несколько шагов, он услышал, брошенную себе в спину фразу:
– Постой!
Он обернулся. Вдова смотрела не на него, а внутрь своего стакана и, видимо, в ее душе происходила какая-то борьба.
– Иди! – снова с ненавистью и почти в голос крикнула она, так что храп сиделки прервался. – Нет, стой. Ты… Это… Ты прости меня.
Вдову затрясло крупной дрожью, а у Андрея Григорьевича отчего-то перехватило в горле.
– Ну, будет, будет, – как ребенку сказал он ей. – Все хорошо будет. Спите.
И вышел из комнаты.
***
Сергей несколько дней подряд провел у Варвары. Если быть честным, то он просто сбежал из дому после той ночной Таниной эскапады, не желая ни попадать под теткин гнев, ни оправдываться, ни выгораживать Таню, ни придумывать какую-нибудь ложь – вдруг сестра скажет другое. Он решил переждать, пока все не прояснится. Планируемое путешествие по реке отчего-то сорвалось или перенеслось, он не понял из невнятного бормотания Варвары, но не настаивал. Ему было все равно где пересидеть бурю. Оказалось, житье с любовницей не доставляет такого удовольствия, как редкие к ней визиты – ужины и даже ночевки со страстью или без оной, но всегда с восхищением и подобострастием с той стороны. Нет. Когда стали заметны бытовые мелочи, разница вкусов и отношения к тишине, чистоте, длительности туалета и иным мелочам, то подобное существование стало пыткой.
Еще Сергей многое понял тут про себя самого. Например, раньше он никогда не задумывался, сколько привилегий он имеет, проживая в особняке, под крылом тетки. Ну, вышколенные слуги, стол, ванна в любое время по первому желанию, всегда вычищенная одежда, возможность выйти в город без объяснений – этого при желании можно было добиться со временем и здесь. Но! Возможность уединения. Возможность закрыть за собой дверь и творить что хочешь – сочинять, разбрасывая испорченные листы по полу, спать днем, если настигла хандра, пить вино, принимать свое лекарство, читать, если скучно, да просто молча мечтать, уставившись в потолок. О! Это, оказалось неотъемлемой, огромной, как виделось теперь, чуть ли не главной частью его личной, интимной, никому не доверяемой жизни. Никому не давать отчета, укрыть, не показывать часы, дни своего времени. Оставлять их исключительно себе! Это было утрачено, и жизнь стала невыносимой.
Усугублялось это тем, что пришла весточка от барона. Сергея взбесило то, что доставили записку на адрес Варвары, значит, гном приставил за ним своих соглядатаев. Либо еще хуже – справлялся в особняке у тетки. Встречаться с «волшебником и магом» Сергей не имел сейчас никакого желания, потому что целью эта встреча могла иметь только единственное назначение – сообщить об очередном сборище, а тогда нужно будет посвящать Корндорфа в их семейные дрязги и объяснять, почему нынче выход сестры невозможен. Сергей проигнорировал приглашение. На следующий вечер барон перехватил его собственноручно, просто перегородив тростью дорогу извозчику, которого только что остановил Сергей.
– Я все равно найду возможность переговорить с Вами, молодой человек. Будем и дальше играть в догонялки, или Вы позволите подсесть к Вам старому подагрику и не станете мучить старика?
Сергей молча указал на место рядом с собой в коляске. Он уже знал, что отвязаться от барона бывает проблематично, лучше высказать ему все напрямую.
– Что бы Вы ни предлагали, ответить мне сейчас Вам нечего, – пошел в атаку Сергей. – Именно поэтому, я посчитал нашу встречу бессмысленной. Сестра больна и не выходит. Умерьте свои аппетиты – со дня последнего сеанса не прошло и недели!
– Больна, да. Но, надеюсь, это не заразно? – барон сочувственно и слишком отчетливо кивал и, достав из внутреннего кармана сложенную во много раз газету, теперь неторопливо разворачивал ее. – Раз устраивает домашние вечера?
Сергей недоуменно посмотрел на него, но газету из рук принял и прочел на странице объявлений о том, что «…во вторник будущей недели девица Татьяна Горбатова приглашает на музыкальный вечер друзей и товарок по Институту благородных девиц с родственниками и родителями в собственный особняк Гликерии Удальцовой по адресу…». Сергей понял, что, несмотря на угрозы тетки, реабилитационные мероприятия продолжаются. Он мысленно выругался, злясь на так не вовремя проявленную предприимчивость родственниц.
– Молодой человек, – невозмутимо продолжал свою речь гном-искуситель, – Как, может быть, Вы знаете, на будущей неделе на Выставку прибывает сам Государь-император. Не смотрите Вы на меня такими глазами! Так высоко мое влияние не распространяется. Но за ним из столицы потянется не только свита ближайшего окружения, но и целый ряд лиц высокопоставленных, желающих сопровождать Государя во всех его перемещениях, рассчитывающих на случайные встречи или по каким другим амбициям, нам то не столь интересно. Но вот что произошло. Кто-то из членов Клуба проговорился, и один петербуржский сановник, прибывающий в наш город с этой когортой, уже наслышан о клубных забавах довольно подробно. И настаивает на личном присутствии. Заранее говорю, что персона эта такого ранга, что никакие отговорки просто невозможны. Найти замену и подсунуть ему нечто непотребное я даже пробовать не стану, мне дороги моя жизнь и свобода. Государь прибудет в среду, первые два дня будут все сплошь официальные мероприятия, а в субботу – отъезд. Так что к вечеру пятницы я попрошу привести Вашу сестрицу в вид здоровый и годный к употреблению.
– Я не могу Вам обещать ничего конкретного, – начал было Сергей, но барон тростью постучал по плечу извозчика, приказывая притормозить. – Стойте, куда же Вы? Мы не договорили.
Но барон уже сошел на мостовую.
– Мне не интересно Ваше нытье. Я и предпринял этот разговор заранее, чтобы у Вас было время на маневр, – Корндорф говорил сухо, но отчетливо. – Пятница. Я все сказал. Единственное, что могу добавить для придания Вашим действиям большей осмысленности, так это то, что в этот раз я удваиваю гонорар. Трогай!
Старичок тростью стукнул по борту коляски, а сам нырнул в толпу, вливающуюся в двери торговых рядов.
***
Надо было как-то вырваться от Варвары на ночь к барону. Либо еще на неделе возвращаться жить к тетке, чего вовсе не хотелось пока, либо придумывать какую-то легенду с поздней занятостью. Но что бы это могло быть, кроме другой женщины, Сергею на ум не шло, а такое оправдание в данном случае, естественно, было недопустимым. Ах, как хорошо было бы жить в своей собственной, холостяцкой квартирке! Ничего, когда-нибудь удача улыбнется ему, и он тут же осуществит свои мечтания. Снимет номер или целый дом, да желательно и не здесь, а в Париже или Женеве. Эх… С Татьяной, думал он, все обойдется проще. Тем более с удвоенным гонораром. Тем более, что намечались торжества общегородского масштаба и сочинить что-либо для тетушки под предлогом светской жизни и восстановления в ней их роли, как племянников, наследников, представителей и прочая, и прочая, не составит большого труда. Но для этого надо было встретиться с сестрой и договориться.
Пока он все это обдумывал, хлопнула входная дверь, и его блаженное уединение закончилось – вернулась с улицы Варвара. Он вставать не стал и навстречу ей не вышел, а, наоборот, прикрыл глаза, делая вид, что задремал. Она заглянула в комнату, отведенную нынче под его «кабинет», бывшую курительную, и на цыпочках пробравшись к окну, приоткрыла форточку. Это тоже бесило Сергея каждый раз – ну, видишь, человек спит! Неужели нельзя сделать этого позже? Да, здесь было накурено. Но, если это его помещение, то, может быть, он сам будет решать вопрос о свежести воздуха в нем? Ему покой был ценнее! Варвара как-то быстро управилась, и он не успел вновь сомкнуть глаз, когда она обернулась.
– Ты уже отдохнул, милый? Ах, как хорошо, – она присела на краешек его дивана. – Послушай новости, я только что была в Пароходстве!
– Это твои дела, дорогая, мы это уже обсуждали, – он лениво потянулся. – Я мало что в них смыслю, а ты каждый раз норовишь меня втянуть во все это.
– Да, Серж, норовлю, – виновато улыбнулась она. – Если ты понимаешь мало, то я уж и вовсе ничегошеньки! Я думала, думала, но, кроме тебя никого придумать не смогла. Ты – мой самый близкий нынче человек, кто, кроме тебя может оберегать мои интересы? Никто.
– Твои интересы? – разговор о близости Сергею был неприятен. – Что ты имеешь в виду?
И Варвара Михайловна поведала ему о разговоре с капитаном, его предложении о найме личного представителя, о субботней сходке пайщиков и своей полной апатии к участию в решениях Товарищества и тут же предложила должность, статус и жалование управляющего делами. Сергей сел на диване и теперь в уме судорожно прикидывал, покроет ли регулярность денежных поступлений все неудобства – вынужденное его присутствие в Пароходстве и вникание в суть дел. Но, по всякому, как ни крути, выходило, что выгода тут не одна. Во-первых, совсем другое отношение будет к нему и в окружении Варвары, и вообще в городе. Потом можно будет тетке ткнуть в нос ее давнишнее желание «пристроить его к делу и приносить пользу». На тебе! Далее, кроме жалования, он наверняка получит еще и доступ в банковским счетам, а это вовсе другой уровень финансов. И еще.
– Варвара Михайловна! – официальным тоном начал он и та вскинулась, как раненая лань, подумав первым делом, что спугнула его насовсем этим своим деловым напором. – Да, да. Варенька, если я соглашусь, то ты сама понимаешь, что прежними наши отношения быть не могут. По крайней мере, на людях. Ты сама как думаешь?
– Что ты хочешь сказать этим, Сергей? – она даже побледнела, бедняжка.
Но кто же бросает курицу, несущую золотые яйца!
– Ну, подумай сама, милая! Какое о тебе будет мнение, если мы перестанем вести жизнь уединенную и сокрытую от глаз праздного любопытства? – он знал, что говоря с ней ласково, он уже практически получал то, чего желал в данный момент. – Нам нельзя вместе ни жить, ни являться в Пароходство. Давай оба будем оберегать наши общие интересы?
– Да, конечно, ты прав, как всегда, – она все еще не понимала, чем ей грозят грядущие перемены и уже почти жалела о своем предложении, вовсе не так она себе все представляла. – Но что ты предлагаешь?
– Будет как раньше, – мягко гладил он ее по рукаву. – Я буду приезжать к тебе, но только, когда ты одна. А если гости – уходить со всеми.
– Куда? – вскинулась Варвара. – Вернешься к родным?
– А вот тут, давай подумаем вместе. Мой новый статус, я считаю, должен подразумевать некое достоинство. Я же должен иметь представительские возможности, не так ли? Вдруг придется пригласить кого-нибудь из партнеров на неофициальное рандеву? Не поведу же я их, как мальчик, под крыло к тетушке! Может быть, Товарищество снимет мне квартиру, или номер в отеле, как ты считаешь?
– Ты такой умный, – Варвара смотрела на Сергея влюбленными глазами. – И такой предусмотрительный. Решено! С сегодняшнего дня ты – мой представитель в Товариществе. Завтра поедем, оформим все бумаги. В первую очередь, Сергей Осипович, попрошу Вас включиться в подготовку встречи императора и императрицы. Пароходство решило им подарком сделать прогулку по Оке на новеньком пароходе. Это его первый рейс! Надо продумать на месте, организовать, рассчитать время и уладить все – встречу на Выставке, сопровождение к пристани. Как я счастлива сегодня! Я горжусь тобой!
***
Вдова Угрюмова пошла на поправку и уже начала выходить. С Полетаевым они снова всего лишь раскланивались, сталкиваясь в сенях, но боевых действий против него она не вела. То ли отошла, то ли сил пока не набрала. Навестил их домик Демьянов, посмотрел, как они ладят и исчез. Вернулся после обедни, да и ошарашил вдову сообщением, что старец готов принять ее хоть сегодня, хоть в любой день и час. Она охнула и ушла переодеваться во что получше.
Когда она скрылись за заборчиком скита, Полетаев невольно задумался, а не связана ли такая быстрая милость с недавним происшествием? У него никак не выходила на практике заповедь «Не судите…», все расставлял он мысленно оценки делам и поступкам людским. Вот и сейчас он, если не с осуждением, то уж точно без одобрения принимал такое решение старцев. Люди неделями, месяцами ждут, учатся смирению, покладистости, волю свою не ставить выше божеской, а тут… Мадам не сдержалась, выказала всю, что ни на есть «бесовскую» свою сущность, и на тебе! Добро пожаловать! Но тут он остановил себя и отправился на послушание в кузню, там он теперь руководил закупкой материалов и проверял доставленное.
Но мысли все равно возвращались к допущенной к покаянию вдове. Может это не из-за нее, и вовсе не «за драку» награда, а наоборот? Это его хотят оградить, обезопасить, убрать ее поскорей, отпустив домой? Но зачем же? Они вот и сами почти помирились между собой. Хотя и не выяснили всего, но нашли же пути сосуществовать по-человечески? Неудобно как-то такое внимание старцев к нему персонально. Ох, неудобно! Хотя, нет. Это вовсе не в традициях, не в монастырских правилах делать что-либо «побыстрее», да «для чего-то». Это не их, это его собственные, мирские мысли. У них, у старцев, вовсе другие резоны, на то они и путь духовный прошли – не ровня простому прихожанину. А какие? Да чего там гадать? Явится Демьянов, он у него и попробует прояснить то, что смущало его душу и покой.
Когда Андрей Григорьевич вернулся в домик, вдова уже была там и из ее комнаты раздавались глухие рыдания. Вышла сиделка – за свежей водой из бочки, что стояла в сенях. Полетаев не смог превозмочь любопытства и удержал ее.
– Ну, что там? Как? – шепотом спросил он, кивнув на приоткрытую дверь.
– Рыдает, – отвечала ему женщина. – И четверти часа не пробыла она во скиту. А как вышла, так и не успокоится до сих пор. Замолкнет, затихнет, а как вспомнит что-то, так по-новой давай!
– Что ж так скоро? О чем спрашивал старец, не говорила?
– Нет, – сиделка покачала головой и, перегнувшись через край бочки, зачерпнула с глубины водицы.
– А который из них принял-то?
– Да тот! – махнула женщина полотенцем и скрылась за тяжелой дверью.
По всему выходило, что вдова побывала у старца «строгого». Вот и результат. Да что ж? Не грозил же он слабой женщине? Ах, ты! Снова дурные мысли лезут в голову! Гнать их поганой метлой. Делать, надо что-то делать, тогда нет времени на досужие размышления. Все выяснится само собой. Рано или поздно. И взяв ведра, Андрей Григорьевич отправился к колодцу.
***
Митю в тот день из города не отпустили. Он вернулся с вокзала к Полетаевым, и Лиза поведала ему о завтрашнем своем намерении тоже ехать в Луговое.
– Если ночь переждешь здесь, то втроем и поедем. Я с Алексеем уговорилась, чтобы одной не добираться. Я вас познакомлю. Мы, Митя, по делам школы едем поспрашивать, да и сама я хотела…
Она опустила голову, не зная, как рассказать все то, что произошло у них так недавно. Но тут встряла Егоровна.
– И где это он ночевать собрался? – ехидным голосом вопрошала она их обоих.
– Отопрешь дальнюю комнату, – с напором велела Лиза, имея в виду то помещение, где видела вещи Митиной матери.
– И не подумаю! – Егоровна стояла насмерть, как скала. – Не будет при мне такого, чтобы моя барышня да холостой мужик под одной крышей ночевали! И не заикайтесь!
– Егоровна! Какой «мужик»? Что ты несешь? – Лизе было стыдно за такое поведение упрямой няньки. – Это ж Митя! Он мне как брат. Мы росли вместе.
– Росли, росли, да уж выросли! – Егоровна скрестила руки на груди. – То «брат», то «жених». Слыхала я!
– Митя, не слушай! – зарделась Лиза. – Это у нас с папой шутка такая появилась, я тебе потом расскажу.
– Ну, правда, Егоровна, – встрял Дмитрий. – Коли так складывается, то глупо же Кузьму два дня подряд гонять в Луговое. Да и не вернется он сегодня, если меня сейчас повезет – уже темнеет.
– В доме не оставлю, и не думай.
– Да и не надо! – Митя хотел уладить все миром. – Сама говорила, что Пашка наш у Кузьмы ночевал, вот и я там лягу.
– Не бывать тому! – уперлась Егоровна. – Это стыд какой, перед Натальей-то Гавриловной! Один коленкор – какой-то там Пашка, другое – наследник. Не позволю на конюшне спать.
– А не стыдно тебе перед Натальей Гавриловной, что ты ее сына в ночь на улицу гонишь? – от бессилия уже чуть не плакала Лиза. – Ну-ка, сию минуту! Не позорь меня, а стели Мите постель!
– А и постелю, – вдруг совершенно спокойно сдалась нянька. – Я ему в большом доме, возле твоего рояля, на диванчике в зале постелю.
На том и порешили. Утром зашел Алексей по уговору, и они погрузились в повозку к Кузьме. Щупленький Семиглазов притулился вместе с возницей на козлах. А Митя с Лизой, сидя вместе, сначала молчали, потом стали узнавать приметные вехи дороги, потом перешли на постоянные «А ты помнишь…?».
– Лиза, Вы такая вся светящаяся сегодня, – не выдержав, обернулся к ним Алексей. – Я Вас такой ни разу и не видел!
Лиза сразу сникла, и улыбка сползла с ее лица.
– Что не так, сестренка? – Митя всмотрелся получше. – Не может быть, что бы ты еще не привыкла к комплиментам. Алексей правду ж сказал. Или не так?
– Не так, – Лиза подняла голову. – Ох, все у нас «не так» последнее время, Митя.
И она стала рассказывать. Про свое непослушание, про загородный выезд, про его плачевные последствия, про помощь Натальи Гавриловны. Опустила она только личные подробности и ничего не упоминала ни про Сергея, ни про визиты Нины и врача. Выходил рассказ складным и вовсе не таким страшным, как казалось прежде. Потом она поведала и про уход отца, и про неудачную поездку к нему. Алексей кивал, как свидетель. Митя внимательно слушал, потом чуть-чуть помолчал, потом улыбнулся.
– Накуролесила, значит, сестренка?
– Накуролесила, – улыбнулась в ответ Лиза, и где-то далеко-далеко ее светящийся колобок подпрыгнул и ухватился за края ямы.
– А мамка моя, значит, рядом оказалась?
– Помогла и рядом оказалась.
– Ох, Лизавета! – Митя глядел на обрыв реки, где они сейчас проезжали. – Как с обрыва в реку! Как на глаза-то ей явиться? Только б она меня простила. Уж, как я-то накуролесил! Сколь времени весточки даже не подавал. У тебя-то все уже позади, а мне как в омут сейчас.
– Митя, Митя! Ты что! Ты же знаешь свою матушку, все простит, все примет. Вот дед… – прикусила губу Лиза.
– Дед да! – хохотнул Дмитрий. – Дед вожжи возьмет, это точно! Гони, Кузьма, уж как невтерпеж мне!
А Егоровна после их отъезда стояла у решетки городского особняка и утирала слезу умиления. «Нашелся! Дождалась Наташка!», – она смотрела вслед уезжающей повозке и не обратила внимания, как рядом остановилась другая.
– Ну, что проводила? – спросил Егоровну дворник, принимая ключ от ворот.
– Да, укатила моя ласточка вместе со своим «женихом». То-то радость нынче в Луговом будет! Вы к кому, барышня? – обернулась она, заметив за воротами фигуристую кудрявую девушку, которая разглядывала дом и двор.
– Скажите, это ведь здесь живет Лиза Полетаева? – спросила визитерша. – Можно ли ее позвать? Мы вместе учились в Институте.
– Ах, ты ж, батюшки, – всплеснула руками Егоровна. – Чуть-чуть опоздали, милая. Вот только отъехала она, раньше, чем завтра не вернется.
– Ах, как жаль, – вежливо отвечала барышня. – Ну, ко вторнику-то она будет?
– Будет, будет непременно, – заверила ее няня.
– Передайте ей, пожалуйста, приглашение, – протянула кудрявая барышня карточку в конверте, развернулась, села в свою коляску и велела рыжему парню на козлах трогать.
***
Вот коляска Кузьмы миновала мамину скамейку, потом ту злополучную поляну. Лиза вздохнула, но сожалений в душе не осталось. Только осадок. Вот они проехали поворот к усадьбе, сюда потом она вернется. Вот и спуск к реке, откуда ее на руках нес Степаныч, вот-вот покажутся крайние избы Лугового.
– Ты это, сестренка…, – Митя забеспокоился сильнее, видя родимые места. – Давай-ка, я тут сойду, у околицы. Вы поезжайте одни. Да ты матушку мою как-то упреди, а то не ровён час… А я пешочком?
Лизе самой было боязно появляться на глаза Наталье Гавриловне после прошлой их встречи, но она умом понимала, что так действительно лучше. Она кивнула. Еще с середины села за их пролеткой увязалась шумная ватага ребятишек, так что об их приезде было слышно за версту. На порог вышла ключница Харита, а поняв, кто именно сходит с повозки, стряхнула из ладони семечки на землю и побежала за хозяйкой. Лиза одна подошла к дверям, когда навстречу ей уже выходила Наталья Гавриловна. Она вытирала руки, видно только что хлопотала сама по хозяйству и одета была не по-городскому.
– Лиза? – искренне удивилась она такой неожиданной гостье, но по лицу девушки сразу поняла, что визит не от плохого. – Что-то… Да, нет, все ведь хорошо, правда? От папы что?
– Нет, Наталья Гавриловна, – Лиза пыталась мужественно улыбаться как ни в чем не бывало, чтобы не вызывать дурных воспоминаний о прошлом своем посещении. – От папы ничего, все по-прежнему. Но я была у него, видела. Здоров. Я… Вы простите меня за тот раз, мне так стыдно…
– Да ну, что ты, девочка! – Наталья погладила ее по плечу и повела в сторону дверей рукой, приглашая Лизу пройти в дом. – Что ты! Все миновало. Главное – все здоровы! Молодец, что в гости выбралась. Проходи.
– А я ведь не одна, Наталья Гавриловна, – Лиза кивнула на козлы, и Семиглазов тоже слез и направился к ним. – Вот, Алексей, приятель моей подруги по Институту, да и мой уже теперь. Мы тут по одному поручению. По делу. Ну, да об этом позже.
– Так проходите вместе с кавалером, – Наталья разглядывала Алексея с пристрастием, пока не понимая, имеет ли он отношение к тем нехорошим событиям с Лизой. – Там посмотрим, кто таков.
– Он студент. Биолог. Из Москвы.
– Спасибо, Елизавета Андреевна, я сам могу, – поклонился хозяйке новый гость, успокоив ее таким обращением к Лизе.
– Ну, так что в дверях застряли, гости дорогие? – через плечо хозяйки подгоняла их Харита и, сложив ладонь лодочкой, стала вглядываться вдаль против солнца. – Гляньте! Еще кого-то Бог несет!
Посредине улицы двигалась шумная орава. В центре ее высокий плотный парень прямо на ходу поднимал повисших на каждой его руке мальчишек – по одному среднему, или аж по двое мелких пацанят. А те, ожидая своей очереди, бежали за ним, горланили и взбивали босыми пятками пыль вокруг.
– А ведь не один у меня кавалер нынче, – улыбаясь, сказала Лиза, глядя на уже о чем-то догадывающуюся мать. – Вот и Дмитрий Антонович с нами ехал, да отстал малость. Вы уж не ругайте его сильно, дорогая Наталья Гавриловна!
– Жив? – только и выдохнула та.
– Цел, невредим. Егоровной до отвала накормлен.
– Лиза! – только и смогла сказать счастливая мать и обняла девушку крепко-крепко.
– Да бегите уже! Ну, что же Вы? – Лиза подумала, что сейчас заплачет и подтолкнула мать навстречу сыну.
***
А на следующий день состоялся между Лизой и Натальей Гавриловной разговор. Ночевала Лиза в гостином доме, в папиных комнатах. А поутру Наталья вызвалась вместе с ней пойти на кладбище и в церковь. Ей тоже было, за что поставить свечу. А на обратной дороге она бережно и очень аккуратно начала задавать Лизе вопросы.
– Лиза, вот я хотела тебя давно спросить…, – увидев, как потупилась Лиза, женщина поняла опасения девичьего сердца и успокоила ее. – Ты только не подумай, что я хочу выведать твои тайны, девочка. Я вовсе о другом.
– Спрашивайте, конечно, Наталья Гавриловна, – Лиза прикусила губу и все-таки приготовилась к обороне.
– Я раньше не решалась, – мягко продолжала Митина мать. – Мне казалось это не честно, пока ничего не было известно о сыне. Какая я, право слово, до вчерашнего дня была родительница? – она слабо улыбнулась. – О своем-то ничего не знала, куда уж тут чужих-то воспитывать…
– Какая ж я чужая? – Лиза даже остановилась. – Воспитывайте, сколько хотите. Вам и я, и папа доверяем и… любим… Мы уже давно, как родные… Мне так казалось.
– Господи! – Наталья тоже остановилась и обняла Лизу, совсем как вчера около дома. – Спасибо тебе девочка, что ты это сказала вслух! Я тоже! Я тоже так давно считала, но ведь в чужую душу не заглянешь. Если уж и ты так думаешь. И не «воспитывать», это я так от волнения сказала. Вот мы сейчас на могилке твоей мамы были, я и перед ней сказать могу, Лиза, что отношусь к тебе как к дочери, поверь мне. Поэтому и говорить хочу как с собственным ребенком. Ты сейчас совсем одна. Ни матери, никого. Подружка твоя та, что я видела, Нина, кажется. Она ведь тоже уехала, как я поняла?
– Да, уехала, – Лиза так и стояла, не пытаясь выпутаться из объятий.
– Тяжело тебе, девочка?
Лиза промолчала.
– Ну, пойдем, пойдем, – Наталья приобняв Лизу за плечи развернула ее обратно на дорогу. – Этот Алексей приятель-то Нины твоей?
– Нет, другой подружки, Лиды. Она в городе осталась. Ее брат из Москвы приехал вместе с Алексеем недели три назад.
– А с ней ты как?
Лиза пожала плечами.
– А вот про школы вы спрашивали, – Наталья и Лиза уже вышли на улицу, ведущую к дому. – Дело хорошее, я подумаю и скорей всего соглашусь. Но это же надо дом под занятия, да учительнице жилье, так? И детей… Детей ведь не каждый родитель отпустит. В страду даже и не мечтайте! Да и в другое время, знаешь ли, у крестьянских детей работы полно. Надо будет говорить с каждым. А жалование тоже мы, Товарищество, из прибыли должны будем ей выплачивать? Помещиков-то теперь в округе и нет никого близко… Это же надо общим решением проводить, сама я не могу. Это тебя сильно занимает, Лиза, устройство сельских школ? Это твое дело нынче?
– Да вроде теперь и мое, – задумчиво сказала Лиза. – Наша бывшая учительница при нас рассказывала о затее, а Лида загорелась. А мы ей, вроде как, помогаем.
– Вроде как…,– как эхо повторила Наталья. – А музыка? Музыкой занимаешься по-прежнему?
– Занимаюсь, – в голосе Лизы зазвучали нотки удивления, потому что от таких переходов с темы на тему, она вовсе перестала понимать, к чему ведет собеседница. – Крупных вещей, правда, давно не разбирала. Да вообще, новых. Концерт лежит купленный еще по весне. А так, да, занимаюсь. Да еще ученица у меня теперь маленькая, только начинает. Девочка. Живет с родителями в большом доме.
– Ученики – это хорошо! – какая-то мысль пришла Наталье Гавриловне в голову только сейчас. – И нравится тебе преподавание? Получается?
– Пока все идет хорошо. А это Вы к чему?
– К тому, девочка, думала ли ты, чем будешь заниматься в жизни? Вот, например, не хотела ли бы ты стать той учительницей, что поселится здесь в будущем году? Места тебе знакомые, люди тоже.
– То есть как? Я? – Лиза вскинула на Наталью Гавриловну изумленный взгляд. – Уехать сюда насовсем? Ой! Я, право, даже не думала о такой возможности. Я все страдала, что усадьба больше не наша, а ведь правда…
– Подожди, подожди, девочка! – смеялась от Лизиной внезапной радости вместе с ней Наталья. – Это же не только удобный способ вернуться, куда желаешь. Это же дети! Их судьбы, их желание или нежелание учиться, их капризы, характеры. Нужно ли тебе именно это? Готова ли ты этому посвятить свою жизнь? Про это я спрашивала.
Лиза надолго замолчала. И лишь подходя к самому дому, она честно ответила.
– А ведь, наверно, не готова, Наталья Гавриловна. Я с одной-то ученицей справляюсь, но иногда – с трудом. И сюда я хочу, конечно, не так, не по-серьезному. Я скучаю по речке, по прогулкам… А это баловство все…
– А учиться? – они уже стояли на пороге. – Учиться ты дальше не думала?
– Снова учиться? – опять изумилась Лиза. – Чему? Музыке?
– Ну, если музыка – твоя судьба, твое призвание, то надо учиться и музыке. Но уже профессионально, – Наталья смотрела теперь на Лизу как ровня, как на взрослую. – Тогда надо в консерваторию готовиться. В Москву ехать.
– В Москву? – задохнулась от перспектив Лиза Полетаева. – Ох, Наталья Гавриловна! Вы так меня озадачили. Мы с папой о таком вовсе не разговаривали. Я не знаю. Мне надо подумать.
***
Андрей Григорьевич думал о том, как сложится его разговор со старцами. Ведь когда-нибудь вот также, неожиданно, войдет в их домик Демьянов, и, застав врасплох, поведет в скит. Еще гадал он, что же все-таки могло произойти там такого, что вот второй день подряд пожилая, скептически настроенная, довольно волевая и властная в своем роде женщина плачет как ребенок от первой непоправимой утраты, питаясь страданием вновь и вновь, не зная успокоения. И снова возвращался мыслями к себе. Что скажет он? О чем испросит? Какого совета ждет, что желает изменить, исправить? Зачем он вообще здесь?
Что стало истинной причиной его ухода сюда, причиной невозможности вести обыденный образ привычной жизни. Лиза? То, что не смог он пережить то ее возможное падение, что не представлял себе путей, какими стал бы выбираться из того, несостоявшегося вовсе, ужаса? То, что винил себя в этом? В чем? Ничего же не случилось. Но могло! То есть он обвинял себя в том, что лишь могло стать возможным, а он уже не был к этому готов? И боится, что это может произойти на самом деле. И он не может, не имеет сил, возможностей, путей, знания – как именно защитить выросшую дочь. Как быть хорошим отцом, как ощущать себя хорошим отцом. Что делать? Что говорить?
И тут же он понимал, что все это ложь. Красивая, правильная ложь того, кто лишь хочет казаться хорошим родителем, а на самом деле он сейчас почти ненавидит свою дочь. Ненавидит за то, что она ослушалась его, что-то решила и совершила сама, без него. За то, что сделала возможными эти его сомнения и метания, что поставила под угрозу, нет, не имя его, не честь, это все как раз казалось сейчас глупостью несусветной! Поставила под сомнение все течение их благополучной, размеренной, правильной жизни, а главное – его знание о том, что он все делает для нее, и делает верно, так как надо, что он хороший, черт возьми! Хороший отец!
С каким-то истовым, извращенным восторгом он глубоко внутри себя допускал картину, в которой все состоялось. В которой Лиза была поругана, обесчещена, несчастна. Где она молила его о прощении, а он мог ей бросить в лицо: «Вот! Ты сама виновата!» С наслаждением. И лишь потом, свысока простить. Но в своем воображении он все никак не мог дойти до сцены прощения, а раз за разом прокручивался сюжет с падшей дочерью. И сам он был в тех видениях не самим собой, а каким-то иным, беспощадным, бездушным почти человеком, но получающим от видений, пусть краткосрочное, но удовлетворение. Нет! Он не отец. Он несостоявшийся отец.
Он несостоявшийся помещик. Где его земли, где наследное имение? Он и организатор несостоявшийся. И исследователь, и новатор. Прав был в свое время Антон, ничего ему нельзя было доверять, зря он переменил свое мнение. Где прибыль мастерских, где результаты его прожектов, его риска? Все профукал, все размотал по ветру. Поставил под угрозу благосостояние других людей. Натальи, пайщиков, управляющего, работников, окрестных крестьян, дочери. Получается, что к возрасту седины и подведения итогов он подошел с пустыми руками. Так то. Признайся себе, что дело в этом.
Неужели нечто подобное духовный пастырь высказал этой несчастной, озлобленной на жизнь женщине? Уж вот у кого несостоятельность полнейшая. Полетаев не знал, каково положение вдовы в плане финансовом, да его это и мало волновало. Но потерять обоих детей. Это горе. Разве можно этим попрекать или хотя бы упоминать! Чем ей жить, как быть дальше? За что цепляться в жизни? Вот хотя бы за эту свою злость. Неважно на кого, неважно за что… Так ли?
Как бы в ответ на его мысли хлопнула входная дверь дома. Кто-то вошел или вышел. Никто не постучался, и Полетаев сам выглянул из комнаты посмотреть – кто там? В сенях не было никого. Он распахнул дверь на улицу. Вдова стояла в шаге от нее, облокотившись на бревна стены.
– Встали? – спросил Андрей Григорьевич, чтобы хоть что-то сказать.
– Чего сидеть-то? – хмуро проговорила женщина. – Все равно ничего не высидишь.
– Вы гулять? – совершеннейшую глупость спросил он.
Вдова лишь бросила на него взгляд, полный ехидства.
– Я в том плане, что Вам, наверное, нужен пока провожатый? – как бы оправдывался Полетаев. – Где Ваша компаньонка?
– Ушла в храм, – коротко отрезала вдова и отвернулась, глядя на тропу.
– Хотите, я ключ от калитки попрошу? – почему-то не сдавался и не уходил Андрей Григорьевич.
– Неси, – снизошла вдова.
Полетаев сходил к Демьянову, тот добыл ключ. Вдова пыталась идти сама, но часто приходилось опираться на руки мужчин, ей еще было тяжело двигаться. Впервые на прогулочной тропе оказались сразу трое. Как-то так получилось, что сначала все молчали, потом вдова начала говорить в пустоту, а потом Демьянов вел с ней беседу, а Полетаева они как бы не замечали, не ставили в расчет, забыли, что и он тут. Тот только слушал.
***
Девочка стала на цыпочки, потянувшись вверх, на самом краешке пододвинутого стула, и аккуратно сняла пыльную коробку с верхней полки кладовки. Она спустилась вниз, протерла рукой крышку и, сняв ее, достала пару нарядных туфелек. Стала примерять, но успела надеть только одну.
– Тебе кто позволил рыться в вещах! – на пороге возникла мать и смотрела на нее сейчас ненавидящими, злыми глазами. – Я убрала все на зиму. Как ты посмела? Без спросу!
– Мамочка! Но это же – мои туфельки! – девочка прижала необутый башмачок к сердцу. – Завтра первый мой день в гимназии. Можно я их надену?
– Надо было сначала спрашивать. Теперь – нельзя! – отрезала мать.
– Мамочка, ну, пожалуйста. Все девочки будут такие нарядные. И у меня новое платье, и передник. И портфель.
– Вот и ботинки у тебя будут новые. Скоро осень, нечего форсить.
– Мама, я не хочу те ботинки, они ужасные, – у девочки сморщилось лицо, она собиралась заплакать. – Они как для мальчика, они не идут к платью совсем.
– Они добротные и практичные. Вот-вот пойдут дожди. В них можно ходить хоть по слякоти, хоть до холодов.
– Ну, мамочка!
– Все! Мы с отцом так решили.
– Я сама спрошу у папы, – в голосе девочки послышались нотки упрямства.
– Ну-ну, спроси, – сквозь зубы отвечала мать. – А за самовольство будешь наказана. Снимай! Сидишь как клоун в одном тапке! Растрепа!
– Мамочка, за что? – девочка все-таки расплакалась.
Из соседней комнаты на ее плач прибежал мальчик, годами двумя помладше, посмотрел на сестру и обнял маму за ногу, прижавшись всем тельцем к ней.
– Мамочка, прости Рису, – тоже почти плакал он. – Прости Рису.
– Что за шум в благородном семействе? – на голоса, выйдя из столовой, пришлепал и папаша детей. – Родная, что с ними?
– Это все твое попустительство! – мать пыталась отцепить от себя пальцы ребенка. – Никакого характера! Чуть что – ноют. Ладно, эта фифа. Но он – мальчик. Ему надо вырабатывать стойкость, иметь хребет!
– Катенька, ему только восемь…, – начал было заступаться мягкотелый родитель.
– Ему уже восемь! – отрезала мать, наконец, освободившись, так что теперь дети обнялись и плакали вместе. – А твоя дочь украла туфли! Изволь взять ремень.
– Катя, что значит «украла»? Она же у себя дома.
– Давай выясним это не при детях, – жена уходила из комнаты, не оглядываясь, видимо, зная, что он не посмеет не пойти за ней. – Или прикажешь мне думать, что это я не у себя дома?
На следующий день, девочка Раиса пошла в гимназию в высоких грубых башмаках черного цвета. Они действительно не промокали, шнуровать их было очень долго и сложно, но сносу им не было. Девочки в классе еще долго посмеивались над ними. Потом она выросла, окончила гимназию, сама стала давать платные уроки, иногда помогать папе в торговле. Упрямство стало одной из черт ее характера, она проявляла его в редких, но постоянных стычках с матерью в борьбе за свою, нет, не независимость. Всего лишь – за мнение, или право, которое она почему-то считала принадлежащим ей, или просто за возможность выбора повседневных мелочей. Она вступала в «схватки», заранее зная свою обреченность. Мать всегда оставалась правой. Всегда.
А мальчик вырос с характером мягким, не бойцовым вовсе. Но, чтобы облегчить себе жизнь, он очень рано понял, что не все нужно делать открыто, на показ матери, позволяя ей в очередной раз что-то отобрать или испортить. Выбрав себе для продолжения учебы соседний городок, он вырвался из-под ее крыла и проживал теперь студенческой, беззаботной жизнью, иногда впроголодь. Хотя у родителей было неплохое дельце, обращаться к ним лишний раз за денежкой было делом рискованным, если только по секрету к папаше.
А подросшая девочка, теперь уже девушка, Раиса, влюбилась. Влюбилась истово, без оглядки, как это со многими бывает в первый раз. Даже не столь важно, отвечал ли ей взаимностью предмет страсти, просто узнав, что им является почтовый писарь, мать предприняла ряд несложных действий. Парень вылетел со службы как пробка из бутылки с легким намеком начальства, что устроиться в этом городе на службу у него шансов практически не будет ближайшие лет двадцать. Связав свои несчастья с интересом Раисы, он стал переходить при встрече с ней на другую сторону улицы, а вскоре вынужден был и вовсе покинуть это местечко, потому что угрозы оказались действенными, родители Раисы в городе вес имели немалый.
Дочка вроде успокоилась довольно быстро. Учиться дальше она не пошла, занималась с детишками французским, денежки приносила все до копеечки в дом. В свободное время помогала отцу в лабазе. Новый приказчик стал для матери Раисы очередным проклятием. Но поняла она это, когда уже было почти поздно. Здесь была не юношеская влюбленность, здесь было чувство взаимное и сильное. Но мать видела иное – заезжий молодчик решил самым простым способом прибрать к рукам дело ее мужа. Она начала борьбу за благополучие семьи, как она его понимала. Но тут ее отвлекло одно событие. Вернее, событий последовала череда, но предшествовало этому одно – семья приятеля мужа по купеческим своим делам побывала в том городишке, где нынче обитал ее младший отпрыск, и привезла новости первостепенной важности. Сын женился.
Это было немыслимо! И не в благословении даже было дело. Наследство! Вот истинная цель этой вертихвостки. Кто, как окрутил мальчика? Надо было срочно ехать разбираться и исправлять все разом. Катерина Семеновна три дня добивала мужа требованием бросить все и ехать наводить порядок в жизни сына, но тот только отнекивался, а после стал хвататься рукой за грудь.
– Катенька, не мучай меня! – говорил он, прислонившись на подушки дивана. – Ну, уж так вышло. Что же теперь поделаешь? Не могу я оставить тут все на самотек, да и что я там смогу? Ну, что? Зови их лучше к нам, надо же познакомиться с невесткой.
– Тряпка! – бросила ему в лицо жена и отправилась сама.
***
Первое, что она попыталась сделать в другом городе, еще до того, как поехать на квартиру сына, это добиться его отчисления из учебного заведения. С ней терпеливо разговаривал сам начальник – усатый господин в мундире, при орденах. Объяснял, что нет причин. Что сын ее совершеннолетний и дееспособный гражданин. Что только он сам может принимать подобные решения. Узнав регалии и заслуги не уступившего ей господина, Катерина Семеновна телеграфировала нужным людям, кое-чем обязанным мужу, и второе посещение увенчалось успехом. Поникший и дорожащий своим местом пожилой служака униженно протянул ей документы сына. С, так называемой, женой сына, она даже не стала разговаривать, хотя та все порывалась напоить ее чаем и угостить тем скромным набором продуктов, которым пичкала ее мальчика. Тому она просто велела собираться.
– Мама, я никуда не поеду, – спокойно отвечал ей взрослый сын. – Неужели ты еще так и не поняла, что у меня давно своя жизнь? Что я вырос, мама? Оставь нас в покое, если не можешь любить. Уезжай!
– Это ты ничего не понял! – стояла на своем она. – Вот это ты считаешь любовью? Никто не будет любить тебя так, как твоя мать. Никогда! Собирайся.
– Нет, мама. Ты ничего не сможешь сделать мне больше. По всем законам я самостоятельный гражданин. Уезжай, мама, не позорь себя. У нас все хорошо, мы ничего не просим у вас с отцом, чего ты хочешь от нас? – он поднял взгляд от пола на свою жену, та улыбнулась ему и машинально погладила свой округлившийся уже живот.
Катерина Семеновна сняла номер в уездной гостинице и начала кипучую деятельность. Корреспондентов и поставщиков у мужа было достаточно в любом городе губернии, и она подняла все свои возможные связи и знакомства. Прежде всего, семье сына отказали от квартиры – это было самым простым. Молодым пришлось уехать в еще более глубокую провинцию – к родителям жены. К счастью, у ее папаши оказалась целая пачка неоплаченных векселей, и он быстренько сел в долговую тюрьму.
С синодальным окружением было сложнее, но сначала мелкие неприятности, беседы с вышестоящими чинами и дошедшее аж до Владыки расследование обвенчавшему их священнику было устроено. После расползающихся слухов, что он покрывает блуд и отхлынувшего потока прихожан, ему пришлось покинуть насиженное место и сменить епархию. Мать своей любовью не только устраивала вокруг сына пустыню, но разя его близких и знакомых разной степени утратами и трудностями, вызывала их отторжение от общения с ним. Это не могло не вызвать в душе юноши чувства вины и ответственности за судьбы любимых или уважаемых им людей. Он, наконец, сдался. Особенно опасался он за беременную жену, поэтому, посчитав за меньшее зло оставить ее, но помогать издали, он уехал с матерью. На ее требования, уже дома, начать и довести до конца процедуру развода, пока никто не родился, потому что впоследствии это вызовет сильные препятствия в церковных инстанциях, он ответил: «Завтра, мама».
Утром его нашли в петле. Жене его о похоронах не сообщали, отец слег. Катерине Семеновне пришлось брать дело мужа полностью в свои руки, она не позволила себе распускаться и долго страдать по сыну, оказавшемуся таким душевным слабаком, она полностью отдалась делам. Смотря на нее иногда, распоряжающуюся грузчиками и приказчиками, муж гадал, есть ли у нее вообще сердце, или может существовать организм, действующий и без этого органа. Ведь мало ли загадок бывает в биологии? Он потирал грудь и переводил взгляд на дочь, ведущую теперь все подсчеты. И молил, чтобы аномалия матери не передалась по наследству. Через год он с той же силой молил об обратном, но уже снова было поздно.
Хотя дочь и уверяла вернувшуюся мать, что у нее романтический запал угас, и все было мимолетным и несерьезным, как только внимание Катерины Семеновны безраздельно сосредоточилось на ней, любовь с работником скрывать удавалось не долго. Ну, тут хоть до женитьбы не дошло! Мать снова включилась в защиту семейных ценностей всеми силами, и тут же обнаружилась растрата, а после и немалая сумма денег и товаров по адресу, где проживал предмет дочерних вожделений. Завели дело. Дочь умоляла прекратить его, обещала и даже клялась, что забудет имя своего избранника, если мать сжалиться и отпустит его невредимым. Услышав привычное: «Надо было раньше думать. Теперь я назад не поворочу, а тебе больше веры нет!», дочь подозрительно успокоилась.
Состоялся суд, обнаружились свидетели, был вынесен приговор. Каторга. В пересыльную тюрьму собирали целый этап, поэтому еще месяца два страдалец пребывал в их городе. Накануне их высылки, мать не ложилась спать, опасаясь какой-нибудь выходки со стороны своей непутевой дочери. И она не ошиблась – всю ночь в комнате у той слышны были какие-то звуки и шорохи, но на стук матери она не отпирала. Ну, хоть жива, слышно как ходит взад-вперед. Нет, эта с характером, эта руки на себя не наложит! Наступило утро. Дочь вышла из своей комнаты, одетая тепло, укутанная в платок и с узлом в руках. На вопросы матери не отвечала, отодвинула ее плечом и вышла во двор. На крики Катерины Семеновны дворовым работникам задержать ее, только спокойно ответила:
– Мама, не позорь себя, – и вышла со двора.
Куда она отправится, было ясно каждому. Катерина Семеновна оделась и, взяв извозчика, поехала к воротам острога. Дочь она увидела сидящей в повозке, которая, пропустив вереницу каторжников, направилась вслед за ней. Они ехали рядом, борот о борт, и мать грозила дочери во всеуслышание всеми смертными карами, а та молча продолжала свой намеченный путь. У моста коляска Катерины Семеновны, по ее указанию, выехала вперед и перегородила дорогу. Она сошла и, подойдя ближе, ухватила дочь за рукав, твердя: «Выходи! Я все равно не пущу тебя никуда!» Кучер Раисиной повозки проявлял всяческие признаки недовольства и досады. «Давайте, барышня, сходите! Разберитесь между собой, а меня не путайте». Дочь полезла за пазуху, и, достав оттуда пухлую пачку бумажек, вынула несколько крупных денежек и отдала ему: «Сходи ты, я покупаю у тебя упряжку». Увидев, сколько дала девица, тот мухой слетел с козел, низко поклонился и был таков. Раиса пересела на его место: «Трогай! Но!» Мать ухватилась за удила и повисла на них. Дочь не смогла переехать мать и остановилась.
– И откуда у тебя такие деньжищи? – задыхаясь, спрашивала Катерина Семеновна.
– Скопила, – отвечала ей дочь. – Даже не пытайся доказать, что я их украла!
– А-ааааа! Это папаша твой сердобольный! Он дал?
– Мама! – дочь, наконец, сорвалась из своего нечеловеческого спокойствия в истерику. – Мама! Дай мне жить! Уйди, мама!
– Жить захотела?! За моей спиной делишки крутишь? С отцом сговорилась? Позоришь нас! За острожником увязалась, ни чести, ни гордости! – тоже в запале, уже не соображая, что и кому она говорит, кричала Катерина Семеновна. – Жить! Ишь, ты! Разбежалась!
Дочь хлестнула коня и неловко стала объезжать перегородившую дорогу пролетку. Она выехала каким-то чудом на мост, но тут заднее колесо застряло между двух осклизлых бревен и ей никак не удавалось сдвинуться дальше. Она оглянулась, посмотреть, что произошло, и невольно увидела лицо матери. Та довольно ухмылялась – снова все складывалось по ее хотению. Раиса стала понукать лошадь так, что та взвилась на дыбы и рванула повозку вперед. Остальное Катерина Семеновна видела, как во сне. Повозка двинулась и понеслась вперед, но тут же стала вихлять задом – колесо осталось там, где его защемило. Она видела испуганное лицо дочери, которая успела обернуться еще раз, а затем – сначала передние колеса закружились в воздухе, потом все повозка как-то неловко завалилась набок, и, сдвинувшись к самому краю настила, зависла на мгновение над пропастью. Тело ее дочери сшибло деревянные перила и скрылось внизу, лошадь еще несколько секунд держалась, упираясь всеми копытами, но после упала и ее тоже стянула под мост, привязанная к ней упряжью тяжелая повозка. И все стихло.
Дочь не утонула. Она упала на то место, где плещутся волны о песок, и берег соединяется с рекой. Кажется, становой пристав говорил, что она сломала себе шею. Это было уже неважно. Муж, умирал долго, целых две недели. Последнее, что она сумела разобрать из его, становящейся все бессвязней речи, было: «Теперь твоя жизнь станет спокойной. Не за кого больше бояться. Все в твоей власти, Катя. Все под надзором». Она похоронила и его, и еще с полгода жила как старые заведенные часы в уже пустующем доме. Просыпалась. Шла. Возвращалась. Миновало лето, и в один из теплых дней Катерина Семеновна пошла в церковь. Туда она тоже ходила часто. Ходила по привычке. Мало что улавливая из происходящего вокруг, она в тот день почему-то отчетливо услышала беседу об этом монастыре. В том разговоре даже путь до него подробно упоминался. Она пришла домой и все помнила его. Собралась. Оставила дело на приказчиков. Приехала сюда. Живет вот.
***
Полетаев слушал трезвую и безжалостную к себе повесть вдовы, и сердце его обливалось кровью. Не то, чтобы все члены ее семьи, ушедшие один за другим, были для него бестелесными тенями словесного рассказа, а не людьми во плоти – с болью и чувствами. Нет, он ясно представлял их, страдал за них и вместе с ними, и по всему выходило, что эта женщина – монстр, что ей нет ни оправданий, ни понимания человеческого. Да он и не оправдывал ее вовсе. Ему почему-то было просто ее жаль. Жалко было ее. Их нет уже, а она вот сидит тут, вспоминает про них своими пересохшими губами, не плачет даже, обстоятельно отвечает Демьянову на уточнения и вопросы. А впереди – жизнь. И что творится у нее внутри этого мнимого спокойствия, не дай Бог знать никому. Наконец, она замолчала.
Интересно все-таки, что же сказал ей суровый старец, если сперва она выплакала все нутро до последней капли, а теперь вот выговаривается случайным слушателям и, видать, тоже до донышка?
– А что ж исповедник-то наш? – Рафаэль Николаевич как будто подслушал его невысказанный вопрос. – Что он велел тебе, сестра? Вы ж говорили с ним?
– Исповедник? – голос вдовы перехватило, она всхлипнула. – Говори-ииии-ли…
Андрей Григорьевич стоял от скамьи шагах в трех, облокотившись на свою трость, и напряженно вслушивался.
– Серчал? – снова подтолкнул вдову к продолжению рассказа Демьянов.
Вдову стали душить слезы.
– Ничего не велел. Ничего не спрашивал, – она утерлась платком, явно желая сдержаться. – С порога говорит: «Прости меня, дочь моя».
– Это он тебе? – удивился Рафаэль Николаевич.
– То-то, что он, – Угрюмова вспоминала, как это было, и слезы сами собой переполнили ее глаза. – Я говорю: «Батюшка, я тут, чтобы ты простил. Научил, как вымолить прощение. Что ты!» А он: «Прости, не смогу с тобой говорить, пока не простишь!» Я ему отвечаю: «Да за что же мне прощать, я и не знаю о Вас, батюшка, ничего дурного, к Вам за святостью идут, как же это?»
– А он? – теперь уже совершенно спокойно и даже с каким-то прищуром выведывал Демьянов.
– А он: «А знала бы, простила? Все простила бы, дочь моя? Смогла бы простить? Мне нужно твое прощение. Смилуйся, прости, как себя саму простила бы!»
– А ты? – Демьянов не смотрел на вдову, а Полетаев видел, как меняется ее лицо.
Катерина Семеновна перестала крепиться, рот ее широко раскрылся, и гортанные рыдания вырвались наружу вместе с тонкими нитями слюны. Она не вытирала слез, а рыдала все горше, извергала почти звериные рыки, не сдерживая себя больше и не обращая внимания на то, как она сейчас выглядит – в слезах, с растрепанными волосами, некрасивая и страшная в своем горе. Полетаев даже рванулся к скамье, чтобы успеть придержать ее за плечи, потому что ему показалось вдруг на миг, что с очередным вырвавшимся из нее стоном, она привстанет со скамьи, да и кинется вниз с обрыва. Но Демьянов зыркнул на него молниями глаз, и Андрей Григорьевич застыл в немом порыве.
И вот прошла минута, потом другая, третья. Рыдания стали затихать и перешли в обычный женский плач, почти детский. Потом пошел на убыль и он, вдова снова пыталась говорить.
– Он… Он… Я ему… «Ты! Ты прости!» А он: «Бог все простит. Вот ты только попросила, а он уже простил. А я его пуще себя слушаю. Я тебя, милушка, уже давно простил, а как простил, так и позвал». Я как это «милушка» услыхала, так выбежала оттуда, ничего не могла – ни сказать, ни вздохнуть…
– Да, тяжеленько, – задумчиво протянул Демьянов.
– Что ты? – вдова всхлипнула еще раз, убрала платок от лица и впервые посмотрела на собеседника удивленным, но осмысленным взглядом. – Что тяжело?
– Задачка тяжелая, говорю, – продолжал Рафаэль Николаевич рассуждать, как об обыденном. – То ли дело – отмолить, да? Сказали тебе сколь земных поклонов, да сколь «Отче наш». Ходи, считай – год, два, все одно когда-то срок выйдет. А тут «прости». Да еще «как себя». Что мыслишь, сестра? Что же дальше?
– Я? – взгляд вдовы менялся снова, сначала ухмылка вернулась на ее искривленные губы, потом она стала похожа на себя вчерашнюю, со взглядом презрительным и колючим, и уже после Полетаев понял, что она беззвучно хохочет. – Простить? А-ха-ха! Простить меня? – рыдания снова возникли и смешались с этим страшным смехом. – Да захоти я этого сама, кто ж меня простит! Разве ж такое прощается?
– Да всякое прощается, – тихо пробубнил Демьянов, чем только подлил масла в огонь.
– Не всякое! – орала на него вдова, и Андрей Григорьевич испугался, что сейчас повторится сцена избиения, так близко они сидели друг от друга. – Мне нет прощения! Дочь, муж, разве ж они простили бы? Так их хоть как людей… А сын мой? Против Бога сотворил, это как мне себе простить?
– За грехи свои сам каждый перед Ним отвечает, – бесстрашно лез в полымя Демьянов.
– Ненавижу! Ненавижу! – почти визжала вдова, но уже ученый Полетаев не лез в защиту, видя, что каким-то чудом его приятель остается невредимым, он только наблюдал пристально, завороженный этой неприятной сценой. – Никогда! Никогда себя не прощу! И дочь! И сыночек мой не простит! Никогда не простят! Этому нет прощения!
– Господи! Бедная! Несчастная Вы женщина! – не выдержала душа Андрея Григорьевича, и он не мог смолчать. – Их уж на земле нет, а Вы все за них решаете!
***
Ночь прошла мирно. Полетаев прислушивался, но, кроме храпа сиделки ничего не слышал за стеной. Эти размеренные нынче рулады лишь придавали обстановке какой-то домашний покой. Андрей Григорьевич, незаметно для себя, задремал. Ему снилась Лиза, она пришла к нему сама и стояла, не смея переступить порог. Он видел, что она поддерживает руками свой большой живот, и во сне понимал, что это значит. Он хотел простить дочку, прижать к себе, сказать ей, что все понимает. Но она заговорила первая, спокойно и внятно объясняя ему, что уходит насовсем, что у ребенка этого отца нет, и что она должна справиться со всем сама. А он отвечал ей, что у нее-то отец есть, и спрашивал с болью – зачем она его так обижает? А Лиза в ответ лишь грустно улыбалась.
Чем закончилось видение, он не помнил, а проснулся с первыми лучами солнца и пошел в церковь. Вчера они с Демьяновым отстояли большую службу до самого конца, а вдова ушла раньше и спала в домике после всех своих мытарств. А сейчас Андрею Григорьевичу захотелось побыть в храме одному, без сопровождающих. Он попал между службами, когда прибирались. Было тихо. Постоял, его не гнали. Выходя уже, столкнулся с батюшкой, тот стал расспрашивать. Узнав, что все более-менее хорошо, попросил передать вдове, что ждет ее для разговора.
Когда та вернулась, Андрей Григорьевич правил покосившуюся ступеньку при входе. Вдова села подле него на завалинку и в дом не пошла. Полетаев выпрямился и, утерев пот, отложил было инструмент.
– Думаешь, растаяла я? Думаешь, всю душу теперь тебе выворачивать стану? Разбежался! – вдова сузила глаза. – Что метнулся? Делай что делал. Просто в дом идти не хочу, хоть солнышком подышать.
– Вас, право слово, не поймешь! – обиделся Полетаев. – К Вам со всей душой, а Вы! Вот Вы все злитесь на меня, а что я Вам-то плохого сделал?
– Жалеть меня собрался? – она посмотрела из-под бровей. – Не надо! Меня жалеть не надо. Не позволяю.
Полетаев все-таки оставил работу и, тяжело вздохнув, опустился на приступочку рядом.
– А и тяжелый у Вас характер! – он вытирал руки тряпицей.
Вдова пожала плечами. Они помолчали.
– Чего батюшка-то звал, скажешь? – ни с того, ни с сего перешел вдруг на «ты» Полетаев.
– Да все за будущую жизнь спрашивал, – как ни в чем не бывало, отвечала Угрюмова. – Он же меня исповедовал, вот его старец-то и позвал, как я сбежала. Что-то они там обо мне судили, рядили. А ты чего это затеял? – она кивнула на раскуроченный вход.
– Да вот. Давно хотел, все руки не доходили.
– Дошли?
– И что про будущее? – спросил Андрей Григорьевич, не отвечая на шпильки вдовы.
– Да кругами-огородами, а все вел к тому, что надо мне в тот город ехать, где жена сына оставалась.
– А ты что, так и не была там? – действительно с удивлением спросил Андрей Григорьевич.
– Не-а! – вдова покачала головой. – Только не начинай и ты эту песню – единственные родные души, то да се.
Еще месяц назад подобный ход мыслей привел бы Андрея Григорьевича в недоумение и вызвал бы волну возражений и, возможно, даже возмущения. Как так! Это же очевидно! Но сейчас сидел он на свежевыструганной своими руками ступеньке и молча вздыхал. Потом поднял на Катерину Семеновну глаза, боясь увидеть снова ее лицо перекошенным и некрасивым, но оно было спокойным.
– Так и не знаешь, кто родился? Внук или внучка?
Вдова снова покачала головой.
– Страшно тебе? – тихо спросил Андрей Григорьевич.
– А нешто нет? – ответила Угрюмова, и в глазах у нее стали, но так и не пролились слезы. – А если нет их вовсе? Если я и их загубила?
Она встала и, обойдя Андрея Григорьевича, скрылась в сенях.
***
В тот же день другой старец принял ветеринара. Тот был мужик по-деревенски угрюмый, скрытный, его историю так никто и не знал. Но вышел он из скита просветленным, радостным и спокойным. Видимо, его вопросы свои ответы нашли сполна. Тут же Демьянов всем вниманием переключился на него, был у старцев среди дня, потом навестил ветеринара в его жилье. И потом они все ходили парой, как неразлучные друзья.
Андрей Григорьевич остался снова предоставленным самому себе полностью, сидел один на прогулочной скамейке, смотрел с холма вдаль. Потом он попросился к своему батюшке на исповедь, потом долго еще говорил с ним просто по душам. И стало на той душе светло и ясно. На обратном пути он зачем-то зашел в пустующую церковь, пробыл там всего минутку и вернулся в свой домик, минуя трапезную, куда уже собирался народ. Улыбаясь, он постучался к вдове. Та тоже к обеду не пошла и поэтому оказалась дома.
– Чего тебе? – сама открыла она дверь.
– А где Ваша напарница? – через плечо ей заглядывал Полетаев.
– Так ты к ней? – вдова стояла в проеме и внутрь комнаты соседа не пускала. – Отпустила я ее. Насовсем.
– Ну вот! – отчего-то расстроился Андрей Григорьевич. – А я же к вам обеим. Я ж попрощаться хотел.
– За меня все решил? – прищурилась вдова и поджала губы. – Ты, голубь, скор слишком, как я погляжу. Я никуда не поеду, как бы вы все меня не учили. Я тут остаюсь. Отмаливать стану. Или в женский переберусь. А благословение будет – и постригусь.
– Бог в помощь, – покорно согласился Андрей Григорьевич, не желая указывать несчастной женщине на то, что она другим приписывает свои собственные пороки. – А я вот – собрался. Как оказия в город будет, так сразу еду. Потому и зашел, что не знаю точного срока. Вдруг не свидимся?
– И тебя допустил что ли? – удивленно подняла брови вдова.
– Нет, – ответил Андрей Григорьевич и расплылся в непроизвольной улыбке. – Я так.
– Ах, та-ааа-аак? – протянула насмешливо вдова, улыбнуться не сумела, но ухмыльнулась. – Ну, не поминай лихом, голубь.
Полетаев отправился в кузню, узнать, не будет ли обоза хоть до соседнего городка. В ближайшие дни не предполагалось. Батюшка тоже ничего не обещал в этом плане. Андрей Григорьевич совсем уж было собрался в обратный путь пешком, благо вещей у него с собой было – кот наплакал. Он не боялся, что этакое состояние его пройдет и надо спешить, нет. Он твердо чувствовал, что улеглось все не наспех, а надолго, основательно. Что все понятно ему теперь – как быть. А что делать, так то по мере возникновения обстоятельств само ясно будет, главное их принять. А принять его душа была готова сейчас многое. Все, что Бог пошлет. И вот от того, что было все так понятно и ясно, и хотелось поскорей вернуться, чтобы начать исправлять упущенное. Жить! На обратном пути встретил он Рафаэля Николаевича и, улыбаясь тому навстречу, приветствовал его.
– Ты, брат, известный посланник добрых сил. Вот ты меня сейчас и обнадежишь! – радостно вещал Полетаев, уверенный в своем везении.
– А ты, брат, гляжу, сияешь, как новый полтинник, – Демьянов в ответ тоже расплылся в улыбке. – Надо бы нам поговорить, вижу, переменилось у тебя многое! Ты прости, что оставил тебя, да тут такие дела закрутились. Мне заданий таких надавали наши пастыри, что, аж, голова кругом! Завтра надо в Нижний ехать. Ты чего хохочешь? Вон, монахи уже на нас оборачиваются.
– Прости, прости, – утирал слезу Полетаев, давясь смехом. – Мне сейчас так отрадно на душе, что даже фортит. Я тут все, что в карманах оставалось, в порыве пожертвовал, а надо было себе хоть на дорогу оставить. Так хожу теперь ищу попутчиков. Тут – ты навстречу!
– Ах, ты ж! – засветился радостью и Демьянов. – Созрел? Решился? Ну, так, брат, едем! Завтра поутру и едем. В дороге еще поболтаем. Рад за тебя.
– Что за дела в Нижнем, может, чем помочь могу? – поинтересовался Андрей Григорьевич. – У меня там знакомых пруд пруди. И по делам, и по жизни.
– Да, у меня тоже немало, – скромно потупился Демьянов. – Благодарю, может, когда и припомню. Сейчас вот везу нашего ветеринара, ему отцы что-то о просвещении в его уезде наказывали, так вот хочу его с одной дамой от образования познакомить.
– Вот, в этой области, как раз мало кого знаю, – развел руками Полетаев. – Ну, так берете меня, место будет?
– Если что – потеснимся! – подмигнул Демьянов, и они хлопнули по рукам.
***
Лев Александрович полюбил гулять. Он побывал у Антона на фабрике, посетил с визитами и его семейство, и его батюшку, встретился еще с парочкой приятелей из художественной среды. Переделка под детскую была завершена, никаких дел в Москве у него больше не было, а появилась возможность быть некоторое время одному, неспешно бродить по московским улочкам и переулкам, разглядывать дома и особняки, прогуливаться по бульварам. Образ его жизни в Нижнем был подчинен интересам многочисленных видов деятельности и почти не оставлял на такое времяпрепровождение времени. Тогдашняя прогулка с Лизой была редким исключением в его сугубо деловых перемещениях.
Лиза. Мысли все время возвращались к ней, и он представлял себе эту девочку – то в домашнем капоте, всю пронизанную солнечным светом, то в гимнастическом платье, собранную и строгую пред экзаменом, то сжавшую губы в упрямом ожидании, какой увидел он ее из окна конторы, когда пришла она извиняться перед ним. Прогулки располагали к раздумьям и мечтам. Степенность и спокойствие этого города снова и снова возвращали его к мыслям о собственном жилище. Возможно здесь. Рядом с Саввой. И, возможно, вместе с ней. С Лизой. В воображении это становилось допустимым, там можно было легко удалить всех ее молодых спутников, а ее поместить рядом с собой. Смотря теперь на какое-нибудь здание или аллею, Лев Александрович спрашивал себя мысленно – понравилось бы ей это? Как бы она вошла в эту дверь, как бы он подал ей руку, помогая перейти эту мостовую. Что он чувствовал бы, иди она рядом?
Но после он сам гнал от себя подобные видения, ругая за напрасные надежды и несбыточные мечты. Она слишком молода! Не стоит попустительствовать мыслям, которым воплотиться вряд ли суждено. Да, есть браки, где разница в возрасте между супругами гораздо больше, чем у них с Лизой. Он знает многие такие семьи – процветающие, степенные. И многие из них выглядят вполне счастливыми. По крайней мере – со стороны. Ведь не заглянешь же, действительно, в самую душу благополучных с виду спутников, не копнешь – что там между ними на самом деле? Борцов тут же вспоминал брак Элеоноры, к которому был допущен очень близко волею судеб. Нет! Он не сможет жить в ожидании, или лишь надеждами на то, что Лиза когда-нибудь полюбит его. В сомнениях. В унизительном положении просителя. Это было недопустимо для гордости Льва Александровича. Уж лучше всю жизнь быть одному! Заниматься делом, придумывать и строить дома. Хватит ему и этого.
Он пожалел, что не взял с собой эскизов особняка, начал выстраивать их снова. Сейчас он сидел на скамейке и делал наброски, припоминая отдельные, уже продуманные детали проекта и как бы «примерял» их к окружающей обстановке. В теплых лучах мягкого московского заката, ему показался слишком холодным и отстраненным тот фисташковый цвет стен, который был придуман им ранее. Здесь скорей подошел бы теплый песочный, или золотистый оттенок, думалось ему.
На следующий день он решительно отправился узнавать цены на землю, желая тронуть «папину кубышку», приобрести участок под застройку и уже не давать себе путей к отступлению. Он надеялся на выгодные заказы по итогам Выставки, да еще и новый загородный особняк, обещанный чете Мимозовых, да плюс сумма, уже отложенная к сегодняшнему дню. Да. В будущем году у него скорей всего будет возможность начать собственное строительство. Надо только будет определяться со службой – разрываться между двумя городами довольно неудобно, да и, если честно, не собирается же он оставаться на одном месте всю жизнь. Надо идти дальше, ярмарочные дела были ему интересны, пока не превратились в рутину.
Оказалось, московская землица «кусается» своей стоимостью. Лева не рассчитывал на такие вложения, получалось, что ему нужно истратить не только наследство, но и все собственные накопления лишь на участок и промеры. Это было очень рискованно. Зато успешно завершились поиски подобного толка у Саввы Борисовича.
– Левушка, поедем завтра смотреть землицу под домик?
– Под домиком ты подразумеваешь новую дачу? – переспросил Лева. – Уже место присмотрел? Где? Там же?
– По той дороге, но поближе. Не так, чтобы далеко от заставы. Деревня там рядом, Самынка, сосновый бор, говорят, возле излучины реки. Хочу сам глянуть, ты как?
– А поехали. Домик-то, каков там встанет, сколь площади пригодной? Десятины две будет?
– Да поболе, Левушка, – задумчиво тянул Савва, видимо уже представляя в воображении будущие угодья. – Я десятинки три хотел пустить под садик-огородик только.
– О, господи! – Лева внимательно посмотрел на друга. – А что ж тогда за «домик» ты задумал?
– Поедем, поедем, Левушка, там, на месте все обговорим. А то на неделе в Нижний надо съездить, все-таки пропустить визит государя не имею возможности. И подарок от гильдии вручать надо, да и вообще. Мои-то не едут, один я. Ты со мной?
– С тобой, Савва. Куда ж я от тебя денусь? – улыбнулся Лева.
– Ну, и добро! А твои как поиски?
– Ох, Савва, – вздохнул Борцов. – Видимо, отложить придется мои мечтания еще на пару-тройку лет. Не хватит мне нынче и на землю, и на постройку.
– Суду в банке возьмешь, и всего делов-то! – легко перешагнул проблему миллионщик Мимозов. – Раз у меня брать не желаешь.
Лева исподлобья посмотрел на него и ничего не ответил. Помолчав, спросил:
– Значит, основательно обустраиваться желаешь тут?
– Да тоска меня заедает, Лева! – Савва потер ладонью грудь сквозь жилетку. – Все мне нынче, как кость в горле. Ни к чему сердце не лежит. В Нижнем все уже налажено и без меня вертится. Скукота! Надо новое дело начинать!
– Здесь, в Москве? – спросил Лева. – Уже положил глаз на что, или тоже, всего лишь раздумья?
– Раздумья, Левушка. Раздумья… – Савва потянулся к своим записям. – Я тут с этими земельными делами и тебе, кой-чего приглядел. Место раньше поганеньким считалось, да ты ж в чертей не веришь, надеюсь? Зато цены божеские. Ты не тяни, друг. Помяни мое слово, через пару лет так землица вздорожает, что и не подступишься. Раз решился – бери. Я узнавал, там солидные люди строятся, за соседство не стыдно будет.
– Да где ж такое? – Лева все сильнее склонялся к тому, что тоже надо перебираться в Москву, поэтому, доверяя Савве безгранично в деловых вопросах, заинтересовался всерьез.
– Да и отсюда недалеко, будешь в гости захаживать, – листал Савва странички блокнота. – Вот! Козье болото!
***
В понедельник Лиза возвращалась с Кузьмой из Лугового и не узнавала родимый город. Многие улицы уже были украшены, выросли над ними арки, увитые цветами, по всему пути следования кипела бурная работа по убранству домов, балконов, фонарных столбов, временных павильонов и трибун. Нижний Новгород готовился к прибытию важных и очень дорогих гостей. Лиза вспомнила, что папа говорил ей про визит императора на Выставку в середине лета, и вот это время пришло. Папа! Ну, где же ты? Ты так ждал, так хотел быть в гуще событий! А как же она сама?
Лизе, как любому человеку, особенно молодому, хотелось побывать на празднике. Может быть, хоть краешком глаза увидеть царскую чету, помахать им, почувствовать себя частью этой гостеприимной массы людей, частью своего народа, своего города. Когда еще посетят его такие высокие гости! Сейчас каждый житель желал быть причастным к такому редкому, такому важному и яркому событию. Готовились подарки, сочинялись речи, репетировались приветствия. Все жило ожиданием.
Был бы папа в городе, конечно, он нашел бы способ провести Лизу поближе к главным мероприятиям. Он не последний человек и в городе, и на Выставке. Но куда Лиза может попасть сама? Если только постоять в толпе, когда царский кортеж будет проезжать по улицам? Ну, хоть так. Лишь бы няня отпустила, не заартачилась!
Дома Егоровна пропустила ее восторженные речи о готовящейся встрече императора как-то мимо ушей, отмахнулась. Все расспрашивала про встречу матери и сына, по сто раз заставляла повторять подробности – кто как посмотрел, кто что сказал, плакала ли Наталья, а Лиза, а Митя? Кормила Лизу так, будто та не два дня провела у друзей в гостях, а вернулась из многолетнего пребывания в остроге. Лиза отодвигала тарелку и умоляла: «Няня, ну, я не могу больше!», а та все подкладывала и подкладывала.
– Няня, а Лида была сегодня? – вспомнила Лиза, что у подруги сегодня урок.
– Да мелькала во дворе утром, ушла уж давно. К нам, сюда, не заходила, – и тут Егоровна хлопнула себя по лбу, что-то вспомнив.
Самовар остывал на столе, а осы устало кружились над вазочкой с вареньем. Няня вышла к себе и принесла Лизе в столовую конверт. У Лизы захолонуло сердце от воспоминаний, но увидев, что тот надписан, она глубоко вздохнула и взяла его в руки. А успокаиваться, оказалось, было рано. Лиза взметнула вопросительный взгляд на Егоровну. Адрес был тот! Именно, что тот самый. Страшный. Обидный. Угрожающий.
– Кто принес? – сдавленным голосом спросила Лиза.
– Да барышня принесла, видно, что из благородных, – вспоминала няня. – Что с горлом-то у тебя, доню, чай не простудилась ты на ихних сквозняках? Тебе хоть одеялко теплое там давали?
– Да все хорошо со мной, – Лиза взяла себя в руки. – Я просто объелась сейчас. Знаешь, я наверно пойду, прилягу. А что за барышня, не сказалась?
– Да конвертик сунула и что-то еще про вторник спросила, будешь или нет, – няня убирала со стола. – Учились, говорит, вы вместе. Кудрявая такая!
Сомнений быть не могло – по описанию это была Таня Горбатова. Господи! Что ж они никак не оставят ее в покое! Что брат, что сестра! Лиза ушла к себе и прочла записку, когда няня уже не могла видеть ее лица. В письме было обычное приглашение на музыкальный вечер. От Татьяны. Про Сергея не упоминалось вовсе. Лиза растерялась. С Таней она не ссорилась, знает ли та про их отношения с братом – неизвестно. Что делать?
Самым первым порывом было написать сейчас же извинение, сослаться на дела или недомогание и забыть сразу. Но Лизу начала мучить совесть. Таня приезжала сама, значит, для нее этот вечер важен. Возможно, она рассчитывала на Лизино владение инструментом. В конце концов – они выпускницы одного Института, одного класса, должна же быть между ними хоть какая-то связь, взаимовыручка, помощь? И не ты ли, Лиза Полетаева, всего неделю назад, сидя у этого же окна, плакалась, что жизнь твоя скучна и однообразна, проходит взаперти, без людей и событий? На! Вот к тебе сама собой пришла возможность выхода в свет, без папы, без протекций. Как ответ на твои терзания. Встань, иди. Боже! Но как войти в тот дом? Как встретиться с ним взглядом? Не наедине, не там, где можно поговорить, выяснить недоразумения, или расставить точки, а на глазах у всех. Нет! Она решит все завтра. Не сейчас.
А вторник оказался днем счастья. Егоровна готовилась накрывать к обеду. Лиза утром отзанималась с Аленкой, а теперь перебирала у себя в комнате наряды, так и не решив – поедет она на музыкальный вечер в дом Удальцовой или нет. Во дворе вдруг раздались приветственные возгласы, ворота заскрипели, но звука въезжающих колес слышно не было. Лиза посмотрела в окно и, бросив платья на кровать, побежала в кухню.
– Егоровна! – Лиза оглядела нянькины владения. – У тебя ничего тут не кипит, не жарится?
– А ты проверять, что ли, меня взялась? – Егоровна уперла руки в бока. – А глазищи-то! Ты что, паука увидала?
– Ты только не волнуйся, – уже улыбалась Лиза. – Оставь тряпку, пойдем. Папа вернулся!
***
Как стремительно может все изменяться в жизни. Вот, только несколько дней разделяют Лизу, тоскливо глядящую в окно и Лизу, которая едет по своему нарядному городу, вместе с папой, счастливая и почти излечившаяся от своей неудачной любви. Нет-нет, да все-таки заскребет у нее на душе, вспомнится, какой бывала она тогда, собираясь на свидания, каким радужным представлялось ей будущее. Париж. Венсенский лес. Молодая жена. И нет прежнего света внутри, но все уже не так безысходно, как казалось всего неделю назад. И Митя нашелся! И дома снова все ладно! И в городе торжество!
– Папа! – говорила накануне вечером Лиза. – Я так благодарна нашему государю, я так люблю его, папа, еще больше, чем всегда.
– Лизонька, – отец и был похож на себя прежнего, и стал совсем другим в чем-то неуловимом. – Ты, конечно, должна бывать на праздниках чаще. Я думаю, мы это наверстаем.
– Я не только за праздник ему благодарна, папа! – смеялась Лиза. – Как ты не понимаешь! Ведь ты вернулся!
– Ты считаешь, что я приехал из-за визита императорской четы, дочка? – Полетаев отложил газету в сторону и теперь внимательно смотрел дочери в лицо, тон его был спокоен, а доводы серьезны. – Если что и повлияло на мое решение вернуться, так это исключительно состояние души моей. Поверь. Внешние обстоятельства, даже такой важности и редкости, вовсе не имели никакого значения в моем давешнем состоянии. Не буду грешить, говоря, что никто из людей, их слов, действий и поступков не повлиял на осознание мной всего со мной происходящего. Нет. Но, тогда за мое сегодняшнее прибытие, дочка, ты скорей должна благодарить одну даму.
– Что за дама, папа? Ты там завел знакомства?
– Завел, дочь. А дама довольно неприятная. С характером жестоким и удивительным умением портить жизнь близким. Она даже как-то расцарапала мне лицо. Я очень благодарен ей!
– Ты шутишь, папа? – Лиза нерешительно улыбнулась уголком рта.
– Нет, Лиза, вовсе не шучу. Мы обо всем поговорим с тобой чуть позже, давай не будем в первый вечер и сразу о тяжелом. А благодаря той женщине, я многое понял про свою жизнь.
– Почему о тяжелом, папа? – Лиза потупила взор, понимая, что снова всплыли воспоминания о ее проступке. – Неужели, я так осложнила твою жизнь, что…
– Нет-нет, Лизонька! – перебил ее Андрей Григорьевич. – Вот я и не хотел сегодня заводить эту тему, потому что разговор на ходу только ранит, а на обстоятельную беседу мне сейчас не собраться. Да и не время. Я хочу пока насладиться тем, чего сам лишил себя на долгий срок. Давай пить чай и ни о чем плохом не думать. Могу только сказать, что я во многом виноват перед тобой, девочка моя. Прости меня, дорогая.
– Ты, папа? – Лиза почувствовала, что сейчас заплачет. – Что ты, папа!
– Ну, вот, я же говорил, – вздохнул Полетаев. – Давай отложим это на потом, дочь? Расскажи лучше про себя. А то ты все про Митю, да про Наталью Гавриловну. Рад за них. Как ты-то тут живешь-поживаешь?
– Поживаю, папа, – Лиза стряхнула рукой непрошенную слезинку и улыбнулась. – Про кого же мне еще говорить, если я только вернулась из Лугового? Могу еще про Гаврилу Игнатьевича рассказать. Ох, и досталось же Мите!
– Ну, это известный воспитатель! – захохотал Андрей Григорьевич. – А все-таки сама? Как ты сама тут? С Егоровной ладили? Музыкой занималась?
– Ой, папа! – встрепенулась Лиза. – Я ж с тобой вовсе все позабыла! Я же на званый вечер сегодня была приглашена. Да уж теперь поздно.
– К кому, Лизонька?
– Помнишь даму на пикнике, вы все беседовали с ней? Удальцова?
– Как же, как же!
– Так ее племянница Таня меня звала музицировать, мы в одном классе учились.
– А! Это дочка генерала Горбатова? – припомнил Андрей Григорьевич. – Видал его на ваших экзаменах. Ну, ничего, дочь. Я сам отпишусь Гликерии Ивановне, а то неудобно просто взять и не прийти. Ты не переживай.
– Папа! – Лиза смотрела на отца в кресле, на стопку газет, на мягкий свет от абажура и не верила своим глазам. – Но как же так все сразу, папа? И ты, и Митя, еще и император завтра приезжает! Ты отпустишь меня посмотреть, как они ехать будут?
– Давай сделаем лучше, дочка, – Полетаев прикидывал возможности. – Если встанем пораньше, то едем-ка мы с тобой прямо на Выставку? Ты тоже там служишь, нас должны пустить, пока охрану везде не расставят. А там, может оказия, какая и выйдет поближе тебе все показать, а?
– Да, папа, без тебя тут документы разные присылали. От учредителей съезда, от союза промышленников, от Кустарного отделения Выставки. Посмотри у себя на столе. Я то, что просили, нашла у тебя в бумагах, отпечатала и отослала. А вот на приглашения уж сам отвечай.
– Ты, моя умница! Ну, так теперь непременно надо туда ехать! Явиться завтра пораньше. А, если не выйдет завтра, то еще три дня будет, найдем способ. Обещаю!
И вот они едут на Выставку. Не заходя к Савве, Полетаев отправился по вызову в Кустарный павильон, там оказалось, что всех экспонентов отдела приглашают к прибытию важных гостей выстроиться в ряд и приветствовать императорскую делегацию вместе. Назначено сие событие было ориентировочно на послеобеденное время, но всем указано было явиться к полудню, дабы не заставлять государя ждать. Времени все равно было еще предостаточно, поэтому Андрей Григорьевич направился к Мимозовскому павильону, а Лиза отпросилась в Мариинский, дабы отчитаться перед Белочкой о поездке.
Там она застала еще и Вершинину, которая тоже не смогла пропустить такое событие. Они разговорились, пока Рашель Ивановна что-то долго обсуждала с двумя монахами и одним господином средних лет в цивильной визитке, держащим шляпу-котелок в руках. В разговоре он нет-нет, да и бросал взгляды на Лизу, беседующую с начальницей Института. Потом Белочка освободилась, но ее собеседники никуда не ушли, а стали осматривать экспозицию и интересоваться другими служителями павильона. Лиза рассказала о ее собственных договоренностях в Луговом и о тех моментах сомнений, что высказала ей Наталья Гавриловна. Про Лиду сказала, что у той тоже есть результаты, но о них она поведает сама, при встрече. Рашель Ивановна в целом осталась довольной проделанной ими работой, а Лиза пообещала при случае продолжить изыскания. Когда она ушла, господин, указывая котелком на закрывшуюся дверь, направился к дамам и первым делом спросил, обращаясь к обеим сразу:
– Милые дамы, не подскажете, а что за барышня только вышла отсюда? Будто бы я ее где-то видел.
– Да это девочки, бывшие ученицы Аделаиды Аркадьевны, приходят ко мне сюда с отчетами, – отвечала Рашель Ивановна, кивая на Вершинину. – Выпускницы этого года, взялись помогать мне в одном деле с устроением сельских школ. Это была Лиза Полетаева, а на днях еще должна подойти Лида Оленина. Кстати, в той губернии, о которой мы сейчас говорили, надо бы тоже провести такие опросы. Безграмотность повсюду дремучая!
– И каковы эти девушки? – продолжал «котелок», видимо услышав фамилию знакомую, потому заинтересовавшись. – Толковые?
– У меня все ученицы толковые, уважаемый Рафаэль Николаевич, – вступила в разговор Вершинина и улыбнулась. – А на какой предмет Вы интересуетесь?
– Ах, простите, дорогая Аделаида Аркадьевна! – расшаркался Демьянов. – Не хотелось бы в день знакомства прослыть перед Вами невежей. Я неудачно выразился. Ваш труд неоспорим, и все подопечные наверняка безупречны с точки зрения вложенных в них знаний! Я думал о своих интересах в городе, мне бы тоже не помешали помощники из среды прогрессивной молодежи. Не только грамотные, но и энергичные, деятельные, ответственные. Энтузиасты, так сказать. Вот Лида Оленина, например? Что такое? Можно ли ей поручить – что-либо собрать по списку или провести подбор самостоятельно? Например литературы? К кому из Ваших учениц порекомендуете обратиться, милая Аделаида Аркадьевна? Ведь кому как не Вам знать их способности и особенности?
– Поняла Вашу мысль, Рафаэль Николаевич. Ну, что ж, – Вершинина посмотрела вверх, как бы что-то припоминая. – Лида девочка исполнительная. Со списком справится, несомненно. Если загорается каким-то делом – может горы свернуть, иногда и напролом пойдет, тут главное остановить вовремя, – улыбнулась наставница. – А вот самостоятельные решения для нее трудноваты. Она будет смотреть на того, кто постарше, или на того, кто ответственность возьмет на себя. Я удовлетворила Ваш интерес?
– Вполне, – кивал Демьянов. – Исполнительна, но инициативу лучше не предоставлять. А другая, та, что была здесь только что?
– Это совсем иная девочка, – расплылась в искренней улыбке начальница Института, гордясь своей выпускницей. – Эта, пока не вникнет в смысл вопроса, дела не начнет. Но уж когда она поняла суть, можно спокойно ее оставлять, зная, что она сделает все возможное и наладит все как можно лучше. Если надо, сама найдет единомышленников. Хотя по натуре она вовсе не лидер… Этим в их маленьком кружке отличалась только Ниночка.
– А Ниночку возможно ли привлечь? – спросил Демьянов, внимательно слушая каждую характеристику.
– К сожалению, нет, – отвечала Вершинина. – Родители ее покинули наш город, они всей семьей нынче в Грузии.
– Далеко, – задумчиво протянул Рафаэль Николаевич. – Ну, что ж, милые дамы! Прошу при случае представить меня обеим вашим протеже, у меня для каждой найдется задание в городе. При их согласии, конечно. Надеюсь, и их родители не будут противиться?
– С нашими рекомендациями, я думаю, все устроится, – поставила в разговоре точку Белочка.
***
Лиза шла по территории Выставки и наблюдала вокруг приготовления к царскому прибытию. Гостей сегодня было мало, аллеи и площади пустовали, вокруг все было чинно и свободно. Она успевала к назначенному часу, поэтому шла медленно, разглядывая окружающее ее торжественное великолепие, любуясь клумбами, строениями, фонтанами и большим прудом, в котором отражались башенки и конструкции изысканных павильонов. Все было прозрачно, насквозь, насыщено воздухом и светом, видно далеко и издалека. Вдруг неизвестно откуда на солнце нашла тень и в считанные мгновения все переменилось.
Небо нахмурилось, порывы ветра чуть не сорвали с ее головы шляпу, но эту-то она упускать не собиралась и крепко прижимала рукой! Лиза огляделась в поисках укрытия и, когда капли дождя ударили по ее рукам и спине, вбежала в ближайший павильон, который попался ей на пути. Это оказалась стеклянная оранжерея, полная цветов, пальм, лиан и вовсе не знакомых ей растений, а вот ни обслуги, ни посетителей нигде поблизости видно не было. Лиза отряхнула шляпку и стала осматривать урон, нанесенный непогодой ее платью. Сегодня она надела то самое, в котором была здесь на открытии – с листьями по белому фону.
Через прозрачные стены было видно, как капли сливались в бурные потоки, сверху упругими жгутами спускались с неба белые струи воды, и выйти на улицу не было никакой возможности, такой силы шел ливень. Лиза подумала, а как же там царская свита и сами государь с государыней? Они уже как раз должны были подъехать к Выставке. Как же некстати этот дождь! Он все может испортить! В такой день! Но бушующая за стеклом гроза, не желая умерить свои порывы, еще и, сверкнув над крышами ярким всполохом, почти сразу обрушила на город громовые раскаты, так, что Лиза даже прижала ладони к ушам. Стихия разгулялась не на шутку.
Ручьи стекали по окнам и смазывали вид за ними в неясную картину, состоящую из переливов и силуэтов. Вот на ней промелькнула движущаяся тень – видимо еще кого-то непогода застигла на пути. Дверь оранжереи распахнулась, и внутрь вбежал мужчина, его воротник был приподнят. Под лацканами длинного пиджака он пытался укрыть какие-то бумаги, но эти ухищрения были почти бесполезны – с него текло. Он достал папку из-за пазухи, глянул на погубленные документы и, увидев результат, безо всякой жалости небрежно швырнул их на край огромной кадки. Потом он тряхнул головой и челка, сбросив с себя веер прозрачных брызг, привычно легла и закрыла ему почти половину лица. Лиза узнала его еще раньше. По спине. По еле-уловимому запаху вишневого табака. Она застыла и, кажется, перестала дышать. Он, вероятно почувствовав на себе ее взгляд, медленно обернулся.
– Лиза? – тонкие губы перекосила непроизвольная усмешка, но он тут же взял себя в руки и чуть склонил голову набок. – Елизавета Андреевна. Приветствую.
Лиза молчала, а Сергей стал ухмыляться, теперь уже вполне осознано.
– А я-то думаю, за что меня преследует Громовержец? А это, оказывается, Лесная Царевна насылает на меня все мыслимые кары. Пощадите, владычица!
– Вольно же Вам ерничать! – подала голос Лиза. – А я все это время думала, что, может быть, что-то неверно поняла тогда.
– А поняв верно, Вы теперь испепелите меня молниями в горсть праха? – он распахнул пиджак, как бы подставляя грудь под удар кинжала. – Ну, же! Разите! Вы прекрасны, должно быть, даже в гневе.
– Вы похожи сейчас на шута, – Лиза опустила глаза, так ей было стыдно за этого, растерявшего все свое достоинство взрослого человека, которого не только гроза, но и неожиданная встреча с ней застала врасплох. – Прекратим этот разговор. Он мне неприятен.
– Величие. Выдержка. Сила духа, – Сергей перечислял Лизины достоинства, выпятив нижнюю губу, не желая уже отступать. – Право, Елизавета Андреевна, не делайте меня еще хуже, чем я есть на самом деле! Ну, хоть заплачьте что ли!
Лиза вскинула на него сухой и недоуменный взгляд, как бы спрашивая: «О чем заплакать? Почему?»
– Ну, обо мне! – отвечал Горбатов на невысказанный ею вопрос. – О сожалениях. О разбитой любви, черт побери!
– Это становится невыносимо, – отвечала Лиза. – Позвольте мне уйти. Вы сами знаете, что никакой любви не было вовсе! По крайней мере, с Вашей стороны.
Она попыталась миновать Сергея и выйти наружу, пусть под дождь, пусть на ветер, только бы не оставаться с ним больше рядом. Но он перехватил ее за руку.
– Ну, куда? Куда ты пойдешь? – Сергей злился и был почти страшен сейчас.
– Отпустите, мне больно, – сквозь зубы сказала Лиза, пытаясь изо всех сил сохранить спокойствие и рассудительность.
– Хочешь совсем меня растоптать? Унизить? Не оставляешь мне даже тени права считать себя мужчиной? Уйдет она! Под дождь? Под молнии? Ну, уж нет.
– Тогда уходите Вы! – у Лизы прорезался голос, сверкнули глаза, и внезапно все ее существо наполнила упрямая сила, как с ней иногда случалось в минуты выбора или волнений.
– А-ха-ха! – уже почти безумствовал Сергей, понимая, что он по всем параметрам проигрывает этой хрупкой девочке, исполненной гордости и достоинства. – А ведь ты даже ни разу не назвала меня по имени! Неужели это все было так неважно для тебя? Лиза? Моя Лиза!
Он стал склоняться к ее губам, единственным способом пытаясь доказать свое превосходство, сломить ее, заставить уйти побежденной.
– Не смейте! – выдохнула она ему в лицо. – Вы сами высказали требование забыть Ваше имя. Я всего лишь выполнила Ваше собственное желание. Оставьте меня теперь! Вы правы, правы! Ничего не может быть больше. И ничего не было! Пустите меня!
– Ну, уж нет, – Сергей все не выпускал ее запястий. – Нет, я все-таки поцелую Вас. Без любви. Из одного только желания. С тем и оставайтесь, владычица дубрав и перелесков.
Лиза застыла в его руках как жертва на заклании.
– Вы сильнее меня, – она смотрела теперь прямо в глаза Сергею. – И я не могу препятствовать Вам ничем, но я хочу, чтобы Вы знали – Вы противны мне. А теперь делайте, что хотите. Есть высшие силы, и они видят все.
– Лесная Царевна все-таки пытается угрожать бедному путнику, увязшему среди ее владений?
Сергей Горбатов отодвинул теперь Лизу на расстояние вытянутых рук, так и не коснувшись ее лица, и как бы раздумывал, продолжать начатое или сдаться. Раскаты грозы за стенами стали в этот миг почти непрерывными, молнии мелькали одна за другой и вдруг раздался странный звук, как будто кто-то кидался по окнам орехами. Стеклянная крыша над их головой была тут же пробита чем-то увесистым и осыпалась градом осколков к их ногам. Сергей отпрянул от Лизы, выпустив из рук, и стал отряхиваться от битых стекол, а она прикрыла лицо ладонями, опустив голову. Сергей с ужасом еще раз глянул на Лизу, распахнул дверь наружу и, уже выбегая прочь, обернулся и крикнул ей:
– Ведьма!
Лиза видела, как он поскользнулся на огромном куске льда, которыми теперь засыпано было все видимое перед павильоном пространство, припал на одно колено, встал, а потом, не отряхиваясь и не оглядываясь, почти бегом скрылся в грозовой пелене.
***
– Лиза! Лиза! – Андрей Григорьевич влетел в павильон Мимозова и, обойдя его весь, нашел сидящую в пустом кабинете дочь. – Ты ошиблась, детка? Не поняла, что это должно быть не здесь? Почему ты не пришла, все было так торжественно, царь с супругой подходили совсем близко.
– Я все поняла. Я просто опоздала, папа, – Лиза была спокойна и улыбнулась отцу. – Не переживай, это все не так важно.
– Как же не важно! – Полетаев искренне расстроился, что Лиза пропустила такую возможность. – Ведь дома ты так этого хотела! Что-то произошло, Лизонька? Ты была у своей преподавательницы? Там что-то тебе сказали? Что-то не так?
– Все так, папа. Она мною довольна. Ты застал грозу?
– Ах, да! Была же гроза! И град, – отец заволновался. – Ты попала под нее, Лиза?
– Нет, папа. Я переждала в одном из павильонов на пути. Платье только немного промокло…
– Ты поэтому не пришла? – сокрушался Полетаев. – Эх!
– Папа, папа, – Лиза уже почти смеялась над тем, как серьезно отец отнесся к ее почти детским желаниям. – Да забудем об этом. Расскажи лучше, как все прошло у вас?
Андрей Григорьевич сел за большой письменный стол. Наклонив голову, внимательно посмотрел на Лизу, понял, что она не успокаивает его, а, действительно, почему-то вовсе не расстроилась. Вся ее фигура, и поза, и взгляд были исполнены сейчас кого-то мягкого покоя, как будто она доделала долгую работу и теперь отдыхает.
– Все хорошо – встретили, показали, подарки вручили. Среди сопровождения издалека видел и министра финансов, и нашего Савву Борисовича, – Полетаев рукой погладил столешницу, потом поднял взгляд, наклонил голову к плечу и улыбнулся. – И еще целая толпа ходит за ними везде, глазеет.
– Ну, что, папа? – Лиза тоже наклонила голову на бок. – Поехали домой?
А уже вечером, когда они вместе ужинали, неожиданно в их доме возник Мимозов. Он шумно объявился в прихожей и, пока Егоровна встречала его, Полетаевы уже поняли, что за гость к ним пожаловал. И отец, и дочь были ему очень рады.
– Рад! Рад, что слухи оказались слухами, – с порога громыхал Савва. – Рад видеть вас, дорогие мои. Рад, что дома, что вместе! Рад, что застал.
– Савва Борисович, поужинаете с нами? – Андрей Григорьевич поднял брови на Егоровну, и та метнулась за прибором. – Присаживайтесь! Видал Вас сегодня в окружении! Ну, так Вам сам бог велел взлететь так высоко. Горжусь.
– Ох, суета сует все и прочая суета! – Савва рассматривал Лизу и чему-то улыбался.
– А что за слухи, Савва Борисович? – не стерпела она.
– Да про батюшку твоего, Лиза, – кивнул он в сторону партнера. – Да, раз оказалось – вздор, так что ж и повторять-то? Никто никуда не постригся, вон, сидит, по Выставкам ходит, императоров встречает. Все путем!
– Да, нет, не слухи, – переглянувшись с дочерью, честно отвечал Андрей Григорьевич, не считая нужным скрывать что-либо от человека, чьим мнением дорожил, которому доверял, и кого считал одним из близких соратников по жизни. – Только вернулся, многое передумал. Я потом все обстоятельно обскажу, как сам все до конца прочувствую. Нынче вот только вопрос, когда собрание созовем? Я там, в монастыре, кое-что из прежнего оборудования Товарищества обещал. Все равно же менять вот-вот станем. Так надо бы обсудить.
– Монахам? – Савва пододвинул к себе огромную чашку с чаем, которую ставили на стол специально для него. – Отдавай, не думай. После отчитаемся. Если что, я как благотворительные расходы на себя возьму. Нечего из-за ерунды собираться. Я ж, друзья мои, тут на пару деньков только. Вырвался. Потом обратно, к своим, в Москву.
– А как же завод, Савва? – Полетаев был удивлен, зная, что Мимозов не любит надолго оставлять производство, свое любимое детище.
– А что завод? – отхлебывал Савва Борисович богатырские глотки. – Там все уж по накатанной! Вот, думаю новое что затевать. Был бы сын взрослый, так самое время передавать заводик-то… Эх! Ничего, найду кому.
– А сам что же?
– Вот нынче с государем осматривали мы первый российский самодвижущийся экипаж! – мечтательно вспоминал Савва. – Вот это красота! За этим, я думаю, будущее. Вот взяться бы, да обскакать немцев, пока не поздно! А?
– Не мелок ли масштаб для Вас, Савва Борисович? – Полетаев был с заводчиком на «вы» на людях, и лишь в редкие минуты дружеский откровений переходил на интимное «ты». – После паровых-то турбин, после таких гигантов и перепрыгнуть на личные экипажи? Ваши-то агрегаты сейчас сотнями людей возят!
– А! – махнул рукой Савва. – Вчерашний день. Дизель – это сила! Не пойму, почему государю-императору вроде как скучно было? Неужели не виден размах?
– Да какой там размах? – Полетаев тоже скептически смотрел на новинку, еще раньше осмотрев на Выставке этот хваленый экипаж, похожий на его собственную коляску как две капли воды, видимо заказанный там же, в Петербурге. – Повозка повозкой, только что без лошади.
– Не скажи, брат, не скажи! – Савва огляделся. – Вот представь! Пройдут годы и, выйдя на улицы нашего города, ты их не узнаешь! Никаких извозчиков, каждый сам себя перемещать будет. Экипаж у тебя – ты будешь ездить в банк, да внуков за реку возить. У Елизаветы Андреевны свой будет, она с утра как встанет, так по салонам и поедет. Да-да! Не смейтесь. Супруг ее на службу укатит на своем экипаже. Кто куда хочет!
– Ну, Вы и фантазер, Савва Борисович, – смеялась Лиза, давно не испытывая такой легкости и радости от разговоров.
– И Егоровне экипажик выделим! – резвился Мимозов, когда няня внесла в столовую очередной самовар. – Пусть себе на базар правит, сигнал только ей погромчее поставим, чтобы курей на дороге не подавила!
– А ну, вас, не пойму, что и говорите! – махнула на них полотенцем Егоровна и гордо удалилась в кухню, дабы не попасть впросак.
***
– Да я ж не с тем к вам шел, – постепенно успокаивался Савва. – Я ж с предложением. Раз ты, Андрей Григорьевич, в городскую жизнь вернулся, то не примешь ли подарок для себя и дочки?
Полетаев, было, напрягся, так как из гордости не любил одалживаться, но после что-то вспомнил и, взглянув на Лизу, улыбнулся.
– Ну, излагайте, милостивый государь, чем удивлять станете?
– Э-эээ…Вот загвоздка какая, други мои, – начал Савва издалека. – Еще в Москве, еще на коронации я понял, как сложно в последний момент попасть ближе к царствующим особам, мне ж тогда мои принцессы всю плешь проели: «Покажи!» да «Покажи!». Я и озаботился заранее. Во все театры, на все три вечера пребывания Его императорского величества в Нижнем Новгороде, ложи-то и скупил. Еще в мае! Кто ж знать заранее мог, куда императору угодно будет вечером развлекаться поехать. Ну, думал, и мы за ним, вместе с семейством следом потянемся, или хоть со старшими.
– Так в чем дело-то, Савва Борисович, что переменилось? – Полетаев не мог пока понять, куда клонит Мимозов.
– Мои-то в Москве все остались. Не приняли бы вы с Лизой приглашение на завтрашний вечер, а то жаль – пропадут места-то!
– А-аааа, – протянул Полетаев, кое-что начиная понимать. – То есть теперь точно известно, куда царская чета последует, а в другие залы – не разорваться же, понимаю. Те ложи друзьям уступаете, так? Ну, думаю, Лиза, почему бы не съездить в театр, ты как?
– Я, папа, с удовольствием! А в какой, Савва Борисович?
– Так на выбор, Лизонька. Хочешь в ярмарочный, а хочешь – в новый. В новом-то ложи небольшие, на четверых. Вы ж не против будете, если и я к вам под крылышко тоже прилечу завтра?
– Господи, Савва! – Андрей Григорьевич всплеснул руками. – Ты еще спрашиваешь! Это ж ты нас одариваешь, это мы там сбоку пристроимся, спасибо тебе.
– Только вот что, – Савва многозначительно поднял брови. – Место-то, где государь объявиться может, так до сих пор никто и не знает. Уж я – куда он, за ним последую. Но и вам на всякий случай советую приодеться по придворному, чтоб значит, не ударить лицом-то. Вдруг чего!
– Папа! – Лиза обрадовалась завтрашнему выходу. – Я же смогу мое платье с незабудками надеть!
– Ну, вот и ладно, – радовался и Савва. – Другие ложи я тогда моему главному инженеру или его помощнику предложу. У них семейства!
– Тогда, конечно, в новый, Савва Борисович, – Лизе нельзя было отказать в прагматичности. – Зачем же нам вдвоем занимать лишние места, пусть уж хоть одно кресло только и пустует, раз будем Вас ждать!
– Так, может, я и на четвертое кресло претендента сосватаю, если не возражаете, – хитро прищурился Мимозов. – Приятель мой хороший. Тоже нынче тут, в городе. Мы с ним вместе из Москвы прибыли. Вы знакомы. Спрашивал про вас.
– Кто же это? – Лиза посмотрела на отца.
– Савва, еще раз говорю – ложа твоя, друзья твои, зови, кого хочешь! – улыбался Полетаев.
– Ну, и сговорились! – потирал руки Мимозов. – Сегодня закрутились – как с поезда сошли, так весь день и не присели. Завтра уж наговоримся! Лев Александрович это, Лиза. Хотел вам свое почтение еще сегодня засвидетельствовать, все порывался заехать, да на него дел, еще больше, чем на меня свалилось.
Савва не стал рассказывать Полетаевым, как час назад к нему ворвался Лева, потрясая какими-то конвертиками.
– Савва! Я только под вечер домой добрался, а оказалось – она мне писала! – орал он на друга. – Два раза писала! Звала, а я как алырщик последний – не явился. Что делать? Что делать теперь?
– Выпей наливочки, друг мой, – Савва только что переоделся в домашний халат и теперь сибаритствовал. – И успокойся. Кто «она», куда «не явился»?
– Савва! – Лева сел за стол и взъерошил себе волосы. – Ну, ты слушаешь ли меня? Она – это Лиза!
– Лизонька? – удивленно вскинулся Савва. – Наша Лиза? Дочка Андрея Григорьевича?
– Да! Да! Да! – Лева уже исходил нервами от нетерпения. – Она писала, может быть, хотела попросить помощи. Что там у них, не знаешь?
– Да слыхал нынче, что отец ее вроде в постриг собрался. Да не поверил. Думал, завтра сам съезжу, спрошу, – Савва тоже заволновался. – А уж, коли тебе писала, то может и так? Э-эээ.. И мне он перед отъездом какие-то странные вещи глаголил. Так что может быть, может быть… Поеду. Утром же и поеду!
– Какой «утром»! – Лева не собирался уходить вовсе. – Езжай сейчас же! Узнай все, узнай, не сердится ли она на меня. Узнай что надо. Помоги, в конце концов! Девочка же столько дней одна, а я!
– Ну, так и поезжай сам, раз тебя звали! – Савва был расположен к домашнему вечеру.
– Ну, что ты говоришь, Савва! – Лева даже хлопнул по столу ладонью. – Как я явлюсь? Под ночь? Зрассьте! Без повода, к девушке, про которую теперь точно знаю, что проживает она одна нынче. Это неприлично! А ты – друг дома. Ну, придумай что-нибудь, прошу тебя. Не сиди сиднем!
– Ох, Левка! Веревки ты из меня вьешь! – Савва отодвинул графинчик с рубиновой жидкостью и посмотрел на него с сожалением. – А мне без повода, значит, можно? Э-ээээ… Ну, ничего. Повод будет! – он позвонил в колокольчик и крикнул камердинеру: – Одеваться!
***
После грозы на Выставке, Сергей не хотел видеть не только Варвару, но и вообще никого. Он с удовольствием зарылся бы в какую-нибудь нору и там зализывал бы свои раны, а они были свежими и глубокими – во-первых, было уязвлено его самолюбие, он злился, что повел себя так по-глупому, не найдя нужных слов и позиций, чтобы не уронить себя перед этой гордячкой. Он оказался застигнутым врасплох, почему-то уверен был, что встреча их невозможна, не думал о ней вовсе. Не был готов. А Лиза оказалась выдержанней него, лица не потеряла, что злило теперь Сергея сильней всего. Он-то думал, что она будет страдать, плакать, увидев его, сгорит со стыда, взгляда не посмеет поднять. А тут: «Уходите тогда Вы!». Эти слова теперь, казалось, были написаны у него на лице и видны всякому!
Где его хваленое высокомерие? Это он теперь при встрече с ней глаз поднять не посмеет, чтобы снова не опростоволоситься. Черт побери! И еще этот град, так не к месту. И его испуг. Стыдно-то как, она же видела! И квартира его еще не готова, будет только через пару дней. Уехать бы туда!
Он придумал себе головные боли, чтобы Варвара не приставала к нему, и чтобы не отвечать на вопросы об утерянных документах. На ноге расползался синяк, что было очень кстати. Мамочкина теперь хлопотала над ним, считая, что он сильно пострадал от грозы, а виной тому ее поручения к нему. Сергей притворялся больным, а уходя мыслями в собственные переживания, стонал временами по-настоящему, от досады. Раздался звонок в прихожей, принесли записку, адресованную ему.
– Положи на тумбочку, потом прочту, – слабым голосом велел он Варваре. – И ты иди, отдохни. Я, может быть, подремлю, если голову отпустит. Иди.
Как только она вышла, он тут же распечатал конверт. Писала тетка. Не требовала в этот раз, но настойчиво просила появиться дома. У сестры случились какие-то еще неприятности, как он понял, и требовалось его присутствие. Сейчас это было ему на руку. Переночует пару дней у себя, хоть никто с опекой приставать не будет. А там, глядишь, и переедет на новый адрес. Он позвонил в колокольчик и велел Геле подать одеваться. Снова прибежала Варвара, но ей он, кряхтя как радикулитный дед, сказал что-то о семейном долге и вроде как через силу отбыл. Они договорились встретиться в четверг на его новой квартире. Делами пароходства в таком больном состоянии, конечно, заниматься не стоило. Все обождет!
Сестру он застал в слезах, что было редкостью неимоверной, плакала та только от обид. Оказалось, что на музыкальный вечер, сочиненный ею собственноручно, не явился ни один из приглашенных, хотя часть гостей, особо важных и значимых в городской элите, она объездила сама. Из них отписались с извинениями всего двое. Остальные даже не посчитали нужным оповестить о своем отказе. Таня прощалась со своей репутацией болезненно, осознав всю серьезность положения. Тетка даже не корила ее больше, видя искреннее расстройство племянницы. Что можно было предпринять еще?
Можно было уехать из города и подождать, пока все несколько забудется. Но уехать Таня могла только к отцу, а это для нее было еще хуже, чем сегодняшнее положение. Тоска. Гарнизон. Домашний арест. Можно было отправить ее в сопровождении брата за границу, но про эту возможность Удальцова даже не заикалась, понимая, что вдвоем они там накуролесят так, что и уезжать уж станет некуда. Москва? Петербург? Это требовало ее собственного присутствия рядом, а пока она никак не могла оставить дела в Нижнем. Стало быть, надо пытаться делать все возможное тут, что бы хоть как-то восстановить Танино реноме. Приезд императора был таким поводом.
– Изволь вывести сестру на люди, – обратилась Гликерия Ивановна к Сергею. – Я бы сама, да завтра я должна присутствовать на ужине у губернатора, отказать нельзя. Прошу тебя. Ты же можешь пожертвовать одним вечером и сходить в театр?
– Да, тетушка! – Сергей здесь головных болей не изображал, вид имел свежий и здоровый, даже бравый. – Я и сам собирался, за мной же всегда остается место в рядах, выкупленных нашим литературным клубом на сезон, но если надо…
– Надо, голубчик. Я взяла два кресла в партере. Послать завтра за тобой карету?
– Не стоит, тетушка. Если не возражаете, я переночую здесь?
– Да, бог с тобой, Сергей! Все комнаты твои за тобой, ты же сам ушел. А желаешь – возвращайся, я тебя никогда не гнала. Живи, сколько хочешь!
– Только пару ночей, тетушка. Скоро будет готова моя квартира. Служебная.
– Ты поступил на службу? – Удальцова удивилась не на шутку. – Где же?
– В одном крупном пароходстве, – скромно потупился племянник. – Управляющим делами.
– Ты-ыыы? – только и протянула тетка, но тут же собралась и сказала. – Ну, славно, славно.
***
Театральный зал сверкал огнями и отблесками. Публика сегодня была сплошь в бриллиантах и нарядах особо ослепительных. Все театры города, и новый не составил исключения, наполнились людьми, жаждущими встречи с высочайшими особами. Даже на галерке вы сегодня вряд ли заметили бы бедного студентика или затрапезную горничную. Казалось, зал заполен был одними только камергерами да придворными фрейлинами, из сундуков достали все самое представительное, богатая публика пошила себе наряды специально для этого случая. Лишь репертуар сегодняшнего вечера в новом театре оставлял малую надежду на то, что император выберет именно его для вечернего посещения. Постоянной труппы на театре до сих пор не было. Давали не одно солидное произведение, а набрали в кучу какую-то оперку, да еще пару драматических пьесок. Сборная солянка.
Но все равно, надежда не покидала всех присутствующих до самого начала представления. Все взоры были прикованы к двум ложам, будто кабошоны впаянных в оправу сцены по ее бокам – директорской и губернаторской. Если высокие гости и появятся здесь, то скорей всего им уступят одну из них. Тем более вся публика знала, что для свиты из Петербурга губернатор дает сегодня торжественный ужин, а, значит, сам воспользоваться своей ложей точно не сможет. Все пребывали в ожидании.
Лиза с отцом миновали обе двери центральной ложи первого яруса и заняли следующую за ней – в левой стороне. Вся сцена, весь партер предстали перед ними как на ладони. Амфитеатр опоясывал зал белоснежным овалом, плафон на потолке вторил этой форме, превратившейся по центру в круг, золотые лучи на лазурном поле лишь оттеняли чистоту белого цвета окантовки. Голубые кресла как будто ловили отсветы этого искусственного небосвода, а изящная люстра свисала, поблескивая хрустальными искрами. Электрическое освещение заливало каждый уголок зала, все рассматривали друг друга, многие не торопились занимать свои места, а, встретившись со знакомыми, обменивались приветствиями или стояли в проходах, чего-то ожидая.
– Лизонька, располагайся, – отец указал дочери на кресло в первом ряду у самого барьера. – Ты не будешь против, если я на время оставлю тебя?
– Ты надолго, папа?
– Зайду в буфетную, после посмотрю, не появится ли в фойе Савва Борисович. Тебе принести чего-нибудь? Может, шампанского?
– Нет-нет, папа, ничего не надо, – Лиза аккуратно расправила складки длинного платья, подобрала незабудковый пояс и присела на краешек кресла. – Ты иди. Мы приехали загодя.
Отец ушел, а Лиза стала рассматривать зал и публику. На нее тоже многие бросали свои взгляды, или даже бесцеремонно наводили бинокли, но никого из знакомых она не заметила. Вот стали заполняться ложи их яруса. В правой из них, что была ближе всех к сцене, отворилась дверь, и вошли сначала две девушки, а за ними семейная чета средних лет, видимо их родители. Пока они рассаживались, Лиза узнала в той барышне, что была повыше свою одноклассницу, та тоже заметила ее. Они приветствовали друг друга легким наклоном головы и движением сложенного веера, как их учили в Институте. Ах, этот веер, эти перчатки! Лиза так и не сумела привыкнуть к ним.
И обе ложи, выходящие на сцену, постепенно заполнялись гостями. Среди них был сам директор театра, несколько банкиров, два генерала, их дети и жены. Но никого похожего на императорскую чету не наблюдалось. По залу разнесся легкий шум разочарования.
Лиза рассматривала партер. Он уже тоже был почти заполнен, вот-вот раздастся первый звонок. Тем заметнее было, как в пятом ряду образовалось пустующее пространство возле одинокой дамы. Возможно, что все стоявшие в проходах и были зрителями именно с этого ряда, но никто из них почему-то не спешил занять место рядом с ней. Дама была, судя по фигуре, молодая, Лиза видела ее напряженную спину и каштановые кудрявые локоны, уложенные в замысловатую прическу. Лиза потянулась за биноклем, что лежал на кресле рядом с ней, чтобы лучше рассмотреть, потому что что-то неуловимо знакомое померещилось ей в осанке той дамы. Но, ах, какая она неуклюжая! Бинокль чуть не выскользнул у нее из пальцев. Это все шелковые перчатки!
Лиза оглянулась по сторонам. Ложи разделяли тонкие деревянные перегородки, чуть скошенные ближе к барьеру, но видеть ее вблизи никто с соседних мест не мог. Она рискнула снять длинные, выше локтя перчатки, которые мешали ей неимоверно. Лиза пальчик за пальчиком освобождалась от них, стянула одну полностью, вторую и повесила их на дубовый бортик перед собой. Стало значительно свободней! Она встала и, уж было, снова взялась за бинокль, но тут и невооруженным глазом заметила, и тот час же узнала его. По проходу партера, направляясь к сцене, прямо перед ней неспешно шествовал Сергей Горбатов. Он поклонился кому-то издалека, сделал еще пару шагов и замер, глядя на ту же даму, что и Лиза перед этим. Потом, как бы передумав, развернулся и стал оглядывать сначала кресла амфитеатра, потом поднял глаза выше.
Лизу охватило инстинктивное желание присесть, исчезнуть, скрыться с его глаз. Но она, вспомнив неприятную сцену в оранжерее, тут же взяла себя в руки. Пусть глядит! Она не должна прятаться, она не сделала ничего дурного или постыдного. Она имеет полное право высоко держать голову, пусть на нее смотрит хоть весь свет!
Но как ни сильна была ее воля, Лизу все-таки настигло леденящее оцепенение, когда сразу после этих ее мыслей, все глаза зала обратились именно на нее! Люди оборачивались, вставали с кресел, перешептывались и… И все как один смотрели теперь на ложу первого яруса. Лиза ничего не понимала, лишь чувствовала только, как по ложбинке ее спины крадется скользким ужом холодный страх. И впрямь колдовство какое-то и есть, чуть не плакала она. Что же это такое? И где же папа!
Всеобщее внимание становилось невыносимым, но тут заскрипели кресла в соседней ложе, там же послышались голоса и весь зал разразился аплодисментами. Лиза вообще перестала понимать что-либо, ноги ее подкашивались, и ей захотелось рухнуть обратно в кресло. Видимо, скованное неловкостью тело совершило какое-то стесненное движение, и незабудковый пояс задел висящие на поручнях перчатки. Одна светлой змеей сразу же сползла на пол, к Лизиным туфелькам, а вторая медленно, как во сне, стала стекать в партер. Лиза не успела даже испугаться, а смогла лишь заметить молниеносное движение, синее сукно рукава, обшитый форменный обшлаг и метнувшуюся кисть руки в белоснежной перчатке, поняв, что только военная выправка позволила обладателю мундира на лету подхватить ее беглянку. И вот уже протягивая ей двумя пальцами перчатку, за загородку заглядывает улыбающееся лицо, так знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам. Вспомнился отчего-то голос Вершининой: «Медам! Если Вам посчастливится встретить высочайших особ, заклинаю – никаких книксенов! Соберитесь! Полный глубокий реверанс, не позорьте Вашу madam!»
– Прошу Вас! – произнес мягкий мужской голос, и Лиза опустилась в реверансе, на секунду коснувшись высочайшей руки.
– Благодарю Вас, Ваше императорское величество! – ответила она и, как ни быстротечно было все происходящее, еще успела подумать, что вот так и запомнит государь нижегородскую дурочку с голыми руками, что роняет при его появлении перчатки на голову зрителям, и добавила: – Прошу простить мне мою неловкость.
– Ничего, мадемуазель, с каждым случается, – ответил император и тут свет в зале стал меркнуть.
На помост вбежал дирижер, оркестр встал, зрители сели. Постучав смычками по пюпитрам, приветствуя высоких гостей, оркестр тоже сел, зазвучала музыка, представление началось. Через пару минут открылась дверь ложи, и вошли сразу трое мужчин. Лиза продолжала оставаться в каком-то завороженном состоянии и воспринимала все происходящее, как будто это было не сейчас, не здесь и не с ней. Она обернулась, после машинально попыталась надеть перчатку, которую до этого так и держала в руках. Потом удивленно посмотрела на свою оголенную левую руку. К ее ногам тут же метнулся Лев Александрович, который разглядел светлое пятно на полу, и подал ей вторую перчатку.
Чтобы не шуметь, они так и сели, кто, где оказался – Борцов рядом с Лизой, ее отец и Мимозов у них за спинами. Полетаев не выдержал, нагнулся и зашептал дочке в ухо:
– Лизонька, прости, что так долго, но там никого не пускали! Перекрыли коридор на время прохождения государя и свиты. Ты знаешь, Лиза, что они тут, вот за этой перегородкой?
– Знаю, папа, – обернувшись, так же тихо отвечала Лиза. – Мы разговаривали.
Отец недоуменно посмотрел на нее в темноте, но переспрашивать сейчас ничего не стал. Лиза смотрела на сцену, но если бы кто-нибудь спросил у нее позже, что именно давали в тот вечер, она вряд ли смогла бы припомнить. Она с какой-то минуты и вовсе престала слышать реплики актеров, потому что в голове у нее все отчетливей крутилась откуда-то прилетевшая фраза: «Царь – на правую, суженый – на левую!»
***
А Татьяна Горбатова, сидя в пятом ряду партера, испытывала, быть может, впервые в жизни, страдания душевные. Она заметила, что вокруг неладно почти сразу – как только они с Сергеем вошли в фойе. Никто с ними не раскланивался, никто не перемолвился ни словом, встречные знакомцы отводили глаза. Усадив ее в кресло, братец тут же исчез. Сначала пустующие места в ее ряду не казались вызовом, много людей переговаривалось друг с другом у сцены и в проходах, но по мере заполнения зала, это становилось очевидным. Таня подняла глаза, и справа в ложе заметила свою одноклассницу с сестрой, улыбнулась, радуясь встрече. Но та, лишь скользнув по ней взглядом, тут же отвернулась и что-то стала говорить родителям, сидящим во втором ряду. В партер она больше не посмотрела ни разу. Из соседней ложи на Таню пялился какой-то корнет. Его лицо показалось ей смутно знакомым, но взгляд молодого человека был настолько навязчив, настолько контрастировал со всем остальным, происходящим с ней сейчас, что от него становилось и вовсе худо. Таня вперила глаза в закрытый занавес сцены и более не шевелилась.
Щеки Танюши загорелись огнем. Она физически ощущала теперь пропасть, которая образовалась между ней и всем этим жестоким, глупым, пафосным и напыщенным залом, который вычеркнул ее из своих списков, сделал в мгновение ока изгоем, брезговал даже сесть с ней рядом. Она услышала, как публика, забыв про нее, переключилась вниманием на что-то иное, происходящее сзади, но повернуться и посмотреть, сил у нее не было никаких. Все силы ушли на то, чтобы сидеть тут, гордо выпрямив спину, не убежать и не разрыдаться от досады. Если бы она могла, она заставила бы себя даже не краснеть, но это было не в ее воле. Затаив дыхание, подобно ее Спящей Царевне, она почти неживая сидела и терпела пустые кресла рядом с собой. Наконец, опустилась блаженная темнота, публика вынужденно заняла свои места. Надо было дождаться хотя бы антракта. Ладно, они все! Но братец?
Лишь только свет зажегся вновь, и кресла рядом с ней тот час же опустели, Таня встала и, гордо вскинув голову, направилась к боковым дверям. Уже почти при выходе из зала она, хоть и не смотрела по сторонам, но заметила брата в амфитеатре, он болтал с группой молодых людей, часть из которых была в мундирах. Таня остановилась в проходе и посмотрела на них, разговор прервался, собеседники Сергея стали отворачиваться и выходить в фойе, лишь один наклоном головы обозначил свое ей приветствие.
– Отвези меня домой, – бросила Татьяна брату и тут же вышла вон.
Найдя свою карету, она села в нее и ждала, правда недолго – Сергей появился почти следом за ней.
– Прости, встретил приятелей, заболтались, – Сергей устроился на сидении напротив. – А как погас свет, то было уже неудобно пробираться в партер. Ты видела императора? Я уже хотел идти к тебе, когда ты меня нашла. Почему так рано уходим?
– Не юродствуй! – Таня кусала губы. – Ты все видел.
– Извини, я думал, может, ты не заметишь. Не хотел тебе делать больно лишний раз.
– Ах, как это по-братски! – ехидствовала Таня. – Какая забота.
– Ты можешь злобствовать сколько угодно, как видишь, это мало что меняет, – мягко и почти сочувственно на сей раз сказал ей брат.
– Что мне делать, Сергей?
– Лучший выход был бы – уехать, пока все уляжется.
– Куда? – усмехнулась Таня. – Я уже думала об этом. К отцу не поеду.
Они помолчали.
– Ну, я не знаю, – задумчиво протянул Сергей, тем самым давая понять, чтобы о его сопровождении сестра даже не заикалась. – У меня сейчас все мысли о новой службе, прости.
– То есть и не с кем, и не на что, – горько усмехнувшись, констатировала Таня.
– Может быть позже, как закроется Выставка? – у Сергея загорелись глаза, он явно решил воспользоваться ситуацией. – Таня! Но тогда нам надо накопить побольше своих средств, тетка вряд ли отпустит нас вместе после того, что было. Тем более не благословит и денег не даст.
– Ты что, пустишь на это свое новое жалование? – недоверчиво спросила сестра.
– Ну, – запнулся Сергей, но потом вырулил. – А почему бы и нет, черт возьми? Мне тоже все надоело в этом городишке, я с радостью уехал бы в Европу, хоть на сезон, хоть навсегда.
– С сестрой? – ехидно уточнила Таня. – С чего бы такая братская жертвенность? У тебя же есть дама, как мне кажется.
– Ах, Таня, – отмахнулся пренебрежительно брат. – С той дамой ехать все равно, что с нашей тетушкой.
Таня засмеялась. Впервые за последние несколько дней.
***
– Ты пугаешь меня, друг мой любезный! – Савва восседал в своем рабочем кресле, за столом в домашнем кабинете. – Давай-ка, собирайся, вечером едем.
– Нет, Савва, я остаюсь, – Лева был где-то в своих мыслях и пару раз до этого отвечал другу невпопад, чем и вызвал его недоуменный упрек. – Все равно отпуск мой через неделю заканчивается, что уж мотаться туда-сюда. Да и в Москве я все нужное переделал, строительство твое начинать рано, ты ж еще бумаги не оформил? Ну, так-то.
– А то бы прокатились снова? – мечтательно уговаривал Савва. – За чайком, да за беседой. Я страсть как люблю наши с тобой дорожные разговоры, Левушка. Ну, как знаешь. А я нынче уж собрался. Император-то с сопровождением еще вчера отбыли. А мои мысли все теперь там, в Москве. Я за эти дни тут успел кое-что лишнее с рук сбыть, пару фабричек продал, да ту маслобойню. Большой завод пока за своим семейством оставляю. Эх, женился бы ты, друг мой, на моей дочке, породнились бы – на тебя переписал бы.
Услышав про женитьбу, Лев Александрович вышел из своей задумчивости и улыбнулся.
– Что это тебя разобрало, Савва? Как ты себе представляешь нас с Аришей вместе? – улыбка так и расползалась по лицу друга всей семьи Мимозовых. – Она «свой парень», Савва, мы с ней дружим.
– Ну, не желаешь гренадера моего, так Аглайку бери, она тебе под стать – такая же мечтательница.
– Савва! Прекрати, – Лева перестал улыбаться. – Я и помыслить о том не могу, ты ж знаешь, вы все мне уже как родня лет сто! Твои девочки, все равно, что мои. Они на глазах моих выросли, я их, почти что всех, «с пеленок» помню.
– Да знаю, знаю, – вздохнул незадачливый сват. – Это я так. Мечтаю. Не сердцем – умишком своим расчетливым. Не сердись.
Вошел слуга и доложил о визитере:
– К Вам господин Погодин, барин. Примете?
– Кто таков? – поинтересовался у Саввы Борцов. – Мне выйти?
– Да как хочешь, Левушка. Вряд ли ты нам помешаешь, если только господин помещик сам секретничать не пожелает. Это еще один пайщик Товарищества Полетаева. Вот, кстати, там я за собой членство тоже пока мест оставляю! Проси, – кивнул он доложившему слуге.
Вошел господин, лет примерно Левиных, может чуть старше, поклоном приветствовал находящихся в кабинете и хозяина, и незнакомца, Савва представил их друг другу. Присев, посетитель, поглядывая искоса на Борцова, нехотя начал свою речь.
– Простите за вторжение, Савва Борисович. Я с оказией в город, вот решил заскочить.
– Да Вы не стесняйтесь, голубчик! – добросердечно напутствовал его Савва. – Лев Александрович – это мой ближайший друг и соратник, я от него тайн не имею. Поужинать с нами останетесь?
– Нет, нет, – сразу же отказался гость. – Я буквально на пару слов, надо бы… посоветоваться.
– Стряслось что? – Савва приготовился слушать.
– Да даже не знаю, с чего и начать, – уже вольготнее докладывал вновь прибывший. – Решил с Вами поделиться своими сомнениями, любезнейший Савва Борисович, хотя и знаю, что Вы дела свои в нашей губернии потихоньку сворачиваете, так что, возможно, Вашего интереса тут и нет вовсе. Но на душе как-то неспокойно мне. Уж утешьте личным подтверждением, уймите совесть мою, прошу Вас!
– Видишь, Лева, с какой скоростью у нас известия расходятся, – засмеялся Савва, а после, уже вполне серьезно обратился к гостю: – Совесть, голубчик, она – важнейшее проявление души человеческой, так что чем могу! Но давайте ближе к делу.
– А дело, уважаемый мой сотоварищ, в наших долях. Я по поводу их продажи.
– Так почему ко мне, голубчик? – недоуменно приподнял брови Мимозов. – Для того председатель имеется, да предписанная по уставу процедура.
– Так в том и загвоздка! – Погодин весь устремился в сторону собеседника, пересев на самый краешек кресла. – Меня в город Тимофей Михайлович запиской вызвал. И хоть дел сейчас в усадьбе невпроворот, я на пару деньков вырвался, потому как он уже, вроде как, и покупателя сыскал. Вам о том что-то ведомо?
– Никак нет, голубчик, – видно было, что Савва озабочен ситуацией не на шутку. – Впервые от Вас о том слышу!
– Так вот и я… Как ни Вас, ни Натальи Гавриловны на том сговоре не застал, так меня сомнения мучить и стали. Вот потому я и вторгся к Вам, уж, простите.
– Тимофей Михайлович – это урядник при становом, Левушка. Теперь ты уж всех наших пайщиков поименно знаешь! Так что он там учудил? – снова обратился к гостю Мимозов.
– Он мне крайне странную вещь поведал, Савва Борисович, – Погодин запнулся. – Что вроде как Андрей Григорьевич этот мир изволили покинуть, да в монастырь отбыли. Так что связаться с ним нет никакой возможности, а Вас сие больше не интересует вовсе. И что Товарищество со дня на день прогорит в пух и прах, а тут есть оказия хотя бы свое вернуть. Что скажете?
– И кто ж такой оборотистый объявился? – Савва откинулся на спинку кресла и Лева заметил, как стали ходить у него желваки под кожей, тот злился. – Что по себестоимости желает пай получить?
– Англичанин некий, – опустив взгляд, рассказывал Погодин. – То мне сразу подозрительным показалось, так что я прямого ответа не дал, попросил до завтра отсрочки. А дольше мне в городе никак нельзя оставаться, дела моего присутствия дома ждут.
– А помните ли Вы, милостивый государь, да Ваш первейший приятель Тимофей Михайлович, что в уставе Товарищества черным по белому записано? – начал повышать голос Савва. – Что ни один пайщик не может своей выгоды на стороне искать, прежде не предложив выкупить долю любому из участников конфессии лично? Либо – по решению общего собрания – в собственность Товарищества, без выделения частей оную приобрести, в общее пользование? А?
– Савва, не бушуй! – попытался сдержать приятеля Лева. – Человек для того к тебе и прибыл, чтобы поделиться. А ты на него рычишь с порога!
– Простите меня, други мои, – слегка приостыл Мимозов. – Да просто зла не хватает! Андрей Григорьевич жив-здоров, в твердом уме и ясной памяти, сам нынче мне предлагал собрание созвать, да я, дурень, его отговорил! Нечего говорю занятых людей по пустякам отрывать. А они – на тебе! За спиной у него делишки обтяпывают!
– Савва Борисович! – гость с достоинством привстал и выпрямился. – Вы бы уж выражения-то выбирали, право слово! Я такого отношения ничем вроде бы пока не заслужил!
– Простите, простите, милый мой, – Савва как и заводился, так и отходил мгновенно. – Да садитесь, садитесь, в ногах правды нет. Вспылил, прошу принять извинения. Так что, собственно, Вы предполагаете делать? Действительно хотите долю свою иноземцу сбагрить? Так не верите в успех Полетаевских начинаний?
– Да Бог знает, как все повернется, – честно, не юля, отвечал Погодин. – А мне риски лишние не нужны, Савва Борисович, и головная боль тоже. Да и деньги эти сейчас вовсе не помешали бы, мне технику на тот год закупать надобно, а Вы ж знаете, что с пошлинами ничего не решено пока мест… Да… Такие вот дела! Вы уж перед Натальей Гавриловной и перед Андреем Григорьевичем при оказии за меня извинения попросите, а то мне им в лицо смотреть совестно будет. Поверил. Не знал, как дела на самом деле обстоят. Председатель, значит, в городе нынче? А ее? Ее значит, и вовсе стороной обойти хотели? Ах, стыд какой!
– Да не корите себя, голубчик! – теперь Савва всей душой желал успокоить совестливого собеседника. – Это отношение к женщинам повсеместно еще довлеет в наших деловых кругах. Позор, и не говорите! Азиатчина! Я и сам-то иногда… Да-а… Э-ээ-ээ.. Вот наперекор всему возьму, да на дочку завод и оформлю! Чтоб не повадно было! Знай наших!
– Вот как чувствовал я! – апеллировал теперь ко Льву Александровичу визитер, тот лишь согласно кивал в ответ. – Не зря сердце ныло.
– Так твердо решили со своей долей расстаться? – спросил Савва.
– Да я с ними дел никаких иметь не желаю больше! – воскликнул гость. – Чуть не замарали меня в этаком дерьме, прости господи. Извините, господа, за выражение. Накипело.
– Да ничего, ничего, все понятно, – успокоил его Лева.
– Так хотите, я у Вас пай выкуплю? – предложил Савва. – По всем правилам, по совести, ничего не нарушая. Вот прямо сейчас. Сегодня! Пошлем за стряпчим, а к вечеру уж и домой отправитесь?
– Савва Борисович! – гость вскинул взгляд с надеждой и воодушевлением. – Это было бы прекраснейшим разрешением ситуации. А то мне и видеться с ними завтра противно, честное слово. А так отпишусь, да уеду. Ну их, еще объясняться. Они того не стоят!
– Ну, и по рукам! – Савва потер ладони. – На какую сумму, Вы, голубчик рассчитывали?
– Тут никаких выгод искать не стану, как и сказал – вступительный взнос, да прибыль за этот год, вот все на что рассчитываю.
– Честно, честно, голубчик. На том и поладим.
Когда, через пару часов, гость ушел, Лева спросил друга:
– Тебе это зачем, Савва? Из принципа? Или желаешь контрольным пакетом владеть? Теперь же у тебя самая большая доля, так ведь?
– Не так, Левушка, – довольно улыбался чему-то Савва. – Я эту долю не на себя, я эту долю на одну барышню выкупил и записал. Из принципа, это ты верно подметил!
– На барышню? – удивился Лева. – Тоже дочкам?
– Точнее дочке! – хихикал Савва. – Деньги для меня малые, а удовольствия – море! На дочку Андрея Григорьевича оформил, пусть у них в семье дело остается. Полетаев в него всю душу вкладывает! Я-то знаю. Пока Лиза несовершеннолетняя, я все равно одним из ее поручителей числюсь, ее отец перед монастырем так оформил. Им до поры не открою, а как время придет, то ей как приданое пойдет. Не откажутся! Подарю. Э-эээ… Ну, если к тому времени… – Савва махнул рукой и замолчал на полуслове.
– А что? – осторожно спросил Лева. – Дела его действительно так плохи?
– Ох, Лева! – вздохнул Мимозов. – Боюсь, что еще хуже, чем говорят. Ты ж его гордость знаешь! Похлеще твоей станет! От него разве что услышишь? Думаю, что он всем, поди, рискнул – вижу по переписке, каков масштаб затей его. Исследований да новых разработок. Это не одной такой доли стоит! Ежели отдачи в ближайшее время не случится, боюсь, по миру они пойдут, все имущество с молотка пустить придется. Так-то вот, друг мой. Только умоляю! Пощади гордость старика, не упоминай при нем об этом. Я сам не смею. Он и не знает, что я догадываюсь. Я тебе по секрету, как близкому человеку доверился. Уж, не подведи!
– А есть ли надежда, что все еще обойтись может? – с искренней озабоченностью спросил Лева.
– Судя по интересу в этом деле англичан, есть даже больше, чем надежда, – уверенно прогнозировал Савва. – Поживем – увидим!
***
Отец и дочь медленно шли по подъездной аллее своей бывшей усадьбы от особняка к воротам. Лиза огляделась. Еще сильно щемило от той неудачной прогулки, хотя боли уже не было, осталась только досада. Но и беспечная радость, какая бывала здесь в детстве, о которой грезилось в стенах Института, так и не вернулась больше. Летний визит, окончившийся так плачевно, стер, заслонил собой безмятежность воспоминаний. Новые же дни, один за другим как бусины, собирающиеся на нить нынешнего лета, в свою очередь делали воспоминаниями и то происшествие.
– Все-таки не надо было заходить в дом, – прервала молчание Лиза. – Я теперь поверила окончательно, что он нам больше не принадлежит. Эта пыль. Эти чехлы на мебели, на портретах.
– Ты, Лизонька, просто приезжала всегда, когда комнаты уже отмывали к лету, – отвечал Полетаев. – А на зиму всегда так делали – укрывали все. Господину управляющему так хотелось сделать тебе приятное напоследок. Он то и сообщил мне, что дом выкупил некто, пожелавший остаться неизвестным, сам он не знает нового хозяина, ему сообщи лишь то, что его место и обязанности по-прежнему остаются за ним. А приобрели все заочно, на смотрины никто не являлся. Ты уж не говори ему, что расстроилась.
– Я не могу сказать, что я расстроилась, папа. Просто как будто точку кто поставил. И белый рояль – совсем чужой. Даже сесть за него не хотелось.
– Ой, ли? – спросил отец.
– Да так, папа, – Лиза взяла его под руку и положила голову на плечо Андрея Григорьевича. – Но мне спокойно сейчас.
Они вышли из ворот.
– В Луговое? – подняла глаза на отца Лиза. – Или…
– А давай, дочь, прогуляемся до маминой скамьи! – угадал Андрей Григорьевич. – Я сегодня чувствую прилив сил.
Лиза снова прижалась щекой к его плечу, и они свернули в сторону города. На дороге попадались еще не желтые, но уже жухлые отчего-то листья. Пахло осенью.
– А что земли? Луга? Деревни?
– В закладе. В рассрочку. Банк ждет с процентами, – Полетаев вздохнул. – Лиза, мне жаль, что именно домом я решил пожертвовать сразу, а на остальное имею надежду вернуть. Прости.
– Папа, почему «прости»? Мне же есть, где жить. Ты так решил, значит так правильней, – она подняла взгляд на отца. – А почему именно деревни, ты скажи мне, я хочу понимать, как ты думаешь?
– Помнишь голод лет пять назад? – Полетаев посмотрел за реку, они только что миновали Комариный спуск. – Ты уже была не такая маленькая, должна помнить. Так вот. Наши деревни и Луговое были чуть ли не единственными по уезду поселениями, которым удалось избежать детской смертности. Потому что я предвидел и организовал запас. И поля запахивали попеременно. А убедить арендаторов вести хозяйство разумнее, не всегда удается словами. Нам повезло, что прошлый и нынешний год такие благополучные и пока все идет само собой. Я хочу держать все, что только удастся, под контролем, чтобы потом не болела душа. Но это, если Бог даст. Так что главное – это там, где люди.
– А что в мастерских, папа? Что с докладом?
– В мастерских тоже не все ладно, дочь. Никогда не видывали мы этой заразы прежде, а тут нате вам… Листы, Наташа говорит, какие-то подкинули. Кто выбросил сразу, кто ей принес, а кто и прочитал от корки до корки.
– Что за листы, папа? И почему «зараза»?
– Да социалисты всё… Воззвания пишут, мутят рабочих. Многие поддаются, впадают в сомнения. У нас-то все до того довольны были, а как начитались, так разброд среди мужиков пошел. Неладно!
– Откуда ж они взялись, папа, эти призывы? Я слышала, что бывают распространители, но это же на больших заводах. Как у Саввы Борисовича, например. Так их разыскивают, ловят… А у нас-то в глуши, откуда им взяться? Ведь тут все друг друга в лицо знают.
– Да, понимаешь ли, дочь, – Полетаев запнулся. – В том еще и расстройство, что обнаружила это Наташа только после возвращения Мити.
– Папа! – Лиза изумилась. – Вы считаете, что это он принес? Откуда? Его не только в городе, его несколько месяцев в стране не было! Уж не думаешь ли ты…
– Да, Лиза, так… Он сам тоже все отрицает. Но… Хотя «после», и не значит «вследствие», но…
– Что, папа, «но»? – Лиза защищала друга детства, уверенная в любом человеке, пока он сам не докажет ей обратное. – Это же Митя! Наш Митя. Как вы можете! Это не у мужиков, это у вас какие-то неправильные сомнения.
– Ты права! Мы мало доверяем вам, дети, – отец с гордостью взглянул на свою дочку. – Но как ты вступилась за «жениха»! Молодец, дочка. Оставим это. Все разъясниться когда-нибудь само собой.
– Так как там дела, помимо брожений в умах, папа?
– С заказами не густо, дочь. И доклада скорей всего не будет. Съезд все больше смещает свои интересы в сторону пересмотра таможенных тарифов. Сельское хозяйство приоритетней производств оказалось. Я съездил на собрание, послушал. Тут не до моих изысканий. Но посмотрим, посмотрим.
– Ты расстроишься, если доклад не состоится, папа? – Лиза внимательно вглядывалась в лицо отца. – И не думай схитрить, чтобы меня саму не расстроить. А то снова как раньше будет!
– Нет, Лизонька, – Андрей Григорьевич улыбнулся ее проницательности и успокаивающе погладил ладонью руку Лизы. – Как раньше не будет. Я все никак не мог понять тогда, что и ты уже выросла, да и я не тот вовсе. Довольно мы друг друга щадили по делу, и не по делу. Так что вот, чуть не потерялись вовсе. Что смогу, я буду говорить тебе. Открыто. Пусть больно, пусть даже страшно. Поймешь, так поймешь, значит, вместе выплывать станем. А нет, то хоть не будут давить на меня невысказанные сомнения. Ты как?
– Я папа, за то, чтобы выплывать вместе.
– А ты, Лизонька, все-все мне рассказывать будешь?
Лиза надолго задумалась. Они как раз шли мимо того злополучного места, где Лиза плела венки и терялась в буйстве высоких трав. Теперь все было выкошено, и поляна казалась совсем мелкой и голой. Отец и дочь свернули за поворот, откуда летом вышли косцы, спугнув Лизино несостоявшееся свидание. Она вспомнила Нину, ее слова про то, что своих надо щадить, про то, что со всем сказанным тем приходится «что-то делать».
– Нет, папа, – медленно подбирая слова, отвечала Лиза, стараясь, чтобы отец ее понял как можно лучше. – Не все. Все не смогу, прости. Но, если выплывать вместе, то тогда конечно, скажу!
Полетаев в ответ одобрительно похлопал по ее руке.
– Все верно, дочь. Все верно! Это ответ повзрослевшего человека. Всегда остается что-то, что никому высказать не получится. Это я теперь знаю. Ты спрашивала про доклад – конечно расстроюсь. Даже не столько за себя – такой труд проделан, столько было переписки, проб, ошибок, удач. Это же не только железки, это – люди, Лизонька.
– Я так хочу, папа, чтобы у тебя все наладилось!
– У нас, Лизонька. У нас, – Полетаев не обиделся на отстраненность дочери, понимая, что сам долгое время отодвигал и ограждал ее ото всех живых соприкосновений с мастерскими, а видя лишь бумаги да выставочные образцы, она и не могла почувствовать свою полную к ним принадлежность. – Завтра пойдем, я тебя с мастерами и рабочими познакомлю, сама все увидишь. А их труд – это, в конце концов, и Наташино благополучие, и Митина учеба и других пайщиков завтрашний день. И наш с тобой, тоже.
– Да, папа, конечно, – Лиза все равно говорила так, будто речь шла не о насущном, а о чем-то далеком или чужом.
– Лиза! – Полетаев внимательнее всмотрелся в лицо дочери. – Лиза, честно скажу, мне не нравится такое твое спокойствие. Ты ко всему так ровно относишься, что, прости, в твоем возрасте минимум подозрительно.
– Папа, папа! – засмеялась Лиза. – Ну, причем тут возраст? Вот только все обговорили, и снова – подозрения. Просто я такая. Разве я когда-нибудь… Папа, скажи, а какой была мама? Я помню ее всегда спокойной, рассудительной. Это так?
– А, знаешь, дочка, – задумался, вспоминая, Андрей Григорьевич и остановился, опершись на рукоять трости, – а ведь я действительно сейчас не могу вспомнить ни одного случая за все годы, что мы были вместе, чтобы она вышла из себя, или была раздражена. Возможно, ты права, и это в тебе от нее, я не задумывался раньше. Но, все-таки…
– Что, папа? – улыбалась Лиза.
– Все же твоя молодость… – они продолжили путь. – Ты столько лет была вдали от меня! Те летние дни, да редкие праздники – это так мало, чтобы понять, хорошо узнать друг друга. Ты взрослела, менялась. Сейчас ты окунулась в эту жизнь… Эти недели, пока меня не было, ты жила без опоры, самостоятельно. И так все спокойно у тебя? Даже встреча с государем не всколыхнула, как мне показалось, твоих чувств, – тут он тоже улыбнулся и посмотрел на Лизу. – Другие барышни в обморок от счастья попадали бы, а ты, вроде как, и не почувствовала ничего. А, дочь?
– Ну, папа! Ну, зачем мне в обморок? – Лиза остановилась, сошла с тропинки, сначала погладила доски скамейки ладошкой, потом пригласительным жестом указала на нее отцу, тот присел. – Ну, вот и дошли! А я почувствовала, честно. И еще подумала, как стыдно перед maman, она нас столько лет с этим реверансом муштровала, а что кто-то без перчаток может перед высочайшей особой показаться, даже подумать не могла. Вот стыд то!
– Господи, Лиза, причем тут перчатки! – отец смотрел на спокойно улыбающуюся дочь и все не мог понять, есть там что-то за этим, или она действительно чувствует все так поверхностно, а потом сел и, глядя перед собой, сказал, казалось, невпопад: – Да, девочка моя… Как же тебе не хватает материнской любви! Тут я бессилен.
***
Лиза молча обошла скамью и обняла отца за шею, сзади, уткнулась ему в плечо и лица его теперь не видела.
– Посиди со мной, Лиза, – отец похлопал обнявшую его дочь по руке. – Я так долго готовился к подобному разговору. А тут такое чудное место! Мне теперь кажется, что стоит только подняться на холм и посидеть наверху, глядя на простор перед тобой – или за реку, или просто на небо – как тут же приходят решения, которых ждал так долго, или ответы, которых не ждал вовсе. Надо бы на каждом холме поставить по скамье! Как думаешь, дочь?
– И жизнь людей изменится к лучшему, да, папа? – улыбалась Лиза. – Так к чему ты так долго готовился?
– Так и не скажешь мне, что все-таки тогда произошло? – произнес вслух Полетаев давно затаенный вопрос и глубоко вздохнул.
Лиза не стала переспрашивать «Когда тогда?» или делать вид, что не поняла. Сейчас это было так неуместно здесь, да и не нужно. Она села рядом и помолчав немного, подняла спокойный взгляд на отца. Тот, склонив голову набок, тоже поглядел на нее открыто, во взгляде вопроса не было вовсе.
– Да к чему теперь, папа? – Лиза снова смотрела на реку внизу. – Все утекло, все прошло. Как и не было ничего.
– Как же не было, Лизонька? Я же знаю, что тебя тогда обидели. Скажи, ведь в этом замешан… Мужчина?
– Это уже прошло, папа, – твердо отвечала дочь.
– Но я хотел бы знать его имя. Мне невыносимо думать, что я, может быть, раскланиваюсь с ним при встречах, жму руку…
– У него нет имени, – твердо отвечала Лиза. – Я забыла его имя. Ничего не было, папа. Я справилась.
– И все-таки обидно, дочь, – Полетаев открывал сегодня дочери наболевшее. – Неужто, ты меня так стыдилась перед ним? Уж кто ж таков?!
– Нет, папа! Что ты!
– Тогда… Его мне показывать боялась? Что же?
– Ах, папа! Все не так! Но сейчас уж и не ответить на это. Все утекло. Стерлось. Лучше ты… скажи… Почему ты тогда так…
– А я испугался, Лиза, – может быть, сам себе впервые признался Андрей Григорьевич.
– За меня? Я знаю.
– Нет, дочь, – Полетаев оперся подбородком на рукоять трости. – Это очень красиво звучит. И так «правильно». Отец испугался за свою дочь. Но это неправда, Лиза.
– Папа… Что ты хочешь…
– Подожди, Лизонька. Разговор трудный, я все не хотел на бегу, помнишь? Так что давай сейчас договорим его до конца. Я многое понял, но еще больше нам предстоит понимать в будущем. И вместе, и порознь. Давай с чего-нибудь начнем.
– Тебе для этого надо было уехать? – спросила Лиза.
– Уехать мне надо было… – Полетаев задумался. – Да, нет, знаешь. Я тогда скорее сбежал, нежели ехал действительно за ответами. Если бы они были мне необходимы, я бы, наверно, до сих пор жил там и ждал встречи со схимниками. А раз решилось само, значит, все уже было во мне и тогда, просто надо было, чтобы оно… Что бы…
– Как это «сбежал», папа? – Лиза недоуменно смотрела на отца.
– А вот так! – Полетаев развел руками. – Поехал в банк, снял все оставшиеся наличные деньги и оставил тебя одну.
– Я тогда думала, что ты меня так наказываешь, папа, – тихо, опустив глаза к земле, сказала Лиза. – Это так?
– Не знаю, дочь, – разговор становился честным до боли. – Возможно, что не тебя, а себя. Я тогда сильно растерялся. Я понимал, что не смог защитить тебя, а как жить с этим дальше не знал. А по-прежнему уже не получалось.
– Но ведь… – Лиза запнулась. – Но ведь ничего непоправимого не случилось.
– Лиза! Чтобы это понять, нужно было принять и то, что случиться могло! Как ты не понимаешь! – Андрей Григорьевич судорожно провел ладонью по своему лицу, как бы стирая с него что-то невидимое. – Ты умница. Ты сама себя сохранила, потому я и говорил тебе, что виноват, прости! Я не смею, не имею права не доверять тебе, не должен. Но тогда! Тогда я чувствовал только одно – я плохой отец! И не знал, как с этим жить дальше.
– Нет, папа, это ты прости меня, – Лиза закрыла лицо обеими ладонями. – Это я подвергла тебя этим мукам, я поставила нашу честь на грань падения. Я виновата. Это было бы ужасно для тебя, если бы все произошло, как ты боялся. Но я тогда думала только о себе! Я вообще не думала о том, что будет на следующий день, после. Из дома без спросу ушла, уехала…
– Не то, Лизонька, не то! – Полетаев снова был полон нежности и голос его смягчился. – Пусть бы было, как было. Не важно.
– Как это не важно? – Лиза отняла руки от лица и теперь смотрела на отца, как будто вновь узнавая его. – Папа, что ты говоришь?
– А то и говорю, дочь. Только там понял я. И все как-то сразу стало по своим местам. И страх ушел, и ясность образовалась. Не то важно, что случается, важно, что с этим делать дальше.
– Ты сейчас так похоже на Нину сказал, папа! – воскликнула Лиза.
– И Нина твоя… – Полетаев явно вспоминал сейчас кого-то еще. – И та женщина. Я говорил тебе. Они помогли мне понять. Если все время только бережешь, то непременно потеряешь. Упустишь! Не так, так по-иному… Я непонятно говорю?
– Ты говори, говори, папа! – Лиза затаила дыхание.
– Нина. Она оказалась тебе хорошим другом. Понимаешь, родитель, оказывается, тоже может, а иногда и обязан быть своему ребенку другом, – Полетаев смотрел ввысь и от того наверно, его глаза увлажнились. – Не надсмотрщиком, не контролером, не примером или наставником. А просто другом. Просто быть рядом, чтобы ни случилось. И вместе это…
– Расхлебывать? – Лиза позволила себе усмехнуться.
– А хоть бы и так, – спокойно отвечал Андрей Григорьевич. – Ну, вышла бы ты замуж без моего благословения. Пережил бы. Привык.
– А если бы не вышла вовсе? – осторожно спросила Лиза.
– Ты знаешь, там… – Андрей Григорьевич вовсе не удивился такому повороту. – В монастыре. Я видел тебя во сне, это уже после того, как ты приезжала с друзьями. И во сне я хотел, уже мог, уже решился к тебе подойти. А ты там была… Ну, не важно. В общем, я понял утром, что было бы, если бы тогда…
– Что было бы, папа? – Лиза говорила отрывисто и безжалостно к себе. – Было бы то, что наша жизнь была бы разрушена. И моя, но и твоя тоже! От тебя отвернулись бы все в свете. Пропало бы все то, что так важно для тебя. Всё пропало бы, папа, не щади меня.
– Ну, во-первых, ничего же не произошло, ты сама с этого начала, – Полетаев смотрел теперь на свою дочь с тайным восхищением, видя насколько другой, взрослой стала она за это лето. – А во-вторых… Ну, уехали бы куда-нибудь…
– Вот так просто? – у Лизы вырвался нервный смешок. – Просто «уехали» бы? А там что? А твое положение? А мастерские? А Наталья Гавриловна, Савва Борисович, друзья, общество?
– Я думаю, те, кто настоящие, друзьями бы и остались. А остальное… Прах, Лиза! – Полетаев махнул рукой в ту сторону, где за деревьями перелеска находилась их бывшая усадьба. – И без того много с чем расставаться приходится. Вот и дом не наш, и мастерские на волоске. Что-то приходит, что-то уходит. Но пока мы живы и есть друг у друга – это главное.
Они долго молчали.
– Так ты думаешь, что простить можно, что угодно? – спросила Лиза после затянувшейся паузы. – И принять все-все на свете? Так?
– Не знаю, Лиза, – отец был откровенен, и было видно, что раздумывает он над заданным вопросом прямо сейчас. – Все-все, наверно, не в силах человеческих. Да смотря кому. И что. Я там много думал. Когда меньше болтаешь ни о чем, а часто повторяешь в храме обращение «батюшка»… Взываешь: «Отец небесный»… И мысли сами как-то выстраиваются в эту сторону… Наверно, именно ребенку своему надобно научиться прощать все. Но не как попустительство, а именно, чтобы знали оба – да, от одного твоего поступка, слова иногда, может перемениться многое. Всё может перемениться. Но, как бы ни было страшно, тяжко, тебя всегда примут, поймут, ты не будешь один, у тебя есть отец. Хотя…
– Что, папа?
– Хотя, я думаю, матерям это дается легче. Не всем, конечно. Но проще им, что ли… Я думаю теперь, что у той несчастной женщины в монастыре было слишком много мужского в характере, от того и муки ее. Женщина своему ребенку все легче прощает – безоглядно, бездумно, от сердца – а значит принять сопутствующие обстоятельства ей потом уже проще. А отец всегда будет сначала думать – что дальше. И простить он может только через принятие. Сначала допустить, а только потом простить. Ну, это если окажется, что есть, что прощать. Так-то дочка! Оказалось, что мучиться вопросом – хороший ты отец или плохой – жизнь не всем и не всегда дает время. Так-то. Надо просто быть им – отцом, каждый день, каждую минуту. Быть рядом. И быть готовым ко всему, вместе со своим чадом. Ох! Это так сложно самому понять, еще сложнее объяснить другому, Лиза!
***
– Ну, что, вы готовы?
Митя, одетый по-городскому выглядел солидно, но для Лизы, знающей его как облупленного, это показалось как с чужого плеча и оттого смешным.
– Ну, ты и напыщенный франт нынче, Митя! – смеялась она, выйдя в прихожую.
– Да вы еще не одеты! – Митя явно спешил и нервничал. – Ну, сестренка! Мы ж договаривались! А что Андрей Григорьевич? Матушка?
Лиза видела, что Митя нарядился во все самое лучшее из своего гардероба и, хоть и поддела его по-дружески, но памятуя об одном из уроков Егоровны, сегодня тщательно подбирала наряд, дабы сильно не выделяться на фоне матери и сына. Она надела довольно скромное платьице.
Сегодня все собирались у Полетаевых. В город прибыл цирк со знакомцами Дмитрия. Он давеча уже встречал их на вокзале, помогал устраиваться на новом месте, как хозяин знакомил с городом, и, забросив учебу, подолгу сидел на репетициях. А нынче вот – выводил всех своих домашних на премьерное представление. Это было оговорено, когда еще Лиза с отцом гостили в Луговом. Наталья Гавриловна должна была прибыть оттуда к обеду.
– Митя, успокойся, – Лиза повела его в столовую. – Хочешь лимонаду? Времени еще три часа до начала, матушка твоя еще не приехала, ждем. Куда ты так торопишься?
– Эх, Лизавета! – Митя утер лоб, достав огромный белоснежный платок из кармана, но за стол присел. – Нам же еще в кассы надо успеть, там для нас контрамарки отложены. Ты знаешь, какой нынче ажиотаж? Аншлаг! Нет свободных мест вовсе.
– Ну, раз отложены, то, что ж волноваться? Егоровна! Принеси попить холодненького.
– Куда ему холодненького? – няня недовольно качала головой, осуждая всяческую суету. – Да принесу, принесу! Пусть только остынет. Вон – красный весь!
Во дворе послышался шум въезжающей повозки – это Кузьма привез Наталью Гавриловну. Его не стали больше гонять в этот день, а погрузились на двух извозчиков и поспешили к ярмарке. В пестрой толпе, направляясь к зданию цирка, они неожиданно столкнулись с младшими Олениными и Алексеем. Дмитрий радостно приветствовал его, зная уже по совместной поездке. Лиза представила всем брата и сестру. Лида тут же пожаловалась, что вот – хотели на итальянцев попасть, да билетов нет вовсе. Дмитрий обещал что-нибудь предпринять. Дальше пошли вместе. Андрей Григорьевич с Натальей Гавриловной поотстали и лишь умиленно наблюдали за шумной стайкой молодежи.
– Наташа, – Андрей Григорьевич степенно вел ее под руку. – Ты сильно жаждешь лицезреть клоунов и комедиантов?
– Нет, Андрюша, – улыбнулась она ему. – Ты же сам знаешь, что я бы с радостью погуляла где-нибудь в тихом парке с тобой. Но сдается мне, что у Мити в этом цирке какой-то свой интерес, я как мать чую. Нельзя его обидеть. Пойдем!
– Идем, идем, – похлопал Полетаев пальцами по тыльной стороне ее ладони.
Протиснувшись сквозь толпу очередников, надеющихся на бронь, Дмитрий постучал в деревянное окошко запертой кассы и, когда оттуда выглянула симпатичная головка, расплылся в улыбке и вновь весь покрылся румянцем. Вот и интерес обнаружился! Миловидная кассирша долго говорила с ним, разводила руками и сочувственно качала головой. Митя отошел от нее расстроенный, с четырьмя билетами в руках – больше взять возможности не случилось. Он понуро подошел к обнадеженным приятелям Лизы и тут Полетаев все же не выдержал и предложил:
– Дети! Идите без нас, вам нужнее!
– Ну, как же так! – Митя чуть не плакал как большой ребенок. – Я-то и без билета там всюду пройду, за кулисами постою. А матушка ведь из-за города прикатила! Я так хотел показать вам…
– Иди, Митя, я вовсе не расстроюсь, – погладила его мать по плечу и улыбнулась. – А все, что нужно, ты нам уже показал. Главное я видела.
Митя обернулся на все еще не закрытое окно кассы и снова покраснел:
– А как же вы?
– Мы погуляем, идите!
– А обратно как же? Где мы вас найдем? – все никак не мог решиться отчего-то растерянный нынче Дмитрий.
– Да дома и найдете, уж вернемся, поди, – мягко улыбался Андрей Григорьевич. – Ты «жених», вот и проводишь Лизу обратно.
Старшие развернулись и затерялись в толпе, так и не заметив, что последние слова вызвали досаду не только у нахмурившегося Мити, но и у Лизы, чутко уловившей его перемену настроения. Да и у еще одного невольного свидетеля! В толпе соискателей на билеты, никем не замеченный, наблюдал за прибытием наших знакомых, не кто иной, как праздный отпускник Лев Александрович.
Он, оставшись в городе один, без своего большого друга, решил как-то развлекать себя. Вся ярмарка гудела о новой итальянской труппе, прибывшей в город, и он поддался на всеобщий восторг. Скучая в толпе возле касс, Борцов сразу заметил Лизу, узнал ее спутников и вновь почувствовал в груди то неприятное чувство, от которого вынужден был сбежать в Москву. Нынче он от поездки туда с Саввой отказался и видимо зря! Он разозлился на себя, развернулся, и, не подходя к Лизе и ее окружению, так незамеченным и ушел с ярмарки. Потом снова ругал себя уже дома – за бегство и малодушие, а после решил, что все это пустяки и яйца выеденного не стоит. У Лизы может быть своя жизнь, и ему это никакого неудобства причинять не может. Они друзья. Да, друзья! Он завтра же докажет это сам себе, явившись к Полетаевым с визитом. Легко и просто!
***
Больше недели отсутствовал Савва Мимозов в Нижнем Новгороде. К его частым отлучкам стали уже привыкать – и на производстве, и в Пароходстве. Многочисленные знакомые, переговариваясь между собой, переезд Саввы в Москву обсуждали как дело окончательное и решенное. Кто радовался, потирая руки, предвидя возможность прибрать к рукам Мимозовские активы, а кто вздыхал. Андрей Григорьевич был из тех, кто о перемещении друга и соратника жалел, и понимал, что разговор о Товариществе все равно выйдет, потому как – пока что Мимозов сбывал с рук весь крупняк, но и до мелочишки дело когда-то дойдет. И тут Савва сам заявился к нему.
– Здравствуй, друг мой любезный! – Савва Борисович нынче не шутил, был серьезен, Егоровне протянул шляпу и, пройдя в коридор, кивнул на закрытую дверь Полетаевского кабинета.
Хозяин понял, что к чаепитиям сегодня гость не расположен и велел няне к ним ни с чем не входить, по пустякам не отрывать.
– А мы думали, что Вас нет в городе, Савва Борисович, – Полетаев пригласил гостя располагаться с удобствами. – Рад! Рад видеть!
– Догадываешься о чем речь вести стану? – из-под бровей осторожно спросил Савва.
– Да чего ж там, – Андрей Григорьевич попытался улыбнуться. – Сам ждал этого разговора. Перед смертью не надышишься, как говорят.
– Ну, уж! – махнул на него Савва. – Поживем еще! Не на радость, так назло завистникам. Небось подумал, что я явился тебя доклевывать? Думаешь, долю свою пришел у тебя выщипывать?
– Ну, если ошибся, то прости! – в глазах Полетаева засветился лучик надежды. – Съезд открылся, ты потому вернулся?
– Нет, друг любезный, я на съезде заседать не смогу. Сейчас расскажу почему. У меня, друг мой, тоже того… Э-ээээ… Завертелось многое. Твои как дела? Доклад-то не сняли?
– Да видишь, как с этим съездом все выходит. Схлестнулись ваши промышленники с аграриями не на шутку. Нам, кустарям, и не вклиниться, боюсь, – Полетаев развел руками. – Как пойдет. Если время выделят, так у меня все готово. Тексты согласованы, утверждены. Что, кстати, для меня отдельная радость – уж не знаю, дадут ли выступить, а вот в печатный вестник Съезда все до словечка войдет! Я уж и материалы комитету сдал. Не выслушают, так прочитают, кому интерес есть.
– А за что голосовать собираешься, если не секрет?
Полетаев опустил глаза.
– Поня-яяя-ятно, – протянул Савва и отвернулся к окну.
– Савва, пойми! – Полетаев не то, чтобы оправдывался, но осознавал, что его решение другу доставляет боль, а сам он по-другому перерешить не может. – Пойми, я сам по сути своей – аграрий. Я всю эту кухню досконально знаю. Какие пошлины! Окститесь! Да на одних запчастях разоримся, техника-то у всех сплошь немецкая. Вы ж предлагаете всем и сразу на отечественную перейти. Да где ее взять столько?
– Андрей Григорьевич! – Савва начинал злиться и ноздри его раздувались в такт ладони, что ребром постукивала по зеленому бархату стола Полетаева. – Уж ты-то! Сам жизнь свою, душу свою… Э-ээээ… Имущество свое положил, не пожалел! Станочки, разработочки!
– Савва! – попробовал остановить его Полетаев. – Потому сам и знаю! Не свернешь с места здесь ничего, все по ветру пустишь!
– Да не перебивай ты меня! – Мимозов хлопнул всей ладонью по столу и чернильница, подпрыгнув, выплеснула перед ним свое содержимое. – Ох, прости! Погорячился.
– Ах, Савва! – Полетаев привстал и застилал теперь чернильное пятно, взяв с подоконника газеты. – Что уж о столе жалеть, когда все в тартарары летит…
– Кстати, Андрей Григорьевич, о Товариществе-то нашем, – присмирел Савва. – Не хотел я тебя расстраивать, да лучше, чтобы ты знал. Урядник-то наш предусмотрительный, свою долю англичанам решил сбагрить. Да тем, видно, она одна без надобности, так этот… Э-ээээ… предприниматель трусоватый еще и Погодина решил втянуть! Благо – тот человек совестливый да прямой, ко мне явился, доложил. Пока не состоялось, но ведь знаешь, как бывает – если мыслишка гнилая закралась, так уж не выбьешь! Выждет этакий Тимофей Михайлович момента, как тебя в городе не будет, а после будет клясться, что срочная необходимость у него случилась. Я руки марать не стал, а ты бы, как председатель, напомнил бы ему права и устав, да судом пригрозил. Может, присмиреет. А лучше от греха – давай его долю сами выкупим?
– Ох, Савва, – вздохнул Полетаев. – На что выкупим? Этот дом того и гляди с молотка пойдет. Я не знаю, как Лизе сказать, что возможно нам в деревню вскоре перебираться придется, при мастерских там ютится зиму. Наташа Мите учебу и квартиру оплачивать должна. Я сам… Эх! Последнее проедаем.
– Ясно. Забыли пока, – Мимозов не стал испытывать гордость товарища и сменил тему. – Так вот обо мне. Что менять в своей жизни многое пора настала, это я еще с начала лета знал. Потому и избавляюсь от излишков и мелочи, так как чую, что созрел для чего-то нового, большого. А что это будет, веришь, как за пеленой? Думал производством самодвижущихся экипажей заняться, в Петербург писал, узнавал, спрашивал. После думал, что по своей линии надо дальше идти, только с паровых турбин на современные переключаться. Потом… Э-эээ… Как государь-то к нам приехал, так я в его свите пару раз имел возможность с нашим министром мыслями обменяться. Наскоро. Вскользь. Но! – Савва поднял вверх указательный палец. – Веришь? Мне тех его нескольких слов хватило, чтобы понять, что все суета эти мои метания. Если кто достиг до состояния созидательной силы, приобрел умения, опыт, то самый лучший путь – положить то на благо Отечеству.
– Так все мы, по мере сил, именно для того и стараемся, – недоуменно вставил Полетаев. – Разве булочник, что две улицы хлебом кормит, не для Отечества старается? Не России свои умения и опыт отдает? Или ты только при определенных масштабах то в людях допускаешь? Не гордыня ли это?
– Прав! Сто раз прав ты, дорогой мой Андрей Григорьевич! – у Саввы загорелись в азарте глаза. – Каждый на своем месте. Вот я и подумал, что раз туманом мне мое будущее застит, то пусть мне мое место и укажут! Булочник может только булки печь, он на то годы потратил, чтобы пышные да вкусные. Корабельщик суда строит, чертежи выверяет. Ты ножи да замки тачаешь, сталь улучшаешь да технологии. А я сейчас – что угодно могу, понимаешь? Вот любое дело с нуля подниму, организую. Хоть корабельный завод, хоть сталелитейный. Вот и подумалось, пусть это не блажь только моя будет, а надобность государственная. Только что я отсюда видеть-то могу?
– Понимаю, – серьезно взглянул на товарища Полетаев.
– Так я министру и написал, – выдохнул Савва. – Все свои расклады изложил и записку подал. Тогда еще. Вот вызвали в Петербург, через недельку еду. К самому! Уж теперь, что поручат – сам напросился!
– Ты, Савва Борисович, каждый раз меня по-хорошему удивляешь! – искренне улыбаясь, сказал Полетаев. – Бог в помощь! Что я еще могу на это сказать? А супруга что?
– А супруга, – Савва опустил было взгляд на кляксы, что расплывались поверх газетного текста, а потом поднял глаза и расплылся в улыбке. – Вронюшка говорит: «Я и не надеялась, что у юбок долго просидишь! Ты ж птица высокого полета, а не попугай-неразлучник».
– Повезло Вам, Савва Борисович, с супругой. Редкого терпения женщина.
– А понимания какого! – Савва выпятил нижнюю губу, ни сколь не утруждая себя ложными отнекиваниями, женой он гордился. – Сам до сих пор удивляюсь! – он снова перевел разговор в деловое русло. – Так вот! Раз такая оказия выпадает, я чего к тебе и заехал, Андрей Григорьевич! Дай-ка мне печатные листы твоих изысканий, тем более сам говоришь – только что к публикации все готовил. Не может быть, что бы лишнего экземпляра у тебя не нашлось.
– А на что Вам, Савва Борисович?
– Да пусть при мне будет. Вдруг, еще какой случай? Так я на столе у министра папочку и выложу. А то – дадут тебе слово, не дадут, напечатают, али нет – то бабушка надвое сказала. А я все ж не бабушка, в таких делах понадежней буду? А? Давай, неси!
– Нет, это вовсе неудобно, Савва Борисович! – завел Полетаев, потупившись, свою любимую горделивую песню. – Выделяться из ряда докладчиков, используя личные знакомства, это…
– Это способ донести до людей, принимающих решения, не токмо упоминание о своей скромной персоне, как ты из своего уничижения опасаешься, а и тот вклад, что уже помещен в развитие отечественного производства сделать достоянием общественности. Давай, не томи, – он проследил глазами, как недовольный все еще Полетаев повернулся, отворил бюро и, перебрав несколько папок, выложил одну из них на залитый чернилами стол. – Так-то. Благодарю. И вот еще что.
– Вы, Савва Борисович, неутомимы! – попытался через силу улыбнуться Андрей Григорьевич, давший себя уговорить, и присел напротив.
– Да не закрывайся ты от меня! – Савва откинулся на спинку. – Теперь я буду в роли просителя выступать, так тебе сподручней, надеюсь?
– Да чем могу, ты же знаешь, – снова перешел на «ты» Полетаев.
– Просьба такая. Конечно, решать все равно собрание будет, но предложить кандидатуру я не только смею, но и имею к тому прямое поручение. Не встанешь ли мне на замену? Попечительский совет я никак не смогу за собой оставить, слишком часто в разъездах.
– Да с великой радостью, Савва Борисович, – Полетаев развел руками. – Да, только видишь, влияния-то моего в городе с гулькин нос нынче осталось. Да и средствами я не располагаю, а так бы со всем моим удовольствием.
– Средства там как раз имеются, это дело соборное. А вот разобрать по совести кому та помощь необходима, вот сей час требуется, а кто и обождать может, влезть в чужую жизнь не разоряя, а бережно, не обидев – вот то дело для твоего ума и души. Позволишь ли рекомендовать тебя? Но то обуза, сразу говорю. Времени, сил достаточно отбирает.
– Да что ты, Савва Борисович, вот этого у нас как раз вдоволь! Рекомендуй, впрягусь, если решение будет.
– Ну, и славно! Уезжаю спокойный. А про голосование ты еще сорок раз подумай, – Саввва поднял вверх указательный палец.
***
У Олениных снова было людно. Алексей Семиглазов вышел из-за стола, увязавшись, будто бы невзначай, за Лидой во двор, а, оказавшись вдали от толпы гостей и домашних с ней наедине спросил:
– Лидушка, а Лизу не звали в этот раз?
– Соскучились уж, Алексей Григорьевич? – Лида налила воды из колодца в большой кувшин. – Не могу Вас обрадовать, как-то повода не нашлось. Да и виделись мы с ней всего пару дней назад, нас начальница Института приглашала на Выставку. По делу.
– Ну, то дела, а то… – запинаясь, мямлил Алексей.
– Да, и у нас тут не цирк нынче. У нас же сходка, зачем тут чужие?
– Чужие? Давно ли? – Алексей глядел на Лиду своими глазищами, и не понятно было чего в них больше – расстройства или осуждения.
– Да, бросьте, Алексей! – Лида начала раздражаться. – Вы все прекрасно понимаете. Зачем нам лишний раз рисковать?
– Нам? – Алексей тихо усмехнулся и вздрогнул, когда ему на плечо легла широкая тяжелая ладонь, он не слышал за спиной ничьих шагов.
– Нам, Алексей, нам, – Хохлов теперь обнимал его за плечи, а смотрел на Лиду. – Что за дела у вас с бывшей товаркой, Лидия Пантелеевна, позвольте поинтересоваться? Ведь обучение вы, кажется, обе завершили?
– Это по делам обустройства читален и школ в нашей губернии. Я толком не поняла, все равно заниматься этим более не буду, хлопотно, да и долго.
– А зря, зря, – как бы между делом протянул Хохлов. – Читальни! Какой простор для нашего дела. Тем более, что читателями в них станут что ни на есть беднейшие представители народа – те же рабочие. Кого ж как не их от безграмотности и выручать? А мы бы им подкинули, что почитать!
Он расхохотался.
– А Лиза? Лиза согласилась? Может быть ей помощь нужна? – Алексей из всего сказанного услышал только это имя.
– Ваша принцесса совсем Вам мозг скрутила, юноша, – Арсений глядел на Алексея снисходительно, сверху вниз. – Вы при ней пажом изволите состоять, а они на Вас лишний раз и взгляд-то кинуть брезгуют.
– Ерунду Вы говорите! – стряхнул руку с плеча Семиглазов. – И не лезьте Вы в чужие разговоры, что за дурной тон.
– Ах, прошу пардону, – шутливо раскланялся Хохлов, но тут же стал серьезен и даже груб. – Такие слюни губят людей и дела, милостивый государь! Извольте припомнить, что Вы взяли на себя некие обязательства, а Ваша…
– Прекратите вовсе упоминать о ней! – вспылил Алексей. – Что это за «ваша», что за тон! Вы изволите говорить о девушке. Извольте тогда вовсе не говорить о ней!
Хохлов рассмеялся снова и так же, как раньше Алексея, по-дружески, теперь приобнял за плечи Лиду, та прижимала к себе огромный кувшин и переводила взгляд с одного собеседника на другого.
– Ну, будет, – Арсений наконец забрал у Лиды воду, – идемте в дом. Вы, Алексей, собираетесь по селам с распространением, или мне кому другому поручить?
– Извольте отдать другому, – ходил желваками Семиглазов.
– Так, так, – Арсений заглянул вглубь кувшина. – И какова причина? Не желаете проявить себя?
– Да уж проявил! – теперь укор во взгляде Семиглазова нельзя было спутать ни с чем. – До сих пор совестно! Человек мне доверяет, а я за ее спиной…
– Так, так, – прервал Хохлов и посмотрел на Лиду. – Это куда?
– На кухню сразу, – улыбнулась ему Лида. – Сейчас чай пить станем.
– Чай – это хорошо, – Арсений не сходил с места. – Чай, Лидия Пантелеевна, первейшее для истинного нижегородца наслаждение! Вот в мае помню мы… А что, найдется ли в доме самовар, что с собой на реку взять можно? Человек этак на двадцать? Или поболее?
– Ой, – Лида покраснела. – Самовар матушка не позволит из дому выносить. А вот чайник! Чайник есть ведерный! Подойдет?
– Посмотреть бы?
– Я сейчас отыщу! – прокричала Лида на ходу и скрылась в доме.
– На двух конях не усидеть, юноша, – совсем беззлобно сказал Алексею Хохлов. – Вы бы среди равных пользовались случаем пользу принести, да себе баллов поболее набрать.
– Каких баллов? – снова возмутился взвинченный Семиглазов. – Что Вы всё умничаете? Не на экзамене же!
– Эх, юноша. Вся жизнь – экзамен! – Хохлов подошел к нему вплотную. – Ну, да это не я, это Вам Ваша принцесса скорей на самой кожуре Вашей пропишет!
Он сунул Алексею кувшин, а тот машинально принял его. Хохлов скрылся в доме. Алексей позлился, позлился, да делать нечего, он стал остывать и побрел на кухню.
И вот все сидят за столом. Действительно, никого чужого. Даже свои не все – Ольга Ивановна в очередной раз уехала с Леночкой к доктору.
– Ну, что, товарищи? – взялся верховодить и здесь Хохлов. – Предлагаю обсудить нерациональное использование с таким трудом доставшегося ячейке мимеографа. Игнат?
– Не понимаю твоих претензий, Арсений, – Кириевских скривил рот. – Мы печатаем все по решению товарищей. Что ты можешь предъявить конкретно? Наша сторона задержала или уменьшила какой-то тираж? Какой? Напомни мне. Да и всем тут. А то, брат, как-то нехорошо получается!
– Да нет, брошюрки свои вы отлично клепаете, тут не придерешься, – ухмылка проскользнула по самоуверенному лицу Хохлова. – Только это ли рациональное использование подобной вещи? Для того и наборных касс достанет. У тебя на перепись от руки времени уходит непозволительно много, а аппарат простаивает тем временем. Нет, товарищи! Надо все силы оперативной печати нынче кинуть на агитацию! Листовки, прокламации, призывы. И срочно все в массы. Вот, возьми. С этого сделай матрицу и прогони мне к тем выходным тысяч шесть-семь. Справишься?
– Прости, Арсений, но аппарат нынче и так занят под завязку, – Кириевских качал головой. – Этак надо все наше отменить, да только твое ставить. Нет, не возьмусь.
– Что значит «не возьмусь»? – Хохлов сузил щелки глаз и голос его стал еле слышим, от чего все затаили дыхание и вслушивались пристальней, чем, если бы он его повысил. – Это приказ.
– Прости, Арсений, но я не раб тебе, – Игнат вытянул свои длинные ноги в проход, в любой момент готовый вовсе встать и уйти. – Будет решение товарищей – вещь общая, прошу, пользуйтесь! А матрицы изволь сам предоставить, этого ни ты, никто мне приказать не может. Это, знаешь ли, – мой труд. Ночи, так сказать, добровольного письмовождения. Да и бумаги вощеной в таком количестве не имею – изволь выдать для общих нужд.
– Да где ж мне взять? – Хохлов так и не убрал прищура с глаз. – Ничего! Поручат товарищи, так и прикажем.
– Вощеной бумаги у меня нет, – стоял на своем Игнат. – Могу предоставить полный отчет за каждый лист.
– В воскресенье едем за реку, – Хохлов прекратил дискуссию этим не терпящим возражений резюме. – Там и решим.
***
Лида отвечала сегодня за чай. Это было первым поручением в ее кружковской жизни, и она отнеслась к нему со всей ответственностью. Она утирала пот со лба, подбрасывая новую порцию сучьев в костер, и прислушивалась к тому, что говорилось среди товарищей, стараясь не пропустить ничего, особенно громких реплик Хохлова. Слышно отсюда было не все. Алексей помогал ей и уже третий раз они кипятили чайник, а лодки все подплывали и подплывали. Через очередной борт, чиркнувший днищем по песку, преступили и с улыбкой направились к сидящим тесным полукругом товарищам две девицы. Обе они были статные, плотные, с русыми косами ниже поясницы. Хотя было видно, что разница меж ними есть, года в два-три, но всем было сразу ясно, что это родные сестры, хоть и не двойняшки. Многочисленные пуговки только что не отскакивали от их ярких кофточек, так туго натянулись они на груди у обеих сестриц. Несколько парней привстали навстречу им.
– Арсений, ты тянешь одеяло на себя! – доносился голос Игната. – Есть принятая программа, надо придерживаться ее. Мы поставили себе задачей до конца этого года вести просветительскую деятельность, раз силы охранки сейчас полностью брошены на зачистку. Зачем дразнить гусей? Пропаганда идей марксизма – вот наш вектор на данном этапе! А ты норовишь на ходу все поменять! Не сделаем в результате ни того, ни другого. Только товарищей зазря потеряем.
– Такое впечатление, что я слышу многодетную наседку, а не активиста марксистского кружка, – с ехидцей парировал Хохлов. – Ты ли это, Игнат? В нашем деле ничего не может быть зря! Вы слышали об успехах наших соратников этим летом в Петербурге и Москве? Вот с кого надо брать пример! Мы должны стать третьим городом, прозвеневшим на всю страну, самим стать примером и вдохновителем для наших хуже пока организованных товарищей по борьбе. По борьбе, Игнат! Не по отсиживанию в кустах. Ткацкие забастовки и стачки. Вот тебе вектор! Агитация! Террор, в конце концов! А, вот и наши дорогие ткачихи, приветствуем вас, товарищи!
– Арсений прав! – одна из вновь прибывших девиц, даже не присев, сразу же, с налету, присоединилась к дискуссии. – Надо переходить к этапу активной агитации! Нам поручили предать тебе, Арсений, пожелание нашего кружка: тебе, дорогой, пора возвращаться в город! Как хочешь, а давай увольняйся со своего нынешнего заводика. Товарищи подготовили тебе место в ремонтном. Там новую баржу на стапеля пригнали, возьмут и тебя, никуда не денутся. Но надо быстро, пока рабочих набирают. Сможешь уйти?
– Да уйти, Томочка, не проблема! – смеялся Хохлов. – Задержаться на одном месте труднее было. Ну, раз товарищи так решили. Ждите! Скоро буду.
«Томочка», «дорогой»… Лида чувствовала себя здесь совершенно лишней, маленькой и ненужной. Она засыпала горсть заварки в чайник и, сняв с большой корзины платок, вытащила связку бубликов и упрямо направилась к сидящим людям. Она протянула бублики Хохлову, тот поднял на нее глаза и увидел алеющие щеки.
– Спасибо, Лидия Пантелеевна, – церемонно обратился он к ней. – Познакомьтесь, товарищи! Это наши новые товарищи из слободки – брат и сестра Оленины и студент-биолог из Москвы Семиглазов. Это он доставил нам множительный аппарат от товарищей. Кстати, об этом! Игнат?
– Как скажете, Арсений, – Кириевских был сегодня настроен благодушно. – Но я просил бы у товарищей еще пару недель на то, чтобы докончить начатое. Не люблю бросать что-либо на полпути.
– А что с матрицами? – спросила плотная девица.
– Вот Петр и Алексей подрабатывают в городской больнице, – снова вступил Хохлов. – Прошу вас, товарищи, доложите сами.
– Поступила партия перевязочного материала, – прокашлявшись, хрипло начал Петр Оленин, не привыкший к публичным выступлениям. – У понимающих людей узнал, что из Японии, волокно тонкости необычайной. Если пропитать парафином…
– Мариночка, что у нас с кассой? – спросил у второй сестрицы Хохлов, когда Петр в очередной раз закашлялся. – Надо бы выкупить, да подменить на что-то попроще. А то с доступными материалами со всеми пробовали – ничего не выходит!
– Не густо, Арсений, – девица закатила глаза, как бы припоминая или подсчитывая что-то про себя. – А, найдем! На это дело средств достанет. Но, говорят, еще печатающая машинка нужна будет? Или от руки можно?
– От руки и скорость, качество не те, конечно, – вздохнул Хохлов. – Товарищи! Всем задание! Пока готовится вощенка, поспрашивайте, может, кто уступит печатный агрегат для нужд ячейки? Или сломанный где-то можно зацепить, а? Наши умельцы починят!
Разъезжались уже в сумерках. Обошлось без приключений и без жандармов, сходка прошла тихо. Хохлов вел к лодке обеих сестер, обняв за талии, а в груди у Лиды расплывалось непонятное чувство злости к этим кобылам. Вот, сейчас он перешагнет через борт и сядет к ним, сам станет грести. А ей еще собирать эти кружки, и этот дурацкий чайник переть.
– Петя, помоги! – со слезами в голосе крикнула она брату. – Мы что, самые последние здесь остаемся?
– Давайте я помогу, – раздался вдруг у нее над ухом тихий голос, это Хохлов, как всегда бесшумно подошел сзади. – Это надо мыть?
Лида кивнула. Не уехал! Они спустились к реке, где, казалось, было уже совсем темно. Костер догорал, его яркое пятно вырывало у сумерек малое пространство, а все, что за его пределами сгущалось до полного мрака. Хохлов выливал из чайника остатки заварки, Лида, присев на корточки споласкивала ложки, зажатые в ладонях. Выпрямившись, она даже не успела повернуться к берегу лицом, как почувствовала у себя на талии две сильные мужские руки. Они плетьми опоясали ее и прижали к горячему телу за спиной.
– Лида! – жарко шептал Хохлов ей прямо в ухо. – Ты так помогла мне сегодня, спасибо тебе, девочка. Какие у тебя волосы!
Лида почувствовала его губы у себя на шее и почти потеряла сознание от счастья. Но тут раздался раскат грома и капли накрыли их неожиданно начавшимся дождем.
– Бежим! – смеялся Арсений. – Ах, как славно, что только под вечер! А день хорошим был. Такое дело провернули!
***
Зарядили дожди. Лето как будто наверстывало упущенное за те знойные недели, что оно сполна отпустило жителям города в своем начале. Лило почти непрестанно, просветы были недолгими, и, хоть такой грозы, как той, с градом, больше не повторялось, но громы гремели частенько. Вчера Лиза, возвращаясь с Выставки, сошла на Рождественской с трамвая. Она любила неспешно прогуляться отсюда по переулкам до дома пешком, но тут налетела стихия и мгновенно промокшая Лиза стала оглядываться в поисках извозчика. Как назло, всех расхватали, и ей пришлось подождать, пока не появилась одинокая открытая пролетка, которая чудом осталась невостребованной, но и она сейчас была за подарок.
В дом Лиза влетела вся мокрая насквозь, у Егоровны появилась благая цель, и она уже не оставляла девушку в покое ни на минуту, пока не проделала все известные ей манипуляции по спасению от возможной простуды. На столе стояли вазочки и с малиновым вареньем, и с медом сразу, откуда-то снова появились зимняя шаль и шерстяные чулки, а самовар уже кипел к тому моменту, когда распаренная Лиза вышла из ванной комнаты. Она прошла в столовую, сидела теперь тихо, клевала носом и, почти засыпая, слушала рассуждения няни о том, можно ли будет спасти новое совсем, недавно пошитое платье. Скорей всего да, потому что ткань оказалась добротная. И вот раздался шум в прихожей – вернулся из города папа, и все началось с самого начала. Причитания, тазик с горячей водой, насыпанный в нее порошок горчицы, крики и споры о необходимости пропарить ноги, поиски сухой сорочки, снова самовар, снова малина… Лиза, укутанная в шаль, сидела, забравшись с ногами в кресло, и с улыбкой наблюдала за семейной суетой.
Наутро папа уехал спозаранку, а Лиза неспешно стала собираться, потому что была пятница – день занятий с Аленкой. За окном стояла белая стена дождя, и Лиза, вглядываясь в стекло, даже не смогла рассмотреть, кто же это из жильцов уезжает в крытой коляске.
– Да это этот, со второго этажа, – Егоровна раскладывала стопки высохшего за ночь белья. – Надо бы прогладить, да егойный дядька у меня вчера оба утюга выпросил. Эх, все насмарку нынче пойдет, милай, все стрелочки на брюках! Вон, как хлещет!
– Как ты смешно говоришь, няня – «дядька», – улыбнулась Лиза. – Так нынче уж не говорят.
– Так дядька он и есть дядька! – недоуменно возражала няня. – Видать из отставных. Он молодого барина-то еще с барчуков надзирает. Я говорила с ним, он сказывал. Видать не из бедных барин-то, вон, почти цельный этаж один занимает.
– А наши гости… – Лиза присела, времени до урока еще немного было. – Скажи, няня, как они все появились, где папа их нашел? Как вообще он решился сдавать комнаты?
– А это Наташа всё! – Егоровна вспоминала. – Вот зимой. Как ту комнатку ей организовали, так мысль и пришла. А уж, после того, как уговорили папеньку твоего, так найти-то жильцов было – дело плевое! Кого знакомые привели, кто через Выставку вашу… Комитет, вот! Они прислали.
– Няня! Расскажи про комнатку. Я видела раз, как папа на ту дверь смотрел… Наталья Гавриловна, что, жила здесь? – перешла на шепот Лиза.
– Скажешь тоже! «Жила»! Останавливалась, доню. Да разве б кто позволил! Да разве б она сама… – няня тоже опустилась и присела напротив Лизы, глубоко вздохнула. – А, что уж тут. Как летом-то прошлым стал он всех рассчитывать, как имение отошло, как Большой дом заперли… Мы только с Кузьмой и задержались. Ох, доню, так тоскливо-то, по началу, было! Как осень пережили, не знаю. Перебрались сюда, кой-что перенесли, кой-что на чердак попрятали. Запустение. Пустота. Тоска. И видно, что денюжек-то тоже… Кот наплакал. Экономили на всем. Он тогда и стал за грудь-то хвататься, раньше не замечала я…
– Кто, папа? – спросила Лиза.
– Он, благодетель, – няня утерла непроизвольный всхлип. – Посерел весь, все в думах. Ночь напролет лампу жгет, все пишет, пишет… А вот как в Луговое съездит, так смотрю – вроде повеселее немного. Потом снова. А где-то к Рождеству… Да и потом еще, как бумаги-то она сынку выправляла – стала Наташа в город наезжать. Вот сидят они у нас, только чайку попили, наш-то вроде ожил, расцвел, а тут уж и стемнело. Зимние-то деньки короткие. Она ему и говорит: «Вези меня, Андрюша, в гостиницу. Нынче уж поздно домой возвращаться, да и не все дела я поделала тут».
– В гостиницу? – переспросила Лиза. – Почему в гостиницу? Почему не к Мите?
– Тю! – насмешливо протянула няня. – Ты была на его прежней квартире? То-то. Не знаю, что сейчас ему мать присмотрела, а тогда это было… Я как-то белье ему отвозила, так видала. Зашла, а их там как рыбы в бочке, снуют, все сплошь парни молодые. Кухня – общая. В комнатенке, что Дмитрий поселился – три топчана по стенкам, да табуретка у кажного, даже стола нет. Куда там матерям! Дух такой стоит, что не приведи! Да и где там? Она его все к нам, сюда, норовила запиской вызвать. Туда ездить не любила, тут хоть поговорить можно спокойно. Ну, так вот. Вези, говорит Наташа. Наш аж сник. Ну, я и говорю им: «Нечего последние гроши транжирить, да чужому дядьке отдавать! Вон сколько комнат пустует! Неужто, не приютим?» Ну, он в крик – типа непозволительно, типа он уважает Наташу, ее честь, имя… Ну, сама понимаешь. А Наташа сидит молча и вроде как все равно ей – и на имя, и на честь. Улыбается только, как над ребенком малым. Ну, и порешили мирно. Что по холоду тащиться через город глупо, а уважения между ними никто не порушит. А во дворе более все равно никого нет, кто осудит?
За окном снова заскрипели колеса.
– А это Вересаевы! – Лиза узнала карету. – Какая она молодец, везде своего супруга сопровождает. Я не помню случая, чтобы они врозь уезжали. Хотя и непогода нынче.
– Так что ж – непогода! – Егоровна тоже глянула в мутное стекло. – На то она и мужняя жена. А ты, красавица моя, куда это намылилась?
Лиза отбирала тоненькие тетрадки нот.
– Так в Большой дом, куда ж еще! – Лиза непонимающе посмотрела на няню, пока еще ничего не подозревая. – Родители уехали, а дочка-то меня ждет. Занятия у нас сегодня, разве ты забыла?
– Не будет никаких занятиев, – няня тихо сползла со стула и, смахнув невидимые пылинки, вглядывалась теперь в белоснежную поверхность подоконника. – Отменяю я их!
– Няня, не шути, – Лиза попыталась обойти Егоровну, но та уже обогнала ее, и застыла в дверях. – Как это «отменяю»? Ты что!
– Никуда по такому дождю не пойдешь! Это мое последнее слово. Ничего, разочек пропустите. Небось, не забудет за три дня-то, что выучила.
– Няня, ты что! – Лиза, сталкиваясь с упрямством Егоровны, каждый раз как внове оказывалась в тупике, не зная как бороться с этим, не кричать же. – Там же ребенок ждет!
– Подождет, подождет, да в окошко глянет. Сообразит, поди! Да, делом, каким займется.
– Что значит «делом»? – Лиза топнула ножкой. – А уроки, по-твоему, не дело? А ну, пусти! Я уже и так сильно опаздываю.
– Не пущу, доню, – спокойно стояла на своем нянька. – И кончим на том. Садись. Давай еще про комнатку дорасскажу.
– Да что мне до той пустой комнатки! – уже начинала выходить из себя Лиза от такой нянькиной непробиваемости, когда именно что от той самой пустой комнаты, от крайней в коридоре двери раздался громкий, отчетливый и настойчивый стук.
Няня и Лиза, переглянулись, и обе в испуге забыли ругаться.
***
Егоровна сбегала на кухню за связкой ключей и теперь в волнении все не могла попасть в замочную скважину Наташиной двери. Лиза положила руку ей на согбенную спину:
– Няня, погоди! Это не оттуда!
Стоя рядом, было ясно теперь, что стук раздается из-за той запертой двери в торце коридора, что раньше вела в Большой дом.
– Она заколочена? – почему-то шепотом спросила Лиза, няня покачала головой и начала перебирать ключи на связке.
Распахнувшиеся, наконец, створки открыли взору озадаченных жительниц флигеля живописную картину их гостя, как всегда пребывавшего в это время суток в своем шелковом переливающемся халате. Сегодня он был трезв, но возмущен до крайней степени возбуждения. Бородатый пират без предисловий кинулся в атаку:
– Ну, нельзя же так! Дорогая моя! Я все понимаю, но есть же какие-то границы! Тетенька! Ну, хоть Вы скажите Вашей барышне, что есть какие-то пределы бессердечья! Так нельзя, право же слово! Такой шурум-бурум! Это же жестоко, это же дитя.
– А ну, любезный, говори толком! – прикрикнула Егоровна, заметив повлажневшие глаза Лизы, которая еще от первой встречи с постояльцем осталась в некотором потрясении, тем более, что сейчас он явно предъявлял все свои претензии именно ей. – Что за дитя? Где «бурум» твой?
– Так стрекоза ж та! Муха! – Гаджимханов, снизив голос до интимно-доверительного, обращался теперь исключительно к няне, к которой успел проникнуться непререкаемым доверием. – Я же и говорю вам, царицы мои дорогие! Стоит. Рыдает. Слезы как дождь за окном! Ножку за ножку заплетает. Не уходит. Проснулся. Вышел. Сердце кровью обливается смотреть!
– Ножку заплетает! Ах, ты, Господи! – всплеснула руками впечатленная нарисованной картиной Егоровна.
– Няня! – Лиза сама уже чуть не плакала. – Это все ты! Я же говорила, что она ждать станет. Это же Аленка там плачет, стоит, так, господин хороший?
– Девочка. Дитя, – Руслан Гаджиевич рукой показал рост, страдающего нынче, существа человеческого. – Что Вы изволите на фортепьянах обучать. Икает уж, сердешная.
– Ну, так, бежим скорей к ней! – нянька отодвинула плечом поселенца и проскользнула в его покои.
Лиза и пират остались наедине, глаза в глаза.
– Так я ж для того и…, – он запахнул халат поплотнее, и только сейчас, видимо, заметил свои волосатые ноги в домашних туфлях, выглядывающие из-под него. – Прошу глубокого пардону, милая барышня. Спешил. Дело не терпит отлагательств. Прошу, – он указал ей на дверь в свою половину. – Куда же вы? Не бойтесь! Вернитесь!
Лиза убежала в свою комнату. Она, как нельзя кстати, вспомнила сейчас про зайца, купленного еще в те времена, когда радость жила постоянно в ее душе, а потом напрочь забытого в нижнем ящике. На ходу срывая обертку, она вернулась к, растерявшемуся было, жильцу и благодарным кивком успокоив его, проследовала в Большой дом через его комнаты.
Аленка стояла посреди огромного входного вестибюля, перед закрытыми дверями залы и тихо плакала, упрямо не отвечая на уговоры своей гувернантки, горничной Вересаевых и присоединившейся к ним Егоровны. Увидев Лизу, она зарыдала уже в голос:
– Я знала! Я знала, что ты придешь! А они говорили!
– Господи! Слава Богу! – перекрестилась горничная. – Я уж было испугалась, что снова замолчит. Что ж Вы так, барышня, хоть бы прислали кого, сказать, что урок отменяется.
На Егоровну жалко было смотреть. Променяв благополучие одного ребенка, которым для нее навсегда оставалась Лиза, на спокойствие другого, она не только не выгадала себе ничего, а еще и ловила теперь со всех сторон укоризненные взгляды, обращенные на разлюбезную ей Лизу.
– Я это, люди добрые! Меня казните! – ударила она себя сжатым кулачком в грудь. – Простите тетку неразумную. Деточка, испугалась ты тут одна, милая? А я свою-то в такой дождь не пустила на двор. Прости и ты меня. Я сейчас тебе пирожков сладких принесу. Не плачь, доню!
– Я тут стою, стою…, – все еще всхлипывала Аленка, неожиданно обрадованная таким количеством внимания к себе.
– Смотри, кто попросился ко мне укрыться от дождя, – вступила Лиза, и, присев на корточки, протянула девочке новую игрушку. – Я думаю, что вы подружитесь. Ну, успокаивайся. Все хорошо. Конечно, заниматься в таком состоянии девочка не сможет, – она распрямилась и оглядела собравшихся. – Ну, что? Все переволновались? А давайте я сегодня просто вам поиграю?
Аленку, как главное действующее лицо усадили на стул рядом с роялем, и по кивку своей учительницы, она переворачивала листы в нотах, стоящих на пюпитре. В двух креслах расположились надевший спешно брюки Гаджимханов и утирающая редкие непрошенные слезы Егоровна. На диване затихли, на время оставив дела, и горничная, и гувернантка Вересаевых. Лиза играла. Так и застал их вернувшийся в покинутый флигель Полетаев, увидев его разоренным и опустевшим, услышав запах выкипающего супа из кухни, обнаружив обрывки бумаги на полу в коридоре и заметив настежь распахнутую дверь в Большой дом. Он пошел по следу и теперь застыл в раскрытых дверях залы, завороженный открывшейся ему неожиданно мирной картиной и игрой дочери. Он понял вдруг, что впервые она не напоминает ему свою мать, а, наоборот, удивляет разительным отличием от нее, какой-то новой силой игры, мощью, иным звучанием.
А Лиза не заметила его прихода. Она играла для своих случайных, но таких душевных и единственно возможных именно сейчас слушателей, и чувствовала, как где-то далеко, в том сказочном лесу, ее светящийся колобок выкарабкался, наконец, на край глубоченной ямы, в которой он томился все последнее время, и теперь ему надо только набраться сил, отдышаться и оглядеться.
Эпиталама
***
Если уж что пошло одно за другим наперекосяк, то жди новых напастей. Сергей уломал сестру на ночную поездку к барону, но у него самого на душе скребли кошки и она, эта самая душа, к очередному сборищу ну, никак, не лежала. Таня тоже, хоть и дала себя уговорить, но настроение ее после светского бойкота оставалось подавленным, рисковать вовсе не хотелось, а на душе было погано. Не было прежнего куража. А был страх. Опасения, что, если не дай бог что еще, то уж и тетка не вытащит. Было чувство, что самое умное и правильное сейчас – затаиться, отсидеться, спрятаться, черт возьми! Но денежки. Но угрозы барона. Горбатовы сказались тетке, что едут смотреть новую квартирку Сергея и отбыли в гостиницу, что снимал для своих увеселений старый гном.
Сначала все шло как всегда. Танюша обрядилась, ей помогли улечься, она осталась одна и стала успокаивать дыхание. Песнопения. Свечи. Вокруг нее выстроились гости. Вот с этого момента что-то пошло не так. Не было той торжественной тишины, что всегда сопровождала начало траурной церемонии, раздавались редкие смешки и пусть тихие, но возгласы. Перешептывание, как среди малолетних учеников, одергивания и замечания барона. И запахи! Запахи в этот день были иными, Таня не сразу поняла, в чем дело, сначала думала, что кто-то пришел в несвежем белье. Первый раз она напугалась, когда двинулся ее гроб, и кто-то с репликой: «Пардон!» восстановил его положение, видимо неудачно облокотившись до этого на хрустальную опору. Потом чуть не рассмеялась, когда распорядитель-гном предложил кому-то из «братьев» попрощаться с «сестрой» лично, не боясь до нее дотронуться, а тот в ответ пробормотал басом: «Ух-ты, ух-ты, ягоды и фрухты!» и неловко стянул с Таниной руки браслет.
Из принесенных сегодня вещиц, кроме обычных «жребиев», Тане велели повязать на шею тончайшей выделки платок – невесомый и полупрозрачный как туман, расшитый мелким бисером. Очень красивый! И видно, что дорогой, Таня не отказалась бы оставить его себе насовсем. И вот, видимо, дело дошло до его владельца, и кто-то стал наклоняться к ней все ниже, она даже в полумраке сквозь закрытые веки уловила, как от нее заслонили свет. Тут потребовалась вся ее выдержка и сдержанность, потому что чья-то сильная рука с нажимом провела сначала по ее животу, поднимаясь вверх, потом по упругому бархату платья, натянутому на груди. Таня терпела, хотя такую вульгарность по отношению к ней позволяли впервые.
Рука добралась до ее шеи, шершавыми подушечками пальцев погладила ее открытую в этом месте кожу и стала теребить платок. Тот не поддавался, хотя завязан не был. Хозяин платка, видимо, решил применить обе руки, Таня почуяла, как кто-то навалился на нее всей тяжестью, и, склоняясь прямо к ее лицу, пышет теперь в него запахом перегара и чеснока. Она не успела даже поморщиться, хотела взять себя в руки, а после потребовать от братца компенсации за этакие муки, как тут что-то теплое и мокрое стало колоть ей губы и с напором раздвигать их. Разум потерял силу, сработали инстинкты защиты. Таня завизжала во весь голос.
Она непроизвольно отталкивала от себя несущую непонятную опасность тяжесть, и поэтому присела на своем ложе. По звукам она поняла, что «братья» в панике разбегаются, тоже охваченные страхом. Страхом разоблачения, догадалась она. Сознание возвращалось к ней вместе со способностью рассуждать. Она вытерла обслюнявленный рот ладонью и, сдерживая слезы обиды, открыла-таки глаза. Она все равно ничего не могла разобрать после долгого пребывания в темноте, лишь неясные тени мельтешащих мужчин. Большинство из них были грузными, вероятно пожилыми – она видела их убегающие силуэты в светлом проеме двери. Кто-то опрокинул на пол канделябр с горящими свечами, кто-то, чертыхаясь, на ходу попытался их затушить.
Тут сбоку она заметила фигуру испуганного человека в маске – тот, прежде чем убежать вместе со всеми на свет, пытался привести в порядок свой костюм. Глаза Тани уже постепенно стали привыкать к тусклому освещению и начинали различать детали, она увидела, как между расстегнутых отчего-то пуговиц на брюках мужчины, свисает что-то бледное и длинное. Она закрыла лицо ладонями и теперь орала в голос от какого-то непроизвольного природного ужаса, хотя уже и начала понимать, что это был всего лишь не туда заправленный впопыхах подол сорочки. Но беспорядок в одежде говорил сам за себя, Танин девичий разум не смел допустить тех картин, которые со страху рисовались в ее воображении, и она, не останавливаясь, кричала. Пока не прибежал брат и не обнял ее в опустевшей тишине. Из гостиничного коридора слышны были голоса, хлопающие двери и топот ног.
– Таня, что? – Сергей вглядывался в лицо сестры, потом бегло оглядел ее одежду с ног до головы. – Пойдем!
***
Лишь только они укрылись в отведенных им апартаментах, как Таня со слезами бросилась к кувшину и стала полоскать рот, выплевывая воду в тазик для умывания. Ей казалось, что она никогда теперь не избавится от этого ужасного запаха чеснока! Мерзость какая! Всхлипывая, она коротко рассказала Сергею о случившемся. Раздался стук в дверь. Барон просочился в приоткрытую дверь и тут же набросился на молодых людей с гневным шепотом:
– Вы понимаете, что вы натворили, девица? Сейчас не только мои гости, но и все проживающие в отеле подняты на ноги! – он был бы уморителен в своем парчовом кафтанчике и клюватой маске, если бы не наводил такой холодный ужас свистящим своим голоском и поблескивающими сквозь прорези глазками. – Кто-то уже додумался телефонировать в полицию, с минуты на минуту они будут здесь! Что велите мне делать? А?
– Прежде всего, не орать! – Сергей вышел вперед, заслонив Таню, которая уже успела расстегнуть часть застежки на платье. – Не смейте, милостивый государь, повышать голос на мою сестру! Ей сегодня нанесли оскорбление, и, если Вы забылись, то я о своем дворянском происхождении помню. Вы желаете дуэли?
– Да бог с Вами, – дал отступного гном. – Но, что же делать, что делать? Какая дуэль! Мы тут все того и гляди в острог загремим. Боже! Чтобы я еще хоть раз поддался на уговоры этих столичных вершителей судеб! Пьяные явились, как извозчики. Простите, девица. Это, так сказать, издержки… Но что же делать? Что делать? – Он подошел к окошку и, отодвинув край портьеры, посмотрел во двор. – Ну, все. Вот и они. Теперь никому не удастся выйти незамеченным, мы пропали.
– Вы можете пропадать, сколько Вам угодно! – наполнялся гневом Сергей. – Я к полиции не выйду и к сестре никого не допущу! Это гостиница или что? Это моя территория. На каких условиях вы снимали номера? Никаких имен! Не будут же они ломать двери мирных граждан? Пойдите вон, раз не можете оградить нас. Обратитесь к своим «вершителям», пусть они Вас и спасают со своих горних вершин!
– Ах, Вашими бы устами, да мед пить, молодой человек! – барон вздохнул. – Боюсь, за нынешнее разоблачение их инкогнито, или хоть за угрозу оного, они с меня шкуру спустят, а не спасут. Что же делать? И показной сеанс сорван!
– А какие, черт возьми, у них могут быть к нам… к Вам претензии? – Сергей развернул сестру лицом к дверям спальни, подтолкнул туда и без слов закрыл за ней дверь. – Общеизвестно, что, если поцеловать спящую принцессу, то она оживает. Нечего роптать на неизбежное! Сказка есть сказка. Получите!
– Сказка, сказка, – с сожалением бормотал Корндорф, расставаясь со своим детищем. – А как было задумано! Теперь все прахом. Ах, ты, господи! – он прижал свою лапку ко лбу. – Надо же хоть венец спасти, такие деньжищи вложены. А гроб! Боже! Что будет, когда полиция увидит гроб!
Он выбежал в коридор, Сергей неохотно последовал за ним. В комнате-тереме все было в разоренном состоянии, как они ее и оставили. Корндорф схватил и прижал к груди тяжелую самоцветную корону и с сожалением смотрел на неподъемное хрустальное ложе.
– Господин барон, – раздался негромкий бас в коридоре. – Где Вы, господин барон?
– О, боже! – Корндорф в ужасе поглядел на Сергея. – Вы с открытым лицом!
Сергей судорожно огляделся и, заметив на полу брошенное кем-то домино, брезгливо надел его на глаза, чувствуя холод чужого пота на подкладке. В двери вошел огромного роста мужчина, с аккуратной бородой на широком лице и в маске, отливающей серебром. Одет он был по-театральному и определить его принадлежность к какому-либо слою общества было затруднительно. Он кашлянул в кулак, как бы, не решаясь о чем-то спросить. Или не понимая, как вести себя при Сергее.
– Ах, это Вы! – как будто с облегчением выдохнул гном. – Будем называть друг друга по-прежнему «братьями», а это мой… мой молодой помощник, ему можно доверять. Но прошу, господа, никаких имен и подробностей, будьте аккуратны! Что Вы хотели… «брат»?
– Так, надо же что-то предпринимать, как я понимаю? Выбираться, так сказать. Ух-ты, ух-ты, ягоды и фрухты! Вот положеньице-то создалось!
Барон в прямом смысле схватился за голову:
– Если откроется имя нашего столичного гостя! Я даже представить себе боюсь! Еще этот антураж. Газеты! Репортеры! Ох, я не могу!
– Вы уж смогите, милостивый… «брат» мой, – пробасила Серебряная Маска. – И я – чем могу. А гостю нашему неплохо бы и промолчать! Собственно, из-за его выходки все и произошло. Ну, да ладно, что уж теперь… Под своим ли именем нанимали Вы эти апартаменты, барон?
– Как можно-с! Никак нет! – ответствовал гном человеку, по всей видимости, привыкшему не только задавать вопросы, но и слышать на них незамедлительные ответы. – Так что предъявить права на собственность не смогу-с. Пропадет все!
– А у молодого человека есть свои комнаты? – спросил бас и, услышав утвердительный ответ, продолжил распоряжения. – Далеко? В этом же этаже? Отлично! Подмогните, господа!
Он скинул из ложа ворох тканей, расстелил их на полу и одним могучим движением снял хрустальный гроб с постамента. Схватившись за концы полотнища, он потащил его к выходу, Сергей стал подталкивать гроб в корму, а барон сгрузил внутрь корону и теперь направлял движение процессии по коридорам. Лишь только затащив реквизит на половину Горбатовых, заговорщики перевели дух, как тут же услыхали в коридоре топот сапог и командные голоса полиции.
– Если возложите на себя переговоры с администрацией данного заведения, то этих беру на себя! – шепотом командовал бас. – Да! Ух-ты, ух-ты, ягоды и фрухты! И не пожалейте денег, барон! Надо мгновенно разыскать девицу, которую мы сможем предъявить им как потерпевшую. Визг-то все этажи слышали. Чтобы говорила складно, но никого из нас не признавала и лишнего не сболтнула бы. Найдите посообразительней! При гостиницах такие должны быть. И придумайте с ней что-нибудь на скорую руку – мыши там, или таракан. Ну, сами, сами!
Он обернулся, кивнул Сергею, прижав палец к губам, вытолкнул Корндорфа вперед себя за дверь и все стихло.
Через четверть часа в дверь постучались.
– Кто? – сонным голосом ответил, не отворяя, Сергей.
– Полиция. Вас ничто не потревожило, господин гость? Отоприте.
– Я не одет, а в чем дело? У меня нет никаких претензий. Мы спим.
– Простите. Не смеем Вас тревожить, раз Вы все равно ничего не слыхали.
И шаги по коридору удалились. Еще через полчаса Сергей наблюдал из-за занавески, как все полицейские гуртом отбывали из особняка гостиницы. Никого посторонних – штатских или задержанных – при них не было. На этот раз обошлось.
***
Август перевалил за свою середину. Тася варила варенья, как и обещала, У Глеба начались занятия в гимназии, а Клим подвизался при заезжем купчике, и сегодня ему заплатили за всю неделю разом. Он забежал в лавочку и накупил сладостей, чтобы вечером устроить большое чаепитие. С семьей. Так он себе говорил теперь постоянно и становилось от того сладко и на душе. Семья. Тасечка, дети. Он еще никак не мог себе позволить думать про них «моя семья». Не в смысле совместного проживания, это было само собой, а в плане мечтаний, что это все основательно, с ним неразрывно связано. Навсегда. Пришли эти мысли к нему впервые тогда, когда стояли они в прихожей, обнявшись с Тасечкой, не только как родные люди, а как люди близкие, как только между ними, двоими, быть могло, а ни с кем иным. И побежали его мысли вдаль уж на следующий же день. Он смотрел на деток, на их мамку и думал, а вдруг? Ну, вот, может же так статься, что… Нет! Так дерзко его мысль пока не забегала, но думки все равно никуда не девались, вертелись вокруг очага и душевного уюта. Что там, впереди? Бог знает.
Он высыпал гостинцы на стол. Таисия стала раскладывать их «по своим местам», а Стаська, сидя на высоком стуле за кухонным столом, норовила стянуть выпавшую баранку. Клим спросил, где племянник. Оказалось, еще не пришел с занятий. Утром не хотел идти туда, все просил мать потрогать ему лоб, намекая, что он простудился, но номер не вышел, и пойти учиться все-таки пришлось. А вот теперь все нет и нет его, а уж давно должен был быть. И обед остыл.
– Странно, – Клим о капризах Глеба узнавал впервые. – Глебушка вроде от учебы никогда не уставал, все с книжкой сидит, как ни зайду.
– Ты б расспросил его при случае, может тебе, что толком скажет? – Тася переживала. – Он теперь при мне и раздеться-то стесняется, взрослый стал. И не говорит ничего. А я тут случайно углядела, у него на пол-ноги синяк огромный. Говорит – с яблони свалился, как намедни лазил. Ох.
– Да не переживай, – улыбнулся Клим. – У мальчишек всегда так. Не яблоня, так яма какая, или колючки в зарослях. Пройдет.
– Кушать сильно хочешь? Или подождем его?
– Да подождем, – Клим хотел собраться всем вместе, то самое и предвкушал весь день. – Я пока наверх к себе поднимусь. Кликнешь.
Клим спустился сам, услышав внизу голоса, но оказалось, что это в очередной раз зашел Леврецкий. Он теперь заходил все чаще, видимо, стараясь не упустить ни одного случая перед скорым отъездом. В доме все к нему привыкли и считали за «своего». Тася усадила мужчин обедать, только что разогрев еду второй раз. Племянника так и не было.
– Сам виноват, – Тася разливала щи по тарелкам. – Потом покормлю его, пусть один обедает, нельзя же так!
Она взяла Стаську на руки и кормила с ложки, что явно не нравилось их гостю, но он тактично молчал. Хлопнула калитка во дворе, но в дом так никто и не заходил. Тася несколько минут прислушивалась, а потом не выдержала, сняла дочь с колен, посадила на высокий стульчик, пододвинула ближе тарелку, а сама пошла к дверям. Стаська недовольно стала елозить ложкой в супе, разбрызгивая капли по столу.
– Стасенька, не балуйся! – сказал Клим.
– Да она наверно не умеет сама кушать, да? – вполне серьезно спросил Корней Степанович, не сюсюкая, а смотря прямо на девочку.
– Умею! – ответила та и показала ему язык.
– Не верю, – гость был серьезен. – Покажи тогда.
– А я не хочу! – Стаська снова опустила ложку на самое дно и выжидающе смотрела на собеседника, прикидывая, можно ли при нем дать по рукоятке ложки ладошкой, чтобы капуста разлетелась по всей кухне, но было боязно.
– Ну, не хочешь, так тому и быть, – спокойно ответил Корней Степанович и отодвинул тарелку так далеко от Стаськи, что и не дотянуться.
– Отдай, отдай! – заголосила та. – Противный! Я маме скажу.
– Что скажешь? – так же серьезно продолжал свою линию гость. – Что супа не хочешь? Так она то же самое сделает. Зачем тебе тарелка, если не хочешь?
– Хочу! – при матери Стаська давно бы уж ревела в голос, а тут почему-то у нее не получалось.
– Хочешь супа? – гость смотрел ей в глаза.
– Хочу.
– Будешь кушать?
– Буду.
Леврецкий вернул тарелку на место. Тут со двора раздался короткий Тасин возглас, а потом все услышали, как она причитает над кем-то. Входная дверь распахнулась и, впихнув впереди себя сына, Тася продолжала голосить:
– Что же это такое, люди добрые! Полюбуйтесь на красавца! Где же тебя так угораздило, окаянный? Охо-хонюшки беда-то какая, беда! Это что ж за напасть-то такая! А ну говори! С кем был, кто тебя так разукрасил?
Она развернула Глеба к себе лицом, но тот вырвался и, убежав к себе не раздеваясь, захлопнул перед матерью дверь. Мужчины успели рассмотреть, что на лбу у него красовалась огромная ссадина, а форменная гимназическая курточка была испорчена – один рукав надорван, а вся грудь и сорочка залиты кровищей, хлеставшей до этого у него из носа, а теперь размазанной разводами по всему лицу.
– Глеб, открой! Открой сейчас же! – кричала испуганная мать. – Представляете, выхожу, а он у бочки отмывается!
Клим оставил еду и подошел к ней. Вдвоем они стучали в комнату Глеба, но в ответ не раздавалось ни звука. Леврецкий невозмутимо продолжал трапезу, Стася от страха тоже взялась за ложку и кидала испуганные взгляды то на мечущуюся в прихожей мать, то на спокойного дядьку за столом. Он проглотил очередную ложку щей и подмигнул ей. Она засмеялась и тоже стала кушать.
– Нет, ну, что ж это такое! – Тася вместе с Климом вернулась, ничего у них не вышло. – Климушка, где топор наш? Давай ломать станем!
– Ничего ломать не надо, – вступил вдруг Леврецкий. – Чего все повскакивали, садитесь доедать. Вон щи, какие вкусные, правда, Стася?
– Правда, – девочка теперь была на стороне вразумительного дядьки, который не метался по всему дому, и с ним было вовсе не так страшно. – Мама, почему вы ругаетесь?
– Да ну, что ты, доченька. Никто не ругается, – притихла мать.
– А за что вы братика топором хотите? – в глазах у девочки появились слезы, а Тася охнула и осела на табуретку.
– Ты не поняла, – так же невозмутимо сказал Леврецкий. – Конечно, не братика, а наоборот, это они за него волнуются, и поэтому хотели дверь ломать. Но я думаю, он скоро сам выйдет. А дверь-то жалко, как думаешь?
– Жалко, – Стаська снова принялась за еду. – Холосая верь…
***
– Не пойму я Вас, Корней Степанович, – с нарастающим гневом начала Таисия. – Конечно, Вам-то что за дело. А это мой сын!
– Таисия Николаевна, голубушка, – Леврецкий отложил ложку в сторону. – Не наводите напраслину, Вы сейчас в таком нервном состоянии, что потом все по-другому покажется. Не обижайте зазря. Глеб – сын Ваш, Анастасия – дочка. Ее-то зачем пугаете? А с мальчиком что? Ну, подрался, видимо. Глаза целы, из носа больше не течет, это видно. Руки-ноги вроде на месте, значит, экстренного вмешательства не требуется. Все остальное можно выяснить позже, когда все страсти утихнут. Вот Стасеньку спать уложите, и поговорим. И Глеб к тому времени уж отойдет, я думаю. Давайте, что там у Вас на второе?
– Корней Степанович, удивляюсь Вашему спокойствию, – Клим покачал головой. – Как Вам это удается? Вы как-то изменились, раньше все тоже переживали по каждому поводу. Неужели, наследство так влияет на характер человека?
– Не знаю, голубчик, не могу ответить, – Леврецкий намазывал маслом бутерброд. – Как наследник я еще не жил ни дня, так пока, только на бумагах. А вот, что твердый путь перед собой стал видеть, так этим с вами, друзья мои, могу откровенно поделиться. А с тех пор и в душе покой и ясность образовались.
Они спокойно доели и Тася пошла укладывать девочку. Клим поставил самовар. Да, не таким он представлял нынешнее застолье. Скрипнула дверь, в прихожую выглянул Глеб. Он увидел, что матери нету поблизости и прямо босиком, чтобы быстрее было, побежал к входной двери.
– Глеб, ты куда? – крикнул ему в спину дядя. – А ну, постой!
– Я в уборную! – мальчик убежал.
Клим остался в прихожей и ждал его возвращения. Глеб, вернувшись, нехотя остановился подле дяди и, опустив голову, молчал.
– Глебушка, ну что случилось? Ты скажи!
Тот упрямо молчал. Послышались Тасины шаги. Глеб беспомощно взглянул на Клима, обогнул его и снова укрылся у себя в комнате, дядя не успел перехватить его.
– Глеб! – снова стучался он в дверь.
– Ну, что? Выходил? – Тася не знала, что теперь и делать-то. – Ему же плохо, я же чувствую. Давай все-таки выломаем дверь? А то вдруг чего…
– Ему действительно плохо, – за спиной родственников стоял теперь и Леврецкий. – У парня явные неприятности. Да такие, что приходится отстаивать себя с кулаками. Если и в родном доме нельзя укрыться, то зачем он тогда вообще нужен? Оставьте его в покое. Сам расскажет, когда созреет.
– А мне прикажете ждать той зрелости? – снова начала повышать голос Тася. – Ничего не понимая, не зная, чем помочь? Вы черствый человек, Вы ничего не понимаете! У Вас своих детей нет, как Вы можете что-то говорить!
– Детей нет, – спокойно продолжал Леврецкий. – Но сам-то я помню, как был таким же в его годы. Вы чем ему сейчас помогаете, тем, что кричите на него, требуете чего-то? Чего? Доклада по форме? Вы близкие люди или жандармерия?
– Я завтра к его учителю схожу, – вдруг, почувствовав свою ответственность за племянника, решил Клим. – Там все узнаю!
– Не смейте, не смейте! – раздалось вдруг из-за запертой двери. – Если вы только пойдете! Если кто-нибудь еще узнает! Я тогда… Я тогда из окна прыгну! Или вовсе из дома убегу!
– Узнают что? – припала к двери Тася и говорила, почти прижавшись к ней губами. – Сыночка, выходи.
– Учитель должен отвечать за все, что происходит с тобой в классе, – громко сказал Леврецкий. – Никто, конечно, к нему не пойдет, но как вышло, что он допустил кровопролитие?
– Отойдите все от двери! – крикнул Глеб.
Тася вопросительно посмотрела на Клима, тот пожал плечами. Тогда она посмотрела на Леврецкого. Тот ничего не ответил, а развернулся и, сделав несколько шагов, занял свое место за столом в кухне, откуда прекрасно просматривалась вся прихожая и двери, ведущие из нее в комнаты. Тася последовала за ним. Клим потянулся сзади. После пары минут тишины, дверь скрипнула и приоткрылась. Из-за нее в щель высунулась голова Глеба.
– Он не знает, – шмыгнула голова носом. – Они в классе как все, а после уроков дразнятся.
– Как дразнятся? – опешила Тася.
– По всей вероятности обидно они дразнятся, – рассудил Леврецкий. – А ты что?
– А я не слушал сначала, мимо хотел пройти…
– А они что? – Леврецкий продолжал расспросы. – Да ты иди уже сюда, что мы, через коридор так и будем перекрикиваться? Вон и чай поспел. Так что они?
– Они стали подкарауливать и сзади бежать всю дорогу, – Глеб вышел из-за двери, но к столу не спешил.
– Ну, клещами из тебя тянуть что ли? – Леврецкий указал Глебу на пустующий стул рядом с собой, тот нехотя поплелся к кухне.
– А я все равно, хотел внимания не обращать, – Глеб сел на стул. – Мама всегда говорит: «Будь умнее».
– Ну, правильно! – вклинилась Тася. – Что дураков-то слушать!
– Ну, эти «дураки», как домой приходят, так для своих родителей Ванюшками да Кирюшками становятся. – Леврецкий сегодня с Тасей видимо не во всем был согласен и смотрел не на нее, а на Глеба. – Это только стаей они считают себя грозной силой. Сколько их?
– Трое, – потупился Глеб. – Это когда Ганьки с ними нету.
– А так, значит, и четверо собирается? – Леврецкий был невозмутим. – Ну, это многовато. А с троими можно совладать. Если знать как.
– Да Вы что! – Тася аж задохнулась. – Вы чему сына моего учите? Никаких драк больше! Это ж позор какой! На всю улицу, на всю гимназию! В чем ты еще туда завтра идти собираешься?
Глеб опустил глаза и стал сползать со стула.
– Ну, все, не за столом такие вещи выяснять, – почему-то сегодня командовал в их доме Корней Степанович. – Таисия Николаевна, Вы чашечку-то Глебу поставьте! Давайте чай пить. Сиди, сиди.
– Все можно разъяснить словами! – Тася продолжала свое, но чашку с полки сняла. – Кулаки – последнее дело!
Глеб молчал и, кажется, из всех сил пытался не разреветься.
– Согласен, Таисия Николаевна! – Леврецкий показал Глебу на сахарницу и тот потянулся и передал ее гостю. – Лучшая драка, как говаривают, это та, которой удалось избежать. Но почему Вы считаете, что слова не были сказаны? Почему Вы отказываете своему сыну в этом? Почему не верите, что нынче и было то «последнее», крайнее дело, когда с кулаками и никак больше? Они первые начали?
Глеб кивнул.
– Они третьего дня меня в овраг столкнули, еле вылез. А нынче камнями стали кидать и все кричали: «Твоя мать блаженная!»
– Ну, и молодец, что за маму заступился, – Леврецкий посмотрел на хозяев, Тася плакала.
– Нет, я так этого не оставлю! – взбеленился Клим. – Это кто ж такие? Скажи, скажи! Я и в гимназию! И родителей их!
– Я ничего вам не скажу больше! – снова завопил Глеб. – Если вы только пойдете! Если только скажете!
– Камнями – это совсем не дело! – Корней Степанович нахмурился. – Как дошло до такого? Ты ж понимаешь, что они не только тебя, а кого-нибудь из малышей так подкараулить могут?
– Нет, они только меня, – захлебывался уже навзрыд Глеб.
– Чем же ты так перед ними отличился? – Леврецкий теперь вел беседу, а мать и дядя уступили ему это право, лишь замерев и слушая.
– Они! Они! – Глеб размазывал слезы вперемешку с оставшейся на лице кровью. – Они говорят, я не мальчик вовсе. Они говорят, я столько времени с юбками сижу, что сам стал девчонкой. Они говорят, что у меня сиськи растут как у бабы.
– А ты? – спокойствие Леврецкого было нечеловеческим, как казалось Климу, он бы сам уже давно вышел из себя, вспылил, возмутился, а сейчас только завороженно слушал, не смея вступить, и только изредка поглядывал на Тасю.
– А я сегодня и решил доказать, что я парень! Я рыжего отмутузил, а потом те двое меня за руки схватили и он мне по морде, по морде!
– Запомни навсегда, – твердо произнес Корней Степанович. – Морда у мопса, у тебя – лицо. Будешь знать это твердо, каждый встречный это тоже увидит. И сто раз задумается тронуть ли!
– Вы их не видали! – ревел Глеб. – Им хоть кол на голове теши!
– Я в юности английскому боксу обучался. Кое-что помню. Хочешь, научу?
– Правда? – рыдания стали затихать.
– Правда, – Леврецкий говорил так твердо, что не поверить ему было невозможно. – Только знай, что это борьба джентльменов. Значит, придется тебе твоим врагам объяснять, что будешь с ними исключительно один на один сражаться. Это уже не ко мне, это уж ты сам сумей!
– А сейчас мне что делать? – снова скривил губы мальчик. – Пока я ничего не умею? Я даже убежать от них не могу. Я бегаю плохо. Я толстый!
– Ну, ты еще зареви снова! – Леврецкий протянул Тасе свою пустую чашку. – Таисия Николаевна, налейте-ка еще! А к тебе, друг мой, у меня будет просьба. Ну, или задание, как хочешь. Ты поройся в своих книжках, попроси у дяди газет да журналов. Найди мне там парочку… Нет! Три! Найди три портрета тучных людей. Людей известных, своему Отечеству пользу приносящих. Которыми гордиться не только можно, но и должно! И их жизнеописания. И в тетрадочку выпиши. Я в другой раз зайду, а ты мне почитаешь. Сговорились?
***
У Танюши завелся тайный поклонник. В его появлениях не было никакой регулярности, но частенько по вечерам Таня стала замечать всадника, гарцующего в проулке перед забором тетушкиного особняка. Так как ей и мысли не приходило, что кто-то может интересовать молодого мужчину в их доме, кроме нее самой, то он и был присвоен молодой хозяйкой в качестве трофея. Поклонник был в офицерском мундире, но разглядеть издалека его звание и личность не представлялось возможным, а днем он Тане на пути до времени не попадался, пока они не столкнулись с ним почти нос к носу около тетушкиных ворот – Сергей вез ее домой со своей новой квартиры. Поклонник оказался тем самым молодым человеком, что так навязчиво рассматривал ее из ложи в день визита императорской четы.
– Батюшки! – воскликнул брат, разглядывая из-за занавески кареты опешившего от неожиданной встречи поручика, который и ему показался знакомым. – Что, интересно, здесь поделывает этот тип? Не помню его фамилии, но он изображал раба на пикнике Мимозова, я точно помню это лицо!
– То-то мне тогда показалось, что я видела его еще до театра! – Таня прилипла к окошку. – Ты напомнил где.
Подобное внимание было забавным и очень льстило Танюше, но пойти на более близкое знакомство со странным ухажером ей на ум не приходило вовсе. Она лишь улыбалась, замечая его фигуру за окном, когда расчесывала волосы перед сном. Здесь? Очень хорошо! И ладно. Но сближение все-таки состоялось – случай выдался.
Перепробовав все знакомые ей способы собрать собственный кружок в теткином доме, тем самым склонив хоть часть светского общества обратно на свою сторону, Таня почти отчаялась от неудачных попыток. Но это была бы не она, если бы навсегда «опустила руки». Наоборот, припомнив недавнее свое институтское прошлое, решила Танюша и дома повторить тот забытый маневр, когда желаемое можно заполучить не своими, а чужими руками. К ней не пошли – пойдут к тетушке! Так то! И Таня принялась действовать с новым приливом энтузиазма.
– Дорогая тетушка, – как бы невзначай проговорилась она за завтраком. – Вы больше каких композиторов жалуете, наших или немецких?
– Что это ты моими музыкальными вкусами озаботилась? – усмехнулась Удальцова. – На что тебе?
– Да так, – загадочно протянула Таня, глядя в потолок. – Вот, если б для Вас дивертисмент кто пожелал составить, то что бы пришлось ближе Вашей душеньке – музыкальный вечер из сочинений одного только, предположим, Чайковского? Или, скажем, Гайдна? Тогда можно позвать и скрипки, и альты.
– Так он австрияк вроде? – тетушка не сдавала позиций и в умильность семейной идиллии сразу не кидалась.
– Ma tante, ну, тогда может быть из Моцарта? – Таня начала раздражаться.
– Да, с языками у тебя дело обстоит явно лучше, чем с географией, – тетушка усмехнулась, намазывая масло на тонкий ломтик подсушенного хлеба, ей явно нравились подобные завтраки с редкими для их семейства мирными пикировками. – Что за всем этим, говори суть?
– Ну, что Вы, право, тетя, – делано ретировалась племянница. – Сразу как договор подписываете. Не с приказчиками же! Мы хотели сюрприз…
– Кто это «мы»? – насторожился оказавшийся сегодня дома Сергей, коим вопросом и сдал сестру с потрохами.
– «Мы», Сережа, это мы с тобой! – с напором, поддержанным приподнятыми бровями, обратилась в его сторону Таня. – Ну, помнишь, мы же говорили?
Сергей тут же собрался откреститься от ему не известного плана, но увидев поджатые губки сестры, промолчал, а тетушке загадочно улыбнулся, склонив голову набок, что можно было истолковать как угодно – и как плохую память, и как пассивную поддержку сестры, и как снисходительность к ее фантазиям.
– Ах, тетя! – Таня отставила свою чашку, и теперь, когда все положенные реверансы были совершены, с воодушевлением выдавала заготовленный заранее текст. – Грядет такое событие в нашей семье! Никак нельзя пропустить, сезон начинается, уже можно.
– Что можно? – не поняла Удальцова. – И что за событие? Не припомню, душа моя.
– Как же! – Таня вновь приподняла бровки. – Первый день осени – Ваш день, тетушка! Ваше рожденье. Сентябрь уже на носу, разве Вы забыли?
– Поди ж ты! – рассмеялась тетка. – Вот уж праздник нашла. Сроду в нашем доме его не справляли. То ли дело – именины. Это День ангела всегда с пышностью проводили, ты запамятовала. А то… Так, пустячок какой мне вручали, когда маленькие были, вот и все семейное торжество. Мы, Таня, всегда сезон в городе закрывали своими вечерами, а не открывали. Что это ты решила переиначить?
– Я, тетушка, сколь вечеров Ваших пропустила? – Таня вроде как пригорюнилась. – И этим маем я еще в Институте доучивалась, никак не успевала. А так хочется Вам радость устроить, я до весны не дотерплю, Вы столько для меня делаете, родная моя, любимая…
– Ну, будет, будет! – все-таки растрогалась Гликерия Ивановна. – А то сейчас поверю тебе, так обе разрыдаемся. Что ж! Осенний мясоед пришел, можно и повеселиться. Давай, собирай свой дивертисмент, хоть из русских, хоть из итальянских. Мне все в радость, что от души! Или ты надумала, кого из оперных звать?
– Нет, тетушка, – Таня сложила ладошки, как примерная девочка, радуясь, что затея ее удается. – Я придумала позвать тех, кто сам может музыкальный номер представить. А так как этот вечер Вам посвящается, то уж, если и звать кого, так только нашего круга, близких дому. А если из моих ровесников кого, то в сопровождении старших. Вот и хотелось бы узнать заранее, кого бы Вам приятно было у себя видеть?
– И стар, и млад? – тетушка улыбалась. – Это ты хорошо сообразила! Ну, прежде всего Анну Никитичну зови, она моя первая подруга, да и тебя в детстве пению именно она обучать начала, как помнишь. Может, дуэт с ней какой-нибудь нынче составите? Не смотри, что она старше меня будет, она еще, ого-го, в каком голосе! Ну, Никитку с Иваном Колывановых, наверняка, как думаешь? И тенора неплохие, да и родня все ж, хоть и дальняя. А дальше сама решай. Из твоих знакомцев позови обязательно тех, что тогда отписались с извинениями. Князя Урицкого с дочерями, да того седого господина приятной наружности. Полетаев, кажется? Вы еще с его дочкой вместе курс проходили. Ну, и с Богом!
Таня была довольна развитием событий и к присутствию нудной Лизы Полетаевой у себя в доме была готова еще с прошлого раза. Ничего, один вечер потерпит, зато ее отец – как раз тетушкиного круга. А вот Сергей, услышав знакомое имя, побледнел, и стал заранее думать, как бы изящнее отстраниться от Татьяниного «дивертисмента». В его планы встреча с Лизой не вписывалась никаким образом, и зачем она сестре, он вовсе не понимал. Ничего, время еще есть, он что-нибудь придумает. Таня начала кипучую деятельность, понимая, что та будет завтра же поддержана тетушкиными рассказами всем знакомым «по секрету» о том, какой подарок готовят ей благодарные племянники. Жизнь налаживалась.
***
Как только что-либо желаемое попадало Сергею в руки, он очень быстро к этому охладевал. Так случилось и с новой квартиркой. Оказалось, что коротать одному вечера довольно скучно, обслуживать себя самому довольно хлопотно, а нанимать самому прислугу – довольно накладно. Ночевать Сергей все чаще стал у тетушки, а пару раз в неделю заезжал и к Варваре. Так что записку барона он обнаружил лишь в субботу. Корндорф после угрозы дуэлью присмирел, вызывать раздражение Сергея опасался, по женским адресам искать его не смел и смиренно ждал ответного письма. Сергей назначил встречу в городе. Барон сидел за столиком кафе, не похожий на себя, с видом покорным и каким-то жалким. Жаловался на здоровье, но все никак не решался углубиться в тему, ради которой вызвал своего визави.
– Не тяните, барон! – Горбатову уже надоело выслушивать про ноющую боль в ногах и про поясницу. – Очередной сбор?
– Голубчик! Выручайте!
От барона такое обращение Сергей слышал впервые и усмехнулся:
– И как Вы себе это представляете? После всего произошедшего?
– Да уж, понесли мы потери, – вздохнул барон. – А все ж… Нехорошо бросать на полпути, как считаете? Хотя и людишки мои из Клуба побаиваются. Сомневаются. Желающих все меньше – из тех, кто жаждал, некоторые и по два раза уже поигрались.
– Ну, и успокоились бы на том! – у Сергея затеи гнома больше не вызывали былого энтузиазма, а страх был свеж.
– Во вторник. В моем собственном доме, – Корндорф мусолил перчатки, от его былого высокомерия оставались лишь жалкие крохи, со старичком явно что-то происходило помимо «сказочных» неудач. – Помещение в особняке приспособим! Благо, что реквизит удалось спасти тогда. И гостей разместим, места полно. Только молю! Выждите с сестрицей время, пока племянник выедет за ворота. Посидите в карете. При нем не могу даже предупредить вас заранее, но на договоренный вечер отошлю его под любым предлогом!
– Что за племянник взялся? – удивился Сергей. – Раньше Вы не упоминали.
– Менять надо программу-то нашу, – не слыша вопроса Сергея, размышлял Кондорф вслух. – Что бы еще такое изобразить? Вот Афанасьева на досуге перечитываю. Ищу. Может царь-девица? А? Вода с рук течет живая и мертвая. Шампанское бы приспособили! Или коньячок. Уж больно фактура хороша! Да и выдержкой Вашу сестрицу бог не обидел. Эх…
– Кто-нибудь еще из домашних может нарушить наше инкогнито? – сомнения Сергея так и не ослабевали, а вздохи барона их только усиливали.
– Никто, никто, уверяю, – приложил лапки к груди гном. – Слуги преданы мне, гости, сами знаете, какого ранга бывают.
– Рискованно, барон! – Сергей хотел бы закончить сношения со «сказочником» навсегда, нужды в деньгах сейчас сиюминутной не было, а опасность прошла так недавно и так близко, что уговоры барона действия своего не возымели. – Так, что за племянник-то у Вас объявился?
– Вот, объявился, – развел руками барон. – Молодой. Резвый! Покойная сестрица подсуропила опекунство. Трое нас было, да брат-то мой в Россию – ни ногой, никак не желает. Так что на мне здесь все! Да и старший я изо всех. Ну, да пару месяцев всего и осталось. Там избавлюсь от обузы. Племянник-то и чин офицерский уж получил. Вырос, бог дал. Да он и редко наезжает – все больше в полку, да в полку. Нынче вот задержался. Отпуск.
– Во вторник никак невозможно, – отказал Горбатов. – У нас семейное торжество грядет, сестра полностью занята его подготовкой. Так что, раньше будущего месяца и не мыслите.
– Что за торжество? – поинтересовался барон.
Сергей рассказал, не видя смысла скрывать то, что через пару дней появится в газетах. Барон внезапно воодушевился.
– Друг мой! А как бы нам с племянником оказаться среди приглашенных, не посодействуете?
– Да Вы с ума сошли! – опешил Сергей. – Как Вы желаете явиться перед сестрой? Без маски? Да она узнает Вас мгновенно – по росту, по голосу. Нет! Невозможно!
– Да пусть уж узнает, что там, – вздохнул гном. – Мне племянник всю плешь проел вашей фамилией, все просит знакомства, а тут случай. Вы уж посодействуйте, милый мой, прошу.
– Да черт Вас разберет! – вспылил Сергей. – То – тайна тайная, то «пусть»! Вы как-то сдали, барон. Поплохели. Даже выглядите как-то вон…
– Четыреста рубликов, – прервал его барон. – Оставляю вам с сестрицей тот удвоенный гонорар наперед, что и в прошлый раз. Эх, да что уж! Раз за апартаменты нынче платить не надо… Пятьсот!
– Идите Вы к дьяволу, – устало сказал Сергей. – Ладно. Попробую. Но это же не вечер по билетам, это суаре для близких и знакомых. Вечно Вы соорудите все, не как у людей! Это ж семейный праздник, подарок от нас тетушке! Ваш племянник-то хоть музицирует? Или, может, Вы сами желаете исполнить…
– Да кто ж нынче не музицирует, молодой человек! Скажу – так новейшее что выучит за неделю. Он на все готов, лишь бы в ваш дом попасть, я же вижу. Хотя – что ему там, не говорит.
– Хорошо, – Сергей встал из-за столика, не расплатившись, предоставляя это приглашающей стороне. – Наш разговор продолжим позже. Приглашения вам пришлют, а вот меня, увольте! Меня на том вечере Вы не застанете, с тетушкой я это сам улажу, а с вами встречаться на ее глазах не желаю. И не смейте узнавать сестру!
– Как прикажете, господин хороший, – покорно кивнул барон, но в глазу его сверкнул такой нехороший блеск, что Сергея аж передернуло.
***
Единственным развлечением, пока не утратившим прелесть совей новизны, для Сергея, как ни странно, оставалась его новая служба. Будучи человеком не глупым, понимающим, что придя, грубо говоря, с улицы, не зная ни правил, ни структуры, ни субординации и интересов сторон, ни цен, ни выгод, ни рисков – не зная всего этого, влезать в управление делами целого пароходства, было по меньшей мере самонадеянно. А по большей – глупо. Но и с первого дня заявить о своей некомпетентности, это тоже был путь не самый умный. Сергей избрал себе некую тактику – сразу ни на что не соглашаться, создавать вид раздумий и прикидок, а принимать решения, исходя из простой схемы: дважды отказать, на третий раз согласиться. Этого хватило на время притирки и узнавания внутренней кухни. После появились людишки, которые ввели нового управляющего в курс всех дел, а его благосклонность стали щедро оплачивать. Не всегда напрямую деньгами. Услугами. Знакомствами.
Сергей за последний месяц узнал множество мест в своем родном городе, где можно было отдохнуть по-королевски. Правда, иногда это были места такого рода, что вот сюда свою сестрицу он точно привести не решился бы никогда. И вообще любую даму. Приличную даму. Больше всего нравилось Сергею то, что это практически ничего ему не стоило – платили всегда те, кто приглашал. Также удивительным для него стало обнаружение в новом окружении тех, кто знал толк и в такого рода удовольствиях, как его любимое лекарство. Оказалось, что оно пользуется довольно широким спросом, а есть и смельчаки, которые употребляют его даже в присутственных местах. Собственно, так он и познакомился с оными, хотя сам предпочитал расслабляться без посторонних глаз, у себя на квартирке.
Как-то Горбатов пригласил к себе двоих новых приятелей, и они кутили всю ночь. Причем к порошку добавляли еще и не малое количество горячительных напитков. Под утро он очнулся на квартирке один, видимо, приятели разъехались, хотя он этого и не помнил. Очень болела шея, голова раскалывалась и почему-то сильно тянуло в груди. Сергей пожалел, что здесь нет его камердинера, и подумал попросить его у тетушки хотя бы на пару дней в неделю, пусть себе приходит. Он решил нынче в Пароходство не ехать, а лечить подобное подобным.
Когда Сергей третий день не объявился на службе, Варвара забила тревогу во все колокола. Она стала опраивать служащих, те отводили глаза, но ничего конкретного сказать не желали. Поймав пару усмешек за спиной, Варвара решила действовать на свой страх и риск. Хотя Сергей сразу же пресек ее попытки приезжать к нему на новую квартиру без предварительной договоренности, она решила, что нынешний случай является исключением.
Телефонный аппарат у Сергея дома установлен не был. Она велела кучеру ехать по адресу, долго дергала звонок при входе, стучала, никто не открыл. Тогда она решила ехать к себе домой, где у нее хранились запасные ключи. По дороге передумала, убедив себя, что напрасно тревожится, что Сергей часто стал ночевать у тетки, а на службу мог не явиться по каким-то своим соображениям. А вдруг он болен? Надо поехать туда и справиться. Но! Но, если она покажется на глаза его родным, и вынудит его выйти к ней, то… Ох! Он не простит. На Удальцову и все, что с ней связано, меж сожителями объявлено было строжайшее табу, даже в разговорах.
Тут Варваре пришло в голову, что пока она мечется по всему городу, Сергей, возможно уже сидит в кабинете, в Пароходстве, и сам не может объяснить себе ее отсутствия. И что, опять-таки, он не простит ей такого ажиотажа вокруг его персоны из-за простого опоздания. Она помчалась туда. Сергея на службе не было, он не объявлялся. Варвара готова была разрыдаться. По коридору навстречу ей шел капитан Емельянов. Он как-то сразу понял, что не все ладно, спросил, в чем дело, на вежливую отговорку ответил внимательным взглядом и тут же попросил разрешения на немедленную аудиенцию.
– Ах, Константин Викторович! – попыталась отмахнуться от него Мамочкина. – Право слово, извольте в другой раз.
– И все-таки я настаиваю, Варвара Михайловна, – он заслонил ее от проходящих мимо посетителей и кивнул на дверь ее кабинета. – Пройдемте, не гоже тут препираться у всех на виду. Обещаю, отниму у Вас не более пары минут.
Варвара обреченно кивнула, они ушли из людного коридора. Как только дверь за ними закрылась, хозяйка боком присела на край стула за большой письменный стол, а просителю указала на кресло.
– Я обманул Вас, дорогая Варвара Михайловна, – покаянно опустил голову Емельянов, продолжая стоять. – У меня нынче нет до Вас никакого дела или просьбы. Рассказывайте, что стряслось у Вас! Я уже так этого не оставлю. Я вижу все по Вашему лицу, не отпирайтесь. Нужна ли помощь?
Варвара еще порывалась, по началу, отнекиваться, но вскоре разрыдалась и полностью переложила ответственность на плечи этого большого и надежного человека. Сергей Осипович пропал. К нему в дом она сама, по определенным причинам, не может наведаться. На служебной квартире никто не отзывается.
– Но есть запасная связка, – покраснев, добавила она. – Можно съездить ко мне за ней.
– Ни к чему! – отрезал Емельянов. – Еще больше часа на это потеряем. Если все благополучно, то оно всё и выяснится со временем, так? Я полагаю, сейчас главное установить, не требуется ли срочное вмешательство. Если необходима помощь, то важней выиграть время. Едемте!
Капитан отправил на адрес Удальцовой казенного курьера с ничего не значащим посланием, но с уведомлением вручить его получателю непосредственно в руки, либо вернуть нераспечатанным.
– Так мы узнаем, не там ли находится Ваш…хм… управляющий. А пока поспешим к нему на адрес.
Прибыв к дому, где располагалась новая квартирка Сергея, Емельянов начал с того, с чего и следовало бы начать самой Варваре, не будь она так взбудоражена утром. Он расспросил дворника. Тот поведал, что молодой барин принимал гостей, но было это не вчера, а третьего дня. Нет, не выходил. За извозчиком не посылал. Нет, не видал.
– Возьми-ка, братец, топор, – велел ему Емельянов. – Эту барыню знаешь? Помнишь? Она ту квартиру нанимала. Вот и помоги нам дверь отворить.
– Дык! – дворник почесал в затылке. – Не положено, барин. Надо бы околоточного позвать.
– Обязательно позовем, – Емельянов протянул дворнику несколько монет. – Как только поймем в чем дело, так и позовем. А то, что же занятого человека зазря от дел отрывать? Как думаешь?
Дворник взломал дверь. На Варваре и так лица уже не было, а когда она увидела распростертого на полу Сергея, то рухнула в обморок, капитан еле успел ее подхватить. Уложив Мамочкину на диван, он опустился перед лежащим телом управляющего на одно колено и стал щупать пульс на шее. Потом встал, выпрямился, обернулся к дворнику.
– Экая дрянь, прости Господи! – высказался он вслух совершенно без сердца.
– Неужто того, барин? – и дворник уж поднял было руку, чтобы перекреститься.
– Да нет, голубчик. Живехонький твой жилец. Околоточного не надо. А ты вот поезжай-ка, братец, я тебе адресок сейчас чиркну. Привези доктора.
– Да тут у нас, во втором этаже, доктор проживают, – дворник опасливо подошел поближе и заглядывал теперь в лицо лежавшему Сергею, услышав вздох, все же перекрестился. – Кликнуть?
– Не надо твоего доктора. Ты уж, будь любезен, привези моего, – Емельянов снова полез в карман. – Вот тебе за труды. А вот это – за молчание. Ты меня понял, голубчик?
Сергея откачали, Варвару привели в чувство. Все обошлось. Емельянов исчез в тот день незаметно, увезя с собой молчаливого доктора. Варвара ухаживала за еще плохо соображающим любовником, посылала в аптеку, суетилась. Но следующий день она сама явилась к капитану – поблагодарить за участие. Он хмуро выслушал ее, потом позволил себе высказаться:
– Простите, Варвара Михайловна, Вы женщина умная, достойная. Зачем Вы связались с этаким, прости-господи, разгильдяем? Он же за себя отвечать не может, а Вы ему дела доверяете!
– Константин Викторович! – Варвара вся сделалась пунцовая. – Это мой личный выбор и мое личное решение. А Вам никто не давал права…
– Простите, простите, – капитан наклонился и поцеловал ей руку. – Я действительно преступил черту дозволенного. Просто мне иногда кажется, что Вы не знаете себе цену. Простите! Не будем больше об этом!
– Вы очень помогли нам, и я… – Варвара снова запнулась, видно было, что унижение от слов капитана превосходит теперь всю ее благодарность.
– Я только прошу Вас простить меня совершенно, – прямо в глаза смотрел ей Емельянов. – Не станете же Вы теперь меня ненавидеть? Милая. Милая, Варвара Михайловна.
– Ну, будет, – она оттаяла и даже чуть скривила губы в улыбке.
– Позволите еще один совет? – Емельянов осторожно прощупывал почву, Варвара опустила и более не подняла лица. – Увезите его сейчас куда-нибудь. Хоть на время.
– О, благодарю! – взметнулась она оживающим взглядом. – Мы… Я сама давно собиралась. Путешествовать. Сергей Осипович может сопровождать меня. Как управляющий. Спасибо! Я тот час же позабочусь о билетах. Милый! Какой Вы милый, дорогой Константин Викторович!
***
– Отвернись!
– Ну, мама!
– Не вздумай даже посмотреть в ту сторону еще раз! – «страшным» шепотом шипела крупная дама своей великовозрастной дочурке, делая вид, что утирает уголок рта салфеткой. – А то нам придется раскланиваться!
– Ну, мама, – канючила пышнотелая девица, ковыряясь в остатках пирожного. – В тот раз мы с ними вместе сидели, и ничего! Ах, какая она нарядненькая! Мама! Танечка всегда знает, что нынче модно. Какие фасоны носят в этом сезоне. И что принято подавать на стол. И что… С ней так интересно! Давай позовем их?
– Замолчи! – теперь «страшными» сделались и глаза мамаши. – Тогда мы ничего еще не знали.
– Чего не знали, маман?
– А тебе и сейчас знать не надо! – стушевалась дама и уткнулась в свою чашечку.
В кондитерскую только что вошли Гликерия Удальцова и ее племянница. Они сегодня объездили много мест, заказали для празднования все самое лучшее и теперь решили передохнуть перед возвращением домой. Оглядев зал, Таня заметила две знакомые макушки. Ее одноклассница, одна из представительниц окружавшей ее в Институте свиты, вместе со своей мамашей возымели наглость не узнавать ни ее, ни тетушку. Ну-ну!
Тетка указала на свободный столик у окна, прошла к нему, кивнула кельнеру. Таня расположилась подле. Им еще только подавали заказанное, когда двери кондитерской впустили новых посетителей. Вошли Лиза с отцом и Борцов.
Лев Александрович после возвращения из Москвы – после спектакля в новом театре, после его неудачного похода в цирк, после того, как он снова, после длительного перерыва говорил с ней, видел ее, был рядом с ней – признался себе, что интерес его к Лизе не исчез! Не растворился, не ослаб. И он дал себе волю, перестав сопротивляться все нарастающему чувству.
У Борцова была целая неделя до окончания отпуска, и всю эту неделю он таскался к Полетаевым. И после, он пользовался каждым предлогом – сопроводить, доставить, привезти. Лиза может и заметила, что они стали чаще видеться, но приписывала это все своему воображению, своему изменившемуся вниманию ко Льву Александровичу, своему новому на него взгляду, тому своему прозрению, совпадению со словами гадалки. И все время гнала от себя эти мысли, считая, что она все себе придумала. Но все чаще всматривалась она в черты Борцова, когда он не смотрел на нее, и понимала, что он нравится ей. Что ей с ним очень хорошо. Спокойно. Надежно. И всегда интересно. Но допустить мысль о каких-то иных, больших отношениях с этим взрослым, умным и серьезным человеком, она не смела.
Андрей Григорьевич Полетаев, далекий от светских сплетен и интриг, конечно же, не знал об обструкции, устроенной племяннице Удальцовой, поэтому церемонно раскланялся с ними обеими. Лиза и Борцов присоединились к нему в приветствиях, и тут же были приглашены за столик. Началась суета с поиском еще одного стула, прибежали официанты, нашли стул, сдвинули столики, все происходило быстро и как-то задорно и весело. Мамаша с толстой дочкой завистливо наблюдали издалека за этой кутерьмой. Воспользовавшись удачным случаем, Танюша позвала на домашнее празднование и такого завидного кавалера, как модный архитектор, а тетушка приглашение подтвердила лично.
У Льва Александровича возник новый повод для посещений Полетаевых – теперь он каждый вечер заезжал к ним и разучивал с Лизой какую-то ариеттку. Договорившись накануне встретиться с отцом и дочерью в обед, в городе, и уже вместе поехать заниматься, Лев Александрович закончил нынче все дела пораньше. Он спешил к выходу с ярмарки, когда заметил забавную мизансцену – охранник препирался со странного вида мужичком, отпустившим в пылу перепалки лошаденку на свободной шлее. На возу у той были навалены неровной горой какие-то то ли доски, то ли дрова. Мужичонка рвался к торговым рядам, служитель требовал от него «бумагу», а лошаденка наблюдала за ними большими грустными глазами, жуя чужое сено с соседнего воза, пока никто не погнал. Была она отчего-то в шляпе, чем только усиливала комичность ситуации. В другой раз, Лев Александрович обязательно вслушался бы внимательнее, уж больно живописной была пара, прорывавшаяся торговать на главном торговом сходе губернии, но он сегодня очень спешил. Его ждал Полетаев. И Лиза!
***
– Пусти, мил-человек! – мужичок был настойчив с той уверенностью, что присуща бывает людям подвыпившим. – Не имеешь права не пущать! Для торгов сие заведение заведено. А ну-ка!
– Да что ж ты напираешь-то, господин хороший? – охранник перегородил дорогу настойчивому мужичку и уже беспомощно озирался по сторонам, выглядывая своих сослуживцев. – Уж сколь раз по-хорошему повторял. Не доводи до греха. Поворачивай!
– Куды «поворачивай»! Мне лес продать надобно! – уперев руки в пояс, стоял на своем незадачливый посетитель.
– Лес? – служитель искренне захохотал. – Иди, проспись, дяденька! Ей-богу. Ну, не заставляй меня околоточного звать.
– Какой я тебе «дяденька»! – мужичонка сдвинул брови. – Я есть торговец. А ты поставлен, чтобы меня к месту пристроить, и всё! Ну-ка веди в ряды.
– Ах, ты ж, прости-господи, – охраннику мужичонка был явно симпатичен и ему до крайности не хотелось применять к нему меры репрессивного характера. – В какие ряды, дяденька? Я ж тебе и говорю – давай бумагу. Заявку в правление писал? Бумагу на разрешение получал? Место свое, ряд – знаешь?
– Какую заявку! Что ты мне одно и тож талдычишь битый час! – мужичонка заметил урон, нанесенный его кобылой соседскому сену и, присмирев от того, взял под узцы. – Нам с Лауркой всего-то один возок сбагрить. Пусти, мил-человек?
– Да не могу я! – охранник уж и не знал, какими словами объясняться с упрямым дядькой. – Езжай на пристань, иди на базар, что тебе сдалась ярмарка-то, а? С одним возком? Ступай с Богом, не доводи!
– Э-эээ! Не понимаешь ты, мил-человек, – мужичок неожиданно улыбнулся себе в усы. – Как мы с Лаурой домой-то возвернемся? Где, скажут, вас два месячишко носило? А я им – на янмарке были, в городе, и все тут!
– Да ты так скажи, были, мол! Ну, не могу я вас без бумаги пропустить.
– Это ты к чему меня склоняешь? – снова нахмурился мужичок. – Это ты, мил-человек, меня ко лжи разрушительной толкаешь? Не бывать тому! У нас вся деревня знает – пить пьет! Все до последней копейки пропить может, ежели копейка есть. Но ни нитки чужой, ни слова лживого – того от Михеича не жди, не боись! Правду в глаза – могу. В морду за то – стерплю. Но лжи не допущу! Эх, вы! Городские…
Мимо места перепалки все время проходили люди. Кто-то брезгливо отворачивался, углядев засаленный армяк мужичонки, кто-то улыбался, видя во всем этом колоритную сценку, кто-то останавливался поглазеть.
Клим Неволин закончил все дела на ярмарке, сопровождая очередного клиента, прикупил кой-чего в дом и не спеша направлялся в город. Встретившись глазами с жующей чужое сено Лаурой, он уже не смог оторваться и дослушал диалог до момента искренней слезы обиженного Михеича. Климу было сейчас так ладно на душе, что, как всегда в такие периоды, он хотел, чтобы счастливы были и все вокруг. Он имел в кармане недурственную сумму денежек, домой шел с радостью, дела шли легко, душа жила в каком-то предвкушении, и обиженный пьяненький мужичок со своей бедолагой клячей портили радужную картину его мира, внося в него тревожную ноту несправедливости.
– Почем торгуешь, хозяин? – эти слова вылетели прежде, чем Клим успел подумать: «А на что оно мне!».
– А ты как брать собираешься, барин? – подобрался вмиг мужичонка, и стал оглаживать свою Лауру по гладкому каштановому боку. – Ежели частями, то давай рядиться! Что на растопку, то по семьдесят копеек отдам. А уж что на строительство, то по три рубли будет! Никак не меньше. Лес свежий, только с лесопилки.
– А если гуртом? – Клима как будто кто-то подталкивал в спину или неслышно подначивал, ему стало весело, и он продолжал торг уже с искринкой азарта.
– Гуртом? – мужичонка явно не поверил такому своему везению и переглянулся с давешним охранником, тот одобрительно кивнул. – Неужто, весь воз возьмешь, барин? Ну, на двух с полтиной сойдемся?
– Нет! – Клим залихватски вскочил на край воза. – Это ты загнул, дорогой хозяин, не сойдемся. Глянь сам – один горбыль тут, какое деление по сортам? Из чего тут строить? Тут все, считай, на растопку.
– На растопку! – Михеич привычно сдвинул брови, упер руки в бока и приготовился к длительному диалогу с новым собеседником, спешить ему было явно некуда. – А ну, слазь с мово воза! Иш, ты! Уж и пристроился. Хошь – бери по хозяйской цене, да сгружай, и мы пойдем себе с Лаурой. А ежели товар не гож, так и не трепи людям нервы.
Клим улыбался и с воза не слезал.
– Ты давай меня до дома доставь вместе с товаром, а там я тебе за все про все два рубля обещаю, – он скрестил на груди руки и ждал ответа спокойно, потому как больше рубля за этот кривой мусор не дал бы никто.
– А и далеко ли твой дом? – уже почти согласившись, чесал в затылке Михеич. – Сколь времени с тобой потеряем? А?
– А тебе не все ль равно? – веселился Клим. – Два месяца до дома доехать не могешь. Что уж за два лишних часа переживать-то?
– Твоя правда, барин, – мужичок кивнул, на прощание поклонился терпеливому охраннику и повел Лауру в поводу, Клим подсказывал им дорогу.
***
По пути болтливый мужичок все рассказывал Климу свою незамысловатую историю. Живет он бобылем, все хозяйство его – «развалюшечка с амбарчиком», да верная Лаура.
– Ты не смотри, барин, это я сейчас пьяненький, – вскидывал повествователь голову в гордом взмахе. – Я свою жизню, хоть когда поворотить могу! Девки, те, да – уж не по зубам мне. А вдовицы по сей день заглядываются!
Клим тихо хихикал, получая неимоверное наслаждение от разворачивающегося перед его взором спектакля, совершенно не жалея двух обещанных рублей – то большего стоило, думал он. Удовольствие его стало таким полным, что он даже испугался на миг – как бы не сглазить удачу, но тут же Михеич отвлек его от внутренних сомнений очередным перлом своего жития, и Клим продолжил внимать.
Получалось, что зиму Лаура с хозяином коротали благодаря милости сердобольных соседей, которые многое прощали говорливому мужичку, жалели голодающую во время хозяйских запоев Лауру, и подкармливали обоих от доброты душевной. Иногда и чарку наливали. Первой и наиглавнейшей слабостью Михеича была водочка. Но сам факт того, что Лаура здравствовала по сей миг, говорил и за то, что, будучи в состоянии разумных просветлений, мужичок о своей скотинке заботился, делая некие запасы. Помогали фуражом и деревенские сожители его, подкидывая работенку во время покосов, сеяния и жатвы.
Вторым из постоянных проявлений и стремлений Михеича были его ежегодные порывы «достичь лучшей доли». По зиме сама суровость российской природы вразумляла и сдерживала мятущуюся душу, а вот краткий период от страды до страды склонял мужичка к странствиям. Как только заканчивался сев, и они с Лаурой оставались не у дел, Михеич, как правило, впадал в краткосрочную тоску, пил с неделю, а после запрягал кобылку и «уходил в люди». Где только не скитались они за эти годы! Одним из мечтаний для Михеича стояло пред внутренним взором видение посещения им Нижнего в разгар ярмарки – уж больно красочными были рассказы о ней тех редких везунчиков, коим судьба посылала радость побывать на главнейшем торжище. Но ни разу еще им с Лаурой не удавалось добраться даже до города – поскитавшись по своему уезду, поиздержавшись, помыкавшись, промышляя случайными заработками, они каждый раз возвращались в родную деревню аккурат к тем дням, когда их услуги могли понадобиться для перевозки созревшего зерна. Деревенские встречали их смехом и подначками, но злобы в тех насмешках не было, и дом родной все время оставался якорем для незадачливой парочки.
В этом году все повторилось. Перемещаясь от городка к городку, от села к деревеньке, Лаура и Михеич все ближе подбирались к заветной ярмарочной мечте. Были и длительные остановки на их многострадальном пути – недельки три им повезло провести на хлебосольном монастырском подворье. Потом у Михеича случился очередной запой, не без помощи и наущения отца Кондратия, да чего уж там…
Покинув после веских «доводов» отца-настоятеля щедрый приют, Лаура с Михеичем скитались еще какое-то время. После, не дойдя всего каких-то пару верст до заставы заветного Нижнего, им повезло вновь – на лесопилке, встреченной на пути, незадолго до того околел мерин, который последние лет десять исполнял обязанности по внутридворовым перевозкам. Обязанности его были необременительны: свезти опилки, доставить к месту сжигания негодный материал, переместить по насущным нуждам продукты для кухни или другие какие грузы хозяйственного назначения. Так как кормили обоих вновь прибывших, как и остальных работников, досыта, то Михеич от свалившегося счастия даже не удосужился заранее сговориться об оплате. Когда же сын хозяина привел с базара нового коня, со временщиками расплатились тем, что покоилось нынче в возке у Лауры. С досады пропив оставшиеся гроши, Михеич в состоянии затуманенного бражкой рассудка и не заметил, как оказался прямо на пороге своей заветной мечты. Возле ярмарки они и столкнулись с нынешним слушателем и благодетелем. Аминь.
За разговором, незаметно, добрались они до места назначения.
– Вот и улица моя! – радостно сообщил вознице Клим. – Примерно посередке и дом мой будет. Считай, приехали!
– А только не благодетель ты, а, вовсе наоборот, сдается мне, – резко переменил вдруг тон Михеич. – Говори честно, как на духу! Лжи не терплю! Заманил, разбойник? Поманил двумя рублями? За возок леса хочешь жизни наши забрать, подлая ты душа!
– Окстись, отец! – Клим даже испугался подобной перемены. – И хмель-то с головы стряхни! Все мирно меж нами было, а тут вдруг такая напраслина. С чего бы это?
– Ви-иииижу! – хитро прищурил глаз Михеич. – Чай, не проведешь! Улочка-то из богатых. На кой тебе мой горбылик? Небось, как кликнешь сейчас дворовых, как поколотят они Михеича, да Лаурку мою в полон возьмут, а то и на погибель сразу подпишут. Ох, не надо было зариться на посулы царские!
– Тьфу! Хватит причитать да плести невесть что! – прикрикнул Клим на мужичка. – Нет у нас никаких дворовых. Не бойся, отец, не обману. А скажи? Ты с чего взял, что здесь богатые живут? Высоких-то крыш всего парочка на всю улицу, заборы всё глухие у нас… Как знаешь, что там?
– А вот сам посуди, мил-человек, – Михеич сморгнул слезу с глаз и вновь стал покладист и тих. – Забор хоть и непроницаем, а, гляди, как длинен. Это только второй с околицы начался – значит, хозяйства за ними ладные, с постройками да хранилищами. Отсюда ясная картина разворачивается, что живут тут людишки да не бедствуют. А для обеспечения таких хором и дворовые должны быть! Чего у тебя нету-то?
– Да так, разошлись кто куда, – махнул рукой и не стал уточнять Клим, а сам припомнил, что, действительно, в детстве его все время по двору какие-то мужики шастали, было дело, было. – Ты лучше скажи, как заборы различаешь – где один кончился, а где другой начался? Красить урядник велит их все в один цвет. Вдруг просто ворота у кого на ту сторону? В переулок? Может, за ними не два хозяйства, а поболе? Как рассудишь?
– Да чего тут судить-то? – смеялся над незадачливым городским барином Михеич. – Там доски все одного рисунку были, а эти пошли – и повыше, да и по верху клинышками. Все одной рукой рубленые. Не-ееет! Михеича не надуришь!
– Ну, вот и наши ворота, – Клим спрыгнул с повозки. – Держи, мил-человек.
И он протянул Михеичу заранее приготовленную трешницу. Тот обтер прежде руки об отвороты армяка и только после этого ритуального действа аккуратно, двумя пальцами, принял плату. Развернул. Посмотрел на свет. Крякнул.
– Благодарствуйте, барин, – он попытался изобразить поклон, но Клим остановил его. – Токмо, прощевайте, а сдачи никак не имеем. Поиздержался.
– Не надо сдачи, – улыбался счастливый Клим. – Все вам остается, сам так решил.
– Ну, уж и не знаем, как благодарить тебя, добрый человек, – Михеич просиял взглядом, спрятал денежку поглубже и, видимо, стал уже прикидывать в уме выгоды неожиданной прибыли. – Век за тебя молить станем…
– Погоди, – прервал его Клим и кивнул на Лауру. – Только, раз уж ты лжи не терпишь, мил-человек, то вот при ней поклянись. Пообещай! Что рубль отсюда полностью ейный. Сговорились? Разгружай!
– Дык, – Михеич кивал, моргал и тер пальцами подбородок. – Куды «разгружай» то?
– Да сыпь рядом с забором, – махнул Клим, которому эти доски по большому счету были вовсе не нужны. – Мы после с племянником перетаскаем.
– Нет, хозяин! – Михеич мотал головой. – Мой лес да в канаву? А ну как дождь пойдет? Или покрадут!
– Кто? – снова развеселился Клим. – Сам говоришь, все сплошь зажиточные тут?
– Дык, зажиточный – он оттого и заживает, что щепка лишняя мимо рук не пройдет! А ну! – почти командовал он. – Отворяй ворота!
Клим, смеясь, впустил Лауру во двор. Выбежал на шум сперва Глеб, стал помогать мужичку, старался. После и Тася с дочкой вышли на порог. По какому-то светящемуся выражению лица невестки Клим сразу понял, что в его отсутствие что-то произошло.
– Что, Тасечка, что? – застыл он с горбылиной в руках. – Новости какие?
– Даже не знаю, как сказать, Климушка.
Тася прижала к губам платочек, что был у нее в руках. Неужто плакала?
– Плохое? – сразу захотел подготовиться к непрошенным известиям Клим.
– Хорошее, Климушка. Ох, надеюсь, что хорошее! – и все-таки слезы блестели в уголках ее глаз, а дочь, видимо чувствуя это, обнимала мать за ногу, не отходя ни на шаг. – Ты отпусти вначале человека, после переговорим. Не на бегу.
– Да ее дядя Леврецкий замуж позвал! – доложил сияющий Глеб. – Он уж часа два как ушел, а она все ревет.
– «Ревет»! Как ты про маму говоришь, не надо такими… – начал было Клим, но тут до него дошел смысл и остальных сказанных племянником слов и, кажется, рухнул мир вокруг, а может это просто Михеич ссыпал разом оставшиеся доски с воза.
***
– Венчается раб божий Корнелий рабе божьей Таисии…
Клим держал венчальную корону и изо всех сил старался, чтобы торжественное благолепие таинства не пролило слез из глаз его. Слезы умиления тот час повлекли бы за собой и те сдерживаемые все эти дни чувства, которым он не давал ходу, даже оставаясь наедине с собой. Даже перед сном. Чего хотел он? Чего ожидал? Нет! Нельзя думать о несбывшемся. Стой себе да смотри на колеблющийся огонек свечи, чтобы не думать ни о чем. Только тверди про себя: «Счастья вам! Да не упадет на вас тенью черная мысль моя. Прости, Господи, мя грешного!»
Ехать решили по-старинке, почтой. Леврецкий вез с собой на новое поселение кое-что из мебели и пожиток, а у Таси с детьми хоть и не было большого хозяйства, да оказалось, что и они кое-чем разжились в этом городе. Грузить все на извозчиков, на вокзале сдавать в багаж, в Москве снова перегружать и ехать в имение за полста верст показалось хлопотным. Посудили, что легче от дома – до дома, по Владимирке. Две подводы и дорожная карета должны были составить на утро «свадебный поезд в Москву». После венчания молодые должны были остаться у мужа в доме, где устроен был небольшой праздничный пир, а детей Клим забирал к себе. Последнюю ночь Глеб и Стася ночевали в его доме. Утром за ними заедут мать с новым мужем, и тут же – в дорогу.
Леврецкий явился в тот день, когда двор Неволиных посетили Михеич с Лаурой, еще раз, к вечеру, и чин по чину просил у Клима руки его невестки. Клим, уже готовый к тому, смог смириться и не показать, каким несчастьем обернулось для него чужое счастье. Чужое! Не будет больше в доме детского смеха, незачем добывать и выгадывать на новую шубку, ничего более не надо. Как жить? Он вспоминал тоскливую одинокую зиму после смерти бабушки, чай с баранками, остывающую печь. Ох, тоска!
С Леврецким Клим говорил обстоятельно, все объяснения того выслушивал, учитывал, принимал. Новая жизнь на новом месте. Где никто не знает про болезнь Таисии Михайловны, где сам он собирается стать общественно полезным гражданином, где сможет обеспечить семье жизнь достойную, безбедную. Что давно душа его жаждала подобного успокоения, с другом, с женой. Но искал не там! И вот Бог послал ему их семейство в знакомство. И все сразу стало как надо. Единственно возможным. Правильным. Верным. Что Таисия Михайловна приняла его предложение не сразу, но это все из-за ее сомнений в себе. Да, он младше нее. Но всего на два года. А счастье его жизни может составить только она. Только она, дом, дети, которых он полюбил и принял как своих. Дети? Глеб дал полное и обдуманное разрешение матери на изменения в их жизни. На переезд согласен, душой все принял. Стасенька привыкнет.
Клим кивал. Стоял намертво лишь на одном – венчание должно произойти тут, в Нижнем. Чтобы в путь Корнею Степановичу и Таисии Михайловне отправляться, уже состоя в супружестве. Хотел ли Клим испить до дна чашу мученичества, наблюдая за тем, как Тася навсегда становится для него недосягаемой, искренне ли заботился о ней, пытаясь исключить даже тень какой-либо случайности, или просто оттягивал время расставания – то только Бог ведает. Леврецкий тоже был серьезен, доводы Клима принял, на венчание согласился и сразу же предложил Неволину стать воспреемником. И тот, в свою очередь, согласился.
Всю ночь перед отъездом молодых Клим не спал. Долго сидел один на кухне, уложив детей. Под утро уже, когда рассвет стал заглядывать в окна, он на что-то решился и стал со всех полок и изо всех ящиков доставать остатки еды, высыпать крошки, чистить все до донышка. Глеб проснулся от равномерного постукивания, а когда захотел выглянуть в окно, ему это не удалось. В комнате стоял полумрак. Глеб оделся и вышел на двор – дядечка брал из сваленной кучи горбыля по досочке и заколачивал снаружи ставни первого этажа. Глеб подошел и начал помогать.
Через час приехали Тася с Леврецким. Увидев происходящее, молча переглянулись. Клим заметил этот обмен взглядами и тут же понял, что перед ним стоят люди, ставшие за эту ночь близкими, доверяющими друг другу безгранично, совсем новыми, другими. Счастливыми. У него в правом виске бешено заколотилась какая-то жилка, но он размеренно продолжал свое занятие.
– Климушка, что это ты надумал? – нерешительно спросила Тася.
– Провожу вас. До полдороги, – еле-слышно произнес Клим.
– Клим Валерианович, милый, – Леврецкий, поглядев еще раз на жену, подошел к родственнику вплотную. – Ты для нас самый близкий человек. И самый желанный гость всегда будешь! Дай только обустроиться и милости просим. Может быть, сейчас не стоит?
– Нет-нет, не беспокойтесь, – Клим теперь улыбался, и Тася по-настоящему испугалась за него. – Только провожу.
– Климушка, а зачем тогда это? – показала Тася на заколоченные окна. – Вернешься же не сегодня-завтра?
– Вернусь, все поправлю, – Клим обухом топора постукивал по уже загнанным по самые шляпки гвоздям. – Все поправлю. Всю верну.
– Клим! – в голосе Таси послышалась боль. – Может быть все-таки ты…
Она взглянула на мужа, тот тихо покачал головой.
– А и прокатимся вместе! – с наигранной лихостью воскликнул Леврецкий. – Вместе, оно веселей? Ведь так, Глеб?
Глеб, заподозривший было в недоговорках взрослых неладное, расплылся в улыбке и побежал в дом за вещами.
– А кошка? – вышел он на порог со своей котомкой на плече, держа на руках белую пятнистую кошку, что прибыла с ними сюда еще с пепелища. – Дядечка! Кто ж Мурку кормить станет, если ты с нами уедешь?
– Да что это за кошка, которая пару дней сама не прокормится? – смеялся Леврецкий, легко убирая неожиданное препятствие, а не хватаясь за него. – Пусти ее на двор, пусть мышей ловит.
– Нет-нет, – Клим снова стал серьезен и собран. – Мурку с собой берите! Это Стаськина кошка, она с вами все прошла, все пережила, пусть и в новом доме удачу приносит. Нет-нет! Глебушка, разыщи корзинку.
Благословясь, погрузились, заперли дом и ворота, тронулись. Мурка высовывала любопытную мордочку из корзинки, Стася гладила ее, а та урчала на всю улицу.
***
В первый день осени состоялся, наконец, придуманный Татьяной музыкальный вечер. Лев Александрович заехал за Полетаевыми, и они, уже вместе, отправились в особняк Удальцовой в нанятой им карете. Лиза была очень благодарна Борцову, хотя ему этого и не говорила. Вдвоем с отцом они создавали ей надежную свиту – если один отвернется, отойдет или заговорит с кем-то из гостей, то все равно второй останется рядом надежной опорой. Лиза ехала к Тане, но все время думала о том, как она увидится на людях с Сергеем. Она заставляла себя гнать непрошенный страх, уверяя, как и тогда, в оранжерее, что она ничего плохого не совершала и стыдится ей нечего. Она может бывать где желает и видеться с кем угодно. Она едет к однокласснице и то, что ей неприятна встреча с одним из ее домочадцев, не может стать препятствием, не должно. Вежливый поклон и глаз не опускать! А разговаривать с ним вовсе не обязательно… Но вышло все по-иному.
Получилось так, что прибыли они хоть и вовремя, но самыми первыми – никого из гостей в доме еще не было, и встретил их только лакей при входе. Пока он принимал у мужчин шляпы и трость, из боковой полуприкрытой двери первого этажа вполне отчетливо раздавался женский властный голос:
– Сучка! Ну, вот одно тебе название и есть! Ты что же это натворила? В подоле мне принесла! И это за всю мою любовь к тебе? Только что с серебра тебя не кормила. Ах, ты, морда этакая!
Если Полетаев был далек от слухов, что витали в высшем городском обществе о племяннице хозяйки, то Лиза, встречавшаяся в городе с институтками и иными знакомыми, хоть и пресекала скабрезности, говорящиеся при ней, но общее представление о положении дел, видимо, имела. Она густо покраснела. Борцов был осведомлен еще более подробно, но ехал сюда из-за Лизы, на всяческие предрассудки внимания не обращая и за репутацию свою не опасаясь. Но проняло и его, слишком уж донесшаяся до них невзначай тирада, умом накладывалась на известную ситуацию. Он уж хотел было предложить ретироваться, но тут по парадной лестнице стала спускаться к ним сама Татьяна. Они обменивались приветствиями, когда снова донесся голос, отчитывающий некую нерадивую особу:
– Совести у тебя нет! И где только ты того кобеля высмотрела! Сука, сука и есть.
Таня, привычная к тому, что тетушка иногда позволяет себе выражаться в доме также как и с приказчиками, при гостях смутилась и прикрикнула в сторону плохо прикрытой двери:
– Тетушка, да оставьте ее, ну что Вы, право! Выходите. У нас уже гости.
Вышла расстроенная чем-то Гликерия Ивановна, приветствовала пришедших. Лиза присела в реверансе.
– У Вас неприятности, милая хозяюшка? – мягко спросил Андрей Григорьевич.
– Ах, друг мой любезный, – тут же ринулась жаловаться Удальцова. – Ну, ничего же нельзя этим дуракам доверить! Упустили красавицу мою, сорвалась со сворки, вернулась уж брюхатая. Такую породу подпортили! И где только отыскала себе дружка такого, что, видать еще больше нее был – все утро маялась, ощениться не могла. Девочка моя любимая. Так измучилась! Вот подарочек-то мне ко дню рождения! Ну, что ж мы все в прихожей? Таня, веди. Пройдемте наверх, господа.
Тут из-за двери раздался тихий визг, и вышел слуга. Он глянул на незнакомых господ и, не решаясь ничего при них сказать хозяйке, только согнулся в поклоне.
– Ну, что там? – Удальцовой здоровье ее любимицы, очевидно, было важнее любых приличий, что явно импонировало всем нынешним ее гостям, они переглядывались, улыбаясь такой заботе.
– Один живой получился, барыня, – доложил обстановку слуга. – Отобрали. Что прикажете делать?
– Да топи, голубчик. Что уж! На что мне шавка в доме? А эта ничего, пообвыкнет.
– Как утопить? – Лиза чуть не заплакала. – Отдайте его мне, прошу Вас!
– Деточка! – Удальцова растеряно остановилась на ступеньках. – Да на что тебе? Это ж дворняжка получится, вся родословная насмарку. Не бери в голову. Эх, не надо было, – пеняла она теперь слуге. – При барышне-то!
– Не надо никакой родословной! – Лиза молитвенно сложила ладони.
– Лиза, ну, куда нам собаку? – Полетаев тоже был в растерянности. – Она хоть небольшая?
– Да в том-то и дело! А! – махнула рукой Гликерия Ивановна. – Пойдемте, уж покажу, что говорить-то.
За дверью оказалась привратницкая, где в необъятной плоской плетенке, застеленной красным бархатом, возлежал огромный белоснежный волкодав. Увидав хозяйку, псина с трудом привстала, и поползла ей навстречу, а после стала лизать пряжки туфель.
– Не могу! – вздохнула Удальцова. – Сейчас сердце разорвется! Ну, что стоишь, как истукан? Неси ей детище обратно, видишь, сердобольные люди нашлись. Только, дева моя! – она обращалась теперь исключительно к Лизе. – Давши слово – держи! У себя его не оставлю, глядеть на это позорище не желаю. Точно заберешь?
– Да хоть сегодня! – сияла Лиза.
– Куда сегодня-то? Эх, вы, девочки, – Удальцова с умилением любовалась теперь, как огромная мамаша вылизывает лобик вновь обретенного слепого кутенка. – Пусть выкормит. Недельки через три забирай. Ну, давайте, все-таки поднимемся. Таня, покажи Елизавете Андреевне свои апартаменты. Прошу прощения, господа, племянника моего вы сегодня не сможете лицезреть, отбыл в другой город по делам службы. Прошу вас.
Собрание прошло очень достойно, приглашенные явились на этот раз все. Прибыли гости и высокого ранга, начало вечера получилось торжественным. Сперва Таня увела Лизу на свою половину и, пока они осматривали девичьи богатства и кормили орехами большого пестрого попугая, гостиная заполнилась гостями. Вернувшись, девушки увидели среди вновь прибывших благообразного старика в епископском облачении, и подошли к нему за благословением. Осенив их знамением, он, к удивлению Полетаева, обратился с каким-то вопросом к его дочери. Лиза отвечала коротко и спокойно. Когда высочайшие гости, отдав дань вежливости и этикету, разъехались, началось домашнее музицирование, и до самой ночи длилось веселье.
Заняться вплотную Борцовым у Татьяны в этот вечер не получилось – и обязанностей по дому вышло много, да еще и весь вечер увивался за ней молодой барон фон Адлер, не отходя ни на шаг. Он был настойчив и все упирал на давнее знакомство. Таня смеялась его шуткам и комплиментам, но никогда не призналась бы ему в том, что после пикника Мимозовых даже не помнила его имени. Это был тот самый офицер, что дефилировал по ночам перед ее окнами. Васенька. Тане он был любопытен всего лишь как очередной кавалер, и она его просто терпела.
Гораздо более глубокое чувство возникло у нее при представлении его дяде – барону Корндорфу. По пикнику она его вовсе не помнила, но липкое ощущение того, что они уже когда-то встречались, причем при обстоятельствах не вызывающих у нее ничего приятного в воспоминаниях, преследовало ее весь вечер. Хотя сам старичок ничем не намекал на их возможную в прошлом встречу, знакомился с панегириками и восторгами, а отбыл с племянником одним из последних.
Только засыпая, Таня вспомнила, где она слышала этот скрипучий тембр голоса, и весь лоб ее покрылся холодной испариной. Крючковатый нос сегодняшнего гостя, сосватанного им Сергеем, был ранее скрываем под маской! Она вспомнила. Ах, братец! Ах, плут! Вот почему он ускользнул с теткиного праздника. Но, ничего. Татьяна теперь снова была в силе, она еще посчитается с ними со всеми.
А Лиза, весь вечер проведшая за роялем, уставшая, но довольная, почти засыпала в карете, когда Борцов вез их обратно домой. Андрей Григорьевич пожалел ее и не стал удовлетворять своего любопытства, отпустив сразу же спать. Лишь на следующий день, он за завтраком задал мучавший его со вчерашнего дня вопрос:
– Лизонька! Мне показалось, или ты имеешь знакомство с самим архиереем?
– Ну, «знакомство», это громко сказано, папа, – улыбнулась Лиза. – Но мы были представлены. Помнишь, меня вызывала запиской наша maman? После удачного исполнения поручения Белочки нас с Лидой просили помочь еще и в деле сбора народных библиотек. Но это дело не одноразовое, его надо будет доводить до ума, согласовывать с другими помощниками, с властями. Так как епархия является одной из сторон, что организуют всю кампанию по борьбе с безграмотностью в губернии, то нас познакомили с разными людьми, в том числе и с представителями духовенства. Я думала, папа. Это важное дело и для города, и для уезда в целом. Я боялась, что мне времени на все не хватит, но вчера дала свое окончательное согласие. Я возьмусь за это!
– Господи, дочь! – Полетаев даже отставил чашку. – Я горжусь тобой, ты такая умница у меня. И не бойся, ты со всем справишься. Главное – начать.
– То же твердит и Рафаэль Николаевич, – засмеялась Лиза. – Он говорит: «Надо сделать первый шаг, а там боженька подхватит, и ноги сами понесут!» И обещал нам помогать во всем. Надо бы пересмотреть и наши книги, папа. Тем более, что большая их часть все равно сейчас хранится на чердаке, без дела. Ты поможешь мне их разобрать? Дашь ключи?
– Как ты сказала? – Андрей Григорьевич вовсе опешил от обилия новостей. – Рафаэль? Что это за птица, ты не говорила мне раньше про такое знакомство?
– Прости, папа! Я, наверно, забыла. А ведь он велел тебе кланяться. Демьянов Рафаэль Николаевич. Должности не знаю, штатский, средних лет. Вы, вероятно, знакомы?
– Да уж! – Полетаев потер лоб и засмеялся. – Правильно люди говорят: «Мир тесен!»
***
Лиза стояла на антресолях книжного магазина – покупателям сюда ход был заказан, но сегодня она впервые была в подобном заведении вовсе в иной роли. Рафаэль Николаевич внизу, в торговом зале, отбирал по спискам пожертвования, оговоренные с владельцем книжной лавки заранее, двое подручных укладывали тома в ящики и корзины, и составляли их у выхода – ждали перевозчиков.
– Вот, барышня, – часом раньше докладывал ей один из продавцов. – Откопали непроданную периодику, букинистические остатки, как просили. Но все наверху. Пылищи там! Может вам ручки-то не марать? Вы скажите точнее, что нужно? Мы отберем!
– Нет-нет! – Лиза подняла взгляд на белые балясины галереи. – Я поднимусь. Я сама – объяснять сложно. А я взгляну и сразу пойму – годится или нет. Там же и старые тиражи есть? Журналы? В них романы с продолжением, так?
– И романы, и публицистика. Как велели – все больше нравоучительное да про природу.
– Ну, не обязательно одно только нравоучительное, – засмеялась Лиза. – Рафаэль Николаевич, Вы тут управитесь без меня?
– Ступайте, Елизавета Андреевна, – он внимательно осматривал корешки всех уложенных уже книг. – Эх, жаль, конечно, что все разрозненное. Я ведь говорил на том совещании – основу любого книжного собрания должна составлять классика отечественной литературы. То, что должен прочесть каждый. То, что и является не только славой словесной культуры, но и объединяющим всю нацию духовным клеем, так сказать! Как кирпичи ничто без цементного раствора, так что за читальни без собрания сочинений? Да-да! И письма, и наброски – это всё, так сказать, образцы мысли, поиски смыслов… И лучших писателей других стран, иных культур и народов, тоже хотелось бы – переводы, подлинники. Иметь, так сказать, вселенское представление!
– Помилуйте, барин! – вступил в разговор хозяин, который с самого утра лично надзирал за происходящим. – И так жертвуем, не скупимся! Неужто, босякам безграмотным велите еще и издания с золотым обрезом даровать? Они пока мест и читать-то, толком, не обучены! Побойтесь Бога!
– Я Бога, добрый человек, возлюбил, – Демьянов прищурил глаз. – В страхе перед Ним пребываю денно и нощно, дабы благодатного духа не отнял, дабы не оскорбить, не ослушаться, не отдалиться. Ни помыслом, ни поступком. Так что это Вы сами соразмерность дарения определяйте и соотносите, сударь любезный, под оком всевидящим. Меня сюда не путайте! А про соотечественников, что нынче неграмотными выросли, так то не жертва, друг мой – дать, а потом пожалеть. Я ж не требую от Вас лишнего. Я так, вслух размышляю. Вон, с барышней советуюсь. А Вам за любой дар – благодарность. И наша, и безграмотных соотечественников, что с этой помощью мир свой расширят, да словом просветительским раскрасят. Благодарствуйте!
Пристыженный хозяин вскоре удалился в подсобные помещения, а Лиза улыбнулась Демьянову и стала подниматься по лестнице на антресоль.
– А знаете, Рафаэль Николаевич, – Лиза чуть повысила голос, дабы собеседник слышал ее и оттуда. – Мне кажется, я нашла жертвователя на собрания сочинений. Знаете такую домовладелицу – Удальцову? Так вот она от своего имени, и от имени своей племянницы готова закупить разом столько экземпляров, сколь окажется читален. Это уж точно, она не отступит. Надо будет лишь уточнить персоналии и количество. Ну, Пушкин, Диккенс, Лесков, Лермонтов – то даже не обсуждается! Может мне составить полный список, Вы потом поглядите?
– Займитесь, Лизонька, очень хорошо! А по тому сколь книжных собраний у нас вырисовывается, то порядка двадцати по уезду. В самом городе хорошо бы довести хоть до четырех-пяти. И хорошо бы в разных районах, чтобы охват был полнее. Вся загвоздка в основном – в помещениях. Неохотно дают. Вы бы тоже смотрели своими зоркими глазками, может, где по пути что попадется? Епархия поможет договориться.
Лиза присела возле пыльных корзин, в которых хранились не проданные когда-то издания, да прошлогодние подшивки журналов, сборников и прочей литературной разнообразности. Она перебирала их, откладывая стоящие вещи отдельно. Листала, иногда сама увлекалась чтением, находя нечто знакомое, или, наоборот, натыкаясь на то, что искалось прежде, но досель не попадалось. Потом обрывала себя, продолжала дело, снова увлекалась. Уже дойдя почти до дна последней корзины, она выпрямилась, облегченно вздохнула, видя завершение своего труда, и перелистала еще парочку древних альманахов.
В одном из них ей попалась подборка поэзии городских авторов. Глаз непроизвольно выхватил знакомые строчки: «…птица с синим опереньем и пурпуровым отливом…» Она прочла стихотворение с начала до конца – слово в слово повторялось оно в том роковом для нее письме. Она нашла автора. Сергей Горбатов. Закрыла обложку и посмотрела на дату выхода. 1891 год. «Ну, хоть свое, а не чужое адресовал» – подумала безо всякого сожаления Лиза. Она прислушалась к себе. Не было ничего, ни досады, ни горечи. У нее не осталось теперь даже посвященного ей «прощального» стихотворения. Ничего от него не осталось. Вовсе.
***
Путешествие не приносило ожидаемой радости. Сергей капризничал после недавнего приступа как избалованный ребенок. Чтобы не давать объяснений и обещаний, он часто прикидывался больным, уходил в свою каюту. Варвара подолгу оставалась одна, глядела за борт, на воду. Хотелось плакать. Но вдруг все резко переменилось, и в последний день плавания он стал необычайно учтив, покладист, даже галантен. Варвара расцвела. Было! Было все, как мечталось ей – и скатерти на ветру, и вино в бокалах. Ужинали они на палубе одни, никто из пассажиров не рискнул откушать на свежем воздухе, все-таки осенняя прохлада уже давала о себе знать. Не было и солнца, стемнело, вдоль борта зажгли огни и именно их отблески скользили теперь по крутым изгибам стекла, хранящим озябшее вино.
– Ты сегодня такой… Такой милый, Сергей… Серёжа… – Варвара боялась в разговоре взять неверный тон и спугнуть умиротворение вечера. – Скажи, тебе лучше? Все прошло?
– Все прошло бы еще раньше, – доброжелательно отвечал ей Сергей. – Ты сама виновата. Это ты не взяла с собой моего лекарства.
– Прошу тебя, – Мамочкина судорожно провела ладонью по лбу, слишком свеж был ее страх. – Не называй лекарством свои порошки! Их действие далеко от благотворного, я сама в этом имела возможность убедиться только что. Зачем ты их всюду…
– Ах! – в голосе Сергея появились явные нотки ехидства. – Ах, как Вам идет ваша фамилия, мадам! Пожалуй, я буду величать Вас именно так – «мадам Мамочкина»! Ха-ха! Вы и роль-то себе выбрали соответственную. Желаете быть при мне мамочкой? Ну, так позвольте тогда и мне испытывать все вольности роли непутевого сынка!
Варвара покраснела. Неужели он намекает на ее возраст? Она не знала, кто из них двоих старше, но считала, что приблизительно ровесники. Да и разница, если и была, то должно быть ничтожная! Незначительная. И стало страшно обидно сейчас. Варвара Михайловна решила уйти от неудобной темы.
– Я просто хотела узнать, сможешь ли ты выйти уже на службу? Выглядишь вполне здоровым.
– Да, конечно, – смягчился Сергей. – Но…
– Что?
– Мне кажется… м-мммм…неудобным делить с тобой один кабинет на двоих, – Горбатов решил выгадать от перемирия все по максимуму. – Это как-то неловко, ты сама так не считаешь? У управляющего такого пароходства должен быть отдельный кабинет, хотя бы для подтверждения значительности фирмы.
– Боже мой, Сергей! – Варвара даже не ожидала претензий с этого боку. – Это так смешно! Я появляюсь в Пароходстве не более трех-четырех раз в месяц! Стоит ли об этом вообще говорить? Да и ты знаешь, что свободных помещений в здании нет. Там ютится такое количество различных компаний и товариществ, юристов и промышленников, речников и смежников, что за каждую свободную комнату идет борьба. На них очереди стоят месяцами!
– Вот именно, что «ютятся»! – из всей тирады Сергей вырвал только то, что шло ему на руку. – Ютятся! Ах, Варвара Михайловна! Ютятся далеко не все. Те, кто имеет вес и считается солидным учреждением, стараются отвести под себя полностью целый этаж. Вы же, видимо, так цените свое дело, что…
– Этаж? – удивленно переспросила Мамочкина.
– Но на это мы претендовать явно не имеем возможности, – презрительно скривил губу Горбатов. – Мелковаты! Так что хоть каморку какую-нибудь, но для отдельного приема посетителей.
– Хорошо, хорошо! – Варвара глотнула вина. – Я буду иметь это в виду, и при первом же освободившемся кабинете ты получишь его. Даже, если он будет не в нашем этаже!
– Ну, согласись, несмотря на неудобства, это же лучше? – Сергей наклонил голову, и челка скользнула, привычно прикрыв половину лица. – Ну, чуть чаще надо будет гонять казенных курьеров. Подумаешь!
Он поднял бокал и улыбнулся своей визави. Варвара в ответ засияла и мечтательно произнесла:
– Ах, если бы мы могли с тобой иметь в собственность аппарат господина Попова, то никакие расстояния не были бы помехой. Оставалось бы только условиться о сигналах. Но вряд ли Морское ведомство отдаст такую разработку частным лицам…
– Каких сигналах? – лениво переспросил Сергей, потягивая из бокала. – И кто таков этот господин Попов ?
– Как! Ты не слыхал? – Варвара наклонилась вперед, отодвинув тарелку. – Он занимается электричеством. Не знаю точно, какой чин он имеет в городском хозяйстве, но, видимо, заведует электростанцией. Его называют «уловитель гроз». А на нынешней Выставке он демонстрировал опыты по передаче электрического сигнала на расстоянии. И демонстрировал вполне успешно!
– Ба! – пренебрежительно улыбнулся Сергей. – Я-то думал что новое! Это чудо известно каждому гимназисту, эти телефонные аппараты теперь повсюду.
– Ну, не повсюду, я узнавала, – Варвара вздохнула. – Хотела провести, как ты говоришь, для солидности. И хоть новую станцию отстроили всего пару лет назад, свободных номеров нынче уж нету. Но это вовсе не то! Сигналы господина Попова проходят кирпичные стены, преодолевают иные преграды и препятствия. И для них вовсе не надобно никаких проводов! В этом вся суть! Просто два аппарата и звонки на расстоянии. Не чудо ли?
– Чудо, чудо, – Сергей бросил на скатерть использованную салфетку. – Ты еще останешься здесь? Разрешишь мне удалиться, я уже сыт?
– Тебя совсем не вдохновляет технический прогресс? – Варвара не хотела окончания такого редкого равновесия. – Ну, давай поговорим о том, о чем интересно тебе?
– Мне очень интересно, душа моя! Хотя, твои изыскания в газетах иногда напоминают восторги двенадцатилетнего мальчика, прости. Их скорей оценил бы твой капитан, я думаю это из его круга интересов, – Сергей уже встал. – Мне, правда, тоже интересно! Но нужно паковаться. Через полтора часа мы причаливаем. Зайти за тобой?
– Да, будь любезен, – вздохнула снова остающаяся одна Варвара. – За полчаса до прибытия.
«Ну, что ж, – подумала она. – Двенадцатилетний мальчик – это все-таки лучше звания мамочки…»
***
– Ну что, брат, вот и снова свела нас судьба-судьбинушка?
Рафаэль Николаевич Демьянов и Андрей Григорьевич Полетаев степенно шествовали к главному входу, покидая сегодня Выставку. Впереди них, тоже парой, тоже беседуя, следовали, также не спеша, Лиза и Лев Александрович.
– Да! Дочь, когда сказала, то не сразу и поверил, – улыбался теплому дню Полетаев. – Надолго в город?
– Да вот, как с читальнями наладим, так и вернусь в обитель, в тишину да в размышления, – он кивнул на пару впереди. – Вы-то как, ладите?
– Твоими молитвами, брат!
– Ну, и, слава Богу. А дочка у тебя славная, толк выйдет.
– Уже вышел! – горделиво поправил отец, продолжая блаженно улыбаться, жмурясь на солнце.
– А твои дела как, братец? – Демьянов тоже посмотрел вверх, на небо. – Да! Поглядел я сегодня на твои богатства! Я-то там, по рассказам твоим, иное представлял. Кустарь. Мастерские. Думал, баловство, ножички. А у тебя, гляжу, солидное производство! Как успехи-то, есть? Кстати, наши монахи велели тебе кланяться с благодарностью, все получили и в кузне установили. Пользуют!
– Ну, и на доброе дело! Я рад, – они покинули территорию Выставки, и вышли в город. – Посидим где-нибудь? Отпустим молодежь?
Демьянов согласно кивнул. Вместе переехали мост. Лиза и Борцов попрощались и отбыли на подошедшем трамвае, пересев на другой номер. Приятели, не прерывая беседы, продолжили пешую прогулку, высматривая какой-нибудь городской скверик. Прошли мимо церкви. Возле нее в тенечке стояли несколько скамеек.
– Сядем? – Полетаев устроился на лавке под липами. – Да успехи-то, брат, разные. Станки новые разработали, уже опытные образцы со дня на день прибудут. Мне, не мне, а кому-нибудь точно сгодятся! Эх, если бы серийный выпуск их наладить! Да они, понимаешь, под конкретное дело должны подгоняться. Буду искать заказчиков. А, и хороши станки должны получиться! Да не немецкие. Наши, родные!
– То добре!
– Еще сплавы. Я в докладе съезду все подробно описал. Образцы ты сам сейчас видел.
– Ну, это, брат, мы с тобой еще в монастыре все переговорили, и станки, и разработки, – Демьянов искоса глядел на лицо приятеля, сцена очень напоминала их прогулки на тропе с рябинкой, только здесь не было ни простора, ни обрыва. – Твои дела как, спрашиваю?
Полетаев вздохнул.
– Что, так безнадежно? – смотрел теперь прямо перед собой Демьянов.
– С закрытием Выставки будет ясно окончательно, – Полетаев открывал перед Демьяновым все карты. – Будут заказы – выберусь. Не будет – пойду на дно.
– И закрытие тому подспорье? – уточнил Демьянов.
– Если бы награду, хоть какую, присудили! – мечтательно произнес Андрей Григорьевич.
– Не замечал раньше в тебе тщеславия, брат, – засмеялся бывший судейский. – Что это тебя нынче так разобрало?
– Не понимаешь ты, брат! – Полетаев загорелся и стал рассказывать увлеченно. – Это не гордыне моей надобно! Любой приз, любая отметина – хоть письмо благодарственное, хоть простое упоминание в награжденных – это слава, известность. Да не моя! А изделий наших. На призеров больше внимания обращают, больше доверия испытывают. Если упомянет комитет Товарищество наше, то сразу же моих надежд прибавится. И с людьми расплачусь, и работников поощрить смогу, и снова в производство вложиться…
– И дом в имении выкупить… – подсказал Демьянов.
– Дом! Что дом! – отмахнулся в азарте Полетаев. – Того дома нет уж, городской бы сохранить! Да не то все, не то! Дальше как будет, вот что решается. Есть будущее или все за зря, прахом. Вот в чем вопрос, друг мой милый.
– В храм-то ходишь? – без перехода сменил тему Демьянов, кивнув на белоснежные стены перед ними. – Помнишь, как там жалел, что…
– В храм? – растерянно переспросил Андрей Григорьевич. – Да знаешь, как-то так… Хожу… Да…
– Часто? Сколь раз был-то? Ну, как возвернулся?
– Да я не считал. Это так важно? – слегка раздраженно отмахнулся Полетаев.
– Ну, без счета? – настаивал упрямый Демьянов. – В это воскресенье был? А в прошлое?
– Ах, братец, – Полетаев задумался, а потом ухмыльнулся. – Ну, подловил. Подловил! Знаешь, в городе это как-то…
– Несподручно? – тоже, улыбаясь, подсказал Демьянов.
– Ну, вроде того, – выдохнул Андрей Григорьевич отчего-то с облегчением. – Как-то глупо, что ли… Я взрослый, современный человек. Стоят там эти бабульки! И я вдруг среди них, как… Неловко как-то, брат.
– Современный человек! – протяжно, как бы пробуя слова на вкус, почти пропел Рафаэль Николаевич. – Вот что я скажу тебе, современный человек. Не почти за назидание, почти за дружеское наблюдение. Ты ж уже раз на те грабли наступал, прости-господи, за сравнение? Чего ж тебе снова «неловко»? А потом разом отмаливать ловко будет? Там, в монастыре, целиком службы отстаивал, ловко было? Что тут-то по-другому? Это тебе или тем бабулькам надо? А? Верно! Каждому своё. Ты не думай, кто как на тебя глянет. Ты о душе своей думай, братец. Пришел, постоял. Сам к себе вернулся, да целенький и пошел дальше.
– Вот, когда ты так говоришь, брат, то все яснее ясного, – Полетаев оперся подбородком на рукоять трости. – А как сам, один останешься, то вот мысли разные… Сомнения…
– Ты руки каждый день моешь? – переходы в беседе Демьянова порой случались непредсказуемые, Андрей Григорьевич уже к этому привык и не удивлялся. – Моешь, спрашиваю? Без сомнений? А в баню ходишь? Раз в год, кода зачешется? А что так? Не часто ли, брат?
– Ну, не томи! – уже смеялся Полетаев. – Говори сразу, к чему ведешь.
– А к тому и веду, – положил доверительно руку на плечо приятелю Демьянов. – Почему к телу отношение более бережное, чем к душе должно быть у современного человека? Ей, душе, тоже надобно и помыться, и почиститься. Отведи ее раз в неделю в церковь, да ходи после, как знаешь. Неужто, так хлопотно?
– Да не хлопотно, конечно, – Полетаев смотрел теперь прямо в глаза приятелю. – Просто знаешь, временами кажется, что и так можно. Без этого.
– Можно, – легко согласился Рафаэль Николаевич. – А вот помнишь, как ты мне про трость свою говорил? Можно без нее? Можно! Да с ней равновесие легче держать. То-то брат.
***
Клим понимал, что полдороги они еще не проехали. Но понимал также, что и оттягивать расставание глупо. Первый раз они остановились на большой почтовой станции – там были гостевые дома, конюшни почти казарменные, бани, буфеты, ресторации, суета и много народу. Лошадей все равно пришлось ждать, дети растерялись, Стася капризничала. После перегона, Леврецкий решил сменить лошадей раньше положенного, заметив небольшую станцию всего в один домишко. Там переночевали. Кроме них из путников случился только спешащий вестовой, ему пришлось уступить одну из отдохнувших лошадей. С полудня зарядил дождь, но все равно решено было ехать. Клим видел, что он лишний, что уже начинает мешаться. Вышел из дому без вещей, когда все рассаживались, и сам сказал:
– Ну, тут и простимся!
Леврецкий пожал ему руку. Детей не выпустили вновь под непогоду, они только помахали дядечке из окошка дорожной кареты, потом она тронулась. Остановилась! На дорогу выскочила Тася, бегом бросилась к Климу. Не понятно было, плачет она, или все ее лицо просто залито дождем. Она снова, как тогда, молча обняла его. Леврецкий не нарушал их объятий, из кареты не выходил, не сетовал на возможную простуду, не гнал молодую супругу под крышу. Терпел. Но вот Тася оторвалась от Клима, пошла обратно. Что-то вспомнив, полезла в карман, снова развернулась к нему.
– Пусть у тебя будет. Храни тебя Господь! – протянула Климу что-то небольшое, тот машинально зажал кулак.
Тася перекрестила его мелко-мелко три раза и ушла окончательно. Карета скрылась в серой хмари, а Клим все стоял на размытой глине колеи. Замерзнув, он поежился и, весь промокший до нитки, вернулся на станцию. Сел за стол в общей комнате, разжал кулак.
– Дождь в дорогу – к удаче! – чтобы разбавить тишину, сказал хозяин.
Клим молчал, голову опустив.
– Может водочки? – спросил сердобольный смотритель, наблюдавший всю картину прощания через окно.
– Нет у нас никакой водочки! – строго оборвала его супруга, вышедшая из-за занавески, она выполняла здесь обязанности кухарки. – Это казенное заведение. Не держим!
– Да окстись, старая! – устыдил ее муж. – У человека тоска, не видишь? Да и промок он весь!
Тетка помолчала, развернулась и вынесла до краев наполненный, но одинокий лафитник. Клим все сидел, не поднимая глаз, как пришибленный. Тут, увидев перед собой руку с рюмкой, поднял глаза.
– А я не пью, тетенька. Не умею.
– Господи! – тетка грузно опустилась рядом на лавку. – Откуда ж ты такой взялся, бедолажный? Покажи, что там у тебя?
Клим разжал руку и поставил на стол отданную ему Тасей фарфоровую фигурку ребенка с кошкой. У тетки на глазу набрякла слеза.
– А ну, пей! – скомандовала она, утираясь.
Клим послушно проглотил обжигающую жидкость и закашлялся. Тетка скрылась за занавеской и вскоре вернулась оттуда с тарелкой закуски и графинчиком прозрачной жидкости.
– Ничего, – сказала она. – Когда-то и можно! Детки это твои были?
– Племянники, – ответил Клим.
– Увезли?
– Увезли.
– Насовсем?
– Насовсем.
– Ну, ты посиди, покушай. Выпей чуток. Мне на хозяйство надо идтить, – тетка, перекинув полотенце через плечо удалилась, проходя мимо супруга, шепнула тому: – Ох, бедолага! Не удавился бы тут, у нас. Ты уж последи за ним!
Хозяин следил. Тоскливый гость сидел смирно, где его посадили, пил мало и редко, ничего не ел с тарелки, смотрел в окно. Постучались в ворота, смотритель по долгу службы пошел отворять. Потом принимал новых гостей, те заказали с порога обедать, пошла суета, отпирали комнаты, расселялись, переодевались в сухое. Хозяин не сразу заметил исчезновение первого гостя. Подумал, что мелкого субъекта с непривычки сморило и тот, небось, спит – комнату гость еще не освобождал с ночи.
Новые гости захотели в сортир. Первый из них побежал во двор, да вскоре вернулся. Уборная была заперта изнутри. Стучали, кричали, никто не отзывался и не открывал. Пришлось срывать щеколду. Клим беспробудно спал, свернувшись калачиком на голой земле у самого входа. Его выволокли, отнесли в дом. К вечеру обедавшие гости уехали на свежих лошадях, а Клим, ничего не помня о содеянном, вышел к хозяевам в исподнем, как его уложили днем. Попросил еще водочки и разрешения остаться на ночь. Те переглянулись, но так как Клим не буянил, а деньги обещался уплатить вперед, согласились. Через пару часов одинокого сидения за столом, гость снова исчез, стоило только смотрителю выйти из зала по какой-то хозяйственной надобности.
Дождь все хлестал. Хозяин бросился привычной дорогой к отхожему месту, но там никого не обнаружил. Вернулся, взял фонарь посильней. Светил в очко, пытаясь разглядеть, не утоп ли худосочный гость в говне. Чертыхался. Вспомнив предостережение жены, обошел все сараи и хлев, осмотрел стропила. Гостя не было. Ни живого, ни мертвого. Вернувшись в дом, сам потребовал у супруги рюмку! Решив, что если страдалец ушел в лес, то искать его раньше утра, все равно резону уж нет, хозяева стали укладываться спать. В тишине им стало различимо равномерное сопение, пошли на голос. Звук явно шел из комнаты постояльца, но его самого там не наблюдалось – кровать пуста, на стуле – котомка гостя, на комоде – таз и кувшин, у окна – пустой сундук. И рядом – соскользнувшая с него на пол кружевная накидка. Тетка первая догадалась откинуть у сундука крышку. Клим лежал на кучке тряпья и снова спал пьяненьким сном.
***
Сегодня Хохлов явился к Олениным этаким франтом. В новой рубахе, в новых брюках, весь в обновках – даже его картуз выпячивал себя своей не помятой свежестью. Но главным, конечно, в обновленном гардеробе были сапоги! Они блестели немым вызовом всем канавам и бездорожью начинавшейся осени, а капли рыжей грязи скатывались с них в пыль без остатка, когда хозяин, не разбирая дороги, шагал напрямую через лужи и глиняное месиво распутицы. Он обтер их обстоятельно при входе и прошел в дом, не снимая. Все заметили изменения и сразу засыпали Арсения вопросами.
– Вот! Затеваю новую жизнь, – с горделивой улыбкой отшучивался он. – Надо же было с чего-то начинать? Получил я полный расчет на старом месте. Теперь снова превращусь в горожанина, друзья! На работу берут, правда, с жильем пока не понятно.
– Так милости просим, – Ольга Ивановна хорошо помнила, кто для нее был вдохновителем сдачи жилья внаем. – Две комнаты у нас еще пустуют, въезжайте в любую, хоть завтра.
– Нет, милая хозяюшка, – покачал головой гость. – Это бы я с радостью, но, никак нельзя. Понимаете ли, ушел я вовремя с Бора, да у местной охранки все равно ко мне какие-то вопросы постоянно имеются. Я от разговора с ними ускользнул, да вот постоянного открытого места проживания иметь теперь все-таки не рискну. Меня товарищи пристроят. Так, что и не сразу найдешь! А, может, и несколько адресов дадут, это как выйдет. А уж своих хороших знакомцев подставлять под удар своим пребыванием – это у меня совести не хватит, так что можешь не бледнеть так, Игнат. Если что, так пусть берут меня прямо на заводе.
Кириевских, действительно, не смог скрыть тени недовольства на лице, когда на горизонте замаячила возможность совместного проживания с бывшим соратником, а в последнее время все чаще становящегося в их спорах оппонентом. Но он по привычке отмахнулся:
– Не говори ерунды, Арсений! Если есть опасность, так и на завод нечего выходить. Затаись, по правде.
– Не время таиться! – Хохлов потер ладоши. – Как только будет готов агитационный материал, так я за пару дней там управлюсь, а уж после и в бега можно. Что там у нас?
Говорили о том, что вощенка вышла великолепная, что пишущей машинки товарищи так и не смогли сыскать, что окончание страды может привлечь приток работников из деревень, о том, что надо бы и там не ослаблять своего влияния, напоминать о себе. Поговорив о делах, пили чай, читали, пели песни. Разошлись уж в сумерках.
– Где же вы нынче ночевать станете, Арсений? – спросила все-таки напоследок Оленина.
– Ничего, Ольга Ивановна, кто-нибудь приютит, – лихо отвечал гость, а на лице Лиды Олениной появилось какое-то новое выражение, которого в суете прощания никто не заметил.
А с Лидой происходило непонятное. Еще в начале вечера сердечко ее забилось неведомой радостью, когда ей показалось, что теперь она будет видеть его каждый день подле. Потом этот душевный подъем сменился пропастью глубочайшего разочарования, потом ее еще несколько раз кидало из надежды в расстройство, от улыбки до угрюмого молчания. И вот сейчас душа ее наполнилась каким-то упрямством, желанием сделать что-либо прямо сейчас, не упустить, не позволить. Еще примешивалось нечто, похожее на страх. А что, как «приютят» его те две сисястые буренки, что были за рекой на сходке? Или еще кто из «товарищей» с косами до пояса, да с застежкой на груди? На Лиде сейчас была точно такая же кофточка, как тогда на сестрах-социалистках, вся в мелких пуговках – она упросила мать потратиться и пошить обнову, хотя денег в доме все равно было впритык, лишних не наблюдалось.
Когда последние гости расходились, домашние пошли их провожать до ворот. Ольга Ивановна убиралась наверху, жильцы разошлись по своим комнатам на первом этаже, а Лида осталась во дворе одна. Она постояла минуту, прикусив губу, как будто решаясь на что-то, а после, глянув на непогасшие еще окна дома, решительно выбежала за калитку.
Алексей, окно которого выходило в переулок, укладывался спать. Комната была первая при входе, угловая. Он слышал скрип половиц где-то над головой, потом чьи-то быстрые шаги вниз по лестнице, потом голос Петра, кричавшего в темноту: «Лидушка, ты где? Мама тебя спрашивает!», потом голоса брата и вернувшейся сестры во дворе. Потом все постепенно стихло. Дом засыпал.
***
Дом Олениных отходил ко сну. Не шел покой только к Алексею, ворочающемуся на своей узкой коечке. Он давно погасил лампу, но мысли все роились в голове и не давали заснуть, не отпускали в блаженное царство покоя. Вот и осень пришла. Надо было решать что-то, причем решать быстро. Занятия в университете уже начались, что делает он в этом чужом городе? Погостил и будет! Надо было собираться и ехать в Москву.
Москва. Москва ударила его самым жутким за всю жизнь потрясением этой весной, а ведь до этого побаловала и огромной радостью – ему, самоучке и сироте, удалось поступить в величайшее учебное заведение страны. Такую удачу нельзя было упустить сквозь пальцы! Это Петя может себе позволить бросить учебу на полпути, ведь у него – семья, дом, поддержка. А что есть у Алексея, кроме собственных способностей? Надо возвращаться в Москву.
Москва. Что осталось у него там, кроме места на курсе? Ужас того дня, когда проснулся он один в опустевшей навсегда комнате? Холодный страх судорожных поисков и безумной ночи в больнице? И квартиры нет, и денег кот наплакал, и друзей там не осталось, и знакомых раз-два и обчелся. Оленины к нему относятся искренне, гнать не гонят. Но…
Когда Алексей еще только начинал университетскую учебу, то мало с кем сводил знакомства, уходил-приходил, ютился по углам, не всегда мог готовиться к занятиям дома – не было места писать, не всегда была лампа, чтобы читать по вечерам. Потом появился Петр, сблизился с ним, позвал к себе. И сложился у них на квартирке некий мир, удобный для всех проживающих совместно, в котором верховодили Семен и письмоводитель.
Семен был самым старшим среди них – и по возрасту, и по уму. Он взял на себя ответственность за всех квартирантов, сделавшись вроде как отцом всему этому семейству собравшихся вместе парней. Он умел рассчитывать средства так, чтобы дотянуть до следующего курьера, который привезет от матушки рулончик рублей, распределял еду так, чтобы не сидеть по три дня подряд на одном пустом чае, взвалил на себя роль взрослого человека. Не уступал ему в силе характера и письмоводитель, меж ними всегда шло негласное соперничество. Но, так как сферы их влияния почти не пресекались, то в маленьком мирке все постоянно возвращалось в состояние равновесия, и по всем вопросам можно было найти решение.
Письмоводитель был личностью довольно безалаберной, но веселой. Он больше отвечал за досуг приятелей, прогулки с барышнями, различные увеселения и развлечения. Он придумывал вылазки из дому, а обладая авантюрной натурой, знакомств имел море. Петруша был при них младшим братом для обоих и, видимо, в какой-то момент, ему этого стало недостаточно. Старшие довлели над взрослеющим Петром. Тогда появился Алексей, и в доме воцарилось полное согласие. Петр руководил Семиглазовым, а Семен с письмоводителем опекали их обоих. Потом все сломалось в один час.
Петр. С Петром было не все ладно, это Алексей видел и понимал. Ударившись в религиозное неистовство, тот напугал родных не на шутку. Но это оказалось наносным – после той памятной поездки в монастырь нездоровая набожность сошла на «нет», но теперь все чаще в речах Петруши проскальзывали нотки сомнений по поводу существования бога вообще и «поповских бредней» в частности. Лодку резко накренило на другой борт. Там, в обители, когда оказалось, что Алексей в силу опыта своего детства хорошо знаком с условиями и правилами местного уклада, он пару раз поймал на себе хмурый взгляд Петра. Тот не мог допустить превосходства облагодетельствованного им товарища хоть в чем-то. Он злился, и Алексей ясно видел это.
Вскоре Петр теснее стал сближаться с Хохловым, как бы наказывая Алексея своим невниманием. Но потом они вместе поступили на службу в больницу, и все между ними вроде бы снова улеглось. Хотя дежурили они порознь, так получилось. Они были всего лишь студентами, да еще и не медиками, а биологами, поэтому взять их смогли только на самую что ни на есть подсобную работу. Для приработка и то было ладно, да и вакансии им предложили на выбор, так как платили в зависимости от отделений по-разному. Петр выбрал морг. Алексей не мог даже думать о том, чтобы часть своей жизни проводить в этой юдоли скорби, слишком свежими были впечатления московских событий. Хирургию он отверг по сходным доводам и устроился в отделение психиатрии, там тоже были повышенные ставки, но не было крови.
По-хорошему, возвращаться Алексею было некуда. Верней – не к кому. Скитаясь с детства по чужим углам, он только тут, у Олениных, почувствовал силу настоящей семьи – со сборами за столом, с заботой о младших, с авторитетом старших. Ему тут было и хорошо, и тоскливо одновременно. Хорошо, потому что вся эта домашняя обстановка обволакивала, затягивала и расслабляла душу. А не очень хорошо, потому что он, конечно же, понимал, что все это не его, чужое, что сам он тут существует на птичьих правах, из милости. Оленины говорили – из благодарности. Но то большой разницей для Алексея не являлось. И он знал теперь, как все может мгновенно обрываться. Нет. Привыкать нельзя. Можно рассчитывать только лишь на себя. Надо уезжать! Собрать волю в кулак – и уехать. Доучиться, встать на ноги.
Еще одним якорем, крепко держащим его в Нижнем Новгороде, конечно, была Лиза. Она пронзила душу Алексея насквозь, и он так и ходил за ней, как пришпиленная бабочка в ее личной коллекции. В этом Арсений прав! Но как раз все то, что Хохлов ставил Лизе в вину, для Алексея казалось недостижимыми добродетелями. Он никогда раньше таких барышень не видел так близко, в московской жизни они казались ему обитателями какого-то другого, далекого мира, где все не так. Эфирные, эфемерные, легкие, недостижимые. А Лиза не брезговала им, как постоянно уверял его Хохлов, а разговаривала, ходила на прогулки, ездила за город – полностью признавала в нем равного. Алексею импонировало в ней все – ее умение хранить сдержанность даже в конфликтных ситуациях, сила характера, мягкость обращения, ум, начитанность, необыкновенная тонкость кожи, спадающие на плечи локоны, пальцы, скользящие по клавишам, глаза, голос.
Надо уезжать! А то он еще возьмет, да проговорится! Ей, или кому из дома. Хотя дома все и так всё понимали и знали. А вот ей знать нельзя! Или это будет уже окончательным крахом. Нет, она, конечно, не посмеется над ним. Но отдалится сразу же, не захочет ранить, травмировать. Ведь нельзя же, в самом деле, даже надеяться на какую-то взаимность! Нет! Можно только наслаждаться, пока все идет, как идет, и наблюдать за ней. Смотреть, смотреть. Хотя отдаление, кажется, происходит и без его вмешательства. Лида отходит все дальше от своей подруги, видятся они все реже.
Лида. Ее комната была прямо над ним. Она не спала, Алексей ясно слышал ее шаги, она так еще и не ложилась. Если бы он уснул в привычное время, то, конечно же, не заметил этого. Но так как сегодня думы обуревали его, то и беспокойство хозяйской дочки не укрылось от него. Конечно, беспокойство! Что еще может заставить молодую девушку так нервно расхаживать из угла в угол? Наверно, сегодня такая ночь – все волнуются, размышляют о жизни, о будущем. Ох!
За окном послышался тихий шорох, а потом звук сыплющегося на землю песка. Алексей открыл глаза, но вставать с постели не стал, лишь отогнул угол занавески. По водосточной трубе, стараясь издавать как можно меньше звуков, взбирался на второй этаж их дома какой-то человек. Он уже долез до карниза, а одну ногу поставил на забор, примыкавший к стене. Вторая болталась прямо перед глазами Семиглазова. Еще миг – и ночной жулик исчез из поля зрения полностью, лишь тихо хлопнули оконные створки над головой Алексея. Он не стал звать на помощь, не поднял шума, не вступился за приютивший его дом. Хотел, даже дернулся было, скрипнув пружинами кровати! Но тут узнал эти новехонькие сапоги, блеснувшие хромом в лунном блеске, и застыл в немом оцепенении. Потом отвернулся к стене и накрыл голову подушкой, чтобы вообще больше ничего не видеть и не слышать сегодня.
***
Хохлов мягко, как кошка, спрыгнул с подоконника внутрь комнаты. Лида, добившись своего, теперь растерялась и стояла перед ним, прикусив губу. Потом решительно развернулась и, взяв со стола керосиновый ночник, а из ящика комода связку ключей, шепотом велела ночному гостю: «Пойдемте!».
– Постой, девочка, – так же шепотом отвечал Арсений. – Куда пойдем? Присядь! Расскажи мне, я в этом коридоре плохо ориентируюсь. Вот за этой стеной кто? Твоя мать?
– Нет, там пустая комната, – Лида указала на входную дверь. – Напротив комнаты братьев, Семина закрытая стоит. А мама спит там, в той половине, где мы собираемся. Там еще две комнаты за большой столовой – ее спальня и бывший папин кабинет. А за этой стеной бывшая детская, туда я Вас и поведу, только надо простыни взять.
И она снова потянулась к комоду.
– Постой, – Арсений крепко взял, все время порывающуюся что-то делать Лиду за предплечье. – Погоди, Лида. Лидия Пантелеевна. Лидушка.
Девушка покраснела и обернулась к нему.
– Вы смеетесь надо мной, Арсений, а между тем – я Ваш товарищ! – она снова прикусила губу. – Зачем тогда согласились вернуться?
– Товарищ, – серьезно, без смеха отвечал Хохлов. – Милый мой товарищ! Близкий мой товарищ. Не побоялась приютить опального, рисковая девочка.
– Вы снова? – Лида все еще не понимала, как ей себя вести с ним наедине.
– Говори мне «ты». Всегда говори, при всех! Такие, как ты, очень нужны в нашем деле! Смелые. Рисковые. А мы еще наделаем с тобой дел, это я тебе обещаю. Да, Лида?
– Да, – завороженно повторила она.
– Никуда я отсюда не пойду, – Арсений огляделся и, сбросив пиджак на стул, по-хозяйски прилег на девичью постель, опершись на высокую подушку. – Уйду утром. С рассветом. Иначе смысл было отказываться от предложения твоей матушки? Тогда надо было уж открыто ночевать. А так – что скажут, если я столкнусь с кем в коридоре из домочадцев? С Петром, или с матерью вашей? Красиво это будет? То-то. Тайна, значит —тайна. Наша с тобой! Иди сюда.
Лида не двинулась с места, лишь заметила, что ее бьет мелкая дрожь.
– Иди ко мне, – с напором повторил Хохлов и Лида, как под гипнозом, сделала два шажка к кровати.
– Нет, – она замотала головой. – Нет! Как же это?
– А вот так! – просто отвечал ей Хохлов и улыбнулся. – Ты что, действительно думаешь, что мне негде переночевать? Когда ты позвала меня, я подумал, что это ты зовешь меня. Ты.
– Я, конечно, я, – ничего почти уже не соображая, кивала Лида. – А кто же? Я решила, я догнала… Я и позвала.
– Ну вот! – Арсений сел на край постели, лицом развернувшись к ней. – К тебе и пришел!
– Но это, нет, – Лида теряла разум, понимая, что стоит теперь зажатая между его коленей, а сильные руки скользят по ее спине, ниже, по ногам, снова взлетели вверх, ухватили за талию. – Нет, нельзя так… Не надо…
– Надо! Надо взрослеть, девочка!
Жаркий шепот в самое ухо заглушил остатки разума в ее девичьей головке, и Лида не заметила, как оказалась лежащей на собственной кровати, а Арсений возвышался сейчас над ней, упершись одной рукой в подушку, а второй страстно лаская ее. Он наклонился и зажал ей рот долгим поцелуем, заглушая последние просьбы и мольбы, побеждая слабый напор оставшегося сопротивления. Когда он понял, что девушка обмякла под его руками, он на минуту отпустил ее, привстал на коленях, выпрямился и одним рывком скинул с себя рубаху через голову, обнажив торс. У Лиды перехватило дыхание. Он протянул руку и стал расстегивать пуговки у нее на груди – одну за другой, одну за другой. Лида молчала и только смотрела на него в полумраке. Арсений всей тяжестью навалился, лег на нее, но тут безбожно заскрипели пружины кровати, и оба на миг застыли.
В тишине Арсений стал босыми ногами на пол – когда он успел скинуть сапоги, Лида не заметила вовсе – сорвал с постели лоскутное одеяло и одним широким жестом расстелил на полу. Стащил туда же подушку, и, подняв Лиду на руки, уложил на вновь изобретенное ложе. Теперь ночную тишину не нарушал никакой скрип, а только слышались подавляемые стоны и неровное дыхание двух человек.
***
Травы на клумбе давно сменились ярким пестрым ковром астр и георгин, и теперь они радовали глаз своим пышным цветением. С того дня, когда няня не пустила Лизу под дождь, когда плакала Аленка Вересаева и открыли дверь в покои Гаджимханова, та так и оставалась по сей день не запертой. Лиза подчинилась граду настойчивых просьб гостя и пользовалась его коридором еще пару раз во время непогоды. Но это оказалось не единственным преимуществом открытого хода в Большой дом. Лиза частенько стала позволять себе ловить последние теплые деньки и проскальзывать в сад боковым ходом. Одной. Без Аленки, которую приходилось звать с собой, если в сад открывались двери из зала. Лиза видела иногда свою ученицу в окне, но они лишь обменивались приветствиями и, помахав девочке ладонью, Лиза получала час, а то и два абсолютного уединения. Она читала тут, писала в дневник или просто думала и мечтала, вдыхая запахи начинавшей желтеть листвы. Это не могло ей полностью заменить любимое Луговое, но все-таки так лучше, чем сидеть в комнате безвылазно. Сегодня она ушла туда, чтобы прочитать долгожданное письмо, пока у нее еще оставалось немного времени до занятий с Аленкой.
«Меблированные комнаты
«Империал», г. Тифлис
Здравствуй, дорогой мой дружочек Лизонька!
Помнишь ли ты еще свою подружку, грузинскую княжну? Я вспоминаю про тебя часто. Прости, что так долго собиралась писать к тебе, пока устраивались, пока переезжали снова. Как ты, душенька моя? Я оставила тебя в таком плачевном состоянии, что непростительно только сейчас узнавать о твоем настрое. Молюсь, чтобы время пошло тебе на пользу. Напиши. Успокой свою Нину, что у тебя все уже благополучно. У нас тут все налаживается, все здоровы. Но расскажу тебе все по порядку. Добрались мы спокойно, встретились с мамой и с князем. По прибытию в Тифлис, выяснились обстоятельства, которые препятствовали скорейшему разрешению наших дел. Папа вынужден был без нас уехать в имение налаживать дела, все оказалось в таком запущенном состоянии, что о передаче владений третьему лицу не может пока идти речи. Когда земли и бумаги будут приведены в должный вид, он заберет нас отсюда, и мы поедем с визитом к родственникам моего жениха. Думаю, это случится не раньше середины осени. Меня эта задержка, как ты понимаешь, вовсе не расстраивает. Мы с матушкой ведем жизнь светскую, тут очень приличное общество, часто выезжаем. Встретили знакомых по Москве. Помнишь, года три назад родители возили меня туда перед началом занятий? Очень много русских, немцев, я участвую тут во всех благотворительных затеях – молодых людей и девиц тут целое общество, все активничают, но ни с кем особо близко я так и не сошлась. Здесь хороший театр, прекрасные магазины. Небольшая осечка вышла только с бельем, оказалось, тут нет такого выбора, как привыкли мы с мамой, не всегда есть нужный размер. Ты же знаешь, Лизонька, что такое для женщины приличное белье! Пришлось заказывать из Парижа. Но это такие мелочи, что общего течения жизни не портят. Хотя бывают и трудности, и сложности. Случилось со мной и приключение. Да-да, Лизонька, со мной подобное, оказалось, тоже может быть! В самом начале, когда мы только прибыли и папа еще вовсе не знал города, он купил дом. Князь Кинулидзе отговаривал его, предлагал подождать, не спешить, найти хороший вариант, но ты же знаешь папу! А верней, маму. Княгиня наотрез отказалась от проживания в гостиницах, выговаривая папе, что это не к лицу князьям Чиатурия. Я, после нашей аскетичной жизни в Институте, довольствовалась бы любой комнатой, где есть письменный стол и чистая вода по утрам, но мама! Папа вторил ей, объявив князю, что даже временное жилище у нас должно быть собственное, что он не может жить в чужом доме. Совершив покупку на свое усмотрение, он был несказанно доволен и уже через пару дней мы въезжали. Должны ли были насторожить его малая цена за такие хоромы, да отбытие бывшего владельца из города сразу после совершения сделки? Не знаю! Но папа только восхищался открывающейся отсюда панорамой: «Посмотри, дочка! Я уеду, а вы с мамой будете любоваться на течение Куры, не выходя из собственного дома! Мало кто может похвастаться таким видом из окна!» Папа уехал. И вот, как-то в начале августа, наши здешние друзья позвали нас на пикник. Здесь часто стоит нестерпимая жара, удушливая пыль, многие стараются выезжать за город. Я в те дни приболела по-женски, но мама очень хотела ехать, и меня оставили с горничной. К полудню начался дождь, и я все переживала, что мамин выезд пройдет так неудачно. Но через пару часов я уже радовалась, что ее не оказалось в доме в этот день. Стремительно, буквально за считанные минуты вода поднялась до уровня окон первого этажа, а потом стало заливать пол. Слуги были недоступны, в доме оказались отрезанными потопом лишь мы с Ламарой. Оставаясь внизу, мы бы очень скоро напоминали вместе с ней полотно господина Флавицкого, с той только разницей, что нас все-таки было двое! Конечно, мы взбежали во второй этаж и смотрели из окна на бушующую стихию. Наводнение несло мимо ветки, тюки и какие-то обрывки, вода завивалась в воронки, и можно было бы так и глядеть без конца на это завораживающее зрелище, если бы не страх, что оно затянется надолго. Но тут, преодолевая бурные потоки, пред нашим домом появился всадник! Меня спасли, Лиза, как принцессу из неприступного горного замка с драконом! Князь снял нас прямо с окна первого этажа, вымокших по пояс, посадил меня впереди, Ламару сзади себя, и мы такой живописной группой добрались до сухой мостовой. Перепуганная княгиня нашла нас вечером в номерах «Орианта», а через некоторое время, когда в том доме все подсохло, и можно было забрать вещи, князь перевез нас в «Империал». Так что пиши мне на этот адрес, дружочек! Буду ждать от тебя весточки с нетерпением. Поклоны и пожелания здоровья твоему батюшке. Кланяйся от меня и своей изумительной Егоровне, Савве Борисовичу, твоему художнику. И еще той женщине, что видела я у вас в мой последний визит, кажется, Наталия Гавриловна? Мне показалось, что она вам хороший друг. Кланяйся Лиде, скажи, что напишу ей позже, что от нее жду писем всегда, передай адрес. Если встретишь maman, то всяческие ей приветствия, от меня и от мамы. Твоего письма жду непременно! Будь здорова, любезная моя Лиза, будь спокойна и благополучна. Ты и твой дом. Молюсь, чтобы Бог дал тебе сил и мудрости. Молись и ты за меня, верная моя подружка!
Со всеми благими пожеланиями,
княжна Нино Чиатурия».
Лишь дочитав последнюю строчку, Лиза снова вернулась взглядом к началу письма, желая перечитать его заново, так соскучилась она, так хотела проникнуться каждой описанной подробностью. Но тут увидала на пороге бокового выхода фигуру няни, что махала ей призывно рукой. Егоровна еще ни разу не тревожила ее во время прогулок в садике, вероятно, произошло что-то неординарное. Лиза вздохнула и, сложив письмо обратно в конверт, отправилась на зов.
– Подружка твоя! – сообщила ей няня.
– Подружка? – переспросила Лиза растерянно. – Ты про письмо? Это от Нины, да!
– Ну, и, слава Богу! Объявилась?
– Да. Тебе поклон от нее. Так ты хотела про это спросить, о чем она пишет?
– Потом расскажешь, доню! Здорова, и, слава Богу! А то там у меня все шкворчит! Подружка твоя пришла. Другая. А вроде не ее день, не урочный. Выйдешь? Сидит, ждет.
– Лида? – удивилась Лиза, и на подтверждающий кивок няни расплылась в радостной улыбке. – Ах, как кстати! Конечно, иду!
***
Лида сидела в гостиной и одним пальцем подбирала какую-то мелодию на пианино. Услышав шаги, обернулась.
– Лидочка! – Лиза помахала с порога письмом. – Какая ты молодец, что зашла именно сегодня! Нина весточку прислала. А ты? У вас все хорошо? Да ты сияешь вся! Что-то произошло?
Лида действительно вся светилась, такой ее Лиза не видела со времен праздников в Институте. Да-да, наверно, что с Рождества. Или нет – с Пасхи! Весной все еще было хорошо. А вот на выпускном балу Лида уже была другая, потухшая.
– Нет-нет, Лизонька! – Лида привстала навстречу подружке. – Я просто подумала… Как-то не все хорошо было между нами последнее время. Может быть, пойдем, просто погуляем? Как раньше? Наговоримся? И Нина! Что пишет Нина? Мне-то от нее ничего не было.
– Да вот! – Лиза пробежалась по листку глазами, сначала хотела протянуть его полностью подруге, но несколько слов вначале охладили ее восторг, и она, подняв на Лиду взгляд, снова вернулась к тексту и прочитала письмо вслух, почти полностью. – И в конце она просит тебя писать ей, сообщает адрес.
– Вот и хорошо! Теперь мы знаем, как она там, – Лида не обиделась, как боялась того Лиза, и восприняла послание, адресованное не ей лично, благосклонно. – Надо же! Наводнение… Ну, так что скажешь на мое предложение?
– Да я бы с радостью, – растерянно отвечала Лиза. – Но сегодня же Аленкин день! Ты забыла? Мне сейчас идти на урок.
– Ах, – беспечно махнула ладошкой Лида, вовсе не растеряв своего нынешнего радостного настроя. – Действительно забыла! – она засмеялась. – Ну, так, иди, занимайтесь! Можно я тебя тут подожду?
Лиза обрадовалась и, согласившись, не знала теперь, чем бы занять подругу на такое длительное время ожидания. Она боялась спугнуть благостное Лидино настроение, которое стало крайней редкостью в последние месяцы.
– Я постараюсь быстро, – Лиза оглядывала комнату вокруг.– Тебе дать что-нибудь почитать? Я постараюсь уложиться в час, не больше. Я, правда, всегда после урока еще и играю Аленке, но сегодня, я думаю, мы обойдемся без этого. А хочешь, пойдем со мной? Девочке будут уже полезны зрители. Знаешь, она делает значительные успехи!
– Поздравляю тебя, дорогая учительница! – Лида улыбалась. – С успехами достойной ученицы! Аленка действительно не только способная, но и старательная девочка. Но прошу тебя! Не меняй ваших обычаев ради меня! Играйте, музицируйте, делайте, как привыкли. Я подожду тут, если ты не возражаешь, мешать вам не стану. Если честно, то на уроки я нынче вовсе не настроена.
– Хочешь сама помузицировать? – Лиза кивнула на открытую крышку фортепиано.
– Что? А, это? – Лида аккуратно опустила крышку. – Нет, это я так, занять себя. А что у тебя еще есть интересного, Лиза Полетаева?
– Даже и не знаю, – развела руками Лиза. – Книги. Журналы.
– А папенька твой дома? – просила Лида, видимо, желая приветствовать старшего Полетаева.
– Нет, он на службе. До вечера. Вряд ли вы увидитесь, – Лиза вновь развела руками.
– А помнишь, – Лида перешла на таинственный шепот. – Помнишь, ты говорила, что у него есть печатный аппарат? Можно ли мне глянуть хоть глазком? Или это неудобно сделать без его ведома?
– Да почему же! – рассмеялась радостно Лиза, поняв, чем может порадовать подругу. – Я сейчас открою кабинет.
Лида подхватила с пола небольшой баул и направилась вслед за хозяйкой.
– Это что у тебя? – спросила Лиза.
– Да так, собрала с собой кое-что, – похлопала Лида ладошкой по тканому боку торбочки. – У меня же весь день свободен. Поедем после в парк?
– Вот она! – Лиза сняла с машинки чехол. – Это даже больше моя вещь, чем папина! Я сейчас научу тебя. Смотри, вот так заправляется бумага, на тебе еще листы, пробуй сама. Вот! Когда ее край окажется на этой линии, можно набирать. Вот так сдвигается каретка. А сюда нажимаешь, если буква должна быть заглавной. Все очень просто! Ну, думаю, на час тебе этой забавы хватит!
– Спасибо, Лизонька! – Лида полностью была увлечена новой игрушкой. – Как думаешь, Нина удивится, если получит от меня набранное на машинке послание?
Лиза довольная убежала в Большой дом на занятия. В час она, конечно, не уложилась, и, когда вернулась во флигель, застала совершенно иную картину, нежели оставляла. Лида была взвинчена, расстроена и чуть не плакала.
– Вот, – выпятила она вперед нижнюю губу. – Я только хотела подправить, там стало совсем светлым отпечатываться… А она выскользнула и… Я не сумела вставить обратно!
– Ах, боже мой, ты же вся выпачкалась, – заметила Лиза. – Руки-то, руки! И блузка…
– И блузка тоже? – Лида вдруг разрыдалась. – Прости, я такая неуклюжая. О! Еще и стол!
– Нет-нет! – Лиза осматривала нанесенный урон и пыталась сгладить его последствия для подруги. – Это пятно тут уже больше недели, ты тут вовсе ни при чем! Не расстраивайся. Кофточку, конечно, жалко, а все остальное – ерунда! Вернется Савва Борисович, я у него попрошу новую ленту. И теперь буду знать, что всегда надо держать при себе запасную. Даже не думай!
– Правда? – Лида размазывала краску и по щеке. – Ты вовсе не сердишься?
– Вовсе не сержусь, – Лиза одобряюще улыбнулась подруге. – Только как мы теперь поедем в город? Тебе бы надо переодеться…
– Может, в другой раз? – всхлипнула Лида и, увидав свои ладони, охнула. – Мне бы еще руки отмыть.
– И умыться! Пойдем. Не трогай больше лицо!
В этот день они никуда не поехали. Лиза попросила Кузьму отвезти расстроенную подружку домой. Но перед самым выходом, уже в прихожей, Лида молча обняла Лизу и, ничего больше не сказав, вышла на двор. Чувство после несостоявшейся прогулки у Лизы осталось все-таки доброе. Она надеялась, что с этого дня их с Лидой отношения снова начнут возвращаться к более близким, дружеским, ведь та к ней пришла сама.
***
– Ну, вот что, гость наш дорогой, – станционный смотритель, оборачиваясь на колышущуюся занавеску, решился на так долго откладываемый разговор. – Живешь ты у нас вторую неделю… Это так…
– Я ж плачу исправно, – заискивающе смотрел на него Клим.
– Да так-то оно так…, – хозяин тоже замялся.
Из-за занавески вышла его дородная супруга и, уперев руки в пояс, с налету пошла в атаку:
– Значицца, так, уважаемый Клим Валерьянович! Загостился ты. Уж, не обессудь.
– Мне уходить? – Клим встал из-за большого стола в общей зале и прижал к груди свой жилет, который сам латал до этого.
Был он так жалок в эту минуту, что запал у хозяйки угас, она снова пожалела незадачливого постояльца.
– Ну, что значит, уходить? Кругом леса непролазные. Разве ж мы – звери? Поедешь, как оказия случится. Подсадим к кому…
– Ехать-то тебе есть куда? – спросил смотритель. – Дом-то у тебя есть?
– Дом есть, – кивнул Клим.
– Ну, так чего не едешь? – хозяйка аж голос на него повысила.
– Пусто там… – Клим теребил жилетку и укололся иглой.
– Господи! Дай сюда! – Клим протянул недошитое хозяйке, но та оттолкнула его правую руку и, потянувшись к левой, затянула тряпицей ранку. – Ну, вот что ты будешь с ним делать!
Послышался шум, снова прибыли проезжие гости. Разговор откладывался.
В этот раз прибыл какой-то отставной офицерик, с ним трое дружков да девица. Мужчины требовали коней всем сразу, согласны были ждать. Заночевали. Всю ночь резались в карты, а девица отчего-то рыдала в одиночестве, к общему столу не выходила. Утром служилые ускакали верхом, девицу с собой не взяв. Клим жалел ее, носил ей чаю. Хозяева переглядывались. Когда Клим спросил для нее грелку, а то та мерзла, тетка передернула плечами, и ни слова не сказав, вышла кормить ямщиков. Смотритель крякнул в кулак и чуть слышно сказал Климу:
– Ты чего с ней носишься, как с писаной торбой? Аль, не понял? Гулящая она. Один бросил, другой подберет. Не нажалеешься!
– И что ж… Несчастная она! – отвечал Клим. – Пока она тут, то, что ж ей, от холода помирать? Или пусть разболеется?
– Сердобольный ты, как я погляжу, – ухмыльнулся смотритель, но грелку принес.
Ставил самовар и относил ее постоялице Клим собственноручно. За пару дней расклеившаяся девица поправилась и укатила с подвернувшимся смотрителем тюрем, что проезжал по казенной надобности. А хозяева в тот вечер о чем-то долго совещались между собой. Утром разговор с Климом об его отъезде возобновился. Теперь и муж, и жена, оба уселись за пустующим гостевым столом. Говорили обстоятельно.
– Значит, слушай сюда, Клим Валерьянович, – начал хозяин. – У нас тут, прости, не гостиница. И даже не постоялый двор. Мы с супругой моей этим местом сильно дорожим. Если доложит кто, или с проверкой проездом случится, у нас неприятности могут быть. Тут люди казенные останавливаются, им соглядатаи ни к чему. Что это, скажут нам, за наблюдатель – живет, смотрит, кто куда отъехал, кто откуда прибыл. Не порядок!
– Я понял, понял, – снова кивал Клим. – Да и денег, что с собой взял, все равно почти не осталось. И так, и так – надо ехать.
– Ты почему домой-то не хочешь? – с болью в голосе спросила хозяйка.
Клим горько усмехнулся. Долго молчал, чтобы не расплакаться.
– Я, дорогая хозяюшка, вижу, как супруг Ваш каждый раз меня в уборную незаметно провожает, – Клим глянул на хозяина, тот смутился. – То в сарае ему что надо, то коней посмотреть. Боитесь за меня. Добрые вы. Я сам… боюсь иногда… Там-то приглядывать за мной некому станет. Вот так, блазнится, встану как-нибудь в ночь, как и поговорить-то не с кем будет, да пойду в сарай, да… с тоски-то и…
– Тьфу! Тьфу на тебя! Господи пронеси! – перекрестилась хозяйка. – Как даже думать такое можно?
– Ну, вот что! – хлопнул ладонью по столешнице смотритель, прервав слезливые пророчества. – Есть у меня брат родной. Я на государевой службе, а он свое хозяйство держит. Был. Был, как и я, смотрителем, да дорога, со временем, в сторону сместилась, так его заведение в частные-то руки и перешло. Отсюда далековато! От города – рукой подать. Ездят к нему… Разные… Купчишки, да другие кто с деньгами.
– У меня, денег, знаете ли… – попытался зачем-то оправдываться Клим.
– Да погоди ты! – прервала его хозяйка.
– Так вот, – продолжил ее супруг. – Человек ты неплохой, как поглядим. Непьющий! Тихий. Мы б тебя и при себе с радостью оставили, да нет тут штатной единицы, нечего тут троим делать, самих, трясемся каждый год, как бы не погнали! А вот к брату, если хочешь – езжай! Письмишко ему предам. Он давно искал либо помощника, либо напарника. Ну, напарник – то долю надо вносить, а вот, если послужить согласен, то… К девам особого сорта, как мы поглядели, ты лояльность имеешь. Я-то к брату ни ногой, потому как супруга моя их на дух не переносит.
– Тьфу! Мерзость какая, – хозяйка плюнула и ушла к себе за занавеску.
– А при братцевом ремесле, без них, сам понимаешь, не обойтись, – уже свободнее разглагольствовал хозяин. – Парочка таких живет там постоянно, да и с компаниями наезжают. Гульба, пьянки. Мне, с моей – там не житье! А брат просил, расширяться желает. Говорит, чаще с города наезжать стали. Ну, ты как?
– А, что гульба? Людям и погулять когда-никогда надобно, – Клим на своем веку повидал разных людишек. – Я людям многое прощаю. Если я там пригожусь, то я с радостью. Все на людях. Все – при деле. Домой, страсть, как не хочу. Мне бы хоть зиму пересидеть, там все, может, повеселей станет?
– Ну, и с Богом! – у хозяина отлегло от сердца. – Завтра и отправляйся. Только о жаловании это ты сам с ним толкуй. Лады?
***
Лиза шла по ярмарке, Лев Александрович сопровождал ее.
– Знаете, Лиза, что вот тут, прямо под нами находится, считай, еще один город? – он постучал по булыжникам мостовой.
– Какой же? – смеялась Лиза. – Сказочный? С подземным королем и гномами? И вас они водили туда с завязанными глазами, взяв обещание хранить тайну их сокровищ? А Вы? Вы выдаете ее мне?
– Я, Лиза, действительно допущен до некоторых тайн, – Лев Александрович теперь подражал Лизиному отцу и везде ходил с тростью. – Но не в силу волшебных чар, а в силу своей служебной принадлежности. И да, я спускался туда, вниз. Сокровищ, скажу я Вам, там не наблюдается, скорей наоборот.
– Как это наоборот? – все еще смеялась Лиза, а Лев Александрович сконфузился. – Что? Что-то неприличное?
– Ну, в общем… – мялся теперь Борцов, уже пожалев, что завел эту тему. – Как бы сказать-то…
– Уж, скажите, как-нибудь, будьте любезны, – Лиза остановилась и посмотрела против солнца из-под руки, высматривая на большой площади фигуру отца, с которым они договорились там встретиться. – А то я подумаю, бог знает что. Что же там, под нами?
– Под нами кирпичные своды, Лиза. Сейчас здесь все опустело, но вспомните, сколько народу тут бывало летом, в разгар торжища. При строительстве была придумана и предусмотрена целая система, пардон, канализации.
– Как в Древнем Эфесе? Я читала, – Лиза затаила дыхание, то ли боясь уловить запах описываемого инженерного сооружения, то ли замерев перед величием человеческой мысли, она словно всматривалась вглубь сквозь толщу земли. – Прямо тут, под нами? Невероятно!
– Прямо тут, – Лев Александрович кивнул на пустующие уже ряды вдалеке. – Видите те круглые башенки? Через них есть ходы вниз. Но, что за тема для молодой девушки! Простите меня, это я виноват. Давайте о чем-нибудь другом.
– Почему? – Лиза взметнула на Льва Александровича взгляд, окрашенный определенным оттенком упрямства. – Это мой город, мне интересно про него все. Например, в ответ, я могу рассказать Вам, что наш Институт был чуть ли не первым в Нижнем Новгороде зданием с подведенной сплавной канализацией. Рассказывали, что по ее трубам может в рост пройти девушка моих лет. Но я не знаю, так ли это взаправду, это просто девочки так говорили!
– Ох ты! – Лев Александрович покачал восхищенно головой. – А я уж было испугался, что вы лично с девочками проверяли сие.
Они вместе рассмеялись.
– Да, все опустело. Все закрывается, – вздохнула Лиза.
– И так в этом году припозднились, – Лев Александрович поежился, было уже прохладно. – Вы не замерзли, Лиза? Может, пройдем в Главный дом, там подождем Андрея Григорьевича?
– Правда, утром мне показалось, что изо рта шел пар. Но разве это может быть? И сейчас вовсе не холодно! – Лиза смотрела по сторонам, настаивать Борцову было неудобно. – Но как идет время! Завтра уже награждения, а там и закрытие. Все кончается. Пойдемте?
Редкие группки людей все же встречались им по пути, ярмарка не желала впадать в опустошение и вырывала у осени невзначай доставшиеся ей в этом сезоне деньки и удовольствия. Не дойдя до площади, Лиза и Лев Александрович заметили некое пестрое и азартное сборище, и подошли полюбопытствовать.
– Ату! Ату, его, арлекин безмозглый!
В огороженном рыболовной сеткой загоне мужики стравливали двух петухов – черного с коротким мясистым гребнем и рыжего с пестрым хвостом. Побеждал цветной боец, именно его и взбадривали выкриками, сделавшие ставки игроки. Наблюдателей было немного. Вскоре присоединился к ним и Лизин отец. Лизе было неприятно зрелище не только самого боя, отвратительного по своей сущности – науськивания бессловесных тварей ради мнимого своего человеческого удовольствия, но еще и лица окружающих вызывали у нее недоумение своим неподдельным интересом и истовостью взглядов. Она видела, что когда отец подошел и взглянул на происходящее, его лицо невольно перекосила гримаса брезгливости. У Лизы отлегла от сердца, но тут она испугалась снова и медленно подняла глаза на Льва Александровича, боясь обнаружить его увлеченность и расстроиться от этого. Но оказалось, он вовсе не смотрел на петухов, а смотрел на нее. И улыбался.
– Поедемте отсюда, господа любезные? – спросил он разом и у отца и у дочери. – Слава богу, все собрались!
***
Поехали к Полетаевым. Пили чай, о чем-то говорили, потом замолчали.
– Завтра все решится, Лизонька, – похлопал Лизу отец по лежащей на скатерти ладони, она вздохнула.
То ли от долгого ожидания, то ли от разморившего их всех горячего чая, то ли от того, что за последний месяц они так привыкли к присутствию в их доме Борцова, что престали считать его посторонним, но отец и дочь расслабились. Они обсуждали сейчас при нем свои сокровенные чаяния и ожидания, забыв горделивую осторожность.
– Простите, а что именно завтра? – Борцов смотрел на Лизу, но все отчего-то поняли, что обращается он не к ней, а к ее отцу. – Вы сказали «решится», о чем это, Андрей Григорьевич?
– Да знаете ли, батенька, – Полетаев кашлянул в кулак, посмотрел на дочь и не стал отпираться. – Да вот закроем Выставку нашу, проводим гостей, продадим этот дом, да и уедем с Лизой в деревню. Надеюсь, нас там приютят. Будем помаленьку выкарабкиваться, все при деле, рядом.
– То есть как это «приютят»? – Лев Александрович почувствовал, как в его груди зреет мощная волна несогласия, за шутку он сказанное не принимал и секунды, помня о разговорах с Саввой. – Кто приютит? Ваши рабочие? В бараках?
– Ну, в каких бараках, голубчик! – Полетаев улыбался. – У меня работники все в собственных домах проживают, они ж сплошь местные жители, либо давно отстроились. Или сруб, какой выкупим, или пока поживем в Гостином доме, за мной там комнаты числятся. Лизе тоже что-нибудь подберем.
– Это вы какую-то ересь говорите, любезный! – Лев Александрович не мог поверить в услышанное. – Что Елизавете Андреевне делать круглый год в деревне, позвольте узнать?
– Лев Александрович! – Лиза все смотрела поочередно то на одного, то на другого собеседника, но тут не выдержала. – Почему Вы говорите так, будто меня вовсе нет в комнате? Спросите у меня самой.
– Да, Елизавета Андреевна, – с напором спросил Борцов, будто наказывая ее за что-то. – Извольте! Чем Вы собираетесь заполнять свой сельский досуг?
– Почему обязательно досуг? Я буду просить места сельской учительницы, тогда, возможно, что земство выделит мне жилье.
– Платьишки из ситчика, видимо, заранее уже обнашиваете? – ехидно подколол ее Борцов.
– Какие платьишки? – в глазах у Лизы появились непрошенные слезы от незаслуженной обиды. – Вы почему… – она запнулась и всхлипнула.
Лев Александрович умом понимал, что ведет себя недопустимо, но остановиться уже не мог. Он не был готов к этому разговору, но чувства захлестывали его изнутри и вырывались наружу совсем не тем, что он на самом деле давно хотел высказать этой девушке. Он попытался взять себя в руки и свернуть на нужные рельсы. Вышло еще хуже!
– Я, Елизавета Андреевна, всей душой принимаю в Вас участие. Поверьте! – он встряхнул головой. – Но эта Ваша жертвенность… Это Ваше самоуничижение!
– Молодой человек! – Полетаев встал из-за стола и выпрямился. – Извольте сменить свой тон! Вы в моем доме и разговариваете с моей дочерью. Не забывайтесь!
– Простите! Простите меня! – экзальтированно воскликнул архитектор и, опустив лицо, постарался успокоиться. – Но посудите сами! Вы-то взрослый человек! Опытный. Вы понимаете, на что Вы обрекаете молодую, образованную девушку?
Он тоже встал, сидя продолжать такой разговор было невозможно.
– Сотни молодых девушек живут в еще более скромных условиях! – у Андрея Григорьевича задрожал голос, чувство вины перед дочерью снова подступило к самому горлу, но он продолжал говорить, все громче и громче, убеждая в своей правоте не только собеседника, но, видимо, и самого себя. – Для человека, у которого есть ум и занятие, внешние обстоятельства вещь второстепенная! Мы так с дочкой воспитаны!
– Да побойтесь Бога! – Борцов всплеснул руками. – Мы про Елизавету Андреевну говорим! Посмотрите на нее – она достойна всего лучшего! Столичные театры, салоны, лучшие гостиные лучших домов должны открываться перед ней одним мановением! А она рядится как слободская простушка и водит знакомства с…
– Не смейте! – Лиза такого ужаса в своем собственном доме даже предположить не могла. – Лев Александрович, милый! Замолчите! Вы сейчас скажете что-нибудь такое, после чего наша дружба станет невозможной. Вы же сейчас хотели оскорбить других моих друзей. За что? Что они Вам сделали? Вы Лиде на экзамене подсказывать изволили, а нынче так вот! А остальные? Вы их не знаете вовсе! И откуда, простите, вы осведомлены о моих нарядах? Да, при той компании я стараюсь одеваться как можно скромнее. Это для того, чтобы не ущемлять их гордости. Их! Понимаете? Так откуда Вы знаете о том?
– Я видел вас, – почти шепотом сказал поникший Борцов.
– Видели? Где? Когда?
– Один раз, когда вы все вместе выходили с Выставки, а другой раз, когда приезжал итальянский цирк.
– Боже мой! – Лиза совсем растерялась и беспомощно посмотрела на отца. – Видели и не подошли? Вы что же? Шпионите за мной?
– Елизавета Андреевна! – снова повысил голос Борцов. – Выбирайте выражения!
– Не смейте кричать! – Андрей Григорьевич снова ринулся в бой.
– Я кричу, потому что меня здесь оскорбляют! – сорвался обиженный Борцов.
– Пока я вижу оскорбления только с Вашей стороны! – вторил ему Полетаев. – Действительно, что за слежка?
– Прекратите сию минуту! – Лиза уже не знала, как унять разошедшихся мужчин и поглядывала на дверь в надежде, что зайдет Егоровна и все уладит. – Я сегодня уже насмотрелась петушиных боев. Достаточно!
– Простите еще раз! Но слушать все это невыносимо. И не говорите, что Вы не понимаете о чем я. Надо же что-то решать, но не так же!
– Позвольте в своем доме я буду решать, так или не так! – парировал все еще распаленный Полетаев.
– Ну, подожди, папа, – все еще надеялась на примирение Лиза. – Возможно, Лев Александрович не понимает нашего положения. Что же тут еще можно решить?
– Елизавета Андреевна! – Борцов развернулся к ней всем корпусом и, видимо, на что-то решился. – Дорогая Елизавета Андреевна! Когда я вернулся из Москвы, в тот день! Когда я увидел Вас там, в том незабудковом платье, я… Я был ослеплен! Вы, своим достоинством, степенством своим, грацией, статью поразили меня. Не та девочка, с которой я танцевал на выпускном балу, нет! Вы и император – как равная с равным! Вы!
– Я не понимаю! Папа! – Лиза обернулась к отцу за поддержкой, но тот, видимо начав что-то улавливать, молчал и внимательно вслушивался.
– Я все сделаю, чтобы Вы получали достойное Вас обеспечение! – продолжал свою пламенную речь Борцов, раз решившись и уже не давая себе возможности отступить. – Я имею неплохую службу, сбережения. Я надеюсь на выгодных клиентов и впредь, и уже имею заказ на будущий год. Большой заказ, правда, в Москве.
– Я… Мы рады за Вас, но, я, право, не понимаю – к чему это все в нашем нынешнем разговоре?
– Выходите за меня замуж! – Лев Александрович выдавил из себя главное, но облегчения так и не наступало.
– То есть? – опешила Лиза.
– Выходите! Я отложу еще на год, или на два, мои мечтания о собственном доходном доме, бог с ним! Я думаю, нынешних средств моих хватит на обеспечение любых нужд молодой жены. Вы согласны?
– На что? – холодным тоном спросила внезапно успокоившаяся Лиза. – На то, что Вы купите меня ценой своей мечты? Думаю, не стоит.
– Что Вы! – Лев Александрович впервые за время своего монолога поднял глаза на Лизу и увидел дрожащую в ее глазах обиду. – Зачем Вы так? Вы неверно меня поняли…
– Вы уж, молодой человек, и впрямь, что-то намудрили, – Полетаев вздохнул и приложил ладонь к груди.
– Папа! Что? – взволновалась Лиза.
– Нет-нет, дочь. Все хорошо, – Полетаев сел обратно за стол. – Но что ты ответишь Льву Александровичу? При всей странности формы, мне кажется его предложение искренне. А, Лизонька?
– Папа! Ну, ты-то! Неужели ты не понимаешь, что я не могу принять такого предложения, – Лиза опустила глаза и наморщила лоб, будто от боли.
– Все ясно! Разрешите откланяться! – Борцов кивком простился, развернулся и вышел за дверь.
В прихожей ему молча протягивала трость и шляпу все подслушавшая Егоровна.
– Так-то вот, – сказал ей Лев Александрович.
– Получил от ворот поворот? – няня сочувственно смотрела на гостя.
– Получил. По всем статьям! Прощай, Егоровна, береги ее.
– Тю! Так уж и прощай! До свиданья, барин. Свидимся еще не раз! Это я тебе говорю, не руби с плеча.
А в столовой отец и дочь сидели молча, пока не услышали хлопок входной двери.
– Не нравится он тебе, Лизонька? А мне казалось… – Полетаев вздохнул.
– Нравится, папа. Очень нравится! Возможно, даже больше, чем нравится! – снова чуть не плакала Лиза.
– Тогда я вообще ничего не понимаю, дочка! – Полетаев всплеснул руками. – Отчего ж – отказ?
– Папа! Ну, как ты не понимаешь! Я – это не мое незабудковое платье! И я не кукла, чтобы меня наряжать. Я стою большего!
– Так, Лизонька, так! Не сердись. Все это понимают! Не сомневаюсь, что и Лев Александрович тоже. Просто разговор сегодня вышел какой-то сумбурный. Бестолковый разговор. Ты же не сердишься на него за это?
– За это нет. Не сержусь.
– И мы впредь будем с ним видеться?
– Мы можем даже дружить, папа. Я не стала думать о Льве Александровиче хуже ни на сколько! Я ценю и уважаю его по-прежнему. И может быть, когда-нибудь… – Лиза замолчала.
– Ну, вот и ладно, – Полетаев снова вздохнул. – И все-таки, может ты не права? Может ну ее, гордость? А? Расточительно откладывать такие чувства на потом. Встретив человека, с которым чувствуешь себя лучше, чем без него, может не играть с судьбой?
– Дело в том, папа, что после сегодняшнего разговора я не чувствую, что с ним мне будет лучше. Мне сейчас лучше одной.
– Ну, как знаешь, дочь, – и Андрей Григорьевич залпом допил из чашки остывший чай, как пьют сердечные капли.
***
Утро подведения выставочных итогов началось рано и бурно. Полетаевы только-только позавтракали, как в прихожей раздались голоса и к ним ввалились сразу два гостя.
– Приветствую! Приветствую вас, дорогие мои! – Савва Борисович, как всегда, был громогласен и энергичен. – А я только утром с поезда! Э-эээ-ээ… Вот, встретил по дороге! У ваших ворот. Так бы не узнал, нет! На улице – не узнал бы. Когда мы виделись последний раз, Дмитрий Антонович? Годика этак два назад? Ну, возмужал! Окреп еще пуще! Матушку-то Вашу увижу ли сегодня?
– Так ее тут и встречаю, Савва Борисович, – отвечал Митя. – Здравствуйте, Андрей Григорьевич, здравствуй, Лизавета. Не прибыла еще она?
– Да вот ждем с минуты на минуту, – Полетаев предложил гостям сесть. – Егоровна! Давай самовар! А там все вместе и поедем. Так? Как разместимся-то? Мы думали извозчика брать. Вы, Савва Борисович, с экипажем нынче?
– А как же! У меня он вместительный, могу хоть трех человек себе взять! Нет, двоих. По дороге еще за Левкой заедем, я у него не был пока. Вон, молодежь могу подвезти!
– Ты, Лиза, как, – аккуратно спросил ее отец, стараясь превратить вопрос в шутку. – Со мной и Кузьмой поедешь, или с Саввой Борисовичем и «женихом»?
Лиза покраснела, потому что после вчерашнего происшествия вместо шутки получилась неловкая двусмысленность. Митя отчего-то тоже недовольно сдвинул брови.
– Мне все равно, папа, – сквозь зубы процедила она и, извинившись, удалилась переодеваться.
Во дворе сегодня стояла постоянная суета. Отъезжали по очереди гости, потом приехала Наталья Гавриловна. Все снова здоровались, обменивались новостями, у Полетаевых во флигеле было шумно и людно, как редко теперь бывало. Лиза вышла к гостям уже готовая к выходу.
– Ах, какая красавица. Здравствуй, Лизонька! Прямо совсем невеста! – не удержалась от восклицания Митина мать, не подозревающая о происходящем в доме.
Лиза не стала снова краснеть, и в эту минуту посмотрела почему-то не на отца, как обычно, а на Дмитрия. Тот нетерпеливо повел плечами. Лиза, видимо получила ожидаемую поддержку, потому что набралась духу и обратилась ко всем взрослым, сразу от имени двоих.
– Папа. Наталья Гавриловна! Я вас очень люблю и уважаю.
– Что за вступление, дочь? – Полетаев с утра был хмур, а теперь, напротив, неожиданно пришел в радостное возбуждение. – Ты как будто хочешь сделать нам какое-то заявление? Ха-ха!
– Это не заявление, а просьба, – Лиза твердо стояла на своем. – Шутка про жениха и невесту слишком затянулась, она не приятна нынче ни мне, ни Мите. У нас очень добрые отношения, надеюсь, они останутся такими всегда. Но… Папа, ты как-то сказал мне, что вы мало слушаете и доверяете нам. Прошу вас. Всех. Больше эту шутку не повторять. Подобные детские прозвища уже не всегда уместны. Митя?
– Я тоже прошу вас о том же, – Митя подошел и стал рядом с Лизой плечом к плечу.
– Господи, дети! – Наталья Гавриловна всплеснула руками. – Я даже не думала, что для вас это так… Не будем больше об этом, прошу вас. Забудем! Митя, а ты – пляши!
– Что это, мама? – спросил он.
– Это от Николая, – Кузяева достала из радикюля конверт. – Он, видимо, не знает твой нынешний адрес, потому и писал в Луговое. Я подумала, что ты скорее захочешь прочесть весточку от приятеля и привезла. На, держи!
– Вы подождете? – возбужденно спросил Митя у всех собравшихся.
– Читай спокойно, времени еще полно, – отвечал ему Андрей Григорьевич. – Ступай в людскую. А хочешь, я открою тебе свой кабинет?
Наталье Гавриловне тоже налили чаю, все сидели в столовой и мирно беседовали. Прошло несколько минут и вдруг из соседней комнаты раздались звуки, похожие на стон и звон разбитого стекла. Первой метнулась к сыну мать. Остальные догнали ее и, застыв в проеме двери, увидали рыдающего Митю. Этот большой, крупный молодой человек, вовсе не умеющий выражать свое страдание, нелепо согнулся над брошенным листком бумаги и накручивал на свой огромный кулак бархатную портьеру. На полу валялись осколки разбитой вазочки.
– Митя! Митя, что? – Лиза отодвинула застывшую в ужасе Наталью Гавриловну и, опустившись перед Митей на колени, попыталась разжать его ладонь, понимая, что еще чуть-чуть и карниз сорвется им на голову. – Митенька, все пройдет! Все будет хорошо. Скажи мне, что? Что случилось?
Но Митя не мог ответить – он задыхался, захлебывался рыданиями и, хватаясь за виски, тер их.
– Боже! Да у него сейчас сосуды лопнут, – Лиза впервые и с ужасом наблюдала за зрелищем плачущего мужчины. – Папа! Надо врача!
– Обождите вы с врачом! – возникла вдруг откуда-то Егоровна и взялась распоряжаться.
Прежде всего, она набрала в рот воды из принесенного с собой стакана и прыснула Мите в лицо. Рыдания сразу затихли. Он осмотрел всех уже более осмысленным взглядом и потянулся к Егоровне руками, та отдала ему полупустой стакан, и Митя стал, захлебываясь, из него пить. Потом с заиканиями кивнул Лизе на письмо.
– П-ппп-рочти… всем. Ра-ааа-зреша-аа-ю. Я не могу!
И он снова разрыдался, но уже тише и как-то по-детски. Егоровна отперла «Наташину» комнату. Ожидая прихода домашнего доктора, Митю уложили там. Ни о каком его посещении Выставки речь идти уже не могла.
***
«Санкт-Петербург, Васильевский остров, 14-я линия,
Доходный дом Семеновой-тян-Шанской
Приветствую тебя, Дмитрий. Коротко о себе. Я летом усиленно занимался, сдал хвосты за тот год, догнал курс и держал экзамен в Академию. Поэтому не мог приехать даже к визиту синьора Фаричелли. Теперь они уже, по всей вероятности, покинули наш город? Родственники писали, что у них в планах Арзамас и Макарьев. Напиши после, как все прошло. Теперь о главном.
На прошлой неделе меня вызвали в кабинет к начальнику, там меня ждал некий морской офицер. Он передал мне конверт, на котором не было никаких почтовых меток, только мое имя. Видимо, оно было получено по дипломатическим каналам. Писал ко мне небезызвестный тебе господин Денисов. Сразу говорю, что сведения, полученные от него настолько трагичны, что мне потребовалось несколько дней, чтобы собраться с силами и написать тебе. Его письмо я хочу оставить себе, да и по известным причинам не считаю возможным передавать другому лицу или подвергать пересылке. Но я тебе перескажу его своими словами.
К концу лета в Константинополе создалась тревожная ситуация. Ты, мой друг, вряд ли видел назревающее противостояние, когда мы там были, я сам многого не понимал и не замечал. Теперь все сложилось в общую картину. Не дождавшись от турецких властей обещанного улучшения условий жизни и прекращения притеснений христиан, группа молодых людей пошла на решительные меры и захватила Оттоманский банк. Насколько это могло быть конструктивно, судить не мне, но кое-кем высказываются догадки, что об их намерениях власти были заранее осведомлены и допустили специально, дабы иметь повод к ответным действиям. Все посольства европейских держав обратились с просьбой о мирном разрешении конфликта, но на улицах, откуда ни возьмись, появились целые толпы фанатиков, не только местных, но и прибывших из других городов, вооруженных и озлобленных, и началось избиение всех, кого они принимали за армян. Людей просто вырезали семьями.
Видя, что безумство не прекращается более суток, российский посол отправил своего драгомана к султану с предложением услуг по переговорам, которое и было принято. Наш общий друг, в силу своей должности, постоянно находился рядом и своими глазами видел среди заговорщиков Затика, знакомого ему по визиту к нам. Удалось вывести их всех из здания банка и вывезти из города на английском судне, но это не привело к окончанию погромов.
Когда трагические события застали всех своей внезапностью, на территории российского посольства оказались как работавший в тот день Теван, так и Мнацик, пришедший на урок к Денисову. Надо ли говорить, что обоим было предоставлено право убежища, но удержать взрослого человека в час, когда его соотечественники подвергались истреблению, конечно же, не удалось. Теван вырвался в Галату, больше его никто не видел. Мальчика же Денисов сначала посадил под замок, боясь оставить на кого-либо, а встретив на переговорах английского посла, уговорил того взять на борт еще одного спасенного, чтобы быть спокойным за жизнь хотя бы ребенка – в надежде, что родственники там отыщут друг друга.
Охота на людей продолжалась более двух суток с полнейшего попустительства полиции, которой властями было запрещено вмешиваться в происходящее. Наш друг считает, что только угроза российского посла о применении орудий стоящей на рейде эскадры, возымела действие, после чего был отдан приказ о прекращении беспорядков. Денисов посетил дом, в котором мы с тобой жили, сразу после того, как этот ужас окончился.
Я не буду пересказывать тебе те кровавые картины, которые он застал, переправившись через залив. Скажу лишь, что не щадили и женщин. Во дворе были обнаружены им тела пожилой женщины, двух мужчин и подростка. В доме – еще двух женщин. Тел молодых девушек он не видел ни там, ни по пути к пристани. Так что узнать ни о судьбе нашей дорогой Сатеник, ни о том, удалось ли спастись хоть кому-то еще из этой большой гостеприимной семьи, не представляется возможным. Прости за дурные вести.
Скорбящий вместе с тобой,
твой друг Николай Рихтер»
***
– Что это? – Лиза не могла заплакать, ее лишь слегка мутило, а ум отказывался понимать прочитанное. – Папа! Что это?
– О, Господи! – Полетаев тер лоб. – Я знал, Лиза. Уж несколько дней как знал. Но, когда в газетах, это как-то…
Андрей Григорьевич повернулся и вышел из гостиной, где Егоровна уже подмела осколки, и все собрались здесь, оставив задремавшего после лекарств Митю одного.
– Что за год! Что за многострадальный год выдался нынче! – сетовал Савва. – То давка та у нас весной, то японцы эти несчастные летом. То теперь это вот! Уму непостижимо!
– Вы сравнили тоже, Савва Борисович, – Наталья Гавриловна утирала редкие слезы платком. – В Японии божье провидение, стихия . А тут!
– А! И там и там боль, – махнул рукой Мимозов и, оборотясь лицом к окну, стал взывать неизвестно к кому: – Люди! Опомнитесь, люди!
Вернулся Полетаев с журналом в руках.
– Вот. Перепечатка из русской газеты «Новое время». Где же это? А, вот! Корреспондент пишет: «…европейцы в Константинополе теперь не едят рыбы. И мне босфорская рыба противна: она слишком жирна…»
– О чем это? Причем тут рыба? – снова переспросила Лиза.
– Это о том, Лизонька, что тела сбрасывали прямо в море, – ответил ей за отца хмурый Савва.
– О, боже! – Лиза все-таки расплакалась и убежала к себе.
– Ну, други мои, – Савва вздохнул и встал. – Что бы там ни было, а жизнь не останавливается. Оглашение уж началось. Мне надобно ехать!
– Я остаюсь с сыном, – Наталья Гавриловна посмотрела на Андрея Григорьевича. – А вы поезжайте вместе.
– Нет, нет, – Андрей Григорьевич тоже встал и подал Мимозову руку. – Я позже, с дочкой.
Савва Борисович уехал.
– Как твое сердце, Андрюша? – спросила Наталья Гавриловна, как только они остались вдвоем.
– Хорошо. Все хорошо, Наташа, не волнуйся, – грустно улыбнулся ей Андрей Григорьевич. – А когда ты рядом, мне кажется, что и вообще ничего случиться не может!
Они обернулись на шорох – в дверях стояла Лиза и, облокотившись на косяк, внимательно смотрела на них. Так же беззвучно за спиной у нее возник Дмитрий.
– Митя! Зачем ты встал? – всполошилась мать и вскочила навстречу сыну.
– Мама, мне надо ехать, – чуть слышно произнес он, Лиза обернулась и смотрела на него через плечо.
– Как ехать? Куда ехать? – растерялась Наталья Гавриловна. – Мы же решили остаться тут? Андрей Григорьевич все нам расскажет! Ты слаб сейчас.
– Мама, мне нужно в другой город. Сейчас. Сегодня! – Дмитрий облокотился рукой выше головы Лизы.
– В какой город? – беспомощно посмотрела Наталья Гавриловна на Андрея Григорьевича, будто ища поддержки. – Иди, ложись, у тебя, наверно сознание помутилось от капель? Сейчас пройдет.
– К ней? – коротко спросила Лиза и, увидав ответный кивок, проскользнула под его рукой в коридор.
– Мама, дай мне, пожалуйста, денег, мне надо в Макарьев, – в голосе Мити звучало деланное спокойствие, в любой момент готовое сорваться.
– Митя, Митя, – мать теперь уговаривала его как маленького. – Не надо поспешных решений, сын! В таком состоянии совершаются самые необдуманные поступки. Остынь. Переживи все, а потом…
– Мама! Какие поступки? – Митя снова схватился за виски. – Мне просто нужно быть там, и всё!
Лиза проскользнула у него под локтем в обратную сторону и протянула деньги, взятые у себя из «волшебного конверта».
– На, тебе же понадобится? Ты же за день не обернешься? – спросила она, пропустив весь разговор до этого.
– Лиза! Я ничего не понимаю! – Наталья Гавриловна облокотилась на стул, стоящий у нее за спиной. – Ты разве не видишь, в каком он состоянии? В чем ты ему потакаешь, девочка?
– Лиза, действительно, – вступил Полетаев. – Позволь решать матери.
– Ну, как вы не понимаете! – Лиза топнула ножкой. – Я бы тоже! Мне бы тоже нужно было… Сейчас, когда такой страх! Неужели вы не понимаете, что ему нужно просто увидеть ее. Убедиться, что она есть, что она жива. И всё!
Взрослые переглянулись и одновременно потянулись за кошельками – Наталья Гавриловна обернулась к своей сумочке, лежащей на комоде, а Андрей Григорьевич полез во внутренний карман сюртука. Митя посмотрел на все это, грустно улыбнулся и, поцеловав Лизу в макушку, взял деньги у нее.
– Спасибо! – сказал он, обращаясь ко всем, троим, разом. – Какие вы все… Мы все…
Наталья Гавриловна молча села, а Андрей Григорьевич подошел, встал у нее за спиной и положил ладонь ей на плечо:
– Все будет хорошо, Наташа.
– Папа! – Лиза всхлипнула и улыбнулась одновременно, слезы переполняли глаза и катились вниз, а она совершенно некультурно утирала их пальцами. – Папа, может, встретив человека, с которым тебе хорошо, не стоит искушать судьбу?
– Что ты, дочь? – Полетаев отдернул руку от плеча Натальи Гавриловны и отрицательно покачал головой, как бы желая остановить то, что собиралась сказать Лиза дальше.
Митя, уже было вышедший в коридор, заинтересовался, заинтригованный вернулся и стоял у Лизы за спиной, хотя она его и не видела сейчас.
– Папа, помнишь, ты говорил, что судьба умнее нас?
– Не помню, дочь.
– Помнишь, ты говорил, что не стал тогда Мите крестным, а, значит, мы можем пожениться?
– Ну, Лиза, мы вроде бы закрыли сегодня эту тему? Ну, прости, если это было жестоко. Простите, дети.
– Папа! – Лиза все-таки заметила Митю и, ища у него опоры, взяла наощупь за руку. – Но, папа, если нам можно, то почему вам нельзя? Обвенчайтесь. Вы же расцветаете оба, когда вы вместе! Митя?
– Лизавета! А ты – голова! А что, и вправду – женитесь!
– Бог знает, что ты говоришь, девочка! – воскликнула Наталья Гавриловна и спрятала лицо в ладонях.
– Наташа! – у Полетаева дрожал голос. – Ты же знаешь, что устами младенца… А что бы ты ответила, если б я сказал, что моя дочь мудрей меня?
– Андрюша!
– Ты выйдешь за меня?
– Да вы с ума сошли что ли! Господь с вами!
– Я теперь беден, – продолжал Полетаев. – Если тебя мучают сомнения сословного плана, то… То это все ерунда! Это я теперь буду просить у тебя милости и убежища. Пустишь под крыло?
– Андрюша! Ну, что ты говоришь! – вся пунцовая сидела Наталья Гавриловна. – Сейчас ты поедешь на оглашение, а уже завтра восстановишь все свои дела. Я верю в это! Так должно быть!
– Как должно быть, так и будет, – Полетаев смотрел ей прямо в глаза. – А вот и ответь нам, пока еще ничего не решено. Ты согласна? В горе и в радости, в богатстве и в бедности? Или только в бедности?
– Андрюша, ну, ты же знаешь, что с тобой… – она запнулась.
– Ты бы согласилась стать моей женой?
Митя и Лиза, стоя в дверях, затаили дыхание.
– Ты же знаешь, Андрюша, – еле слышно прошептала Наталья Гавриловна. – Я была бы счастлива…
***
Лиза осталась дома с причитающей от счастья Егоровной и растерянной от того же самого Натальей Гавриловной. Полетаев поехал в собрание один, оставив женщин успокаивать друг друга. Он опоздал намного и, войдя в зал, поискал глазами знакомых. Свободных мест не было. Он встал у стены и заметил обернувшегося к нему Савву, тот сидел далеко, между Львом Александровичем и четой Вересаевых. Оглашали дипломантов второй степени. Значит, и денежные премии, и похвальные отзывы, на один из которых так надеялся председатель Товарищества Полетаева, уже отзвучали. Он кивком спросил у Мимозова: «Как наши дела?», тот покачал головой из стороны в сторону, Полетаев грустно улыбнулся и развел руками.
Вскоре пошли медали. Награжденных было много, и хотя сегодня оглашали только лишь нижегородцев-победителей, но их все равно было такое количество, что одно только перечисление призеров шло торжественно, но очень медленно. Долго хлопали с трудом пробирающемуся по плотному ряду сидящих участников Савве Борисовичу – его турбины взяли серебряный приз. На золотых медалях Андрей Григорьевич не вынес духоты собрания и долгого стояния на ногах, и вышел из общего зала в вестибюль. За низенькими столиками сидели кое-где люди, перед ними были разложены бумаги, видимо, с пылу, с жару, заключались выгодные договора и сделки. В зале и в коридорах Андрей Григорьевич заметил много знакомых юристов и стряпчих, они сегодня были тут нарасхват! Полетаев порадовался за удачу других.
А в зале, под тихий смех, крупный Савва стал снова пробираться к выходу, хотя никто его более за наградой не вызывал. Он шутливо поклонился публике, хотя ужас как не любил попадать в смешное положение и быть центром такого сорта внимания. Он вышел из зала вовсе, но Полетаева в фойе уже не нагнал. Утерев лоб, Мимозов неспешно возвращался, когда заметил того самого пайщика их Товарищества, который так активно пытался недавно проворачивать сделки с англичанами. Похоже, что сейчас, тот продолжал начатое, потому что господин, что-то настойчиво ему втолковывающий, сухощавый, с рыжеватыми прямыми волосами, очень смахивал на сына туманного Альбиона. Незаметно подойдя поближе и прислушиваясь к речи незнакомца, Мимозов удостоверился в своих подозрениях, уловив явный акцент у говорившего господина.
– Не понимаю Ваших страхов. Это мне иметь проблем при последующем разговоре с владельцем. Но то до Вас касательно вовсе не быть!
– Давайте обождем? – неохотно поддерживал разговор пуганный уже раз урядник.
– Чего? – англичанин поднял брови в деланом удивлении. – Окончания оглашения? Так я Вам после таких условий не назначу, друг мой. Все за бесценок и так дадут.
– Торгуете? – Савва вышел из тени. – Позвольте поучаствовать, господа любезные? Жуть, как люблю торговаться!
– О, Господи! – воскликнул Тимофей Михайлович и весь покрылся испариной.
– Приветствую Вас, Вы случаем председателя нашего не видали? – продолжал куражиться Савва. – Только-только упустил! Вот, туточки он не проходил давеча?
Помощник станового и вовсе сник, а господин, ведущий с ним торг, вежливо раскланялся с новым собеседником.
– Мы есть торговать, это так, – он взглянул на Тимофея Михайловича, все еще ожидая, что тот представит их с новым господином, как положено, но тот лишь нечленораздельно пытался оправдываться.
– Мы… Савва Борисыч, не погубите… По миру пойду… Войдите в положение!
– И сколь Вам этот господин прибытку положил? – вежливо и обстоятельно интересовался любитель торгов Савва, не отвечая на лепет.
Урядник только смог вытащить из кармана огромный носовой платок и утереть пот со лба.
– По законам сие есть тайна переговоров двух субъектов! – ответил англичанин, хотя обращались вовсе не к нему.
– По закону сделки должны вестись, соотносясь с уставом! – хлестко отвечал ему Савва, тот замолчал.
– Номинал пая плюс две тысячи рублей серебром сверху! – вдруг отчетливо отрапортовал Тимофей Михайлович, обретший голос.
– Ух, ты! – Савва тотчас же сделался весел и азартен. – Даю две пятьсот! А? И закон соблюдете, и совесть отыщется?
– Следующий день ваш устав будет ничто! – ухмыльнулся англичанин. – Все с молотка пойдет, так у вас говорят?
– Две шестьсот, – парировал Савва.
– Три тысячи, – англичанин больше не поминал русских поговорок и образных выражений.
– Три пятьсот, – довольно улыбался Савва.
– Четыре тысячи рублей! – пальцами повторяя сумму, сам ошарашенный ее огромностью, в лицо уряднику демонстрировал соискатель пая Товарищества.
Урядник снова скукожился и самоустранился, отдав поле боя более значимым фигурам.
– Четыре пятьсот, – Мимозов был невозмутим и непробиваем, а в собеседников вглядывался внимательнейшим образом, выдавая тем для стороннего наблюдателя свою трезвость в торгах.
– Пять! Пять! – почти кричал англичанин.
Савва надолго замолчал, как будто сомневаясь, а потом улыбнулся с прищуром и сказал:
– Ну, вот и всё, друзья мои любезные! Торг окончен. Пять сто, и порешим на этом. Ведь Вам, сударь, означенная сумма пределом положена? То-то. Выше Вы не взберетесь. Прощайте.
И взяв совсем обалдевшего урядника под руку, он повел того к одному из пустующих столиков. Проходящему мимо служителю, он на ходу бросил:
– Любезный! Не пригласите ли сюда Кирилла Ильича, он только мелькал где-то в коридорах?
Подошел вскоре Кирилл Ильич, оказавшийся представителем банка, стали составлять тут же бумаги, урядника все еще потрясывало, но глянув на место недавнего торжища, англичанина он там уже не увидел. К ним приближался покинувший общий зал Лева.
– На Ваше имя велите новое владение оформить? – спрашивал в этот момент Кирилл Ильич у Саввы Борисовича?
– Никак нет, голубчик, – Савва развалился в удобном низком кресле. – Пишите: Кузяев Дмитрий Антонович.
Лева встал у него за спиной, и, услышав названное имя, скривил лицо, хотя шел сюда воодушевленный и возбужденный. Сделка завершилась, приятели остались вдвоем.
– Ну, что ты? – увидев лицо друга, спросил, вымотанный уже Савва, перед ним не считая нужным скрывать этого.
– Все приданое дочке соратника собираешь? – ехидно спросил Лева, шедший явно сообщить что-то иное, и присел напротив.
– Ну, ты же слышал все. Чего ты? – Савва отдыхал, прикрыв глаза. – Не ей! Сыну Натальи Гавриловны. Теперь у них равные доли в семьях, и я как… Э-эээ… Как стрелка меж гирьками. Ты, Левка, без меня стал злой какой-то. Что тут у вас происходит?
– Поедем отсюда! Сейчас толпа хлынет, там все заканчивается, – встал из-за столика Лев Александрович.
– Да что ты! – Савва открыл глаза. – Ну! Не томи! Медаль?
– Медали нет, врать не буду, – Лев Александрович не мог улыбаться, у него на душе все еще оставался осадок от вчерашнего бестолкового разговора у Полетаевых. – Но отметили. Да еще как!
– Как? – Савва по-детски вглядывался в Левино лицо.
– Герб! – Лева все-таки выдавил из себя что-то наподобие улыбки.
– Ах, ты! Ах, молодца! – Савва вскочил и хлопал его по плечу, словно Лев Александрович лично добыл победу для Полетаева. – Не зря! Не зря я министру! Не зря в Петербург! Едем! Сейчас же едем к нему! А то, сбежал, понимаете ли! А то – на золото оне, видите ли, и не надеялись! Гляньте-поглядите! Едем.
– Ты езжай. Я не поеду, – твердо отвечал Борцов.
– Та-аааак! – Савва снова опустился в кресло. – Так что все же у вас тут стряслось? Говори!
– Савва, давай позже? Потом? Ну, правда, же – радость сейчас. Езжай, сообщи старику.
– На радостные вести охотников много! – не двигался с места Мимозов. – Найдется кому! Вон – Вересаевы обрадуют, как домой приедут. Не виляй, Левка! Натворил чего?
Лев Александрович вздохнул.
– Я вчера просил руки Елизаветы Андреевны и получил… разворот по всем флангам.
– Ты?!
– Я! – Лева взметнул упрямый взгляд на друга. – А ты думал, таким не отказывают?
– Я не о том! – Савва отчего-то расплылся в улыбке. – Ты? Ты просил руки? Поедем, Левка, выпьем! Ко мне поедем! На людях – это не разговор!
***
Савва вольготно расположился в гостиной своего нижегородского дома и выставил заветный графинчик с вишневой наливочкой. Лева сидел напротив него, в приготовлениях и предвкушениях заинтересованности не проявлял и вовсе присутствовал тут как бы по принуждению, неохотно. Савва делал вид, что не замечает такого настроения приятеля вовсе.
– Ну! – Савва поднял в приветствии первую рюмочку, и, не дожидаясь сотрапезника, опрокинув ее внутрь, застыл на мгновение в сладостном блаженстве. – Докладывай! Всю рекогносцировку мне давай – по флангам, по фронтам и по тыловым запасам. Начни с того, давно ли ты на воинский лексикон перебазировался, друг мой любезный? Совсем тебя без присмотра оставлять нельзя! К барышне тоже, с шашкой и пистолями являлся, или хоть букетик догадался принесть?
– Не было никаких букетиков! – раздраженно вертел рюмку в руках Лев Александрович.
– Отчего-то я сразу догадался! – Савва хихикнул.
– Как еще далеко постирается твоя проницательность? – Лева склонил голову, как упрямый бычок, смотрел исподлобья, но пока не взбрыкивал окончательно.
– А у тебя самого-то есть мысли – чего это тебе отказали, такой успешной и красивой умнице, а?
– Савва! – Лева поставил рюмку на место, чуть не расплескав содержимое. – Ты мне, конечно, друг, но остерегись! Всему есть предел! У меня есть чувства, и подвергать их осмеянию я не позволю даже самому своему…
– Це-це-це… Не кипиши! Тебя, Левка, на тему чувств только вот так, из себя выведши, разговорить-то и можно. Твоя ж гордость поперек тебя родилась! Замкнешься, да будешь внутри все свое варить, как котелок походный. Я и не помню, сколь раз за наше знакомство ты мне о чувствах своих ведал? Может и ни разу досель? – Савва посмотрел на друга, как на сына, с любовью, и тихо добавил: – Хорошо, что они есть, вот что я тебе скажу… Э-эээ… Сам что скажешь?
– А что скажу? – напустив на себя беззаботность, отвечал Лев Александрович. – Попытался, теперь ответ знаю. Легче жить стало! Теперь свою стезю, раз уж у нас тут такой высокопарный слог пошел, могу выстраивать в свободе и независимости. Уеду с тобой в Москву.
– О как! – Савва сделал вид, что ошарашен. – Вот тебе и решение проблемы. А где ж твоя хваленая гордость? Сбежать решил?
– Что значит «сбежать»? – Левино раздражение еле сдерживалось его пониманием, что Савва принимает искреннее участие в нем. – «Сбежать» – это было бы допустимо так называть, если бы я уехал твой особняк строить, ей слова не сказав! А я открылся! И получил! Ты рад, как вижу?
– Что открылся – рад, – Савва стер все время проступающую у него улыбку с лица. – Что отказ получил – не рад! Вот и хочу понять, что между тем и этим затесалось, чего я не знаю? Отчего отказали-то?
– Ах, прекрати! – сдерживать раздражение Леве становилось все трудней. – Чего в ране ковыряться? Не по душе я ей и все тут! У нее вон молодых ухажеров полно!
– Так и ответствовала: «Не по душе Вы мне, господин престарелый архитектор, извольте искупаться в молоке и трех водах!»?
– Довольно! – Лева вскочил и отошел от стола, отвернувшись к темнеющему окну.
– Да не дергайся ты, Левка! Давай поговорим спокойно. Скажи, кто еще с тобой может подобное обсудить? Вот про ухажеров, например, ты, где выкопал?
– Да что я слепой что ли! – обернулся Борцов, но ближе не подходил. – Взять хоть этого бугая из Лугового. Слыхал я!
– Этот бугай ей как брат! Они выросли вместе! Это ты, видать, прозвище домашнее услыхал, да выводов себе наделал под руководством своей гордыни. Они оба своих родителей вчера отчитывали за это словцо, за «жениха» того между собой употребляемого! А ты слышал, где звон, да…
– Врешь! Сейчас придумал, чтобы меня… утешить!
– Сдался ты мне! – Савва снова потянулся к графинчику. – Утешалку нашел себе, тоже мне! Сам себе ты врешь, Левка. Вот и вся недолга.
***
– Я вру?
– Ты.
– Ну, знаешь!
– Знаю, знаю, – Савва говорил все более спокойным и даже заунывным тоном, так что вспылить в ответ как-то и не удавалось. – И себе врешь. И мне врешь.
– Тебе-то чего я соврал? – Лева подошел к столу, но держался за спинку стула и не садился.
– Ну, не соврал, – Савва рассматривал наливку на свет. – А не договариваешь. Прошу же – расскажи, как и что вчера говорилось. Найдем решение!
– Решение чего? – Лева с усмешкой сел и залпом выпил свою застоявшуюся рюмку. – Не Дмитрий этот, так вон… Лупоглазый еще один за ней ходит… И вообще…
– Левка! Не виляй! Что вчера было?
Лев Александрович начал рассказывать в основном придерживаясь реальности. Замолчал. Савва тоже не спешил комментировать услышанное.
– Ну и? – после длительной паузы спросил он друга.
– Что? – не понял Лев Александрович. – Это все! Чего еще ты от меня ждешь?
– Ну, наверно того же, чего и Елизавета Андреевна не дождалась, – парировал Савва.
– Чего же это? – ноздри Льва Александровича стали вновь раздуваться, период смирения подходил к концу.
– Ты, Левка, со стороны все это послушай, прошу тебя, – Савва вздохнул. – Ты действительно, кажется, испытываешь к этой девочке… Э-эээ… Потому и дуришь так! Не веришь в себя, не веришь в ее чувства. Ты о чем с ней говорил? Ты ей, что любишь, сказал? Что без нее жизнь твоя пустая, сказал? Ты не брыкайся, дослушай! Представь себе.. Э-ээээ.. Да вот хоть меня! Как много лет назад прихожу я к моей Февроньюшке да при ее родителях этак и брякаю: «Вот Вам, Феврония Киприяновна, кусок золота, любите меня за это – большого и хорошего!» С тех пор и живем душа в душу?
Лев Александрович представив, как Савва плюхает на стол огромный самородок, не выдержал и рассмеялся.
– Ну, слава Богу! – перекрестился Мимозов. – Стронулось с места!
– Ничего не стронулось! – Лев Александрович снова стал серьезен. – Уж каков был разговор, того не вернешь. Насильно мил не будешь! Завтра же подам в отставку. Как раз к следующему сезону кого нового на мое место и подберут. А сам уеду. Решено.
– Дурак ты, Левка, – устало махнул рукой Савва и стал озираться вокруг себя. – Ну, на вот тебе тогда. Все думал отдавать, не отдавать? Нет! Пока ты свою гордыню не переборешь, не видать тебе счастья, как своих ушей! Не видать…
– Хватит философствовать! – Лев Александрович протянул руку. – Чего отдать-то хотел? Не отвлекайся!
– Вот! – отыскал Савва. – Оказывается, сижу на ней! Из Москвы тебе привез. Читай последнюю страницу с объявлениями.
Лева взял протянутую газету и перелистал на указанную полосу. После минут трех тишины, он отложил прессу и внимательно посмотрел на друга:
– Ну, вот и подсказка! Все по моим мыслям складывается. Давно конкурс объявлен?
– Да нет, третьего дня номер. Ты же о чем-то подобном после Петербурга говорил, так?
– Так, Савва! Так! – в глазах Льва Александровича разгорелись азартные огоньки. – Только это не переделка бывшего дворца под музейные нужды. Это же все с чистого листа! Ты понимаешь? Храм искусства! С залами, с хранилищами, с исследовательскими отделами! Вот это проект, так проект! С губернаторской поддержкой, с реально выделяемым участком, с правом воплощения самому победителю. Тут есть за что бороться! Спасибо тебе, друг! Все. Все правильно, Савва! В Москву.
– Ну, гляди, – Савва все еще надеялся переубедить упрямого приятеля. – Проектов еще сколь будет в жизни… Э-эээ… А вот Лиза Полетаева – она, брат…
– Лиза – она единственная! И закончим на этом, – твердо оборвал его Лева.
– Ты бы не мне! – Савва смотрел на друга сочувственно. – Ты бы ей это говорил!
Лева промолчал, всем видом показывая, что разговор окончен.
– Ну, так и хватит об этом, – согласился Савва, сказав уже все возможное. – Только не могу тебя обрадовать, сам-то я в Москве теперь, видимо, редко объявляться стану. Ну, может, оно и к лучшему, что ты там будешь – за моими хоть приглядишь…
– То есть как это? – ошарашенно спросил Борцов. – Как понимаю, супруга твоя в будущем месяце разрешиться должна?
– Ну, пока подготовительные работы идти будут, то с семьей побуду. А то там долгонько запрягают – лишь к Рождеству должны Совет утвердить. Да раньше! Раньше надо! – неизвестно кого упрекал Савва Борисович. – Сейчас уже надо договора заключать. Чугун! Шпалы, лес! Пока не прознали, да цены не взвинтили. А уж к лету…
– Да что к лету-то? – ничего не поняв спросил Борцов. – Говори толком!
– А толком, Левушка, что назначили мне направление деятельности моей на ближайшие годы. Был я у министра. И дал согласие. Собрал он меня, да еще пяток деловых господ, ты их всех наперечет знаешь. Да и предложил нам – при поддержке государственных инвестиций, капитал наш да знания вложить в строительство железной дороги.
– Так разве мало тех дорог? Вон сколь настроили. Да и по сей день ведут! Как же это, Савва? Где?
– Там, как раз еще нету, Левушка, – Савва понизил голос, как будто кто-то мог их подслушать. – Тебе по секрету скажу! Еще летом был тайный договор подписан. Наш с китайцами. Теперь на Амур поедем, к ним рельсы тянуть станем. Но! Левка! То, покуда, государственная тайна!
– Савва, мог бы и не говорить! – Лева налил им обоим, они чокнулись и выпили молча. – Тогда все одно к одному складывается. И – с глаз долой из сердца вон. Надо уезжать мне отсюда, не спорь.
– Я не спорю, – миролюбиво отвечал Савва, но слово последнее оставил за собой. – Поживем – увидим!
***
Васенька фон Адлер явился в дом Удальцовой просить у нее руки племянницы. Явился пафосный, кажется, слегка подогретый для храбрости шампанским. С Таней он предварительно ничего не обсуждал, поэтому ее как раз не оказалось дома при этом его визите. А тетушка его приняла, говорила вежливо, но согласия не дала.
– Душа моя! – Гликерия Ивановна откинулась на спинку удобного кресла и рассматривала соискателя как экспонат в музее, жаль, что не носила лорнета. – А что за спешка? И почему, друг мой, Вы явились без Вашего дядюшки? Он-то как относится к Вашим матримониальным прожектам?
– Двадцать первого числа месяца ноября этого года мне исполняется двадцать один год! – поручик щелкнул каблуками. – Дядюшка сложит с себя опекунские обязанности, а я вступлю в дееспособную жизнь. К тому моменту желаю иметь согласие Татьяны Осиповны, дабы тут же организовать и семейный уют.
– Ах, оглушил, голубчик! – Удальцова поморщилась. – А как же Ваша служба?
– Тотчас после вступления в наследство, намерен подать в отставку! – продолжал рапортовать фон Адлер.
– Ну, так давайте отложим, – Удальцова не желала портить отношения ни с кем, но и серьезно отнестись к такому предложению возможности не имела. – Обживитесь пока в мирской жизни, оглядитесь. Вы еще так молоды! Я ведь, друг мой, даже опекуном моим племянникам никогда не была. Вот явится по зиме генерал, к нему, дружочек, и обращайтесь. У Татьяны батюшка родной имеется, Вы уж обождите, будьте любезны.
Фон Адлер откланялся и ушел не солоно хлебавши. Рассказывая после о его визите Татьяне, тетка так красочно изображала его смятение, что Таня заливалась смехом.
– А почему, все-таки, Вы ему отказали, тетушка? – все еще смеясь, спросила Таня.
– Да ты не жалеешь ли о том, душа моя? – удивленно спросила тетушка.
– Нет, что Вы! Мне просто интересны Ваши резоны! – Таня задумчиво посмотрела в потолок. – Все-таки барон. Наследство.
– Ну, так что, что барон. Тебе с человеком жить, не с баронством.
– А я думала… – Танюша запнулась.
– Что ты думала, душа моя? Что я поскорей вас с рук сбагрить норовлю? Абы кому?
Таня покраснела.
– Знаешь что, дева моя, – уже совсем серьезно продолжала Удальцова. – Может быть, я мало дала вам с братом любви, все-таки не мать я никакая! Хотела, чтобы люди из вас выросли, потому и старалась держать в строгости, не разбалтывать. Не знаю, может я не права… Но я хотела для вас всегда счастья. И сейчас хочу. Если дела в жизни не нашли, то хоть пару себе найдите по сердцу. Если нравится тебе этот брандахлыст, то хоть сейчас вернем, только скажи.
– Что Вы, тетушка! Васенька такой смешной!
– Смешной? – теперь тетка задумчиво вглядывалась в племянницу. – Ничего-то ты в людях не разбираешь, как я погляжу. Да и откуда тебе!
– А Вы? – Таня загорелась любопытством. – А Вы, тетушка, что в нем разглядели?
– Ну, дурак – это наперед всего видно, – легко стала перечислять Гликерия Ивановна. – Но к, тому же, азартен! А это, душа моя, в семейной жизни временами к опасности приравнивается. За тобой сюда, как за призом явился! А получит, и что после? Такие восторгаются, восхищаются, а потом, враз, от одной обиды и зарезать могут. Ну, это, если духу хватит. Этот-то из малохольных вроде…
– Как Вы его припечатали! – Таня больше не улыбалась.
– И, опять-таки, семья, – продолжала вслух размышлять Удальцова. – С кем породниться-то там? Мать умерла как-то странно рано, куда отец делся – никто мне толком сказать так и не смог.
– Вы, что же, тетушка? Про него сведения собирали? – у Тани от удивления округлились глаза. – Вы ж не могли наперед предвидеть, что он женихом явится? Как это?
– А так это! – отвечала ей Удальцова. – Женихом, не женихом, а я каждого должна знать, кто с моими домашними знакомство водит. Тем более тех, кто входит в мой дом! Еще до того собрания все выведала, до сентября. Про дядю его кто что говорит… И, что дом у него – не дом, а замок готический. И что комнаты многие там запертые стоят, а ключей от них он никому не доверяет. И еще много чего!
– Прямо Синяя Борода! – вновь хихикнула Таня, но, вспомнив клюватого барона, утихла.
– В общем, я тебе не советую! – подвела итог беседе тетка. – Если за год состояние наследное не промотает, то я удивлюсь, но тогда уже думать можно будет. А то что-то у него со всех сторон двадцать один! Как бы перебору не было.
***
Лева не передумал, решение свое, в одиночестве размышляя, утвердил, и уже состоялся его разговор с Главным архитектором ярмарки.
– Ну, что ж, голубчик! – начальник его был грустен, но, зная характер Борцова, посулов не делал и на уговоры не разменивался. – Нечто подобное, я еще пару лет назад предвидел, как только Вы взялись за выставочные постройки. Тут-то у нас, хоть и большое хозяйство, да все уж как есть стоит – знай только, латай. С реставрацией вы завершили, за работами и Павел Афанасьевич великолепно проследить сможет. Езжайте с Богом! До весны объявлю конкурс на замещение, найду кого-нибудь. Может Вы там, в Москве, кого посоветуете? Вас, раз решение приняли, уж удержать… Да тут еще и такое дело! Хотя и отсюда могли бы конкурсную работу выставить, и нам бы приятствие сделалось – нижегородец побеждает в московском конкурсе, а?
– Тьфу, тьфу, тьфу! Не сглазьте! – Лева смотрел в окно, быть может, последний раз видя привычный ярмарочный вид. – Я еще и с условиями толком не ознакомился. Но что это место службы укажу как основное свое, можете не сомневаться! Да так оно и есть – последние годы все с этим городом у меня неразрывно связаны, так приемной комиссии и заявлю.
– Ну, Бог в помощь!
Получив расчет, Лев Александрович, как в былые времена, прилип к Савве, и теперь все время с утра и до позднего вечера они проводили вместе. Лева ездил по делам друга, своих у него почти не осталось, вместе они посещали банки и другие деловые заведения. Обедали и ужинали они тоже вместе. В тот день они уже подъехали вплотную к Саввиному нижегородскому дому, когда наперерез их повозке бросилась тщедушная фигура, нетерпеливо ожидающая тут хозяев.
– Нет! – отмахнулся Савва, как от привидения. – Это же уже раз было со мной, прости-господи! Снова Вы, молодой человек? Только не говорите, что новости у Вас и в этот раз такого толка, что…
– Савва Борисович, выручайте!
– Что? Опять? Ну, пройдемте!
Они быстро миновали камердинера и втроем прошли в Саввин кабинет.
– Лева! Налей молодому человеку сразу рюмочку! Он так будет быстрее соображать.
– Нет-нет! – Алеша Семиглазов, а это был он, весь находился в нервическом возбуждении, мял в руках фуражку и все порывался что-то рассказать. – Я не могу. Это лишнее вовсе. Совсем нет времени, Савва Борисович! Надо спешить! У нас обыск уже закончился, меня не взяли, а Ольгу Ивановну, Петра, Лиду и кое-кого из проживающих – их всех замели! А я тогда сам слышал, как она ему говорила! Она долго не выдержит, расколется! Надо бежать к Лизе.
Лева был хмур с самого начала, признав «лупоглазого» ухажера Лизы Полетаевой. Но, когда он из его уст услыхал ее имя, то подскочил к худосочному юноше и схватил за грудки.
– Какой обыск! Что вы сделали с Лизой? Где она? – орал он, отчего юноша только растерялся еще больше.
– Левка, отойди! – оттер его Савва своим большим телом и расспрашивал теперь визитера сам, держа того за плечи. – Давайте, вьюноша, по порядку. «Заметут», «расколется» – так понимаю, у вас кружок организовался. Так? Отвечайте кратко – да или нет!
Алексей кивнул.
– Собирались под крылом Ольги Ивановны? В ее доме?
Кивок.
– Надеюсь, без ее ведома? Ах, ты ж! А Лидия, значит…?
Кивок.
– Это она долго не выдержит? Та-аааак! Э-эээ… Давайте теперь вразумительно – кто кому что говорил, кто что слышал, и при чем тут Лиза Полетаева?
И Алексей поведал двум допрашивающим его не хуже жандармов мужчинам, что недели две назад, стал он свидетелем возвращения откуда-то Лиды, которую на дому у них ожидал некто… Нет, фамилии он назвать даже им не может, да то роли не играет! Просто гость, что иногда заходил к ним. Нет, с ними не жил. Да, часто бывал. Да, брошюрки носил. Читали. Спорили, да. Не знает на каком, но на городском заводе недавно устроился. Нет, не скажет. Нет, не знает.
– Этак ты с ним до вечера провозишься! – срывался от нетерпения Лев Александрович. – Давайте к сути!
Перешли к сути. В тот день Лида вернулась возбужденная и радостная, так что даже бросилась Хо… Тому хорошему человеку на шею, он кружил ее. И Лида ему, захлебываясь, рассказала, что была дома у Лизы, что сумела остаться там какое-то время одна, что машинку нашла, что очень трудно было вытащить ленту, но она справилась! Что все боялась, что вот-вот вернется Лиза, но что успела отпечатать то, что он велел обязательно. Сначала выходило медленно, потом приноровилась. Потом решила успеть и то, что он сказал во вторую очередь. Что успела все! Вот только Лиза испорченную машинку, конечно, потом заметила, потому что обратно собрать у нее уже не получилось. И что вся перепачкалась.
– А хороший человек что? – хмуро спросил Савва.
– Похвалил ее, – понуро отвечал Семиглазов.
– А ты что?
– А я в уборной сидел. Они меня не видели, я позже вышел, как они ушли уже.
– И что потом?
– Потом? Не знаю. Но сегодня явились жандармы, и все трясли какими-то бумажками!
– Да, – обращаясь теперь исключительно к Леве, подтвердил озабоченный Савва. – Лизонька на днях спрашивала у меня новую ленту для печатного агрегата. Я привез, да только ей так и не передал. Если они увидят машинку без ленты, отпереться будет сложно. Кто ж поверит, что без спросу… Вы, молодой человек, все там… Слово «ответственность» хоть кому-то из вас знакомо?!
– Савва Борисович, простите! Я что угодно бы дал, только бы Лизу не тронули!
– Так знал же! Ты же, паршивец, уж две недели как об этом знал! Друзья называется! Свобода. Равенство. Вот теперь, может, лучше ценить будете ту свободу-то? И свою, и чужую!
– Савва, хватит! Давай ту ленту и покажи, как заправлять. Я еду немедленно!
– Идите, молодой человек. Что могли, Вы уже сотворили. За сообщение – спасибо.
Семиглазов, спрятав лицо в фуражку, покинул кабинет Мимозова. Савва достал ленту, отдал Борцову.
– Ну, что ты как вареный? – прикрикнул на него Лев Александрович. – Тут каждая минута дорога!
– Беги, беги, Левка, – обреченно опустился за свой стол Савва. – Да только зря все это, каждая машинка свой неповторимый рисунок имеет, про то все знают. Вычислят по зазубринам и щербинкам. Ты езжай! Я по своим каналам людей подниму. Адвоката ей надо, сейчас и поеду. Встречаемся здесь, если кто что узнает. Давай!
Лева понесся к выходу.
– Стой! – догнал его Мимозов. – Найди у нее журнал. Там роман запрещенный. Второй части нет, не ищи. Если им на глаза попадется, то каждое лыко в строку пойдет. Обложка такая, затрепанная…
Лева уехал в Саввином экипаже.
***
Егоровна сегодня хозяйствовала одна. Все сидела и думала, что бы такого приготовить Лизе. Чем порадовать? Та по каким-то своим делам уехала в город встречаться с Рафаэлем Николаевичем. Андрей Григорьевич еще несколько дней назад увез Наталью Гавриловну в Луговое, чтобы официально просить ее руки у Гаврилы Игнатьевича. И вот до сих пор не возвращался. Если сговорились и все ладно, то венчаться они будут там, в Луговом. Наверно, обсуждают всю церемонию с батюшкой, назначают день. Хлопоты.
Егоровна улыбнулась, и тут в дверь заколотили со страшной силой. Она пошла открывать. На пороге стоял запыхавшийся Лев Александрович.
– Вот и здравствуй, гость дорогой! – расплылась Егоровна. – Говорила же, свидимся. Да только как же ты нашего дворника-то миновал, друг любезный? То же не под силу ни одному существу человеческому!
– Егоровна! – Лева пытался отдышаться. – Рад твоему хорошему настроению. Прости! Должен испортить. Давай спасать твоих благодетелей. На вопросы времени нет! Тут вскоре будут те существа человеческие, которых даже дворник не остановит. Печатная машинка и библиотека. Показывай, где?
Через четверть часа, когда к решетке ворот подъехала коляска охранного отделения, во флигеле уже было все мирно и чинно. На стук открыла полная женщина, явно служанка. Хозяев дома не оказалось, но при кухне сидел господин, представившийся городским архитектором. Не в пример названному чину, сидел он на низенькой скамеечке и выполнял самую, что ни на есть, черную работу при дородной особе, во всем ей подчиняясь.
– Тщательнее срезай! Вон сколь кожуры оставляешь! – командовала она, взяв на себя труд почище.
Тетка быстро-быстро доводила до белизны, доставаемые из корзинки картофелины, и кидала их в огромную кастрюлю с водой, а гость ее все маялся с тремя огромными свеклами. Осмотрев наскоро кухню, полицейские велели отпереть хозяйский кабинет. Тетка для приличия артачилась, говорила, что без позволения благодетеля никого к нему не пустит, что у него документы важности неописуемой, но ей пригрозили кутузкой, и она, вытерев полотенцем руки, отправилась за ключами.
В разгар обыска вернулась Лиза. Ничего не понимая, увидев чужих людей, мундиры, Льва Александровича на подсобных работах, она растерялась. Не успев толком спросить, что же тут происходит, Лиза стала свидетельницей диалога няни с одним из поставленных в коридоре низших чинов.
– Хочешь пирожка, солдатик?
– Мы на службе, – покраснел тот. – Нельзя нам. И не армия мы, мы – жандармского управления.
– Энтот тоже, считай как на службе у меня! – громко шептала ему Егоровна и, хихикая, кивала на открытую дверь кухни. – Ейный жених! – последовал кивок в прихожую. – Пока она ему согласия не дает, так я из него хоть веревки могу вить. Вот не думала, не гадала, что сам господин архитектор у меня на побегушках-то выйдет!
– Няня! – Лиза от этого оглушающего шепота, который не мог не слышать и Лев Александрович, догадалась, что видит перед собой театральное действие с Егоровной в главной роли. – Я же просила тебя, не нагружать Льва Александровича никакой работой! Ему нужно руки беречь.
– А и прости, дитятко! – под дурочку косила няня. – Так он сам напросилси!
На голоса вышел из отцовского кабинета главный чин из присутствующих в группе дознания.
– Это дочь хозяина? – спросил он у Егоровны.
– Это молодая хозяйка возвернулась! – строго отвечала ему няня.
– Милостивый государь! – Лиза выпрямила спину. – Попрошу Вас представиться и объяснить мне Ваше присутствие в нашем доме.
– Не можете ли Вы объяснить происхождение вот этого пятна, мадемуазель? – сделал приглашающий в кабинет жест полицейский.
– Сперва, я жду Ваших объяснений! – не трогалась с места Лиза.
– Извольте! Вот предписание на обыск. На одном из ремонтных заводов обнаружена крупная партия прокламаций. Способ размножения и их количество говорит о том, что был применен метод, в основе которого лежит матрица, отпечатанная на обычной печатной машинке. Ваша подруга Оленина показала, что видела подобную в Вашем доме.
– А какое отношение наш дом имеет к ремонтному заводу, сударь? – Лиза все уже поняла, но держала удар. – Разве эта машинка единственная в городе?
– Конечно, Вы правы, барышня. Доказать, что это именно та машинка, пока, я подчеркиваю – пока – является затруднительным. Гравер в типографии исправил все огрехи, и идентифицировать экземпляр невозможно. Единственно, что наши эксперты утверждают безапелляционно, так это то, что агрегат был не распространенной в городе фирмы Ремингтон, а новейшей модели Ундервуд. Таких гораздо меньше не только в городе, но и во всей губернии. Есть и другие пути доказательств – связи, дружба, знакомства. Мы найдем эту связь, не сомневайтесь. Лучше бы Вам самой открыть все без утайки.
– Открыть что? – тон Лизы стал насмешлив. – Что с Лидой Олениной мы заканчивали один класс Института благородных девиц? И что она бывает у меня в доме? То тайной ни для кого не является, извольте!
Услышав про Институт, полковник переглянулся с напарником и чуть сник.
– И все же прошу Вас, барышня, пройти в кабинет и объяснить происхождение этого пятна от машинописной краски.
Лиза миновала его и с порога посмотрела на папин стол. Машинка была расчехлена, но Лиза с удивлением заметила, что печатная лента установлена в ней на своем месте. Она взяла себя в руки.
– Ах, это? – попыталась как можно беспечнее спросить она. – Да, пятно недавнее, но это не краска… Это чернила! Савва Борисович случайно пролил летом…
– Какой такой Савва Борисович? – у проводившего обыск жандарма на лбу появились озабоченные складки.
– Мимозов. Савва Борисович. Вы наверно, о нем слышали?
– Он что же…, – полковник, кажется, был уже не рад тому, что попал в подобную ситуацию, Савву в городе знали все. – Он бывает у Вас?
– Ну, конечно! – Лиза улыбнулась. – Они же с папой компаньоны. И машинку эту он нам подарил!
– Простите! – полковник утер лоб. – Простите, барышня, но служба! Обязан был проверить… Видимо нас неверно информировали.
– Что Вы! – Лиза снова вышла в коридор. – Я ничем не намерена вам препятствовать, выполняйте свой долг спокойно. Если что-то потребуется, обращайтесь к Наталье Егоровне – у нее все ключи от дома. Позволите удалиться?
– Да мы, собственно… Мы уже заканчиваем. Не изволите ли, сударыня, подписать бумаги?
Тут же возник рядом Лев Александрович.
– Извольте учесть, что барышня в том возрасте, что не является полностью дееспособной. Лучше бы Вам обратиться к ее отцу.
– Но это простая формальность, сударь, и никакой силы не несет за собой. Простое уведомление о проведенных нами действиях.
– Тогда позвольте ознакомиться! – Лев Александрович вышел вперед.
Он не мог грязными руками взяться за бумаги, поэтому Лиза перекладывала их перед ним на столе, пока он все внимательно просматривал. Он кивнул ей, она подписала, визитеры удалились.
– Господи! – Лиза рухнула на стул, до сих пор держа в руках шляпу. – Как же это? Няня?
– Все позади, Елизавета Андреевна, – успокаивал ее Борцов. – Все обошлось!
– Как, как? – ворчала перенервничавшая не меньше других Егоровна. – Вон, твой прилетел! Машинку вашу раскурочил. А она ж не отмывается! Ну, придумали, вот – жених, свекла… Уж, прости нас!
– И еще журнал Ваш пришлось в печке спалить, – покаялся и Лев Александрович.
– Да нет, наоборот, вы такие молодцы, – Лиза все еще не могла понять, что это все происходит именно с ней, и до конца не осознавала, что именно только что прошло рядом, миновало в такой близи. – Но Лида! Как же она?
– Видимо, не выдержала давления, проговорилась, – Лев Александрович сейчас почему-то не склонен был топить Лизиных приятелей и говорить не о том, почему показала на подругу, а почему вообще посмела сотворить такое в чужом доме. – Девушка же.
– Она что, арестована? – с ужасом спросила у него Лиза.
– Задержана. Эти… как уходили, то я слышал, переговаривались, что Олениных надо отпускать, на них тоже ничего конкретного нет.
– Боже! И Ольга Ивановна? А Вы? Как Вы обо всем узнали?
– Ваш друг… – Лева произнес это через силу, отдавая должное. – У Вас неплохие друзья, Елизавета Андреевна. Такой глазастый молодой человек прибежал к Савве Борисовичу. Я – сюда, а Савва сейчас ищет Вам адвоката.
– Спасибо вам, – Лиза встала и подошла ко Льву Александровичу. – Вам всем… Я рада… Я рада, что Вы снова тут, и что мы снова… Вы ведь будете по-прежнему заходить к нам, Лев Александрович, ведь так?
– Нет, не так, Елизавета Андреевна, – со вздохом ответил Борцов, но протянул ей обе ладони открытыми, и она положила кисти своих рук сверху, а он чуть сжал их. – Я, знаете ли, уезжаю. В Москву.
– Надолго? – в голосе Лизы прозвучала тревога, а в сердце Льва Александровича от этого что-то затрепыхалось. – А как же Ваша служба?
– С ней покончено, – улыбнулся архитектор. – Получил полный расчет, свободен. Вы расстроились, Лиза?
– Да, – Лиза опустила глаза. – Мне будет не хватать разговоров и прогулок с Вами. Обещайте хотя бы писать нам с папой. Хорошо?
– Хорошо.
Лев Александрович ушел, на душе его прояснилось. А Лиза не успела разобраться, что именно творится у нее внутри, потому что в дверь снова настойчиво стучали.
– Да что ж за день-то такой! – шипела Егоровна, оттирая Лизу с прохода и отворяя входную дверь.
На пороге стоял казенный курьер, он вручил Лизе запечатанный сургучной печатью пакет на имя Полетаева. Оставшись одна, Лиза не удержалась и вскрыла послание. У папы – сердце, мало ли чем там, внутри конверта. Если она будет знать, то сможет сообщить папе новости как-то мягче, подготовить его к новым неожиданностям.
В конверте обнаружилось официальное предписание: «Председателю правления явится туда-то и туда-то, в такой-то день, в такой-то час, для встречи с представителем – Адмиралтейство желает разместить Государственный заказ на изготовление измерительных и чертежных инструментов в Товариществе Полетаева, получившем на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке право клейма Государственного герба на всех своих изделиях».
***
– Венчается раб божий Андрей рабе божьей Наталии…
Гостей в сельской церкви было немного, только свои. На воздухе уже стало прохладно, и застолья на дворе устраивать не решились, но в Гостевом доме было накрыто для всех. Мастерские, село, крестьяне с ближних деревень – все сбежались посмотреть, как барин на хозяйке женится.
Ах, как хорошо, как славно было на душе у Лизы. Это произошло не сегодня, с ней это уже много дней подряд, и, слава Богу, все не проходит, все остается. Она заметила это, как-то проснувшись утром совершенно изменившейся. Ничего особенного накануне не происходило, повода никакого не случилось, но, открыв глаза, она почувствовала, что душа ее вернулась на место. Что у нее в груди, где-то в том месте, докуда только и можно вздохнуть, глубоко-глубоко – живет снова ее светящийся колобок, что от него исходит ровное сияние и чуть заметное тепло, что пустота и тревога, образовавшиеся на этом месте и мучавшие ее несколько месяцев подряд, растворились. Исчезли. Что она – прежняя Лиза, радующаяся каждому дню.
Но нет! Не прежняя. Теперь она стала сильнее и уверенней, теперь не только радость, но и все, что день может принести ей или ее близким, встретит она этим ровным свечением внутри. И все будет хорошо! Все уже было хорошо. Все налаживалось. Папа заключал один контракт за другим, подписывал договоры, получал авансы. Выставка завершилась, гости их разъехались. Особенно трогательным было прощание с Вересаевыми. Аленка тоже сильно изменилась за это лето.
– Вы не подумайте, Елизавета Андреевна, что я не замечаю успехов своей дочурки! – говорил ей на прощанье Сан Саныч. – Это только кажется, что я весь в делах. Я вижу, что ребенок стал не только уверенней в знаниях, за это огромное спасибо и Вам, и Вашей подруге, очень жаль, что она не смогла зайти проститься. Но еще я вижу и то, что Алена стала по-другому разговаривать. И не только с нами, но и с незнакомцами. Что у нее появилось собственное мнение, что она уже хочет его отстаивать, что все чаще это у нее получается. Это, знаете ли, характер вырисовывается. И тут уж Вашего влияния не отнять, не отмахивайтесь! Упорство в достижении результатов, регулярность занятий, преодоление – этому всему научили мою дочь именно Вы и музыка!
Со слезами отпускала Егоровна и своего бывшего пациента – Гаджимханова. Узнав о предстоящем венчании хозяина дома, Руслан Гаджиевич явился во флигель с визитом, впервые Лиза видела его одетым по всей строгости этикета. Он вручил Полетаеву все оставшиеся после выставки ящики со своим волшебным напитком, долго рассыпался в признаниях и благодарностях. Разъехались и остальные жильцы. Особняк опустел. Руки у Егоровны все не доходили до генеральной уборки – в семье снова появились средства, и Андрей Григорьевич сразу настоял, чтобы первым делом сменили мебель. Теперь ждали ее прибытия. Лизе отводили ту половину, где квартировал коньячный пропагандист, комнаты Вересаевых предназначались для Андрея Григорьевича с супругой, когда они будут наезжать в город, а второй этаж решили оставить гостевым.
– Ну, что, Егоровна! – благодетель широким жестом указывал няне на коридор флигеля. – Нанимай штат! Заполняй помещения!
– Не надоть мне никого! – выпятила нижнюю губу Егоровна. – Наших-то никого уж не сыщешь, а зачем мне в доме чужаки? Сама справлюсь!
– Тебе не надоть, а нам в самый раз, – зная упрямство няни, благодушно уговаривал ее Полетаев. – Давай, давай! Руководить всеми ими будешь! Распоряжаться! Не сядешь же ты на козлы? То-то! А у Лизы теперь свой выезд будет. И Кузьме помощника брать надо. И девушку Лизе. И тебе кого-то в помощь, да за двором приглядеть, да прибраться. Не журись!
– К плите никого не подпущу! – все еще дулась Егоровна. – Так тебе на этом месте и говорю! Ноги чужой в моей кухне не будет!
– Ну, это – как скажешь! – улыбался Полетаев. – Ты у нас – главный командир!
Время шло. Осень полностью вступила в свои права, и без накидки теперь было не выйти из дому.
– Ну, что, Лизонька? – говорил ей отец. – Теперь учительницей тебе становиться не надо – ни из-за жалования, ни из-за жилья. Может быть, ради призвания? Вон, Вересаевы, не нахвалятся тобой, значит получается. И с нами рядом будешь. А то, как я тебя тут одну оставлю?
– Ну, почему, одну, папа! – смеялась Лиза. – Хорошо, что Егоровна тебя сейчас не слышит! А с учительством… Наталья Гавриловна была права тогда… Этим стоит заниматься, только, если все силы души устремлены на успех учеников. А, если, это не главное, а ради чего-то другого, то это не честно, что ли. И неправильно!
– А тебя разве не радуют успехи учеников? Ну, хоть бы и единственной пока ученицы?
– Радуют, – Лиза задумалась. – Но, знаешь, папа, посвятить все свое время только этому я не готова. Я честно и ответственно взялась бы за учительство, если бы пришлось. Но, теперь, когда я могу выбирать, то… Мне нравится то, чем мы сейчас занимаемся с Рафаэлем Николаевичем. Мы встречаемся со многими людьми. Я понимаю, что это принесет пользу не меньшую, чем преподавание деткам в школе. Я вижу результат, и я мечтаю о большем! И я хочу довести это дело до конца, папа. А это возможно только здесь, в городе. Прости. И еще чего-то хочу… Как будто жду чего-то, а, когда оно придет, то сразу узнаю! У тебя так бывало?
– Значит вот как, Лиза? Только здесь… – Полетаев задумался, но тут же улыбнулся дочери: – Что ты, девочка моя! Это – твоя жизнь. Да и я уж сильно утрирую, говоря про разлуку, видеться-то мы будем частенько. Скоро пойдут балы, да рауты, да губернские собрания. Неужели, думаешь, твой отец станет держать тебя взаперти? Конечно, нет! Тебе нужны новые друзья, новые лица. Мы еще покажем себя! Да, дочь?
– Покажем, – тихо кивнула Лиза при упоминании о друзьях.
Лида так и не пришла к ней после ареста. Не появлялся и Алексей, вообще никого из их компании. Как будто это она провинилась перед ними, а не наоборот. Уроков больше не было, поводов зайти к Полетаевым, как видно, тоже. Лиза вовсе не хотела держать зла на подружку, но та не давала ей возможности ни прояснить случившееся, ни простить ее за опасность, которой она подвергла Лизин дом и семью. Эти мысли наводили тоску, но в нынешнем Лизином настрое, вовсе не стали поводом к унынию. Лиза решила форсировать события сама. В конце концов, она же должна поблагодарить Алексея за то его вмешательство? Лиза оделась и одна уехала в город.
***
Алексей принимал сегодня труднейшее решение. Дальше тянуть было некуда! Он понимал, что и так уже вышли все сроки и боялся, что приехав в Москву, узнает о своем отчислении. Вместо того, чтобы подстегнуть его к немедленным действиям, подобные мысли расслабляли его и так не очень сильную волю, как бы говоря: «А зачем тогда и ехать?» И он откладывал окончательное заключение о выборе своего местопребывания на завтра. И еще на завтра. И еще на день.
А в дом, после визита полиции было не ладно. Ольга Ивановна была обижена на своих старших детей, потому что считала, что не столь даже сама опасность дому главное в этом деле, а то, что в семье появились секреты и недоверие. Петр неожиданно стал на сторону сестры и всячески отстаивал перед матерью их право выбирать себе друзей, единомышленников и убеждения. Мать пыталась объясниться с ними, говоря, что они ее не слышат! Не свободу она хочет у них отобрать, а вернуть единение и доверие. Лида отмалчивалась, что только усугубляло ситуацию. Ольга Ивановна все внимание свое теперь перенаправила на младшую дочь, забирала ее из Института при малейшей возможности, возила и по врачам, и по знахаркам. Складывалось впечатление, что она просто старается реже бывать дома.
Хохлов заглядывал к ним, но так как Лида его имени при допросах не называла, то его Оленина ни в чем конкретном не подозревала и не винила, хотя чувствовала, что влияние на ее детей идет именно с его стороны. Алексей мучился тем, что стыдно было перед Лизой про которую все в доме просто как по договоренности перестали даже упоминать. Сердце тянуло постоянно от того, что ни видеть ее, ни даже говорить о ней не стало никакой возможности. И еще муторно было потому, что его тяготила тайна ночных возвращений Хохлова. Окошко тому по-прежнему открывали, а Алексей по-прежнему прятал голову под подушкой.
Собираться наверху, петь и читать брошюры перестали, на этом хозяйка дома настоять власть еще имела. Только обедали, по-прежнему, все вместе. Петр спускался теперь частенько вниз, когда у него не было дежурств, и подолгу беседовал с Игнатом, кажется, им обоим этого вполне хватало. Слыша сейчас их спор за стеной, Алексей встал, набросил пиджак и вышел из дому. Во дворе летали мелкие белые крупинки, он поежился, но другой верхней одежды у него здесь не было. Хлопнула дверь на втором этаже. Алексей испугался, что сейчас спустится Ольга Ивановна, да, не дай бог начнет его расспрашивать о чем-либо. Он вышел за калитку. Медленно побрел по слободской улочке, заметил, что редкие лужицы покрылись хрупкой слюдой первого льда. Вдалеке показалась упряжка. Поравнявшись с ним, возница придержал коней: «Тпррру!»
– Алексей! Вот так удача! А ведь я – к вам.
– Елизавета Андреевна! – фантазии воплотились в реальность, и Лиза протягивала ему руку, живая и настоящая. – Да как же Вы тут?
– Да Вы меня не слушаете? – Лиза улыбнулась, и Алексей наконец-то помог ей сойти. – Я ехала к вам.
– Ко мне? – опешил Семиглазов, не понимая, как реагировать на столь неожиданный визит.
– Вы не рады? – Лиза вглядывалась в его лицо. – Если это неудобно, то я не стану заходить. Но я имела в виду всех, когда собиралась сюда. Как Лида, Ольга Ивановна – они дома? Я подумала, вы сегодня празднуете. Вот и заехала.
– Празднуем? – Алексей растерялся еще больше. – Что же? Я не знаю всех их семейных праздников, может… Но да, обе дома! Может, вечером что будет?
– Ну, может быть и вечером, – Лиза потянулась к коляске, на сидении которой осталась стоять большая прямоугольная корзина с крышкой, с какой Егоровна часто ходила на базар. – Может быть, они хотят Вам сюрприз сделать. Не буду мешать, тут Вас поздравлю.
– Меня? – Алексей вдруг подумал, что ему это снится, до того все было удивительно.
– Вас, Алексей. Вас! – смеялась Лиза. – У вас же сегодня – день ангела!
– Господи! – хлопнул себя по лбу Семиглазов. – А я и забыл вовсе. Спасибо Вам, Елизавета Андреевна.
– Всех Вам благ! И вот. Помогите снять. Знаю, что подобный подарок без спросу может оказаться нежелательным, поэтому… – Лиза открыла крышку корзины, которую Алексей спустил на землю. – Я возьму его себе, если Вы не захотите. Но, когда я днем забирала его у хозяев, то сразу вспомнила и лето, и тот ящик, и Ваши слова… Хотите, Алексей?
Из корзинки раздался тихий скулеж, и высунулась еще подслеповатая голова белого кутенка.
– Елизавета Андреевна! Это… Мне? – Алексей достал щенка и прижал к груди.
– Ну, если Оленины позволят, и если Вы захотите…
– Я захочу! – твердо ответил Алексей.
– И еще я хотела поблагодарить Вас за то участие, Вы тогда выручили меня с той машинкой, – опустила глаза Лиза.
– Это Вы, – Алексей тоже потупился. – Это Вы простите меня. Нас!
Он зарылся носом в пушистую собачью шерсть.
– Лида примет меня? Можно зайти? – вскинула взгляд Лиза.
Алексей пожал плечами. Они развернулись и медленно пошли к воротам Олениных. Алексей пропустил Лизу вперед. Он кивнул на окна второго этажа и Лиза, как через силу, пошла к дверям. Но тут они распахнулись, и сама Лида вышла им навстречу, держа в руках завядшие цветы. Увидев подругу, она покраснела.
– Вот, – от неловкости протянула она букетик вперед. – Завяли. Хотела выбросить.
– Здравствуй, Лида, – Лиза всматривалась в знакомое лицо. – Беги, я подожду.
Лида сбегала к яме и вернулась.
– Я на минуточку! – опередила ее вопросы Лиза. – Только узнать как вы, да поздравить Алексея.
– Мы нормально, – отвечала Лида, не глядя в глаза. – Как ты?
– Все разъехались. Вересаевы жалели, что не смогли попрощаться с тобой и вот, просили передать.
– Что это?
– Наверно, гонорар за последние уроки? – Лиза протянула конверт.
– Спасибо.
Говорить больше было не о чем.
– Ну, я поеду, – Лиза развернулась и пошла к калитке. – До свидания, Алексей! Если пес не приживется, то не ищите других хозяев, я приму. Спросите тогда у Лиды адрес.
Лиза села в коляску и молча уехала. Лида обтерла руки о передник и, ничего не сказав про собаку, поднялась к себе. А Алексей все прижимал к себе теплое живое существо и думал: «Ну, куда ж я теперь уеду!»
***
Варвара Михайловна шла по коридорам Пароходства. Сергей теперь занимал кабинет в другом этаже – повезло, она сама бы не сумела углядеть, когда за выездом господина Мимозова освободились его комнаты. Помог Константин Викторович. В первый день после возвращения она столкнулась с ним в этом же коридоре и лишь вскользь упомянула о новом помещении. А он не забыл. Она вошла в свой опустевший кабинет и, присев, застыла за столом. Одна. Почему-то она так часто стала теперь оставаться одна! Даже в тот траурный год не чувствовала она себя такой брошенной. Ее поэты и художники куда-то разбежались. Она еще по привычке устраивала вторники, но являлось на них народу все меньше, и все менее интересными становились споры и произведения, которые они приносили ей на суд. И все больше времени отчего-то стали занимать документы и дела пароходства, и вечные претензии визитеров. И в рестораны ее больше никто не возил. И Выставка закрылась.
Тогда, вернувшись после поездки с Сергеем, увидев на службе Емельянова, она заметила искреннюю радость в его глазах. Этот большой и статный человек, сдержанный и подтянутый всегда, чувств своих на людях никогда не демонстрирующий, тут шагнул ей навстречу и еще издалека своим командным, громовым голосом приветствовал ее:
– Знал! Чувствовал, что сегодня будете! Ну, здравствуйте! – Его улыбка была простой и открытой. – А то мы тут без Вас сиротеем.
– Ах, неужели, так-таки и знали? Откуда? – кокетничала Варвара.
– Желание видеть Вас, по всей вероятности, было таково, что разбудило силы неизвестной мне природы, – они как раз сблизились, и Константин Викторович поцеловал даме руку. – Как, знаете ли, некие флюиды пронзили меня вчера вечером – «завтра», «завтра»!
– Вечером, Вы говорите? – Варвара Михайловна припомнила, что они как раз в это время собирались причаливать. – Так это известные природе силы! Мы вспоминали о Вас, упоминали вслух, вот Вы и уловили наши мысли. Передача энергии на расстоянии.
– Прямо, как беспроводной прибор господина Попова? – Емельянову шутка понравилась. – Я тогда должен был услышать в своей голове нечто похожее на звонок? Дзынь! Так?
– Ах! – Варвара приподняла брови. – Вы тоже читали об этих опытах?
– Не только читал, но и присутствовал.
– А я не смогла быть, – разочарованно скривила рот Мамочкина. – Отчего Вы не сказали мне день? Я бы тоже пошла, если б знала заранее.
– Ах, Варвара Михайловна! Не ругайте меня, – Емельянов покаянно повесил голову на грудь. – Это было не на нынешней Выставке. Раньше. Еще в Кронштадте. У меня сохранилось довольно много знакомств среди морского офицерства. Позвали.
– Ах, как это интересно!
– Но, позвольте! Неужели я и вправду занимал ваши мысли во время отдыха? Это не к добру! Когда хозяин в праздности вспоминает о бедном работнике, это не к добру, а ко взбучке! – капитан улыбнулся.
– Ну, что Вы напрашиваетесь на комплимент, как барышня, Константин Викторович? Мы вспоминали Вас не затем, чтобы ругать. Совсем наоборот. Ведь у нас тут все хорошо? Так? И ругать мне некого и не за что.
– Не могу с Вами согласиться полностью, – улыбка сошла с лица Емельянова. – Мне сегодня в рейс. Но, когда вернусь, мне хотелось бы обсудить с Вами кое-какие моменты. На носу закрытие навигации.
И вот в назначенный день Варвара снова приехала в Пароходство для встречи. Но ей тут же доложили, что капитана в здании нет, нет его и в городе, что он должен был причалить еще вчера, но гонцы докладывают, что до сих пор «Полкана» нигде не видать. Возможно – поломка в пути. Не прибыл также и еще один пароход товарищества.
Варвара решила ехать на пристань. Когда ее экипаж прибыл туда, уже шла человеческая кутерьма у сходней – по соседству, впритирку, причалили сразу два судна пароходства Мамочкина. Варвара облегченно вздохнула. Она ждала момента, пропуская сходящих на берег пассажиров, чтобы взойти на борт. Когда их поток стал редеть, ей удалось двинуться ему навстречу. Поднимаясь на верхнюю палубу, чтобы увидеть капитана, она застыла на лесенке, услышав мужские голоса. Говорили трое. Из них она узнала только Емельянова.
– Да потому что баба в управлении! – возмущался высокий, даже писклявый мужской голос. – И не избавишься же. Угораздило ее муженька так рано на тот свет поспешить. А все активы – ей!
– Мне неприятен разговор в подобном тоне, – твердо отвечал на упреки капитан. – Извольте относиться к женщинам с должным уважением.
– Да бросьте Вы, Константин Викторович! – воскликнул некий мягкий баритон. – Ну, была бы, право слово, женщина стоящая, а то так…
– Я не прошу, – в голосе Емельянова появились стальные нотки. – Я требую, господа! При мне про эту женщину дурно не только не говорить, но и не сметь думать подобным образом!
– Вы извините нас, – примирительно произнес обладатель баритона. – Вот Вы вступаетесь за нее, а сами только что подвергались такой опасности. И из-за чего! Из-за безалаберности и наплевательского отношения. Кто допустил выход в рейс в подобном состоянии? Новый управляющий? Ее правая рука? А ведь «Принцесса» только месяц как из ремонта! Кто принимал работы? Снова эта парочка? А Вы! Рискуя собой, пассажирами своими…
– Да ничем я не рисковал, Господь с Вами! – слышно было, что капитан уже устал спорить. – Но не мог же я пройти мимо терпящего бедствие судна своего же пароходства? Это просто не по-товарищески, господа! А что до моих пассажиров – это Вы Бога гневите, никогда не рискну даже при мнимой опасности. Была выслана команда, мы даже борт о борт не подходили!
– А задержка! – вступил писклявый. – А опоздание на столько часов! Нет, милостивый государь. Мне-то все равно, я не пайщик. А вот на Вашем месте!
– Я сам за все отвечаю на своем месте.
– Хоть бы приструнил кто ее! – продолжал первый собеседник, особо дотошный и противный. – А уж с этим ее… кхе-кхе… управляющим! С ним же и договориться нормально нельзя! Так что не взыщите… Поставщиком вашего компаньонажа оставаться впредь не намерен. Увольте! Неприятно стало даже обсуждать дела… А уж кто вьется вокруг него, так это просто… Нет слов!
– Да, не очень приятный молодой человек, ну, да и не с такими столковывались, а? – все еще пытался свести собеседников вместе баритон. – А мадаме вашей хорошо бы снова замуж пойти, да за человека толкового. А то и сама дел не решает, да другим не дает.
– Да какие уж дела! – хихикал писклявый. – Мадама же не головой думает, а совсем другими прелестями, прости-господи. Уж, кто тут толковый замуж-то возьмет? Хи-хи!
– Прекратить сию минуту! – Емельянов повысил голос. – Мы сейчас рассоримся, господа!
– Профит, бизнес, корпорейшн? Ну, так вот сами бы и женились! – писклявый обиделся. – Не все ль равно, при таких-то капиталах!
– Извольте извиниться или пойти вон, сударь, – капитан стал спокоен, даже холоден. – Теперь Вы оскорбили не только женщину, про которую я Вам ясно дал понять, что находится она под моим покровительством, но и мою собственную честь.
– Простите, простите, уважаемый Константин Викторович, ляпнул в сердцах, не подумав! – пискля испугалась не на шутку. – Но, право! Вы уж слишком суровы. Что дурного в женитьбе на деньгах? Это расчет и ничего более. Для союзов случаются разные резоны. Общество к подобным бракам относится более, чем благосклонно! Ничего зазорного в том нет.
– Может, для кого-то и нет, – капитан не хотел ссор и извинения принял. – Но Вы, возможно, не так хорошо знаете ту, о ком так пренебрежительно говорите. Эта женщина стоит гораздо большего, чем то, что предоставляет ей нынче судьба.
– Ну, полно, полно, – баритон примирение поддерживал всеми силами. – Пусть каждый сам заботится о своей судьбе. В конце концов, это ж Божий промысел!
– Думаю время прощаться, господа. – Емельянов дал понять, что беседа подошла к концу. – Сейчас уже будут убирать сходни, извольте сойти. Мне надо распускать команду.
Варвара Михайловна, лицо которой горело огнем, стараясь не шуметь, сделала несколько шажков назад, и укрылась на борту нижней палубы, так и не увидев, кто же беседовал с ее капитаном. Но ей это было и не интересно. Она только всеми силами души хотела теперь исчезнуть отсюда незамеченной им самим. Ангелы благоволили ей, и, когда почти вся команда удалилась в трюм, она попросила двух матросиков вернуть сходни. Капитану велела передаать, что приезжала, тревожилась, но видела благополучное прибытие, и спокойно будет теперь ждать его доклада. А сейчас она не станет никого отвлекать – и так все устали за трудный рейс.
***
Сергей обнаружил странное обстоятельство. Каким-то невероятным образом, у него снова закончились наличные деньги. Да, он стал по-новому одеваться. Но ему казалось, что все расходы на это по-прежнему несет его тетушка, все портновские счета отправлялись ей. Не может же съедать такое количество денег всякая ерунда – шейные платки, цилиндры, трости? Правда, последнее время он снова сам стал заботиться еще и о своем лекарстве, Варвара перестала «своей рукой губить его», как она говаривала. Но это уж вообще – сущие копейки! Экипаж? Да, он нанимал пару раз презентабельные выезды, когда надо было пустить пыль в глаза новым знакомым, а к тетушке обращаться было неудобно. Что еще-то? Непонятно, куда уходят деньги! Жалованье, вполне приличное, что положила ему Варвара, кончалось уже через несколько дней после его получения. Не то, что откладывать! Приходилось постоянно залезать в те, баронские, средства, что он рассчитывал собрать для поездки за границу. Но вот и они стали иссякать.
Сергей Горбатов сидел в своем новом кабинете, все еще с чужой мебелью, необжитом. Тут все пока находилось в том состоянии, в каком его оставил предыдущий владелец. Разве это дело! Надо сказать Варваре. Он достал малюсенький блокнотик в серебряном окладе. Милая вещица! Говорят, именно такие безделушки и создают стиль человека со вкусом. Приобрел на прошлой неделе. Он где-то услышал, что расходы можно уменьшить, если начать вести их строгий учет и записывать каждую трату. Вот, первая запись, но это было несколько дней назад. За что же еще он расплачивался в эти дни? А! Все это ерунда! Записывай, не записывай – либо тратишь, либо нет. Он небрежно бросил закрывшийся блокнотик на край огромного стола. В дверь постучали.
– Позвольте без доклада, господин Мимозов, – скрипучим голосом проговорил кто-то, еще не до конца приоткрыв тяжелую дверь. – Надеюсь, наше равное дворянское… Ах, ты, батюшки!
На пороге образовался вдруг барон Корндорф. Неизвестно, кто из них был больше озадачен внезапной встречей здесь – он или Сергей.
– И что же именно Вам позволяет равное дворянское положение? – почти насмешливо спросил Горбатов. – Не ожидали?
– Если позволите, молодой человек, то никак нет, не ожидал! – Модест Карлович вошел и затворил дверь в коридор. – А Вы? Какими судьбами?
– Видите ли, барон, господин Мимозов дел в нашем городе больше не ведет, – доложил визитеру Сергей Осипович. – Это теперь мой кабинет.
– Ну, как же, как же! Про все перемещения господина заводчика нам известно. Интересуемся! Не знали только, что так поспешно покинет город. Думали одно дельце успеть, – барон шарил глазами по всем стенам, фотографиям, дипломам, развешенным на них, по предметам на столе. – А Вы, значит, служите…
– Я управляю делами пароходства, – поправил, показавшееся ему неудачным, выражение барона Сергей.
– Да-да! Конечно! – барон уже освоился тут, и уходить явно не собирался. – И как? Довольны?
– Вы к чему клоните? – Сергей искоса смотрел на дотошного старикана.
– Да нет, что Вы! Просто пользуясь таким счастливым случаем, спешу узнать об успехах давнего приятеля, всего лишь. Финансовая сторона Вас удовлетворяет?
– Вы опять про то же? – Сергей скривил рот. – Я не говорил с сестрой. Как-то, знаете, повода не случилось.
– Понимаю. Понимаю, – барон был на удивление покладист. – Я Вас и не тревожил целый месяц. Зачем, думаю? Не хотят – не надо. А захотят, так сами объявятся. Так ведь, молодой человек?
Сергей раздул ноздри и хотел, уж было, вспылить, но тут же вспомнил все то, о чем размышлял непосредственно перед возникновением нежданного гостя.
– Вы еще не оставили ту затею? – лениво прощупал почву он. – Я смотрю, у Вас уже новые прожекты образовались, сюда-то Вы не случайно же забрели?
– Это все так, – барон в воздухе нарисовал некую фигуру. – Действительно – всего лишь прожекты. А вот нашу-то игру, может, откатаем еще разок, а? Последний? Так сказать, прощальная гастроль? И я больше не стану докучать, клянусь! Ни Вам, ни Вашей дражайшей сестре! Я на нее никакой обиды не держу, племянник мой тоже.
– На нее? Вы? – изумился Горбатов. – А что же, простите, за притязания могут быть у вас обоих к ней-то? Даже ума не приложу! Вы и знакомы-то едва-едва.
– Ах, видно Вы не в курсе всех семейных перипетий, молодой человек! Ну, и оставим это, – барон изобразил нечто, похожее на смешок. – Вот именно, что притязания. Хи-хи!
– Опять намеки? – Сергей встал из-за стола, показывая кто здесь хозяин.
– Нет, нет! Все чинно! Никакой фривольности, – барон сделал Сергею успокаивающий жест. – Позволите присесть?
– У Вас дела к пароходству? – Сергей опустился обратно в кресло, а барону указал рукой на стоящий по другую сторону стола стул.
Снова раздался стук в дверь. На пороге возник казенный курьер.
– Пакет господину Мимозову. Изволите получить?
Сергею уже надоело всякому встречному-поперечному рассказывать историю его недавнего воцарения в данном помещении, он закатил глаза, устало вздохнул и хотел было приступить к объяснениям. Но не успел.
– Заказной? – спросил зачем-то барон.
– Никак нет, барин! Обычный, курьерский. Изволите Вы принять?
– А ты положи, голубчик, на поднос для визиток. А господин Мимозов, как объявится, мы передадим.
– Так точно! – посыльный ушел, оставив пакет в указанном месте.
– И что сие значит, господин хороший? – поинтересовался хозяин кабинета. – Вы не слыхали, что я Вам давеча говорил? Господин Мимозов из города отбыл. Ваша встреча с ним теперь маловероятна. Или Вы столь пылким желанием горите, что ради Вашего прожекта в Москву изволите поспешить?
– Да при оказии можно и в Москву, – барон поднялся и как-то крадучись направился к подносу с письмом. – Ах, какой интересный конвертик! Казенный! Со штемпелем. А на штемпеле-то надпись какая! Позволите полюбопытствовать? – и он, не дожидаясь разрешения, взял послание в свои сухонькие лапки и стал его то ли оглядывать, то ли обнюхивать.
– Не позволяю! – Сергей рассердился на такое самоуправство. – Это все-таки мой кабинет! Извольте положить на место. Я не желаю никак отчитываться перед господином Мимозовым, а отношений с ним портить тем более! Даже из-за каких-то Ваших прихотей. Извольте оставить письмо, я верну его.
– Кому, сударь? – барон снисходительно улыбался, но пакет оставил. – Впрочем, я уже узнал более того, на что мог рассчитывать даже при личной беседе с господином промышленником. Вы приносите мне удачу, молодой человек. Это дорогого стоит!
– Что такое Вы там вызнали интересно мне знать? – Сергей почувствовал себя оставшимся в дураках.
– Да то Вам не интересно будет. Просто примите мою благодарность и заверения во всех, так сказать… – барон так и не присаживался обратно, видимо собираясь уходить. – Ну-с позвольте откланяться, господин Горбатов.
Сергей встал и, подойдя к дверям, взял конверт в руки.
– «Российско-Китайский коммерческий банк», – прочел он вслух. – Никогда о таком не слышал. Уведомление клиенту. Что ж такого тут особенного?
– Вот! – Корндорф не мог удержать язык за зубами и упустить случая аффектации. – И клиент есть! И банк уже создан! Все подтверждения мне предоставлены.
– Подтверждения чего? – Сергей не желал последнее слово оставлять за своим экзальтированным собеседником.
– Да то пустое! Что оно Вам? – барон интриговал, внимание публики ему импонировало. – Ах, ну, если только среди Ваших знакомых найдется кто-либо, вхожий в китайское посольство, или имеющий там хоть отдаленные связи, то исполните просьбу старика – сведите меня с ним. Буду Вам искренне благодарен.
– На что вам китайцы? – Сергей искренне недоумевал.
– Ну, это уж, простите, не скажу. Просто нынче мои коммерческие интересы устремлены в этом направлении, это все, что могу поведать стороннему наблюдателю, да и то, только благодаря нашим давнишним доверительным отношениям. Так что, до встречи, сударь!
Барон обошел Сергея и взялся за ручку двери. Он получил тут все для себя возможное и интерес, как к кабинету, так и к новому его хозяину уже практически потерял.
– Постойте! – Сергей все еще держал конверт в руках. – Коммерческие, говорите? Ну, тогда вот Вам. Я сам, лично, знаком с китайским вице-королем, его семьей и свитой. Они жили все лето у нас в доме. Из его рук получен мной китайский орден. Такие знакомства вам подойдут?
– Вы приятно удивляете меня, молодой человек! – Корндорф смотрел на Сергея Горбатова с воодушевлением, даже с восхищением. – Продолжим наш разговор!
Он вернулся и присел к столу.
***
В этот раз Таня ехала на сборище барона скорей из одного только любопытства. Ей страшно хотелось увидеть изнутри «замок Синей Бороды», а также оценить его с точки зрения упущенной выгоды. Особняк Корндорфов, со временем, мог бы стать и ее наследством, не расстрой тетушка сватовства Васеньки.
Несостоявшегося жениха она тоже в этот вечер увидела, но мельком – Сергей велел остановить экипаж в отдалении от ворот и ждал, пока фон Адлер не покинет вотчину дядюшки. Лишь отмерив после его отъезда достаточный срок, Сергей велел кучеру трогать. Они с сестрой заметили и еще пару карет с задернутыми шторами, ожидающих в переулке – видимо это были гости барона.
Таня наловчилась переодеваться в Царевну довольно быстро, так что собравшуюся публику не заставили долго ждать. Но как будто кто-то сглазил бароновы сказки – снова вышел конфуз! Причем в этот раз все было гораздо серьезнее – и потому, что гости были сплошь местные, городские, и потому, что происходило все в фамильном владении, да и виновником скандала стало лицо не постороннее.
Лишь только «братья» окружили гроб со спящей Царевной, лишь только начала проникать в сознание каждого из них созданная хозяином дома атмосфера, лишь только запахи ладана и звуки поминального пения начали погружать присутствующих в подобие транса, как все это было нарушено. Причем нарушено грубо, резко и безжалостно. Дверь распахнулась, в комнату, изображавшую теперь то ли терем, то ли часовню, хлынул поток яркого света, а стоявшие ближе всего к выходу персонажи, вынуждены были прикрыть глаза ладонями, настолько резок был контраст впечатлений. Старческую немощь и немоту попрал громовой глас разящей молодости!
– Я не позволю! – на пороге стоял юнец и срывающимся поначалу голосом развенчивал таинство порочных увеселений. – Я так и знал! Я ожидал чего-то подобного. Недаром Вы, дядюшка, с полдня меня услать норовили! Но не на простака напали, меня не проведешь! В городе давно говорили про Ваши оргии, а я все не верил. И зря! А ну, пустите меня! Вставайте, девица! Я спасу Вас от этих похотливых стариканов! Прочь!
Васенька фон Адлер бесцеремонно оттолкнул какого-то безумца в маске, попытавшегося заслонить ему дорогу. Барон не мог прийти в себя от ужаса и неожиданности.
– Как ты смеешь? А ну, пошел вон отсюда, щенок! – Корндорф вышел из оцепенения, чем вывел из него же большую часть зрителей – все бросились врассыпную, спасаясь бегством от разоблачения.
– Вы, дядюшка, порочный тип! – витийствовал молодой барон. – Я счастлив, что со дня на день избавлюсь от Вашей опеки! Худшего проводника по жизни и представить-то себе трудно. Я счастлив к тому же, что не ношу Вашего имени! Вы опозорили весь свой род. Боже мой! – он узнал Таню. – Это Вы?
Она уже давно поняла, что добром все сегодня окончиться не может и, считая бессмысленным и далее притворяться спящей, открыла глаза и попыталась отцепить от себя пальцы молодого фон Адлера, которые, впившись ей в предплечье, доставляли уже ощутимую боль, напоминая обо всех проявлениях жизни как таковой.
– Отпустите, сударь! Вы делаете мне больно! – в наступившей тишине отвечала она Васеньке и, оглядевшись, убедилась, что они остались в комнате втроем. – И помогите мне подняться.
– Они? Они заставили Вас? О боже! – молодой офицер жаждал действий. – Я отомщу! Вы, сударь, никуда от меня не денетесь, – он погрозил ненавистному теперь дядюшке и бросился вон из комнаты. – Но я вызову всех! Всех, кто посмел оскорбить эту чистейшую красоту!
– Ты безумен, Василий! Кто позволил тебе соваться в дела взрослых! – кричал ему вслед барон, все еще пребывая в шоковом состоянии.
– Остановите его, – сказала, сидящая в гробу Татьяна. – Он же сейчас в город побежит!
Старенький барон кинулся вслед за племянником. Таня ждала, никто не приходил. Она с трудом самостоятельно спустилась на пол и пошла наугад по незнакомому дому. Сергея нигде не было. Она робко окликнула его. Он не отозвался. Вдалеке слышались крики и звуки то ли борьбы, то ли бегства. Ничего, еще была надежда, что дядя по-родственному уговорит юного мстителя не раздувать скандала, надежда, что высокопоставленные гости смогли уйти неузнанными и не представляют теперь дополнительной опасности для незадачливых устроителей сомнительного развлечения. И что все еще может наладиться. Но крики усиливались. Таня подошла к поручням высокой лестницы и, свесившись через перила, наблюдала за тем, что происходило в вестибюле.
Двое слуг, возраста примерно своего хозяина, с расцарапанными лицами, прилипли к стенам, не смея больше вмешиваться. Замешкавшиеся гости пробирались к выходу, держа плащи и пальто в руках, одеваться в доме никто из них и не думал. Один гость прикрывал лицо обеими ладонями, а старый барон норовил вырвать из рук своего более резвого племянника его маску, которую тот только что сорвал в порыве справедливого гнева. Побеждала молодость и сила.
Таня сползла на пол и стала думать, как ей самой выбраться из этой западни. Она все еще надеялась уйти неузнанной гостями, а с этим сумасшедшим семейством после договориться о взаимной выгоде и тайне, но тут в дом вошла полиция, привлеченная шумом. Таня похолодела. Думать дальше стало некогда!
Хода на парадную лестницу не было – там толпились все не успевшие ретироваться участники событий. Танюша побежала по чужим коридорам, пару раз натыкалась на запертые двери, потом ей повезло – она заметила черную лестницу. Спустившись вниз, она вбежала в первую попавшуюся гостиную и бросилась к высоким стрельчатым окнам. Почти сорвав занавеси, она залезла на подоконник и попыталась справиться с неподдающимся запором. Послышались голоса, они приближались. Окно распахнулось, и холодный осенний воздух ударил ей по лицу. Таня взглянула вниз. Ничего, не высоко. И вот, когда спасение было уже так недалеко, она четко разобрала фразу, сказанную истерическим Васенькиным голосом:
– Идемте, идемте, господа! Прошу вас! Ищите, она должна быть где-то здесь. Она просто испугалась, господа! – он все не замолкал. – Не подумайте, господа! Она в нашем доме оказалась совершенно по иному поводу! Это… Это…
«Господи, где же барон?» – впервые как о спасении подумала Таня.
– Ее надо спасать! И я оказываю ей всяческую защиту и покровительство. Это достойнейшая барышня. Это… Это моя невеста, господа! Это дочь генерала Горбатова!
«Я погибла!» – поняла Таня и спрыгнула вниз, теперь от одного только стыда.
***
Ворота были распахнуты настежь и никем не охранялись. Таня выбежала в переулок. Ни Сергея, ни их экипажа не было. Она горько усмехнулась и тут только поняла, что все деньги, вся одежда – все осталось в особняке Корндорфа, а она стоит посреди улицы, ряженая как скоморох, причем с золотыми браслетами на руках и с драгоценным ожерельем на шее, что могло вызвать массу вопросов у той же полиции. Слава богу, уже стояли густые сумерки.
Стараясь идти, а не бежать, и вообще привлекать к себе как можно меньше внимания, Таня стала удаляться от ужасного места. И судорожно начала соображать, что же делать дальше? Ничего не придумалось более путного, чем ухитриться добраться домой. Дом – вот то место, куда человек возвращается отовсюду. Хорошо, когда у тебя есть дом. Если бы еще утром кто-нибудь произнес подобную сентенцию при Танюше, она, наверно приложила бы все свое остроумие, чтобы высмеять пошлую назидательную сентиментальность. Но сейчас она почти молилась, чтобы беспрепятственно добраться до тетушки. Врагами казались ей все – и сам барон, и его гости, и те, кто был властен устроить ей ночлег в участке. Но самым невыносимым испытанием казалось отсюда Васенькино заступничество.
Если бы можно было прямо сейчас уехать из города! Таня стала перебирать в уме все свои возможности и знакомства. Брат? Ну, и где он, брат? Отец? О, боже! Подруги? Друзья? Нет таковых. Она вспомнила последний визит Полетаевой, когда та забирала щенка. Они перекинулись всего несколькими фразами, из вежливости. Почему с ней нет нынче никого из сопровождающих? Папенька в деревне. А господин архитектор? Господин архитектор собирается покидать наш город, и занят хлопотами перед отъездом в Москву.
В Москву! Таня прикусила губу. Эх, если бы знать его адрес! Явилась бы сейчас прямиком к нему, вот такая – испуганная, расхристанная. Оставил бы у себя, он такой, не выгнал бы на улицу, напоил бы хоть чаем. Потом слезы. Потом утешения. Ничего! Утром бы женился, как миленький. Порядочный ведь человек!
Где бы ни был сейчас Лев Александрович, он должен был почувствовать, ощутить, всем существом своим испытать тягу и потребность – возблагодарить все силы земные и небесные, что адрес его был хотя бы этой барышне неизвестен. Довольно в его жизни и одного такого ночного визита! А был он уже в Москве. Таня об этом не знала и не догадывалась. Добравшись до особняка, сунув извозчику один из браслетов с руки, она прокралась на свою половину. Горничная доложила, что брат сегодня дома не ночует. Про одежду, увидев Танины горящие глаза, спросить ничего не посмела. Обещала разбудить барышню рано, как та велела.
Если не получилось с ночным визитом, то все еще можно наверстать днем – так решила Татьяна. Мысль о замужестве и отъезде с архитектором засела в ее головке, и казалась сейчас наилучшим из возможных исходов. Таня взялась действовать. Если домашнего адреса Льва Александровича она не знала, то хорошо помнила весенний визит к нему на службу. Она поехала на ярмарку спозаранку, пока еще тетушка не начала своего дознания. А она его начнет! Рано или поздно эта история дойдет до ее ушей, Таня не сомневалась. Она всю дорогу придумывала повод для встречи с Борцовым, понимала, что с ходу такое дело не провернешь, но, что времени у нее катастрофически мало. Будучи в нервном состоянии, она еще больше расстроилась, когда долговязый секретарь замогильным голосом сообщил ей о том, что господин архитектор получил расчет еще на прошлой неделе. И – адью! Это был крах.
Вернувшись домой, Татьяна поняла, что тетка уже знает, если не все, то многое. Злополучная пресса не пропустила такой лакомый кусок мимо зубов. Таня спросила у слуг про брата – Сергей по сию пору не объявлялся. Горничная стояла перед ней с таким побитым видом, что Таня поняла – не идти на половину тетки нельзя. Приволокут. И она, не раздеваясь, пошла. Как на гильотину. Тетушка сидела в кресле, рука с газетой опущена была вниз, почти до полу. Она лишь обернулась на открывшуюся дверь и сказала Тане:
– Садись.
Таня села напротив.
– Ну, что молчишь? – тетка подняла на нее полный боли взгляд.
Таня опустила глаза.
– Не знаю, как тебе удалось вляпаться в подобное, да и не хочу знать, – Удальцова смотрела не на племянницу, а в сторону окна. – Скажи мне только, Сергей причастен к этому?
Таня молчала.
– Вот пишут, – тетушка прищурилась, отыскивая нужную строку. – «…богатое убранство часовни наводило на мысли о порочном культе служения неведомому идолу…» И вот еще: «Гроб затмевал своим роскошеством все остальные атрибуты этого сатанинского действа»! Сатанинского!
Таня молчала.
– Тебя там не обижали, Таня? – тихим голосом спросила вдруг тетка, отложив газету.
Таня не выдержала и разрыдалась. Она мотала головой, как бы пытаясь успокоить тетушку:
– Нее-еееет! Пр-ооо-остите ме-е-ееня. Можете наказать, как хоти-ииите, я все стерплю! Только… Только!
Гликерия Ивановна легко поднялась из кресла, подошла к Танюше и прижала ее голову себе к животу.
– Ну, будет! Будет, детка. Цела и ладно. А наказание? О, Господи! – она отодвинула Танино лицо и, зажав в своих ладонях внимательно всмотрелась. – Пишут «романтическая история». Благородный офицер А. спас свою возлюбленную невесту Г. из рук сектантов. Какое тебе, Танечка, наказание похлеще Васеньки фон Адлера в мужья? Теперь уж ничего не попишешь. Уж решено все.
***
Таня вышла замуж совсем не так, как виделось ей в институтских фантазиях. Не было пышной церемонии, толпы гостей. Венчались даже не в главном соборе, а в каком-то пригороде. Тетка написала генералу, но тот, сославшись на вечную занятость и приведя доводом тот факт, что он уже наносил в этом году визит в Нижний Новгород, не явился. Прислал лишь словесное благословение да еще подарок к свадьбе – серебряный сервиз, похожий на тот, что Удальцова выиграла в лотерею на пикнике Мимозовых нынешним летом. И положил на Танин счет в банке пять тысяч рублей. Свадьба состоялась как-то скоропалительно, но первые дни в замужестве Тане, в общем и целом, понравились. Она не поняла особых восторгов, что описывались в романах при упоминании отношений возлюбленных: став женщиной, она не испытала ничего – ни разочарования, ни упоения. Было лишь немного смешно.
Значительней оказалось впечатление от самого положения замужней дамы! Поменялось отношение к ней – у лакеев, официантов, горничных. Тане очень нравилось, что все они обращались к ней теперь, добавляя к новой фамилии еще и титул. Тетушка сняла молодым апартаменты, и они наслаждались праздностью, пока не решится вопрос с наследством – теперь не надо было ждать дня рождения Васечки, семейное положение автоматически делало его взрослым и состоятельным членом общества. Дядюшка должен был отчитаться и передать ему дела, уже был назначен день оглашения. В доме у Корндорфа, по понятным причинам, после недавних событий, молодые жить даже не мыслили. Да старый барон и не предлагал. А у Таниной тетушки было и вовсе неудобно – жилье молодой жене все-таки, по всем канонам и традициям, должен был предоставить супруг, тем более, что его средства обещали дать простор любой фантазии молодоженов. Решили просто подождать, а после приобрести что-нибудь свое. За Таней недвижимости не дали, она оказалась не дюже выгодной невестой и могла гордиться тем, что ее выбрали по безумной любви.
Скандал с «сектанством» удалось довольно быстро замять, во сколько это обошлось Корндорфу – никто не знал. Но барон после этих событий утих, затаился, на людях появляться пока не смел и вел уединенный образ жизни. С племянником отношений не налаживал, на свадьбе не был. Сергей навестил его накануне открытия наследства фон Адлера – Модест Карлович был болен, лежал. Сергею надо было отчитаться перед ним об их делах по китайскому банку – ему удалось открыть там именной счет.
– Ну, как Ваша сестрица? – слабым голосом спросил барон. – Простила Вас за то, что Вы ретировались тогда с поля боя?
– Она полностью увлечена своим новым положением, – Сергей отводил глаза, вид старика был ему неприятен и даже страшен, так изменился тот в немощи. – Мы толком и не говорили с ней после того. А как Ваше здоровье? Что говорят врачи?
– Врачи! – хмыкнул барон. – Врачи интересуются в основном моим бумажником, а не мной. Говорят: «Старость». И тут же бодро добавляют: «Скоро пройдет!»
– Достанет ли у Вас сил говорить сейчас о делах?
Сергей изнывал от любопытства, не понимая, зачем барону доступ к новому банку, их десятки в городе – почему именно этот? Он, действительно, столкнулся с небольшими затруднениями – счета здесь открывались лишь тем, кто имел непосредственное отношение к строительству новой дороги. А частным лицам нужно было делать такой вклад, средств на который Горбатов в наличии не имел. Правда Корндорф подкинул ему для этих нужд некую сумму под расписку, но и ее нее хватало. Помогли связи Сергея – его помнили, и из посольства замолвили словечко в правлении.
– А что о делах? – барон смотрел в потолок и пугал Сергея Осиповича своей безучастностью. – Главное сделано. Остается только ждать.
– Чего ждать? – Сергей, несмотря на сочувствие к больному, начинал раздражаться. – Могу я поинтересоваться деталями?
Барон вздохнул. Помолчал. Но потом нехотя стал посвящать своего компаньона в подробности предстоящей авантюры. Банк открыт под нужды строительства. Среди служащих среднего звена есть один человечек. Надежный. Его надежность обеспечивается обещанной четвертью от ожидаемой прибыли. Столько же ожидает и их самих. Еще часть – на расходы и непредвиденности. При той сумме, которую они хотят… Как бы это выразиться? Изъять. От нее и четверть – состояние. Так что игра стоит свеч!
– Вы сумасшедший? – Сергей ожидал чего угодно, подозревал подобное, но все-таки тешил себя уговорами, что до криминала не дойдет. – Это же Сибирь! Каторга!
– Ну, я ж говорил Вам – зачем задавать вопросы, если Вы не готовы к любому на них ответу? Эх, не надо было…
– Я, простите, не настолько сумасброден! – Сергей вскочил. – Я прерываю с Вами всяческие отношения. Не посылайте за мной больше! И именем моим я не позволю Вам… Прощайте!
– Да, Вы правы, – не повышая голоса, монотонно и спокойно, вещал Корндорф. – Риски большие. Но так как посвященных в дело всего трое, то я верю в удачный исход. Я, молодой человек, умею подбирать людей. Я уже имел как-то нескромность оповестить Вас об этом обстоятельстве. Я понимаю всю опасность и неотвратимость последствий. Но!
Сергей застыл у двери, взявшись за ручку, почему-то не смел выйти, стоял и слушал.
– Но! – продолжал через силу барон, уже начиная слегка задыхаться. – Все участники нашей, так сказать, конфессии, отличаются одной чертой – они готовы сразу и бесповоротно оставить прежнюю жизнь. Вы же готовы к этому, молодой человек? И покинуть эту страну навсегда. С тем капиталом, что объявится у каждого из нас, можно начать с нуля в любом из уголков Европы. Вы же сами хотели чего-то подобного, не так ли, мой друг?
– Я Вам не верю, – шепотом отвечал Сергей, страх сковал холодом все его тело.
– Счет открыт не только на Ваше имя. Одновременно существует и еще один, тайный. Надо подождать, когда в Нижегородское отделение будет переведена ожидаемая нами сумма и… Кха-кха… Ох! Простите, в горле сипит. И она окажется на этом секретном счету, как – не Ваше дело. Под Вашим именем будут совершаться абсолютно чистые расчеты! Мне и нужен был не только представитель уважаемого в городе семейства, но и человек, обладающий доверием устроителей банка. Просто Вы должны в определенный день оказаться там и вынести из здания наши общие деньги. По документам на то число Вы будете получателем незначительных процентов, чтобы было, что предъявить дознавателям. Ваша роль в том, чтобы со всеми присутствующими в тот день клиентами банка выдержать впоследствии допросы полиции. Поймать Вас будет не на чем – сбежит работник банка, вся вина будет на нем. Это – его роль. Вы встретитесь единственный раз, при передаче всей суммы – он окажется на кассе в тот день. По документам Вы чисты. И все! Через месяц – свобода.
– Вам-то это зачем? – Сергей вытер холодный пот со лба и испугался, не заразная ли у барона болезнь. – Вы! Представитель аристократии города!
– Хи-хи-хи! – раздалось с болезного одра. – Вы, если не ошибаюсь – тоже!
***
Открытие наследства состоялось. Барон Корндорф по состоянию здоровья не смог добраться до нотариальной конторы, поэтому молодым супругам фон Адлер пришлось еще раз посетить готический особняк дядюшки. Старый барон был плох. Когда поверенный назвал сумму, подлежащую передаче в руки Василия фон Адлера, Таня испугалась, что мужа сейчас или хватит удар, и она останется вдовой всем на посмешище, либо, что он сам хватит дядюшку по лбу каким-нибудь подвернувшимся канделябром, дабы погасить ту искру, что все еще теплилась в тщедушном тельце старика. У Васи покраснели лицо и шея, а на висках выступили жилы, как у кочегара – супруга сидела рядом с ним и все эмоциональные проявления мужа могла рассмотреть в подробностях.
– Сколько?! – переспросил он, когда к нему вернулся дар речи.
– Двенадцать тысяч семьсот тридцать два рубля на Вашем именном счету, и ценных бумаг на четыре с половиной тысячи, – добросовестно зачитал нотариус.
– Вы издеваетесь? – Васенька, кажется, был близок к истерике или обмороку. – Да у меня одних долгов в полку тысяч на восемь!
– Вы можете проверить каждую цифру, молодой человек! – обиженно отвечал представитель почтенной фирмы с безупречной репутацией. – Все документы находятся в идеальном состоянии.
– Да? – барону фон Адлеру был необходим виновник собственных разочарований, и он примерял эту роль на каждого подвернувшегося, Танюша уже успела немного узнать характер своего мужа и потому не встревала. – Зато, я смотрю, само мое состояние в состоянии далеко не идеальном! Ха-ха! Где мои деньги, господа?
– Финансовый отчет я только что предоставил Вашему вниманию, – нотариус посчитал свою миссию оконченной и стал собирать в портфель бумаги со стола. – Разрешите откланяться, господа? Будем рады вновь видеть вас всех в числе наших дорогих клиентов.
– Постойте! – Василий вскочил с места. – Вы так просто не уйдете! Это что, то, что оставил мне мой папенька? Вот эти копейки?
– Не имею чести знать, – нотариус стоя выслушивал претензии нервного наследника, стараясь соблюсти профессиональную выдержку. – Я служу на этом месте только третий год, сударь. В мою компетенцию входит обязанность предоставить вам подробные сведения о подлежащих Вашему владению активах. На сегодняшний день! Думаю, с Вашим вопросом, Вам лучше обратиться к своему опекуну.
– А! Дядюшка! – радостно набросился фон Адлер на новую жертву. – Позвольте поинтересоваться, где все деньги отца? А? Матушка тоже, кстати, никогда не была нищей! Где мое состояние? Отвечайте!
– Ах, не кричи, Василий! – барон то ли действительно плохо себя чувствовал, то ли пользовался лежачим положением, занижая голос до свистящего шепота. – Сколь бы ни оставляли в свое время твои родители, то до тебя не касаемо.
– Не касаемо? – орал Васенька. – А кого ж это касаемо, более меня? Вы растратчик! Верните мне мои деньги!
– Вас не касаемо, что было много лет назад, имел я в виду! Бывали разные времена. Трудности. Реформы. Падения. Я же всегда находил средства для твоего воспитания. Для твоего обучения и содержания! Нынешнее твое положение блестящего офицера тому первейшее подтверждение, – барон с упреком посмотрел на неблагодарное дитя, призывая в свидетели своего родительского подвига всех, кто находился комнате. – Одна твоя скоропалительная свадьба обошлась нам в очень приличную сумму! А как ты думал! Все на свете стоит денег! Надо взрослеть, милый мой!
– Свадьба? – задохнулся от возмущения племянник. – Да Вы ни копейки! Вы вообще никакого отношения! Татьяна! Это ее тетушка оплатила все расходы. Причем тут Вы?
– Ты зол на меня за что-то, Василий, – барон тяжело вздохнул. – Дети бывают такими неблагодарными, господа! Ты обижен, а потому несправедлив. Но я не буду унижать тебя предъявлением квитанций и счетов. Бог тебе судья! Но, конечно, Вы в любую минуту можете проверить каждую цифру, молодой человек!
– Вы! Да Вы! – Васенька метнулся к постели, но его перехватили.
Так завершилось оглашение.
***
Папа привез Наталью Гавриловну в город. Они ездили с визитами, а после обеда Полетаев оставил супругу в одном из салонов Нижнего Новгорода – ей нужно было пополнить и обновить гардероб в соответствии с новым статусом и положением. Лиза знала об их приезде и спешила домой.
– Папа! – закричала она с порога, по лицу няни поняв, что тот дома. – Папа! Я нашла!
– Что нашла, Лизонька? – Андрей Григорьевич отложил свою вечную газету и залюбовался на дочь.
– Я нашла место под читальню! – глаза у Лизы светились радостью находки и предвкушением новых дел. – Теперь я непременно попрошу у Рафаэля Николаевича, чтобы он меня назначил заведовать ею. Это же можно, папа? Это не стыдно, воспользоваться своим положением? Но мне так хочется этого, папа!
– Лизонька, конечно спроси. Ты же столько сил вкладываешь в обустройство, так что… Он, знаешь ли, человек понимающий. Он все верно сделает.
Через пару дней состоялся ее разговор с Демьяновым.
– Я всегда, когда домой еду, сойдя с трамвая, сразу же перехожу улицу, – с воодушевлением рассказывала ему историю находки Лиза Полетаева. – А тут, как кто потянул меня за подол! Так захотелось зайти именно в ту церковь. И эта колокольня! И новая стоит, и эту оставили. Я спрашиваю: «А, что в той, старой?» Мне говорят: «Заперта стоит».
– Ну, ну, Елизавета Андреевна? – Демьянов был внимателен.
– Ну, и… Помещение там достаточное для наших нужд. Рядом – одна из центральных проезжих улиц города. Удобно. И… – Лиза потупилась.
– И что еще, Елизавета Андреевна? Говорите. Говорите! Все важно.
– И еще – это в десяти минутах ходьбы от моего дома, – Лиза улыбнулась. – Я подумала, вдруг Вы доверите мне заведовать этой читальней? Ну, если, конечно все состоится. Могу я надеяться?
– Состоится! – потер руки Демьянов. – Всенепременно состоится, Елизавета Андреевна! Отчего же не состояться? Тут, наоборот – эта находка сулит нам всяческие потачки в подмогу! Здание-то епархии принадлежит, как я разумею? Ну! А что насчет надеяться… Не «надеяться»! Тут требовать имеете полнейшее право. Не надо себя уничижать, где не следует. Вы – полноправный создатель всей затеи, кому, как не Вам, выбирать лучшее да двигать дальше! Это же не побрякушка в награду, это – устремление в будущую жизнь. Так что с моей стороны можете рассчитывать на всяческую поддержку. Ах, как славно! Вот все, что в вашем с папенькой дому скопилось, то туда и перевезем после. Потерпите еще недолго неудобства?
– Да какие ж это неудобства! – уже открыто радовалась Лиза. – Всего несколько ящиков в зале. Мы все равно еще в Большой дом до конца не перебрались, так, частями…
– Ну, и Бог в помощь!
Этим ящикам в зале еще предстояло сыграть свою роль. И пыли на рояле, и общей не прибранности Большого дома.
Отец с супругой снова отбыли в Луговое, там шло строительство, и папа хотел довершить его до холодов. Снега все не было, но был иней на пожухшей траве и понизу каменных оград. Лиза медленно шла по переулку, она сегодня освободилась рано и радовалась, что после обеда весь день может посвятить себе – своим накопившимся домашним делам, чтению, музыке. Где-то вдалеке раздался резкий звук полицейского свистка. Полиция, жандармы – Лиза не разбирала разницы, а все с этим связанное, вызывало у нее неприятные воспоминания. Ей нечего было бояться, но неприязнь была непроизвольной и Лиза тут же вспомнила и про Олениных, и про Алексея, и про их дом. И, как бы, в ответ на эти непрошенные мысли, появился вдруг внезапно пред ней и непрошенный персонаж – через деревянный забор, мимо которого как раз проходила Лиза, перемахнул крепкий детина в рабочей одежде, запыхавшийся и злой. Лиза судорожно огляделась – кроме них в переулке не оказалось ни одной живой души. Но испугаться она не успела.
– Вы? – с удивлением выдохнул детина вместе с облачком пара изо рта.
– Я… – оторопело узнала Лиза Хохлова и тут же собралась. – Это за Вами?
Арсений понял, что она говорит про свистки и звуки погони и кивнул.
– Не бойтесь, барышня! – он шутовски снял картуз и раскланялся. – При них я Вас не признаю. Бегите себе!
– А как же Вы? – Лиза стояла на месте.
– Совсем не знаю здешний район. А так бы – давно ушел! – залихватски прищурился беглец и обернулся, озираясь вокруг как дикий зверь.
– Пойдемте.
– Куда? Что Вы, барышня?
– Пойдемте! – Лиза прибавила в голосе настойчивости и даже схватила Хохлова за руку.
Пройдя несколько оставшихся аршин до своей улицы, она аккуратно выглянула из-за угла и, обернувшись, кивнула Хохлову, который покорно шел за ней. Они добежали до ворот Полетаевых, дворник мгновенно пустил их.
– Никому не говори кто дома! – на ходу шепнула ему Лиза и повлекла гостя к флигелю.
– Вы, барышня, рискуете, – тихо, но уважительно сказал в прихожей Арсений.
Полицейские свистки приближались.
– Доню! – причитала открывшая дверь Егоровна. – И куда ж ты энтого каторжника притащила! Это ж за ним! По глазам чую! Мало тебе недавнего?
– За мной! – кивнул Хохлов не таясь, и сверкнул на няню теми самыми глазами.
– Ах, ты, нечистая! – перекрестилась Егоровна.
– Няня! Дай ключи от боковой двери. Быстрее! – Лиза потащила Хохлова по коридору. – Придут, скажи – я в зале. Музицирую!
– Сейчас они тебе сыграют музыку-то! – с упреком пропела Егоровна им вслед, но постояв секунду, утерла полотенцем под носом, перекрестила закрывшуюся в торце коридора дверь, подошла и запрела ее на ключ со стороны флигеля.
Лиза провела Хохлова боковым ходом в опустевший сад.
– Вот за этой стеной переулок, где мы были, – ориентировала Лиза беглеца на местности. – Но оттуда не попасть, там обрыв, Вы, наверно, видали мостик. А за этой стеной – тоже… Овраг! Люди говорят – непроходимый. Но раз Вы зимой через реку спаслись… Только ограда у нас высокая, а лестницу сейчас не достать.
– Вот Вы какая, Елизавета Андреевна, – Хохлов взял обе Лизиных ладони в свои. – Не знаю уж, что Вами движет, но…
– Бегите быстрее, нет времени! – Лиза выдернула свои руки и подтолкнула его в спину. – Я буду молиться, чтобы Вы не свернули шею из-за моей самонадеянности. Там действительно очень крутой спуск, почти отвесный… и заросли.
– Не дождутся! – Хохлов уже схватился за ветки яблони и тут же взобрался до ее середины. – А самонадеянность – это по-нашему! Прощайте, Лиза. Я этого дня не забуду!
Он перемахнул через каменную ограду и исчез. Не было слышно ни стона, ни вскрика. Лишь чутко прислушиваясь, и точно зная, что за забором есть кто-то живой, можно было разобрать удаляющийся шорох голых веток, хлестко бьющих по пробирающемуся наугад беглецу. Ушел!
Лиза метнулась в залу через коридор Гаджимханова и, переведя дыхание, открыла крышку запыленного рояля. Вскоре раздались голоса и топот сапог – Егоровна провела преследователей через двор. Войдя, те замерли на пороге, Лиза оборвала игру.
– Добрый день! Что-то Вы зачастили к нам, господин жандармский полковник? – она улыбнулась знакомому лицу, что недавно производило обыск в кабинете отца.
– Простите, барышня, за вторжение! Но – снова служба. Ищем опасного преступника, объявленного в розыск.
– Ах! – делано испугалась Лиза. – Он – вор? Ну, так ловите же его, господа!
– Хуже! – успокоительно улыбнулся ей полковник. – Социалист. Но, простите, дозвольте осмотреть двор и дом.
– У нас на воротах дворник, – Лиза вопросительно посмотрела на няню, та лишь приподняла брови.
– Дворник никого не видал, но мало ли,– жандарм отодвинул пальцем в перчатке занавеску. – А что у вас там?
– Летний сад, – спокойно отвечала Лиза, одним пальцем нажимая на клавиши. – Как видите, все уже облетело.
– Можно ли пройти туда? – полковник провел пальцем по подоконнику и тут же стал стирать с перчатки пыльный след.
– Няня? – Лиза обращалась к Егоровне.
– Да не брала я с собой ключей! Откуда ж я знала? – няня неодобрительно качала головой. – Ну, что? Сходить?
– Только вам придется самим двигать эти ящики, – кивнула полковнику Лиза на склад книг. – Архиерей все никак не пришлет за ними работников и подводу. Пока хранятся у нас, а мужчин дома нет, как видите. Хотя, могу позвать дворника. А что бы вы хотели увидеть в саду, господа?
– В саду ничего, барышня, и так все на просвет! А вот за оградой что?
– Овраги, – Лиза прекратила бренчать и закрыла крышку. – Вы же знаете, сколько их в нашем городе!
– Да оставьте, господин полковник, – обратился к нему второй офицер. – Видно же, что дверь с лета не открывали.
– Простите, барышня! Разрешите откланяться. Надеюсь, третей нашей встречи не предвидится, – полковник щелкнул каблуками, развернулся и увел за собой всю свою свиту.
***
Сергея допрашивали с особой тщательностью и настойчивостью. Эта часть «роли» оказалась сложней и хлеще скоротечного страха в банке – там-то все удалось. Другие клиенты и работники банка заметили в тот день в его руках саквояж, и потому вопросы следствия все повторялись и множились. Нервы Сергея были на пределе, тем более что он, уже который день, обходился без своего лекарства, боясь попасть на дознание в расслабленном состоянии. Сергей понимал, что может сорваться в любой миг и держался из последних сил.
Ему повезло, как всегда. Он вспомнил, что как раз накануне его визита в банк, когда день уже точно был определен, и ему хотелось побыть одному и продумать все возможные завтрашние ловушки, Варвара отвлекала его от тревожных мыслей рассказами о претензиях Емельянова и других членов правления товарищества. Как долго говорила она об упущениях в делах, о необходимых и неотложных мерах, о непременных изменениях к следующей навигации, как велела ему разобраться и с документами, и с людьми, как он слушал ее в пол уха, как надоела она ему со своим нытьем.
Но сейчас это все пришлось очень кстати! Хотя Варвара и так всеми силами души принимала в нем участие – сопровождала его, ждала в коридоре окончания допросов, нанимала адвокатов, но, когда он напомнил ей о том разговоре, то включилась в его защиту еще более истово. Так как Горбатов не был ни арестован, ни даже задержан, то он свободно посетил рабочий свой кабинет и полностью набил схожий по виду саквояж деловыми бумагами пароходства Мамочкина да и забросил его себе на служебную квартирку. В полиции сказал, что запамятовал о том из-за нервической обстановки, Варвара данное поручение и его срок подтвердила.
Настоящий же саквояж Сергей в день выноса, за вычетом своей доли, передал в городском парке барону. Что делать со своей частью добычи, он долго не думал – отвез в особняк тетки и припрятал там. Теперь Татьяны там не бывало, тетка осунулась и сдала, поэтому воспитанием не донимала. Допросы отнимали у него самого все силы, да еще и Варвара надоедала своим опекунством и заботами. Он стал чаще ночевать у тетушки – поближе к деньгам. По мере того, как полиция стала постепенно терять к нему интерес, Сергей, все-таки опасаясь внезапных обысков и повторных вызовов, последовал совету Корндорфа: «Затаиться!» и вел тихий и скромный образ жизни. Но уже интересовался маршрутами в Европу – ценами, билетами, пересадками. Стал просматривать газеты, журналы, объявления, что крайне редко проделывал раньше.
Там он и увидел некролог: «Барон Модест Карлович Корндорф скончался накануне в своем особняке при загадочных обстоятельствах». Что это были за обстоятельства, в газете не указывалось, а в городе, чего только после не говорили. И что барон умер от неизвестной науке болезни, весь покрывшись пятнами еще при жизни – это мол, последствия проклятия той секты, кассу которой он присвоил в собственных интересах. Другие говорили, что ничего таинственного в его болезни не было, просто надо уметь соизмерять силы своего возраста с увеселениями, которые себе позволяешь. Третьи считали его аскетом, пустившим все свое состояние на тайную благотворительность. В подтверждение этой версии говорило то, что многие, стоявшие запертыми комнаты его особняка, при вскрытии оказались просто пустыми – все вещи и обстановка из них были распроданы.
Слуги припомнили, что накануне кончины, после ужина, был у господина какой-то визитер, но пробыл недолго. Барон после этого никого уже не тревожил, и утром никого не звал. Встревожились они лишь к обеду. Нашли барона не в постели, а в хрустальном гробу – он весь укутан был длинными полотнищами тканей – то ли запутался в агонии, то ли… Некоторые подозревали удушение. Денег в доме не нашли вовсе никаких! Только царский венец, усыпанный самоцветами.
И вот Татьяна с мужем снова, во второй раз за такой короткий период, оказались перед лицом нотариуса. Тот, помня прошлые выпады молодого барона, на этот раз настоял на оглашении в стенах конторы. Тут хоть охрану можно пригласить, если что. Душеприказчик объявил племяннику, что тому непременно придется взять на себя расходы по погребению, так как он единственный родственник покойного, находящийся в городе, и уже по желанию – выплаты слугам. А после огласил завещание: «…все недвижимое имущество, состоящее из особняка и прилегающих к нему подсобных строений» барон оставлял… своему родному брату. Таня поглядела на мужа и нервно расхохоталась.
– Вы зря смеетесь, сударыня! – сквозь зубы объявил ей супруг уже по дороге в гостиницу. – Нынешние события меняют наши планы, и меняют их бесповоротно!
– Ваши планы, хотите Вы сказать? – Таня еще улыбалась.
– Нет. Наши! – в голосе Василия прорезались ехидные нотки. – Ждать тут больше нечего. Но и об отставке теперь говорить нет смысла. Собирайтесь, сударыня! Мы едем в полк. У меня вышли уже все отпуска – и очередной, и свадебный.
– Ну, и езжайте себе с Богом! – все еще не понимала Танюша. – Я вернусь к тетушке, буду ждать Вас у нее.
– Надеюсь, это шутка? – холодно спросил муж. – Вы – моя жена, и обязаны проживать вместе со мной.
– Да не желаю я жить с солдатней! – Таня решила показать характер. – Я даже к папеньке не ехала, а он у меня – генерал! Что мне делать при Вас, при поручике? Печь пироги с гарнизонными дамами? Фи!
– Вы именно солдатне давали клятву перед алтарем, дорогая, – Васенька показывал зубки. – Не желали жить в столичной Варшаве, так поживете в уездном гарнизоне. Собирайтесь! Много вещей не тащите, все равно эти Ваши тряпки там неуместны. Пара чемоданов, не более. А вот драгоценности можете увезти хоть все. Мы их будем продавать, да менять на хлеб с квасом. Благодарите за это моего покойного опекуна, а Вашего театрального вдохновителя. Ха-ха! Спящая Царевна! О короне-то придется забыть, милочка.
– Я никуда с Вами не поеду, – беспомощно сопротивлялась молодая супруга, начиная понимать, что это все всерьез, и с Нижним вскоре, видимо, придется проститься.
– Поедете! Куда Вы денетесь? – муженек посмотрел на нее сбоку. – Вы вписаны в мой паспорт. Куда я – туда и Вы. Или в розыск подам, как на воровку.
Таня оцепенела.
***
Гарнизонная жизнь оказалась еще хуже представлений о ней. В первый же вечер Васенька закатил подобие повторной свадьбы – были званы все более-менее значимые тут личности. Дамы улыбались молодоженам, кавалеры похлопывали по плечу поручика, офицеры пили шампанское за здоровье Татьяны. Наутро к ней явилась супруга одного из бывших вчера в гостях офицеров. Таня как раз разбирала багаж. Гостья вынюхивала все вокруг своим свинячьим носиком, пахло от нее какой-то прокисшей сдобой, и Таня все никак не могла избавиться – ни от нее самой, ни от ее восторгов по поводу Таниных вещей: одежды, чемоданов, туфель, чулочек, салфеточек, флакончиков, вышивки, завивки, цвета кожи и так далее. К вечеру весь гарнизон обсуждал цвет и фасон Таниных панталон. Затем визит нанесла супруга полковника. Она презрительно осмотрела так вчера нахваливаемое «гнездышко молодых», повела скривленными губами и процедила сквозь зубы:
– Если ты, столичная подстилка, только глаз положишь на моего Вольдемара, то знай! Я тут царь и бог. Мне никакие законы не страшны. Муж покроет любое мое деяние! Так что только узнай я что! Только заметь!
– Вы бы сменили тон, сударыня! – Таня, обалдев от такого вступления и повышения своего статуса невесть с чего до уровня столичного, парировала: – Мне Ваш муж… Владимир, кажется? Да он мне ни в какой оборот не сдался! Я даже не помню, как он выглядит!
– Дура! – вскочила визитерша. – Муж – это Савелий Матвеич! Смотри! Узнаю про Вольдемара – кипятком плесну, не побоюсь!
Она, гордо держа голову, направилась к выходу, а там обернулась и с неподражаемой улыбкой произнесла:
– Со мной лучше дружить, милочка! – и ушла, хлопнув дверью.
После этого визита, комната несколько часов благоухала приторно-сладким одеколоном. Таня открыла окно проветрить. Тут же напротив собралась толпа зрителей – штук пять солдат подпрыгивали по очереди, пытаясь заглянуть внутрь комнаты. Потом подошли два офицера и, разогнав их выражениями, в которых Тане послышались откровенные матюки, безо всяких церемоний заняли вакантное место и подмигивали теперь молодой хозяйке, подкручивая усы. Таня захлопнула окошко и задернула занавески.
В обед она ждала мужа, а явился его начальник. Таня накануне мало кого успела запомнить, и пожилой полковник, видимо это понял.
– Разрешите представиться, внове, так сказать, – он кивнул на Танино предложение пройти и расположился основательно, сев спиной к окну. – Савелий Матвеевич, непосредственный, так сказать… Ваш муж состоит в моем подчинении, спешу доложить Вам, дорогая моя. Так что простите, это уж моих рук дело, что нынче он не явился к столу. Служба-с. Да-с! А Вы? Я хочу предупредить Вас, сударыня. Как бы это… Вы тут оглядитесь, так сказать… Не кидайтесь сразу во все тяжкие!
– Да как Вы смеете! – Татьяна разозлилась.
– Смею, деточка, смею, – устало проговорил полковник. – Уж у меня-то опыт! У-уууу! Особенно опасайтесь Мавродаки! Оплетет, опутает – и не заметите! Красив, да. Но ведь внешняя красота, милочка, это… Так сказать… Вам бы постоянного покровителя тут! Чтобы наставлял. Предостерегал. Если на то будет Ваша благосклонность, то… Так сказать, я Ваш покорный слуга… Не надо, деточка! Не спешите. Взбрыкнуть-то всегда успеете. Я ведь судьбу Вашего Васеньки вот где держу. Вот! – тихий полковник показал возмущенной Тане жилистый кулак. – Так что думайте. И не кидайтесь с головой в омут. Послушайте старика.
До вечера визитов больше не было, и Таня за ужином попыталась разузнать у мужа, кто тут кому и кем доводится. Хитросплетение взаимных интересов и подчинений что по службе, что по симпатиям, Тане с первого раза не далось. Когда же она упомянула о визитах, то Вася слушал с улыбкой, пока рассказ не дошел до полковницы. Тут он бросил ложку и престал жевать.
– Сама была? Ты не путаешь, Татьяна? – он аж побелел. – Ну, все!
– Что «все»? – Тане были смешны эти страсти. – Я только второй день тут.
– Значит, сразу невзлюбила, – озаботился не на шутку муж. – Ох, натерпимся мы теперь! Она мужем крутит, как желает. Мне и так нынче нагоняй был. И из отпуска я припоздал… Это мне раньше многое прощали, как я наследства ждал. А нынче я и долгов-то не раздал, так что… Терпят только. Ты уж, Таня, осторожней!
– Да что осторожней-то! – Таня и вправду не понимала, что за претензии к ней могут быть, она ведь, по своей воле, еще даже слова тут никому не сказала.
– Осторожней! – Василий снова принялся за еду. – Тут пред начальством надо и поклониться, если что. Ты тут гонор свой особо никому не показывай.
– Начальство – это полковник. Я уже поняла! – Таня изо всех сил хотела к тете, в свою спальню, к своим платьям, духам и попугаю.
– Полковник – да! – муж смотрел на нее, нахмурившись. – Но пуще того – полковница! Еще ротмистр. Этот, если, что не по нем, то поедом съест. И Мавродаки! Тот с языка не спустит, осрамит и еще масла подольет, пока гореть будет. И Тимофеич – старый хрыч! Говорят, он пару своих врагов попросту взял – и застрелил.
– Как застрелил? – Таня не понимала, всерьез говорит муженек, или мистифицирует ее. – На дуэли?
– Зачем на дуэли? – Васенька обгладывал курочку. – Одного в лесу нашли. Другого – под мостом.
***
Через пару дней перед окном молодоженов остановились три всадника. Таня уже разобрала все привезенные вещи, заставила прислугу перемыть все в доме, от скуки взялась читать. Делать было больше совершенно нечего. Местные дамы заполняли свой досуг сплетнями, интрижками, семейными скандалами и перемириями. Шла повседневная война, постороннему взгляду непонятная – со своими призами и поражениями. Таня в эту рекогносцировку не вписывалась.
Всадники гарцевали перед зашторенным окном, и Таня не могла даже перелистнуть страницу – смысл повествования ускользал от нее, она все время сбивалась, отвлекаясь на ржание взнузданных лошадей и хохот их хозяев. На другой день повторилось то же самое. В третий раз, Таню застали в момент, когда служанка вытряхивала коврики, а хозяйка от скуки наблюдала за этим с крыльца.
– Ну, наконец-то, мадам! – один из всадников отделился от группы и приблизился вплотную к штакетнику, остальные раскланялись издалека. – Вы испытываете наше терпение! Но такая женщина может позволить себе любые капризы!
Предупрежденная мужем, Таня не ринулась сгоряча в бой, как поступила бы неделей раньше, а решила прояснить положение наглеца в иерархии городка.
– Простите, мы представлены? – вежливо поинтересовалась она, вовсе не помня этого холеного смуглого лица.
– Никак нет! – офицер поднес два пальца к козырьку. – Был в дозоре в день вашего воцарения в нашем убогом поселении. Королева! Приветствую Вас стоя!
Он поставил коня на дыбы, чем вызвал свист и иные приветственные отзывы своих сопровождающих. На представление сбегались мальчишки. Всадник кивнул спутникам, один из них подъехал ближе.
– Приветствую Вас, Татьяна Осиповна, – этого Таня смутно припоминала. – Позвольте представить Вам нашего всеобщего друга, поэта, певца и заводилу – Владимир Мавродаки!
Первый всадник поклонился, второй ретировался.
– К Вашим услугам, мадам! Поедемте кататься?
Таня вновь обалдела от беспардонного хамства, но снова сдержалась.
– Непременно, но в другой раз. Мне надо посоветоваться с мужем, – она слегка обозначила поклон и поднялась в дом.
– С мужем? А-ха-ха! Достойная шутка, мадам!
– Ну, что, воротит нос? – отчетливо услышала она голос третьего офицера, зайдя в комнату.
– Ничего! Пообломаем! – на всю улицу вещал Мавродаки. – У Васечкиной жены, по-видимому период, когда идут краски, но ничего! Мы же можем обождать два-три дня, господа? От того она сегодня и не в духе! Уа-ха-ха!
– Значит, не успел еще обрюхатить ее наш барончик? Ха-ха-ха!
Голоса удалились.
«Боже! Какие пошляки!» – ужаснулась Таня и тут же села писать письмо отцу с просьбой о переводе мужа под его крыло.
Она пыталась лавировать еще с месяц, почти все время отсиживалась дома, одна. Ходила только на общие увеселения, в сопровождении мужа. Там все лицемерно улыбались друг другу, а на другой день за спиной перешептывались, втаптывая в грязь очередную мишень. Потом мирились, снова ссорились, жертвы менялись местами с тиранами, жизнь шла своим чередом. Таня не сумела найти себе здесь никакого интереса, ни с кем свести не то что дружбу, а и близкого знакомства. Она жила лишь ожиданием ответа отца-генерала. Терпела.
Мавродаки теперь на правах знакомого позволял себе являться к ним в дом в отсутствие Васечки, делал грязные намеки.
– Прошу Вас уйти, – в очередной раз настойчиво говорила Таня. – У нас с Вами не может быть никаких общих дел, приходите к мужу.
– Вы, Татьяна Осиповна, вроде умная баба! – ухмылялся Мавродаки.
– Я не «баба», – Татьянино терпение заканчивалось, всему был предел. – Я – жена офицера, Вашего товарища. Извольте покинуть наш дом. Или я вынуждена буду рассказать мужу о Вашем поведении.
– Ну-ну! – хлопнул смятыми перчатками по ладони гость и молча ушел.
Вечером муж пришел со службы понурый. Его отсылали с обозом, а все знают, какая это морока – осенние дороги.
– Когда ехать? – спросила Таня.
– Через неделю, – отвечал муж.
На следующий день, в клубе, он проигрался вдрызг! Вечером плакал, валялся в ногах у супруги, просил снять ее деньги со счета. Таня ничего не желала слушать, понимая, что других средств у нее в жизни вообще больше может не быть. Но Вася истерил, бегал с дуэльным пистолетом, то хотел застрелиться сам, то направлял дуло на жену. Таня пообещала подумать и дать ответ к его возвращению. Потом опомнилась, и спросила, а где его собственные наследные средства? Оказалось, что все уже спущено – на шампанское, на карты, на долги, на пыль в глаза и новую лошадь. Он сам – гол как сокол! Таня – его последняя надежда.
– А как Вы собираетесь жить дальше? – с ужасом спросила Таня. – На жалование? Впереди зима! А Вы даже не позволили мне взять у тетушки теплые вещи. Я еду с Вами!
– Куда? – пришел в разум муж.
– Да куда угодно! Довезете меня с обозом до ближайшей станции. Я еду в Нижний.
– Нет, – твердо отвечал Василий. – Мы завтра едем в уездный банк и там снимаем деньги. При оказии я сам заберу Ваши вещи в городе. Но Вы останетесь тут!
Накануне отъезда он снова играл. И снова проигрался. На этот раз полковнику. Уезжая, он смотрел на жену глазами побитой собаки и вместо прощания выдавил из себя:
– Была б ты поласковее с Савелием Матвеевичем в мое отсутствие. Глядишь и простил бы часть долга!
– Ты соображаешь, что ты мне сейчас предлагаешь?! – у Тани глаза стали совершенно круглыми. – Что ты говоришь! Ты! Мой муж!
– А! – махнул Василий рукой. – Рано или поздно… – и уехал.
Дневной почтой пришел ответ от отца. Он, как и всегда, сетовал на занятость, но обещал дочке принять все необходимые меры, как только выдастся свободная минутка. Он постарается уже к рождеству переговорить с губернским начальством, и, возможно, к будущему лету… Таня не дочитала. Она легла спать, встала с петухами и, собрав последние свои серьги и кольца, ушла из городка пешком. Попросту сбежала.
Спустя месяц, она объявилась на пороге тетушкиного особняка. Та ахнула, когда ей доложили, и сама бросилась вниз по парадной лестнице, навстречу.
– Как? Где ты была это время? – тетка поила Таню чаем и всматривалась в ее лицо.
– Не скажу, тетушка. Скажу лишь, что я на грани, на самом кончике тропинки! – Таня подняла глаза на единственного человека, который в жизни о ней заботился. – Скажите только, могу я рассчитывать на Ваше покровительство? Или уж мне пропадать? Как скажете.
– Да что ж я могу, Таня? Ну, денег тебе дам. Ну, бери из дома что хочешь, – она вздохнула. – Но он же в полицию заявил. Муженек-то твой! Были уж они тут! Здесь тебе никак нельзя. Что ж я теперь могу?
Таня как-то покорно улыбнулась, что было вовсе на нее не похоже. Переночевала в своей спальне. Ушла снова спозаранку, сама, никто не видел когда. Из дома ничего не взяла, пропало только пресс-папье с ее стола.
***
После спокойной и радостной полосы в жизни Лизы снова наступила хмарь. Погода за окном вторила настроению – зарядили серые осенние дожди, сменяющиеся днями заморозков и редкого еще снега. Деревья стояли голыми, город нахмурился, сделался холодным и мрачным. Лиза знала, что все это изменится, как только улицы укроет белым покрывалом, надо лишь переждать. Пришло письмо от Нины, но, то ли от нынешнего душевного настроя, то ли еще от чего, но вызвало оно у Лизы ощущение тревоги.
«Кутаисская губерния, п. Квирилы,
Дом князя Чиатурия
Здравствуй, моя дорогая Лиза!
Получила твое письмо, очень рада за твоего батюшку и ту женщину, Наталью Гавриловну, что видела тогда у вас. Мы встретились с ней всего раз, но я заметила, как заботится она о твоем отце. Я рада, Лиза, что судьба дарит мне право оказываться рядом с вами в такие моменты, когда происходит что-то важное. Поздравь их от меня! Я много думаю о вас в эти дни. Почему не отвечает мне Лида? Надеюсь, она здорова? Передай ей поклон от меня, когда будешь с ней видеться. Обещай. Всенепременно! Я почему-то волнуюсь за вас, мои подружки. Как-то вы там? Так далеко!
Я обещала рассказать тебе о своей поездке к жениху. Вот, рассказываю. Сначала мы приехали сюда, в наше родовое имение. Папа привел все в порядок, я многое вспомнила, особенно окрестные места, где любила гулять в детстве. Я была слишком мала, чтобы запомнить людей, но я теперь знакомлюсь с ними заново. Очень бедно живут в нашей местности, Лиза. Или просто я привыкла к иному и мне это лишь кажется. Мне вообще, оказалось, нужно ко многому привыкать здесь, на родине. Многое мне непонятно, забыто мной. Я стараюсь изо всех сил, Лиза, но и многого принять моей душе пока не получается. Так вот, о смотринах.
Мы приехали в Мцхету, переночевали в Душети. Это совсем не похоже на Тифлис, Лизонька. Уж тем более не похоже на нашу жизнь в Институте и в нашем городе. Папа стал здесь совсем иным, мама молчаливой и, да, я все не могла подобрать нужного слова – покорной. Моя мама – покорной! Лиза, знаешь, временами это пугает. А когда я спрашиваю об этом вслух, она только смотрит на отца и молчит. Выяснилось, что многого тут нельзя. Например, нельзя, чтобы мои родители сопровождали меня в дом жениха, эту обязанность взял на себя князь Кинулидзе, который и устроил этот брак. По дороге мы с ним встретили группу всадников, они лишь на миг притормозили около нас своих коней, чтобы приветствовать князя. Меня они будто не замечали. Когда мы разъехались, князь Амирани не сдержался и сказал мне, что среди них был мой жених. Лиза! Я даже не рассмотрела его толком! Оказывается, мне с ним видеться до свадьбы тоже нельзя.
Приехав в его дом, я и вовсе растерялась. Нас приняли торжественно, но по всем традициям, которые я плохо знаю и помню, поэтому я все время боялась сделать что-нибудь не так. Меня усадили напротив пожилой женщины и нескольких мужчин. Кто они были, я не поняла, потому что точно знаю, что отца моего жениха нет в живых. Девушки моего возраста, заходя в комнату, даже не присаживались, и лишь одна из них, одетая вся в черное платье, прислуживала старшим. Я тогда приняла ее за служанку, а хозяйке дома стала говорить что-то похожее на заготовленное приветствие, та молча выслушала меня. Я попыталась задавать вопросы, мне не отвечали. Это длилось недолго. Все встали, и я услышала лишь одну фразу, которую мать моего жениха произнесла уходя: «Красивая девочка!»
Я пребывала в очень подавленном состоянии, но это мало кто заметил, даже наоборот, стали смотреть одобрительно. Видимо, я, наконец, выбрала правильную манеру поведения – глаза вниз и молчать. А я все думала, неужели я так плохо говорю на родном языке, что меня здесь не понимают! Когда я шла к выходу, ту девушку в черном послали провожать меня. Князя не было в комнатах, он только привез меня и, поздоровавшись с хозяйкой, исчез. Я так рада, что он не видел моего позора! Так вот, та девушка, пока мы шли одни по дому, вдруг обратилась ко мне по-русски. Она хотела утешить меня и объяснила, что никто из старших не будет со мной разговаривать, пока я не член семьи. Я удивилась, и спросила: «Что, до самой свадьбы я так и не смогу узнать ничего о моей будущей семье? Мне же даже на вопросы не отвечают!» Она улыбнулась и сказала, что я все могу узнать у нее или у других родственников, которые младше меня. А мать мужа заговорит с невесткой не в день свадьбы, а только после рождения первого ребенка. Не найдя в ее словах никакого успокоения, я лишь спросила: «Значит, ты тоже член семьи и моя будущая родственница?» Оказалось, что она родная сестра моего жениха!
Лиза! Я наверно переоценила свои силы, давая согласие папе. У меня еще есть время. Мы вернулись в наше поместье и сидим тут, никуда не выезжаем, ждем. Если князь Амирани привезет серебряные кольца моим родителям и платок мне, то это будет означать, что свадьба состоится. Кольца – я узнала – это знак того, что семьи теперь породнились. «А платок?» – спросила я. Платок – это для того, чтобы до свадьбы никто не видел лица невесты.
Я ужаснулась! Я знаю, что здесь иногда проходит несколько месяцев, а то и лет до того момента, когда все считается готовым к венчанию. Я спросила: «Папа, ты считаешь, правильным было дать мне европейское образование, чтобы потом укрыть платком?» Он несколько раз сжал зубы, я видела, как ходили его желваки, потом ответил: «Я думаю, Нина, это всего лишь дань традиции. Никакого платка не надо. Достаточно, если ты просто не будешь никуда выходить и ни с кем видеться». Я не верила своим ушам: «Ты считаешь, что этого достаточно, папа?» Он помолчал и ответил: «Мы дали слово, Нина!» Я, пересилив себя, спросила: «А нельзя никак отказаться?» Отец отвечал мне: «Нельзя! Иначе – кровная месть» Я усмехнулась: «А может такое быть, папа, что откажутся от меня?» Он опустил взгляд, помолчал, а потом поднял глаза на меня и ответил: «Тогда будет кровная месть с нашей стороны». Я привыкну, Лиза. Я постараюсь.
Лиза! Моя родина, моя Грузия – необыкновенной красоты сторона! Когда мы были в поездке, я ходила по склонам, слушала горные ручьи. Как они шумят своими струями, когда перетекают через камни! Такого звука нет больше нигде в мире, он ни на что не похож. Его не с чем сравнить! Мне нравилось подходить к самому берегу, где брызги долетали до меня, и стоять там долго-долго, пока не намокнут юбки моего платья. И здесь, дома – пока у меня еще есть время, я много гуляю. Я люблю подниматься на гору и смотреть с нее вниз, в ущелье.
Лиза! Я очень люблю тебя, моя Лиза. Прощай и не сердись на свою Нину, если я когда-нибудь тебя чем-то задела. Счастья тебе и твоим близким.
Княжна Нино Чиатурия».
«Боже мой!» – подумала Лиза и отложила письмо. Нина! Пылкая Нина, борец за справедливость и правду, неистовая максималистка – с закрытым лицом, взаперти, молча. Нет, что-то не так во всех этих традициях… Как соскучилась она по подруге, как хочет наговориться с ней всласть, расспросить, посоветоваться. А как там ей, когда вовсе не с кем ни поделиться, ни поплакаться? Подруги… Вот она пишет про Лиду. В тот раз Лида поспела как раз к Нининому письму, а нынче… Какие уж тут поклоны! Как написать об этом Нине? Да… Тяжело без подруг, все одной, да одной.
Нет! Лиза не считала свою нынешнюю жизнь одинокой – она радовалась каждому дню в своих заботах о любимой читальне, в ежедневных трудах, чтобы обустроить все так, как хотелось и виделось ей в мечтах. Радовалась людям, уже приходящим к ней. Радовалась каждой принесенной ими книге! Радовалась, что успела перечитать столько за прошедший год, и за свою жизнь, и что может обсуждать, спорить, помня почти каждую прочитанную книгу, имеет возможность обмениваться своей радостью и знаниями с другими. Книги были ее истинными друзьями.
Но не было рядом ни одного человека, кто был бы близок ей всей душой, всем существом. С кем можно было бы делиться ежедневными событиями, сомнениями, своими решениями и ошибками. Да, была няня. Да, приезжали папа с Натальей Гавриловной. Да, заходил Митя. Но все это было – не то. Вот в Институте у нее были подруги! Подруги – с ними можно было говорить о пустяках. А как же! Пустяки – это такая важная вещь, из них состоит день, они наполняют жизнь, они и есть – эта жизнь, между ее значительными вехами. Сам путь к этим вехам соткан из них. И с кем делить все это теперь Лизе? Эх…
***
Лиза сидела в гостиной Большого дома, вошел лакей. Теперь дом был полон слуг, возвращалась прежняя жизнь. Лиза улыбнулась: «Как странно мы устроены, – подумала она. – Именно тогда, когда дом наполнился людьми, и почти невозможно стало в нем уединиться, я сижу тут и думаю об одиночестве!»
– Что там? – спросила она.
– Спрашивают Вас, барышня.
– Кто?
– Да тоже барышня, – слуга посмотрел зачем-то вверх. – Такая… Рослая! С чемоданом.
– Представилась она? – Лиза не могла припомнить никого из высоких соратниц по делам читальной избы.
– Говорит – дочь заводчика Мимозова. Прикажете пустить?
– Боже мой! – Лиза вскочила. – Да это же Ариша! Как же она тут? Одна? С чемоданом, говоришь? Конечно, проси. Или нет, я сама!
Лиза выбежала в вестибюль к входным дверям. На том месте, где когда-то рыдала Аленка Вересаева, теперь стояла Арина Мимозова собственной персоной – похудевшая, в короткой шубке. У ног ее, действительно, стоял трогательный чемоданчик, он никак не подходил своей хозяйке.
– Арина! Ты? – Лиза подошла к ней и посмотрела в глаза. – Что-то случилось?
Арина протянула ей навстречу руки, и они обнялись.
– Ах, постой! Я вся холодная! – отстранилась Арина. – В общем так. Три дня назад папа был арестован. Все наше имущество и счета тоже. Лев Александрович приютил девочек. Мама в тот же день родила. Я теперь – старшая в семье, мне надо о них заботиться.
Они молча стояли и смотрели друг на друга, потом Арина снова обняла Лизу и все-таки расплакалась. Видимо, место тут было такое. Лиза не утешала ее, зная, как это прибавляет жару огню. Потом сказала мягко: «Пойдем!»
Они сидели в столовой, принесли самовар. Арина отогревалась и рассказывала о московских событиях. Савву Борисовича обвинили в растрате государственных средств и в намеренном нанесении ущерба будущему строительству Амурской железной дороги. В вину ему ставилось многое, основанием для этого следствие подвело тот факт, что он только что в спешке свернул все дела в Нижнем Новгороде.
– Значит, не хотел, чтобы его имя могли связать с оставшимися здесь сообщниками, так говорит следователь, – Арина всхлипнула.
– Какими сообщниками! – новости никак не укладывались у Лизы в голове. – Это же Савва Борисович! У нас его весь город знает!
– Ну, вот ваш город знает, а московскому дознанию это без разницы, – Арина протянула опустевшую чашку. – Можно мне еще? Я так продрогла!
– Господи! Да ты, наверно, голодная! – Лиза позвонила. – Егоровну позовите.
– Я с поезда сразу к вам, – Арина отхлебнула чаю, обожглась. – Ой! Я решила сразу – поеду! Лев Александрович уговаривал его подождать, ну, а кто ж тогда с девочками остался бы?
– А ты сюда для чего? – не понимала пока Лиза.
– Папа же на меня переписал завод, – объясняла Арина. – Я и решила. Надо быть тут. Поговорить с управляющими, узнать перспективы. Банковским счетом я не могу воспользоваться, я еще несовершеннолетняя, как и ты. Наличных в доме было не так, что бы и много. Хватит на первое время, но не так, чтобы надолго. А расходы предстоят, и еще какие! Дело папино, мамино здоровье, обучение девочек. Я, Лиза, честно, пока не знаю – как оно все будет дальше!
– А ты так и не сказала, кто родился?
Тут Лиза оглянулась на открывшуюся дверь, вошла няня.
– Ах, ты ж, милая моя! – Егоровна, увидев Арину Мимозову, всплеснула руками. – С дороги вот-вот, только-только? Ну! Давайте шубку-то заберу. Лизонька! Принести чего?
– Давай, Егоровна, чего-нибудь горячего! До ужина не дотерпим. Арина проголодалась и замерзла.
– Так может ванную сперва? – няня собирала с пола Аринины ботиночки, с козетки – шарф и перчатки. – Как Вы, барышня? Арина Саввишна, проводить Вас?
– Я… Я сейчас… Я с Лизой, – Арина вопросительно смотрела на Лизу.
– Ты иди, няня, мы сами. Вели ту комнату приготовить.
Няня вышла.
– Правда? – Арина посмотрела на Лизу с надеждой. – Можно я у вас переночую? Я в городе ничего пока не знаю, но завтра разберусь. Здешний дом тоже опечатан. Я никак не могу привыкнуть!
– А Егоровну ты тоже не помнишь? Что ты так при ней, она же со всей душой?
– Прости, Лиза. Я обязательно привыкну, – Арина грела ладони о бока чашки. – Я просто не умею откровенничать с прислугой.
– Это няня моя! Не прислуга.
– Лизонька, прости! Вот именно, что твоя. Я не могу пока. Но я буду стараться, – Арина прикусила губу. – Не знаешь, какие гостиницы в городе приличные?
– Даже не думай! – Лиза стала распоряжаться как взрослая. – Жить ты будешь здесь, это решено. Денег не предлагаю, знаю – не возьмешь. Но давай подумаем, что можно сделать помимо денег? Что еще нужно? Говори.
– Нужно. Нужно денег, Лиза. Адвокатов нужно. Хороших! Московских.
– Это ясно. Что еще? Наверно, жилье в Москве?
– Да, хорошо бы. Льва Александровича стеснять долго неудобно. Маме будет нужна отдельная спальня. И детская.
– Детская! – воскликнула Лиза. – Так кто все-таки?
– Девочка, – улыбнулась Арина. – Сестренка.
– Ждали-то братика, наверно? – Лиза представила младенчика и тоже расплылась в улыбке. – Имя-то для девочки хоть придумали?
– Да что тут придумывать, – Арина вздохнула. – После этого лета и думать-то нечего. Ты же знаешь, что у нас приключилось?
– Аннушка? – догадалась Лиза.
– Да. Назвали Анной. Так что хоть небольшую бы квартирку – им с мамой, Шурке да мне, когда наезжать буду. Аглаю к себе тетушка приглашает, та, у которой Анфиса летом гостила. Уже телеграфировала. А Анфисе и Насте учиться нужно, нельзя прерывать. Пансион я им временно нашла, там они сейчас. Но… нехорошо там, Лизонька. Девочки все какие-то… Как курицы. Только танцы, да французский. Мама из Москвы не уедет, раз папа там. А я? Я тут пока обоснуюсь…
– Что, Ариша? – Лиза посмотрела на замолчавшую внезапно подругу.
– Ты помнишь гадалку, Лиза? Ты еще тогда не пошла к ней, а мы…
– Помню, – тихо ответила Лиза. – Ты это к чему?
– Нельзя испытывать судьбу, – задумчиво произнесла Арина, а после усмехнулась. – А хочешь знать, что я тогда у нее спрашивала?
– Если только хочешь ты.
– Я спрашивала, настанет ли то время, когда я сама, женщина, девушка, смогу владеть каким-либо делом или производством. Как папа. Без него.
– И что?
– И гадалка мне ответила, что да. Причем скоро! А я радовалась… Вот уж, поистине: «Бойтесь своих желаний!»
Лиза о своем предсказании промолчала.
***
Приехал из Лугового Полетаев. Занялся Ариниными делами.
– У Вас будут неприятности, Андрей Григорьевич, – горестно улыбалась Арина. – Ваш-то пай папа за собой оставил! Ну, значит, Вы – те сообщники и есть.
– Прекрати, девочка, все прояснится со временем. А за меня не беспокойся – у меня все дела чистые, пусть себе проверяют. Жаль, что прибылью Саввиной воспользоваться нельзя будет до окончания дела. Ты хорошо подумала? Точно денег не возьмешь? А? Взаймы?
– Нет, Андрей Григорьевич, – твердо отвечала Арина. – Спасибо. Не возьму. Да Вы бы и сами не взяли! Я же не знаю, как жизнь теперь сложится, и будет ли чем отдавать? Вы и так много нам помогаете. Я говорила на заводе с управляющим, и с главным инженером – они считают, что можно будет выкроить и взять вперед некую сумму. Это же Вы постарались, да? Хватит на адвокатов, может еще и девочкам на учителей останется.
– Вези их сюда!
– Что? Как это? – Арина поглядела недоуменно на Лизу.
– Куда, папа, к нам? – Лиза готова была принять хоть все семейство.
– В Институт! Тебя, дочь, там еще помнят. Договоримся.
– Но это же дорого! Нет, Андрей Григорьевич, мы не можем, – Арина качала головой, хотя глаза у нее загорелись.
– Я теперь в опекунском совете, – продолжал выкладывать свои доводы Полетаев. – Савву и там все знают и помнят. Хорошо знают! За двоих не ручаюсь, но одной твоей сестре мы точно стипендию выхлопочем. Уж скольким людям ваш батюшка помог! И на вторую где-нибудь наскребем. А это – и пансион, и у тебя руки развязаны, и матери твоей за них спокойствие. Вези!
Все устроилось. Арина теперь жила вместе с Лизой. Вот и подружка появилась! Следствие по делу Мимозова шло, связывая оба города еще и этой горестной нитью – пропавшие деньги действительно, обманным путем кто-то снял именно в отделении Нижнего Новгорода. Савва доказывал, что ни одной копейки впустую не потратил, что, наоборот, искал выгоды для строительства, потому и оплачивал вперед подряды по прошлогодним ценам. Что своих средств он вложил не меньше, чем конфессионных, но ему не верили, считали это за уловку. Большим, чем сам арест, ударом для Саввы стало именно недоверие. Он впадал в тоску, ломался душевно, но, потом, вновь собирал силы, и кидался в борьбу за свое честное имя, еще с большим усердием. Конца и края этому не предвиделось.
Накликанные Ариной неприятности Полетаева не обошли – его вызвали к следователю, но тут, в Нижнем, в Москву пока не требовали. Тот говорил с председателем Товарищества строгим голосом, пока Андрей Григорьевич из несвязанных друг с другом вопросов не понял, что тот ведет к своей какой-то определенной цели. Но какой именно догадаться не мог. Тогда он спросил открыто:
– Господин следователь, не ходите кругами. Хотите узнать нечто конкретное – спрашивайте.
– Хорошо, господин Полетаев, – уставший и сам от попыток подловить допрашиваемого седого, благообразного и, что уж скрывать, приятного ему господина, следователь сменил тон на откровенную доверительность. – Вот ответьте следствию, каким образом Ваше благосостояние так резко изменилось к лучшему буквально в считанные недели? Этого ведь скрыть не получится, господин хороший!
– А я и не скрываю, – Полетаев описал всю ситуацию с Выставкой и ее результатами. – Можете проверить, все это зафиксировано в договорах и иных документах. Учет у меня ведется аккуратно.
– Да уже проверили, не сомневайтесь, – вздохнул следователь. – И какие отношения Вас связывают с подозреваемым господином Мимозовым, кроме паевых? Личные, так сказать?
– У нас хорошие, доверительные отношения, – прямо отвечал Полетаев.
– Можно ли назвать их дружескими? Близкими? – настаивал допросчик.
– Мы между собой этого ни разу не обсуждали, – Полетаев смотрел следователю в глаза, видно было, что он откровенен и не ищет подвохов. – Я не назвал бы их такими уж близкими, но в дом мой он вхож, симпатия у нас, надеюсь, взаимная. А про дружбу – это я думаю, господин следователь, у обеих сторон поинтересоваться бы неплохо? Не так ли? Я, лично за себя могу ответить, что был бы счастлив иметь в числе друзей господина Мимозова.
– Вот так откровенно? – следователь откинулся на спинку стула, снял очки и, прищурившись, всматривался в допрашиваемого. – Не боитесь?
– Чего, простите? – приподнял брови Андрей Григорьевич.
– Мимозов нынче под следствием.
– Но это же когда-то прояснится, милостивый государь, – Полетаев был спокоен. – Что ж мне вилять-то в разные стороны? Не по возрасту уже!
– А вот еще, говорят, Вы недавно вступили в брак? – как бы только сейчас припомнил следователь, услышав про возраст, и одной рукой стал перекладывать какие-то бумаги. – Это так, господин Полетаев?
– Так, так, – Полетаев нахмурился. – К чему это тут?
– К тому, о чем и ведем беседу,– следователь прикусил дужку очков. – Например, ответьте, присутствовал ли Ваш близкий друг Мимозов на вашем венчании? Все-таки такое событие!
– Вы невнимательно меня слушали, милостивый государь, – Полетаев понимал, что его хотят нарочно вывести из состояния равновесия и не позволял себе этого. – Мы хорошие знакомые. О близкой дружбе – это Ваше собственное преувеличение. Нет, не был. Савва Борисович за несколько дней до нашей свадьбы отбыл по своим делам в Москву. Да и венчались мы не в городе, поэтому приглашенных было мало – это не всем, знаете ли, удобно, ехать за город.
– А вот не подскажете ли тогда происхождение этой записки? – следователь достал из одной из многочисленных папок на столе бумажный лист и протянул его Полетаеву.
– «Андрею в подарок при первой оказии», – прочел на нем Андрей Григорьевич. – Что это? Я не понимаю. Рука Саввы, да.
– Нашли при обыске нижегородского особняка подозреваемого. Хранилось с важными бумагами. Было приложено к данному документу, – следователь снова полез в папки. – И да! Раз уж все открылось, то уполномочен предать лично Вам в руки. Дарственные под юрисдикцию следствия не попадают. Да и приобретено еще летом, до поручения господину Мимозову хлопот по железнодорожной конфессии.
Прочитав документ о дарении ему имения: особняка, прилегающей к нему земли и подсобных строений в двух верстах от села Лугового, Полетаев не смог сдержать слез. Следователь отпустил его, так ничего конкретного и не предъявив.
***
Предстояли душевные испытания и Льву Александровичу. Ни о каком строительстве особняка, конечно, речь уже не шла, все активы Мимозова были заморожены на время следствия. Конкурсные работы по проекту городского общественного музея искусств были сданы, Лева страдал в Москве от безделья. От нечего делать вернулся он к разработкам собственного дома, да увлекся. Тут подоспели результаты состязания. Как ни уверен в себе был Борцов, а победа стала для него приятной неожиданностью. Он прямо из Конкурсной комиссии полетел на квартиру к Февронии – делиться радостью.
– Все! Я достиг своих мечтаний. Сбылось! Буду строить музей в самой Москве! Ничего не желаю более!
– Ты, Левушка, заслуживаешь успеха, – сказала она. – Но ты всегда идешь к нему как на битву! И я хочу за тебя радоваться. Но мне иногда кажется, что ты, не совсем то принимаешь за успех… Да и относишься к нему… Как в последний раз! Прошу тебя, послушай женщину. Хотя Савва тебе сказал бы то же самое – не складывай все яйца в одну корзину. Не ставь все, что есть на одну карту! Всегда должно быть что-то, кроме конкретного дела, ставки, цели. То, ради чего и оно, и все вообще. Слушай себя, Левушка. Не гонись ты так оголтело за этой удачей! Относись ко всему спокойней. Как есть, так и есть, не оценивай по высшему разряду.
– Это предостережение? – улыбнулся победитель.
– Это я, чтобы сбить твою эйфорию. Любя, Левушка! Мы тебя сто лет знаем, тебе с высоты падать больнее будет. Подожди. Торжествовать будем, когда первые посетители в залы войдут. Пока поубавь восторги, у тебя впереди еще всего столько – и работы, и радостей, и разочарований! Жизни, Левушка.
Мудрая Феврония оказалась права. Комиссия, присудившая проекту Борцова первую премию, от его услуг в строительстве отказалась полностью, хотя заранее было оговорено совершенно противоположное. Мотивировали это тем, что претендент не имеет академического образования, как будто это не было известно заранее. Лева был почти раздавлен. Феврония поддерживала его, как могла. Успокаивало одно – возглавить стройку назначили Петухова, ему Лева доверял – этот хотя бы не испортит! Начались работы по возведению. Лев Александрович не мог находиться в одном городе с отобранным у него проектом, запрещал себе, но все равно украдкой ездил на площадку, смотрел. Нервное его состояние было на грани болезни.
– Уезжай, Лева! – говорила ему Феврония. – У нас все налажено, мы справимся. Нечего тебе тут делать. Уезжай из Москвы.
– Куда? – качал головой незадачливый архитектор. – У меня и нет никого, кроме вас. Нигде.
– А вот и поезжай, хоть в Нижний. Аришу навестишь. Девочек.
Лева снова качал головой. Тут, как нельзя кстати, пришел запрос на него из Киева. Там были в восторге от проекта музея и желали его адаптации под местные условия. Звали для этих целей автора. Лева идеей этой загорелся, вспыхнул. Снова настала очередь Февронии качать головой.
– Ну, не может же мне все время не везти! – сказал ей перед отъездом Лев Александрович.
– Храни тебя Господь! – вслед ему прошептала Феврония Мимозова.
Из Киева Лев Александрович возвращался под Рождество. Решил поехать прежде в Нижний, а не в Москву. По письмам Февронии он знал, что дело движется медленно, что особых изменений в положении Саввы пока не происходит, что сама она, конечно же, не сможет с младенцем выбраться к старшим дочерям даже на праздник. И он, накупив подарков, прибыл в город, где оставил свои надежды прошлой осенью.
Любовь его к Лизе переросла в некую тянущую тоску. Он все еще помнил о ней, думал часто, но приписывал эту ипохондрию всем своим неудачам последних месяцев, не отдавая себе отчета в том, что все они и начались как раз после того, как он покинул этот город, не добившись ясности в своих чувствах.
Он знал, где теперь проживает Арина, и предвидел встречу. Но не ждал от нее ничего хорошего. Борцов теперь следовал совету Февронии и, сдерживая свой характер, пытался хранить душевное равновесие, не предвкушая ничего заранее, не впадая в восторги и ожидания. При его темпераменте это удавалось ему с трудом, и он часто скатывался в состояние почти что безразличия, что никак его дел не улучшало. В общем и целом говоря, сошел он с поезда в Нижнем Новгороде в настроении далеком от предпраздничных приготовлений.
Старшие Полетаевы должны были прибыть в город под самый праздник, Лиза распоряжалась всем сама. В зале уже нарядили огромную елку, по всему дому пахло хвоей и почему-то еще корицей. Арина расспрашивала Льва Александровича о его поездке, он отвечал кратко. Из его ответов девушки поняли, что и там что-то не задалось, поэтому расспрашивать перестали. Поблагодарили за подарки. Пили чай. Разговор как-то не клеился. Вдруг, что-то вспомнив, Арина встрепенулась, и начала быстро собираться куда-то.
– Простите! Я же совсем забыла, что мне нужно на завод! – она кликнула одеваться, пришла девушка, что служила горничной у них обеих с Лизой.
– Какой завод, Ариша? – Лиза недоумевала. – Ты ничего днем не говорила. Уже смеркается!
– Вот мне и надо успеть дотемна, – суетилась подруга. – Простите, Лев Александрович, что так Вас оставляю! Я уже заранее обещала. Нам надо… Это из-за подарков для детей рабочих. Завтра уж никого не соберешь! Надо непременно сегодня!
– Ну, что Вы, Арина! Раз надо…, – и гость тоже встал из-за стола, явно собираясь уходить.
– Вы же дождетесь меня обратно? – Арина уже убегала. – Я недолго. А то мы еще ни о чем толком не поговорили.
– Ну, хорошо, – нерешительно отвечал Борцов, присаживаясь обратно за стол.
Арина выбежала во двор и постучалась во флигель прислуги.
– Егоровна! – она впервые позволила себе подобное обращение. – Егоровна! Не пускай никого в Большой дом.
– Что это Вы, барышня? – няня все еще обижалась на Арину за ее холодность к ней.
– Вели Кузьме, чтобы плед взял потеплее! – у Арины настроение было восторженным, а говорила она заговорщицким шепотом. – Пусть покатает меня по городу часика два.
– Что это Вы затеяли, Арина Саввишна? – Егоровна начала подозревать, что все это неспроста.
– Господин архитектор приехал же! – Арина всплеснула руками от такого непонимания. – Ну! Ну, пусть поговорят уже, наконец!
– Ах, ты, батюшки! – запричитала Егоровна. – Езжай, милая! Сама на часах встану! Грудью все ходы заслоню! Никто мимо меня не прошмыгнет! Езжай, хорошая моя!
Лев Александрович и Лиза остались вдвоем.
***
– Как Ваши дела, Лиза? – спросил Борцов после долгой паузы.
– Спасибо, все хорошо, – Лиза отвечала вежливо, совершенно не думая сейчас о том, что именно она говорит.
Они снова замолчали. Лиза слышала звон ложечки о стенки чашки Льва Александровича и мысль в ее голове была сейчас только одна: «Вот сейчас он допьет чай, встанет и уйдет – теперь уже навсегда. Я не вынесу этого!» Это было так неожиданно для нее самой, никаких таких мыслей до этого ей не приходило! Да, она вспоминала про Льва Александровича, вспоминала часто, даже что-то, кажется, рассказывала про него Арине… Но, только увидев его вновь, она поняла, как сильно ей не хватало его общества все эти месяцы. Что она скучала. Что она безумно рада его видеть. Что она дышать не сможет, когда он уедет. И она первая подняла на него глаза. Равномерный звон ложечки затих и она, громко звякнув о блюдце, так и осталась лежать на нем.
– Что Вы, Лиза? – Лев Александрович увидел глаза Лизы – они до краев наполнились слезами, которые не проливались, а лишь дрожали в отблесках лампы.
– Вы уедете? – Лиза все-таки сморгнула, и слезы рухнули вниз по щекам. – Я умру, когда Вы уедете!
– Господи, Лиза!
Лев Александрович и не помнил, как он сорвался с места и оказался у ее ног. Он обнял сидящую Лизу, и она теперь судорожно гладила его по жестким волосам, зарываясь в них пальцами.
– Не уезжайте, – чуть слышно проговорила она.
– Господи, Лиза! – Лев Александрович уткнулся ей куда-то в колени лицом и сам, кажется, готов был разрыдаться. – Да скажите только слово! Да я во дворе у Вас жить стану! Да я умру тут около Вас! Да я! Я всю жизнь вам отдам! Только скажите!
– Ну вот – я же уже и сказала, – Лиза смогла улыбнуться сквозь слезы.
Лев Александрович посмотрел ей в лицо.
– Я правильно понял Вас, Лиза? Вы согласны выйти за меня?
– Если Вы этого хотите, – Лиза задержала дыхание.
Лев Александрович встал с колен и сел на соседний с Лизой стул, они все равно были близко-близко. Он взял ее руки в свои.
– Я хочу, Лиза! Я ничего так сильно не хочу в жизни… – начал было он с экзальтацией в голосе, но вспомнил Февронию, осекся и сказал уже очень спокойно и просто: – Я был бы просто счастлив, Лиза. Я люблю Вас.
– Ох! – Лиза смутилась и хотела спрятать свое заплаканное лицо, но тут же отняла ладони, и одной из них прикрыла глаза Льва Александровича. – Меня? Меня ли? Не мое незабудковое платье?
Борцов отрицательно мотал головой и блаженно улыбался, не отнимая ее руки.
– Тогда скажите, в чем я одета сегодня? – в голосе Лизы прорезались игривые нотки. – Ну! Вспоминайте. И не подглядывайте!
– Вы сегодня, – начал было Лева, но тут понял, что он не помнит. – Вы, Лиза… Вы в чем-то сером. Нет! В голубом. Или в золотистом… В чем-то одного тона, но я не могу сказать точно. Я наказан за невнимательность? Вы теперь заберете свое слово назад?
– Нет, – серьезно отвечала Лиза. – Вот теперь точно не заберу. Теперь я верю, что Вы смотрели на меня, а не на мое одеяние. Вы, Лев Александрович, может, и считаете меня пустой куклой, но это не так. И я…
– Господи, Лиза! – прервал новоиспеченный жених, отлепил, наконец, ее ладонь от своего лица и говорил теперь, глядя Лизе в глаза. – Да что Вас заставило думать такие глупости! Умней, серьезней, интересней девушки я не встречал! Вы! Вы такая…
– Да Вы и заставили, – чуть обиженно сказала Лиза. – Я столько раз мысленно переговорила тот наш осенний разговор во флигеле! Столько Вам ответов придумала. Вы не представляете!
– А Вы перескажите мне их все сейчас! – счастливо рассмеялся Борцов и прижал Лизину ладонь к губам.
***
– Ну, рассказывайте! Рассказывайте, Лиза! Как Вы живете? – когда самое главное было сказано, выяснено, разговор потек сам собой, нынешние вопросы Льва Александровича были вовсе не похожи на те, что напряженно звучали тут всего получасом раньше. – Я хочу знать о Вас все!
– Хорошо. Правда, хорошо! – Лиза светилась от счастья. – Я с осени занимаюсь общественной читальней. Все идет гораздо медленнее, чем я думала, но это так интересно! В найденном здании приходится многое переделывать, даже перестраивать, от того все задержки. Но к весне, думаю, откроемся! Знаете, у меня даже архитектурные планы есть на бумаге. Хотите, покажу?
– Конечно, Лиза, показывайте! – Лев Александрович глядел не нее во все глаза и не мог еще поверить до конца, что все это всерьез, не во сне.
– Тогда пойдемте в кабинет.
– О! У Вас теперь и свой кабинет, Лиза? – Лев Александрович восхищенно покачал головой.
– А Вы не смейтесь! – Лиза вела его по коридору.
– Что Вы! Я не смею! – Лев Александрович был счастлив уже просто от того, что она вела его, держа за руку.
– Вот, – Лиза разложила на столе какие-то чертежи. – А как Ваши дела? – осторожно спросила она, когда Борцов углубился в созерцание.
– Да вот, еду обратно в Москву, – Лев Александрович не поднимал глаз от бумаг. – Верней – думал, что еду туда. Теперь не знаю.
– Говорите мне всю правду, Лев Александрович, – велела Лиза. – Мы теперь все-все должны друг другу рассказывать. Без утайки! Ведь так? Вы согласны?
– Да, Лиза, – Борцов вздохнул и привычным жестом бросил на чертежи карандаш, что держал в руках до этого. – Я буду привыкать. Простите меня, но я был так много один последнее время, что отвык откровенничать. Но Вы правы! Теперь между нами возможно только полное доверие. Я буду стараться.
– Так что приключилось там? – настойчиво продолжала Лиза, не давая ему увильнуть. – Там, в Киеве?
– А в Киеве, Лиза, было почти то же самое, что в Москве. Не дали мне строить по собственному проекту!
– Как так? – Лиза дала понять, что разговор будет долгим и предложила Льву Александровичу жестом садиться. – Сами позвали, а потом сами отказали? Отчего?
– Ах, Лиза! – Борцов нахмурился. – Это все неинтересно!
– Это не так. Мне интересно все о Вас, – твердо отвечала Лиза его же словами. – Рассказывайте, что было после Вашего приезда?
– Ах, Лиза, – Лев Александрович попытался улыбнуться и скрестил руки на груди. – Мой друг Савва сказал бы, что моя гордыня приехала в Киев раньше меня!
– Гордыня? – вскинула Лиза взгляд на Борцова.
– Ну, не гордыня. Гонор. Гордость профессиональная! И вообще! Я понимаю, холмы, рельеф! – Лев Александрович входил в раж. – Но я им говорю, Лиза! Проект делался под площадь! Посетители должны видеть здание музея еще на подходе, оттого и выбран был стиль античного храма! Как можно приютить его на склоне?
– Простите, Лев Александрович, – Лиза требовала уточнений, потому что было видно, что она искренне хочет понять все до конца. – Но я слышала так, что вашей миссией и было именно что переделать Ваш проект под совершенно иные условия? Разве не за этим Вы были званы?
– За этим! – с напором отвечал Борцов. – Но переделка переделке рознь! Я говорю им – ищите другой участок!
– И что было дальше? – Лиза старалась смягчить интонации вопроса, чтобы совсем не разозлить архитектора.
– А дальше, Лиза, оказалось, что проект привязки к выбранному участку поручили не только мне!
– Как же это? – Лиза растерялась. – Но это же не честно! Они должны были предупредить Вас.
– А они не предупредили! – отвечал Борцов таким тоном, будто в этом была виновата сама Лиза. – И я узнал о том, только когда проект-победитель был утвержден. Как понимаете, это был не мой проект.
– А чей? – Лизе сейчас было больно за Льва Александровича.
– Одного киевского архитектора. Своего. Местного.
– Может быть его проект действительно… – Лиза замолчала. – Вы видели его проект?
– Видел.
Борцов встал и покачивался теперь с мыска на пятку, отвернувшись к занавешенному окну. Лиза ждала и молчала. Тут Льва Александровича прорвало.
– Это ужасно, Лиза! – обернулся он к ней лицом и потрясал теперь руками в воздухе. – Какая-то немыслимо длинная лестница перед входом. Все как-то боком, не прямо! И львы. Боже мой, Лиза! В самом начале он посадил двух львов!
– Господи, чем львы-то Вам не угодили? – Лиза не знала, как успокоить дорогого ей человека и боялась подлить еще масла в огонь.
– Ну, как же Вы не понимаете, Лиза! Я спрашиваю у него: «Это что, английский клуб?» Причем тут львы и античный храм?
– Ну, и бог с ними. Львы и львы, – Лиза искренне хотела, чтобы Лев Александрович не страдал так.
– Я еще говорю ему, – Лев Александрович нервно рассмеялся. – Говорю – по всем канонам любые симметрично расположенные персонажи должны быть повернуты друг к другу. Отчего они у вас рассажены именно так?
– А он?
– А он говорит: «Будут сидеть так, как я посадил. Проект уже утвержден!»
– И что? – Лиза радовалась смеху собеседника и сама робко улыбалась.
– И теперь получается так, что львы отворачиваются и ото всех пришедших, и даже друг от друга!
Они рассмеялись вместе.
***
– Значит, все-таки уедете в Москву? – спросила Лиза.
– Да, у меня теперь только там есть постоянное жилище. Жаль, пока не свое, – Лев Александрович размышлял вслух. – Хотя, что мне делать там теперь – ума не приложу. Нет, Лиза! Раз между нами все решено, то давайте-ка я снова сюда стану перебираться. Поближе к Вам! Не все ль равно, где нанимать квартиру?
– А что с Вашими мечтами о собственном доме? – Лиза помнила о Левиных прожектах.
– Есть небольшой участок под застройку, Савва нашел неплохое место. Еще я оплатил вперед часть работ – промеры, котлован. Но на этом все и замерло.
– Отчего? – спросила Лиза.
– Ах, Лиза…, – начал, было, Лев Александрович.
– Вы опять! – Лиза наклонила голову на бок.
– Да нет, – Борцов улыбнулся нервно и замолчал, после паузы продолжил: – Лиза, об этом не принято говорить с девушками.
– Это финансы? – догадалась она.
– Ну, я же говорил, что Вы умная и чуткая! – Лев Александрович грустно улыбался.
– Но Вы же как-то рассчитывали? – робко продолжала Лиза. – Лев Александрович, говорите! Я должна все понимать, что происходит теперь с нами. А то я подумаю, что Вы…
– Господи, Лиза! – это ее выражение «с нами» воодушевило Борцова, и он стал объяснять ей: – Я должен был сначала отстроить новый загородный дом Савве. Но видите, как получилось.
– И много Вам надо на свое строительство? – закусила губу Лиза, о чем-то думая в этот момент.
– Нет, Лиза! – Борцов качал головой.
– Что «нет»? Вы же даже не знаете, что я хотела сказать!
– А я говорю: «Нет, Лиза! Я не возьму денег у Вас».
– Говорите, гордыня раньше Вас приехала? – припомнила ему недавние слова Лиза. – Значит, ничего не меняется, даже после того, как мы согласились поменять свою жизнь друг для друга?
– Лиза! Лиза! – Борцов явно боролся сейчас сам с собой. – Что Вы со мной делаете, Лиза!
– Ну, хорошо, отложим этот разговор, – Лиза указала на место рядом с собой. – Садитесь поближе. Расскажите мне еще о Вашем доме. Какой он будет?
– Лиза! – Борцов застыл стоя. – Я ведь только сейчас подумал. Это же будет не мой, это будет наш дом. Так?
– Так, – Лиза опустила глаза от смущения.
– Постойте! У меня же все планы с собой! И наброски. Я же сюда прямо с вокзала.
Лев Александрович вышел в коридор и направился к входному вестибюлю, где были погашены все огни. В темноте, между колонн, ему послышался шорох, но он был так возбужден, что не обратил на это должного внимания – только нащупал в полумраке оставленные тут папки и поспешил обратно. В опустевшей темноте раздался облегченный вздох и шепот: «Слава тебе, Господи!»
– Вот, глядите, Лиза! – Лев Александрович раскладывал листы с достаточной долей гордости, все это было выстрадано им, выношено. – Это варианты. Но общее я уже определил – трехэтажный особняк. Вернее – два этажа жилые и верхний, антресольный, под доходные квартиры.
– А это? Почему балконы такие разные?
– А! – Борцов загадочно улыбнулся. – Это? Помните Александровский сад? Мы гуляли? Вы тогда были в таком платье… – он осекся.
– А и вправду, – Лиза улыбнулась узнаванию. – Это и впрямь похоже на отделку моего фисташкового костюма.
– Вот, – Борцов норовил перелистнуть этот набросок, чтобы снова не вернуться к вопросу о пустых куклах. – А это вот ажурный вариант. Не знаю пока, какой выбрать. А как Вы считаете, Лиза?
– Не знаю, – честно отвечала Лиза. – Мне нравится и тот, и другой. А нельзя оставить оба? В разных этажах? Или Вы сейчас скажете, что они вовсе не сочетаются по стилю?
– Есть такое понятие «эклектика», Лиза, – Лев Александрович был неимоверно доволен такой ее высокой оценкой его стараний, но сдерживал себя. – Можно будет попробовать совместить. А вот, глядите! Это завершение. Венчает, так сказать.
Он встал и гордо протянул еще один лист. Лиза увидела рисунки и замолчала. Она боялась рассмеяться вслух, и тем обидеть творца.
– Что скажете? – после предыдущего успеха в глазах Лизы Борцов был уверен в одобрении.
– Но, – Лиза подбирала слова. – Но, Лев Александрович. Это как-то нескромно, Вам не кажется? Да и размеры! Он же у Вас ростом почти с тот балкон!
С листа, в разных ракурсах, смотрел на нее белоснежный лев, передняя лапа которого победоносно опиралась на земной шар.
– Вам не нравится?
– Лев Александрович, милый!
– Нет, Лиза! Правду так правду! – Борцов все уже понял по ее молчанию и теперь раздувал ноздри, мысленно распаляя себя.
Но тут Лиза встала, сделала шаг к нему и, обняв за пояс, положила голову ему на грудь и застыла. Лев Александрович растерялся. Потом он нежно положил руки Лизе на плечи, скользнул ими по ее рукам, свел на спине, прижал ее к себе и прошептал:
– Да и черт с ним, с этим львом! Порву и забуду!
– А что там, внутри? – Лиза отстранилась, Борцов нехотя отпустил ее от себя.
– Там, – Лев Александрович нервно провел ладонью по лбу. – Там вот… Я, Лиза, знаете ли, неудачным домовладельцем заделался. Мне бы вначале узнать все условия содержания доходных домов, а я уж тут спланировал! Оказалось, что… Хотя, Вам это…
– Что мне? Неинтересно будет? Говорите сию минуту!
– Ах, ты ж, боже ж мой! – Борцов помолчал и, выдохнув, продолжил: – Оказалось, Лиза, что на квартиры, чья площадь превышает определенный метраж, налог возрастает так, что какие уж тут доходы! А у меня на обоих жилых этажах деления вообще не предусмотрено. Я же не планировал их сдавать внаем, думал под семейное жилище, собственное. Но так не выходит, я считал.
– Так перепланируйте, пока не начались работы, – осторожно предложила Лиза. – В антресолях есть зал, это так? Его можно сдавать под собрания. Тогда непременно нужен лифт! Чтобы кофе подавали горячим. И потом, не много ли два этажа под семью? Хватит нам и одного.
– Нам. Нам! Лиза, Вы и не представляете, что я чувствую сейчас, – Борцов поглядел на нее с нескрываемым воодушевлением. – Я хочу целиком Вам этаж отвести! Нет! Весь дом Вам посвящаю! Все – Ваше.
– Наше, Лев Александрович, – мягко поправила его Лиза. – Наше.
– А и впрямь! Никуда я Вас не отпущу! Подле меня будете, а то я все равно все время в Ваш этаж бегать стану! – веселился теперь Лев Александрович. – Ну, тут все понятно. Тут этот зал в антресолях, ну и… несколько квартирок наверху, наверно, выкрою. Я еще этот этаж подробно не продумывал, только хозяйские.
– Я слышала, выгодно сдавать нижние этажи под магазины или салоны, – поделилась своими знаниями Лиза.
– Так у меня нижний – жилой, – растеряно глядел на наброски Лева. – Что ж тут сдавать?
– А это?
– А тут может быть только привратницкая, – объяснял Борцов. – Участок маленький, поэтому для проезда во двор пришлось предусмотреть арки. Кто ж может поселиться над проезжей аркой, кроме привратника?
– Да, – задумчиво отвечала Лиза. – Вы точно, доходный дом планировали? Или именной особняк?
– Да вот, правы Вы, Елизавета Андреевна! Как-то ни то, ни се выходит.
– И что Вы думаете?
– Думаю надо еще один дом планировать. Уж тот точно будет исключительно для доходов рассчитан.
– Тогда надо где-то рядом участок найти, – Лиза проявляла сейчас свою деловую жилку. – Тогда и на строительстве можно будет сэкономить, и проследить за всем удобней.
– Лиза! – Лев Александрович смотрел на нее восхищенно.
– Так что вот что, дорогой Лев Александрович, – Лиза была настроена решительно. – Завтра приедет папа…
– И я буду иметь честь просить у него Вашей руки, Лиза! – Лев Александрович эту руку ей сейчас поцеловал.
– Да, – продолжала Лиза, вовсе не сбившись. – Вы попросите моей руки, а папа даст за мной приданое. Да-да, молчите! А Вы возьмете его и начнете строительство. Я закончу свои дела тут, весной открою читальню и…
– И? – Лев Александрович не выпускал ее руки.
– И выйду за Вас замуж.
– Весной?
– Весной!
– Боже, Лиза. Я счастлив.
– Согласны?
– Да.
– Ах, как все сбывается! – воскликнула вдруг Лиза.
– Что сбывается? – удивился Борцов.
– Я расскажу Вам, – Лиза все еще боялась сглазить. – Обязательно расскажу. Позже.
– Когда, Лиза?
– Когда буду Вашей женой, – тихо-тихо прошептала она, а потом снова воскликнула: – И Нина! Нина тоже оказалась провидицей!
– Что же напророчила Вам княжна? – Лев Александрович улыбался.
– Помните наш выпускной бал? – спросила Лиза. – Нина еще тогда сказала, что Вы построите мне замок!
И она счастливо рассмеялась.
– Замок! Конечно, замок! – хлопнул себя по лбу Борцов. – Как же мне это раньше в голову не пришло? Я добавлю еще один цокольный этаж – грубый, из гранита, как будто скала. Все поднимется, устремится ввысь! Замок для моей принцессы! Тогда и лев не будет казаться таким… Ах, я забыл… Льва же не будет.
– Будет! – Лиза снова обняла Льва Александровича. – Пусть он будет.
– Какая умница Ваша Нина! – Борцов прижался щекой к ее макушке. – Как она поживает?
– Ох! – вздохнула Лиза. – Я так за нее волнуюсь!
***
Она стояла на самом краешке обрыва. Какой-то камень выскользнул из-под ноги и сорвался вниз, полетел, задевая другие камни и стряхивая за собой тонкие струйки песка. Она смотрела на редкие кустики, былинки и пучки мятлика, припорошенные нынче снегом и не чувствовала ничего, кроме щемящей тоски и перемешанной с ней озлобленности. Как крепко проросли тонюсенькие корешки этой травы – не сковырнешь, не скинешь! Сцепились они друг с другом, и держатся за этот утес, растут себе из года в год, невзрачные, но такие живучие. Думала еще, а не с этого ли высокого берега совершила свой «полет» Катерина? И сколько грешных душ на всем своем длинном пути приняла Волга, чуть виднеющаяся сейчас там, внизу? Лида Оленина теперь часто приходила сюда. Дома сидеть было невыносимо.
Все обошлось и раз, и два. Она жила всю осень, абсолютно не задумываясь над будущим, просто ждала его, потом радовалась тихому стуку в стекло, потом снова ждала. И была так счастлива, как, наверно, никогда уж не сможет больше. Всю свою жизненную радость израсходовала она за одну осень! Лида горестно усмехнулась. Один раз Хохлов ушел, как всегда, с рассветом, да больше и не вернулся. Пропал. Никто из товарищей ничего не мог сказать о его месте нахождения, лишь уверенно говорили, что от жандармов он ушел. Точно ушел! Иначе бы дал знать из любой тюрьмы. Вернется! Он такой!
Но проходил еще один день, потом еще один, неделя, месяц. С наступлением холодов Лида заметила изменения, которые стали происходить с ее телом. Во-первых, не пришли ее обычные дни, и она никак не могла припомнить, были ли они в прошлом месяце. Потом стало больно тянуть в пояснице, а по утрам страшно мутить – до тошноты и невозможности проглотить ни кусочка еды. Выждав еще немного, Лида наскребла денег, сэкономила на покупках, чтобы не говорить ни о чем матери, и отправилась к слободской бабке. Та все ее опасения полностью подтвердила.
– Летние детки крепенькие! Солнышком напоенные. Еще до осени родишь, я тебе говорю, такая вот радость тебе будет.
Лида радости никакой не чувствовала, но и делать радикальные шаги не была готова, да бабка ей и не предлагала – первенец же. Ну и, конечно, деньги для того нужны были вовсе другие. Лида ушла от бабки, ничего не решив, и каждый день становился теперь для нее пыткой. Пока не видно, а когда узнает мать? Соседи заметят? Жильцы? Да и это опасение было каким-то не главным, расплывчатым. Главным было то, что он не вернулся. Не пришел к ней, не дал весточки. А она даже не может открыто искать его, тосковать, печалиться. Не выбрал он Лиду изо всех, не сказал об этом – ей, людям, всему божьему свету. Ох, тоска!
И теперь при любой возможности, Лида уходила из дома, долго слонялась по городу, гоняла по кругу одни и те же мысли, а потом ноги сами приводили ее сюда. К обрыву.
***
Клим прижился на бутырках у брата станционного смотрителя. Тот тоже был женат, супруга его вела хозяйство, верней – руководила целым гуртом баб и мужиков, что вечно суетились в доме и на дворе. Жили при заведении и две «девицы», о которых предупреждал Клима хозяин почтовой станции. Но, когда наезжали гости, Клим старался не высовываться и сидел у себя в комнатушке, а в остальные дни, когда девки были не хмельные, то вели себя скромно, так, что сразу даже и не догадаешься об их ремесле. Иногда и по хозяйству помогали – не скучать же, сложа руки.
Девиц звали Манька и Танька. Хозяйка тутошняя вместе с мужем были людьми нрава азартного да веселого. Любила хозяйка, когда гости привозили с собой цыган. Страсть как любила песни – и сама могла выводить, но больше ей по нраву было слушать. Танька и Манька иногда весь вечер голосили ей в угоду – у Маньки срывался голос на верхних нотах, а Танька вообще в них попадала редко, зато голосину имела силищи неимоверной. Так и развлекались. Климу жилось тут спокойно.
Приняли его по рекомендации брата благосклонно. Работой грубой не загружали – и так есть, кому мешки ворочать. Хозяин был мужик смекалистый да приметливый – сильные стороны каждого видел насквозь, как и слабости, и пороки. Клима пристроил к закупкам да к доставке товаров. Так что Неволин частенько наезжал в соседние городки и селения, пару раз бывал и в Нижнем Новгороде. В свой район не заезжал, в дом не заходил – делал быстренько дела и возвращался обратно. Хозяин был им доволен, да все вздыхал и мечтал о расширении хозяйства.
– Надобноть момент поймать подходящий, Клим Валерианович, – поучал он нового работника. – Вот выставочный год – самое то было, не успел я! А так – привыкли бы, да потом других за собой привели, да чаще к нам наезжать бы стали. Вот оно и прибыльно-то да вольготно. Засадили бы земельки поболее, домишек еще поднастроили. Но это мне тогда непременно помощника надо!
Когда в воздухе закружились белые мухи, Клим принял решение. Он «выбрал момент», когда хозяин был в благодушном расположении духа и предложил ему свое участие.
– Хм! – тот почесал в затылке. – Мужик ты добрый, Клим Валерианович, да хозяин-то из тебя никудышный, ты уж не обижайся. Но под моим присмотром может толк и вышел бы. Да за голубые глазки я тебе до помощника не повышу, и не жди! Мне доля нужна. Денюшки.
– Сколько? – спросил Клим.
Когда снег лег основательно, он отпросился в Нижний. Клим все это время не забывал о той сумме, что лежала в банке «на черный день» и по всему своему жизненному течению сделал вывод, что ждать такого дня не следует. Есть ли, нет сбережений, а придет такой день сам, посадит детей в дорожную карету, да и увезет за тридевять земель, оставив в тоске и одиночестве. Лучше уж вложиться в то, что нынче приносит успокоение, а там, глядишь, боженька и еще расщедрится. Клим заехал домой, собрал теплые вещи, снял с божницы небольшую иконку Николая Чудотворца, да спрятал за пазухой. Зашел к местному уряднику, поведал о своем нынешнем местопребывании, да попросил приглядывать за домом и двором. Снял в банке все деньги и со спокойной душой возвращался теперь туда, где нынче был у него, если не дом, то место прибежища. Туда, где его ждали.
Узенькие сани его катили по снежной целине, метель только утихла. Ехал Клим медленно, стараясь не налететь на кочку, спрятавшуюся под снежным настом или еще какую дорожную ухабину. До темна он, вроде бы, и так успевал. Клим разглядывал от нечего делать придорожные строения, выискивал глазами запоздавших птиц, что зимовали в лесу, по следам на дороге старался разгадать, кто тут проезжал незадолго до него. Один след вырисовывался очень отчетливо и глубоко, значит проехали совсем недавно – след был широкий, значит, сани были вместительные и тяжелые. Может, гости какие к ним спешат? Скоро уже и поворот к бутыркам.
Тут он заметил, что санный след затерся, затоптанный копытами лошадей, а после продолжился снова, но рядом с ним образовалась цепочка маленьких следков – видимо, кто-то сошел. След от саней уходил вперед по основной дороге, а маленькие следки свернули туда, куда надо было сворачивать и Климу. Ему стало любопытно, что это за пеший гость рискнул тут гулять в одиночестве, потому всматривался внимательно. След становился нечетким, потом и вовсе сливался в одну линию, как будто кто-то перестал поднимать ноги и волочил их через силу.
Тут снова пошел снег, и видно стало плохо из-за пурги и ветра. Потом следы исчезли вовсе, и дорожка вновь стала чистой и ровной, запорошенной падающими с небес хлопьями. Клим тормознул лошадку и огляделся. Он слез с санок, и пошел обратно. Если бы он так внимательно не вглядывался, то и не заметил бы того места, где слабый след свернул с тропинки. Клим направился к чернеющим невдалеке кустам и деревьям, высоко задирая ноги, пробираясь через сугробы, и тут увидел его. Уже прилично занесенный снегом, прямо на холодном снегу лежал упавший человек.
***
– О! Клим Валерианович пожаловали! – двери отворила хозяйка. – Куда ты! Что ты! Куда ты ее припер, окаянный! А ну, как беглая?
– Обождите Вы, Матрена Антиповна, – Клим сгибался под тяжестью обмягшего на его руках тела, но ноши своей не бросал. – Она вообще еле живая! После все! После!
Он как был, в сапогах и по пояс в снегу, поволок добычу себе в комнатенку, почти до пола свисали с ее головы темные пряди промокших, кудрявых некогда волос, оставляя на половицах влажные дорожки. Он положил замерзшую женщину на свою кровать и в бессилии опустился рядом на пол. Хозяйка была тут как тут.
– Ах, ты ж бедная! – она обошла Клима и стала рассупонивать промокшую одежонку потерпевшей. – Одета прилично. И на уличную вроде не похожа.
– Не гоните, – еле слышно просипел тоже насквозь уже промерзший Клим. – Пусть хоть отойдет немного.
– Да, ладно! – Матрена сверкнула на него глазами. – И не такие тут бывали! Нешто мы не христиане. Это я так, от неожиданности. Но, мил друг! Ежели, за ней кто явится, то уж, не обессудь – твой ответ.
– Вы имеете в виду полицию? – оторопел Клим. – Да видно же, что женщина из благородных!
– Твоей полиции я сама, как хошь, голову задурю. Что мне полиция! – хозяйка достала из сундука одеяло и прикрыла страдалицу, так и не раздев. – Видали мы таких «благородных». Как бы кто посурьезней ее не стал искать. С чего бы это иначе ей с саней в лес выскакивать? Где нашел-то?
Клим отдал хозяину привезенные деньги, и вопросов по беглянке стало еще меньше. Теперь он сделался тут человеком с правом голоса. Найденную им молодую женщину оставили и выхаживали сами, доктора звать не стали от греха. Хозяйка варила бульоны, Клим поил беглянку с ложки. Когда она отоспалась и пообсохла, он стал внимательнее вглядываться в ее лицо, явно понимая, что уже когда-то видел его. Но на память все никак не шло – где, и при каких обстоятельствах. У Варвары? Нет, точно не там. Может, это, кто-то из его клиенток? Может, помогал, когда что подносить? Или чья-то спутница? Нет, не помнил он и такого. Еще раньше – студентка, поэтесса?
Когда больная первый раз заговорила с ним, тихо спросив: «Где я?», он моментально вспомнил этот глубокий грудной голос. Вспомнил яркий летний день, пикник заводчика Мимозова, концерт в сумерках. И как он подыгрывал на гитарке, а этот голос пел необычайной красоты романсы.
– Танечка, Вы? – ужаснулся Неволин. – Татьяна Осиповна?
Таня не признала его, он это понял, но в ее глазах заметался такой испуг, что она попыталась отмахнуться от него, потом прикрыла лицо ладонью и тут же провалилась обратно, в бессознательное состояние.
– А документиков-то при ней не оказалось, – рассуждал за ужином хозяин. – Как бы вызнать, кто такая? Может родственники объявились бы, а? Не век же ее тут держать?
– Придет в себя – сама скажет, – Клим не поднимал глаз от тарелки.
– Ну и добре, – согласно кивнул хозяин. – Подождем.
***
Лев Александрович прибыл в Москву окрыленный, но и, одновременно с тем определяя в себе некое новое для него состояние – спокойную уверенность в том, что теперь все будет хорошо, совершенно лишенную прежних восторгов и привычных неистовств. Он даже подумал про себя: «Не возраст ли дает о себе знать подобным успокоением?» Хотя, возможно, это были последствия Февроньиных наущений и его киевских экспериментов над усмирением собственных душевных порывов. Но нет! Лев Александрович вовсе не чувствовал апатии или упадка сил, приходящих с жизненной усталостью. Нет, наоборот! Он готов был взяться за строительство своего дома, трезво оценивал возможности, понимая, что без постоянного источника дохода он это дело не вытянет – надо же было еще и на что-то жить. Но и откладывать уже не хотелось, пришел здоровый азарт нового начинания, придавало уверенности в успехе такое полное к нему доверие Лизы и ее отца, благословление Февроньи.
Приняв решение, Борцов заметил, что как будто ему все вокруг стало сопутствовать и помогать в его деле, так складывались обстоятельства. Например, однажды в собрании он встретил помощника Мамонтова, который прошлым летом демонстрировал Нине и Лизе «вечную невесту».
– Ну, здравствуй, Лева! – приветствовал тот давнишнего знакомца. – Смотрю, теперь многие наши в Москве собираться стали, не тебя первого вижу. В гостях или надолго?
– Хотелось бы думать, что надолго, Володя, – улыбнулся Лев Александрович. – У меня планы, связанные с этим городом нынче.
– Если не секрет, какие? Ты же вроде не суеверен? Тьфу-тьфу-тьфу.
Приятели рассмеялись.
– Да вот собственный доходный дом затеял. Уж и проект закончил. Приступаю к закладке на днях.
– Ну, это дело, так дело! Молодца! Мы, знаешь ли, тоже не лыком шиты! Тоже затеваем тут… Тебе скажу, ты не глазливый, – прищурился Владимир. – Тем более, что, можно сказать, ты-то и дал отправного нашему нынешнему начинанию.
– Я? – удивился Лева. – Да я и в Москве-то сколь лет уже не был. Ты ничего не путаешь, друг мой?
– Нет, Лева, не путаю! С памятью у меня, слава Богу, пока… – Владимир погрозил кому-то, махнув в воздухе пальцем. – Ты вот помнишь? На всероссийской выставке? А? Принцесса Греза, на фасаде здания… Ну-ну-ну, вспоминай!
– И что? Неужто, пришлось?
– Пришлось, Лева! Пришлось! Керамический заводик у Бутырской заставы организуем. Приходи, будешь первым клиентом! Изразцы, мозаика – что угодно. Только наладим производство, с красителями поиграем, яркости цветов добьемся – и приходи!
– А ведь и приду, Володя, – задумался Лев Иванович. – При моем новом видении особняка, где серый грубый гранит будет оттягивать на себя знатную долю внимания, как раз не покраска стен! Не штукатурка! Керамическая плитка в самый раз будет.
– Ну, так милости просим! Есть уже задумка по оттенку? Или с сюжетом видится?
– Нет-нет. Мелкая плитка, так, чтобы даже не сразу понятно было что это, чтобы ровный тон глазу давала. Но, Володя! Московские закаты, разница освещения зимой и в другие сезоны, солнце и хмурость… Мне надо, чтобы при любой погоде она давала общее теплое впечатление, так что давай так – основная часть песочного и золотистого, но сделай еще и партии потемней тоном, можно вплоть до лиловых. Я тебе набросаю, завезу вместе с просчетами. Ах, как это мы удачно свиделись!
Неделей позже Лева навестил Антона. Тот с другом встречался часто после воцарения того в городе, поэтому даже немного удивился этому визиту. Лева нашел его на фабрике.
– Что-то срочное, друг? – озабоченно спросил он.
– Да как сказать… Сведи меня с батюшкой, будь добр.
– А! Значит по делу? Ну, тогда я спокоен. Но, Лева, можешь ли и мне рассказать? Я ведь многое теперь сам решаю. Особенно, если ты про нижегородский филиал узнать желаешь.
– Да, как раз, про московский, дружище. Я, Антуан, пришел к вам на работу наниматься. Найдете ли для меня дельце?
– Дельце, для тебя? – Шульц был озадачен. – Да мы вроде не строимся, Лева. Ты бы знал первым.
– Ты не понял меня. Я ищу постоянную службу, Антон. Вот, например, у вас с отцом на фабрике. Я, насколько ты помнишь, не только архитектор, но еще и рисовальщик неплохой, и краснодеревщик, и декоратор. Вот и спрашиваю, есть ли что?
– Лева! Лева! – Антон всплеснул руками. – С твоих-то высот! Да как же это?
– Вот так, друг, – улыбался открытой улыбкой Лев Александрович. – Можно сказать, смиряю гордыню.
– Ты? Смиряешь? Хочешь убить этакого дракона в своей груди? – Антон с хитрым прищуром чуток помолчал, а потом спросил друга: – Ну, и кто она?
– Что сей вопрос означает? – по своей всегдашней привычке хотел было взбрыкнуть Лева.
– А то и значит, что только женщина может сподвигнуть мужчину на подобные перемены. Угадал?
– Угадал, угадал, – Лева не рассердился. – Время придет, шафером позову. Так дашь что-нибудь?
– Дам, дам! Как не дать. Новые эскизы нам завсегда нужны. Это даже интересно, господина архитектора на фабрику определить. Мы, друг мой, на тебя заманивать станем, как на жерлицу. Ха-ха!
– Ну, вот и славно. Желаю тебе отловить на меня щуку пожирнее! Надеюсь, этот вид деятельности не потребует моего постоянного присутствия?
– А что, ты еще какое место нашел? На двух стульях… Ха-ха! На двух мебелях усидеть желаешь?
– Смейся, смейся!
И Борцов поведал другу о своих прожектах.
***
Таня со временем пришла в себя, все проходит, все когда-то заканчивается. Сильный молодой организм вытащил ее из болезни скоро и с полным восстановлением. Надо было начинать выходить. Она еще немного отсиделась в Климовой комнате – он все эти дни ухаживал за ней, устроил ей тут всяческие удобства, приносил умываться, тут же и кормил ее. Спал сам здесь же, на сундуке у окошка. Еще, как только он появился здесь, на выселках, хозяева, видимо письмом оповещенные станционным смотрителем о Климовых пьяненьких подвигах, выделяя ему эту комнатенку, одним из ее достоинств как раз преподносили наличие данного предмета.
– Этот-то сундучок, повместительней братова станется! – хихикал хозяин. – Вашего-то сложения тело и во весь рост вытянуться в нем сможет. Прячьтесь на здоровье, господин хороший!
– Перинку-то на донышко постелить? Ха-ха-ха! – вторила ему с задором жена.
Клим краснел ушами, но обижаться не умел. Теперь сундук пригодился. Клим стал выходить из комнаты на время, пока Таня приводила себя в порядок и занималась своим туалетом, как только она смогла делать это самостоятельно. Первые сутки он вовсе не отходил от нее, тогда было не до приличий, главным было – дышит или не дышит. Потом как-то так само собой вышло, что никто из женщин своих услуг по уходу за найденкой особо не предлагал. Потом Таня очнулась. Клим сильно смущался, но подпустить теперь кого-либо из домашних к Тане боялся еще больше – вдруг в бреду она проговорится о себе. И вот она пошла на поправку.
Между собой они тоже до сих пор не разговаривали, обменивались только самыми необходимыми репликами. Пациентка окрепла совсем, оставаться с ней ночевать было больше невозможно. Клим заговорил первым.
– Танечка… – он запнулся, заметив прикушенную губу. – Милая барышня… Как прикажете Вас называть? Кто Вы? Откуда в этих краях? Есть ли родственники у Вас? Близкие?
– Вы же все знаете, – зло просипела Таня.
– Танечка… Простите. Я же вижу, вам… Вам неугодно…
– Угодно, не угодно, все одно! – смотрела в пол Татьяна.
– Я, знаете, никому тут пока… Но, они спросят! Уже спрашивают. Надо будет что-то говорить. Что велите, любезная Татьяна Осиповна?
Таня подняла на него глаза и лихорадочно соображала теперь. Видно, ничего путевого на ум ей не пришло, потому что глаза налились слезами, а губа оставалась прикушенной.
– Ну, потом, потом, – успокоительно бормотал Клим. – Но имя! Хотя бы имя, Танечка?
Как-то незаметно для себя, по чуть-чуть, по капельке, Таня за пару дней рассказала Климу о себе все. И про мужа, и про тетку, которая теперь власти перед тем мужем вовсе не имеет, про свои мытарства, про то, что недавно кончились деньги и из пресс-папье, про то, что идти ей некуда, а к мужу он не поедет в твердом разуме ни за что!
Клим пытался аккуратно вызнать, что же произошло между двумя только что обвенчавшимися молодыми, равными, наверно и любящими друг друга людьми за такой короткий срок, но натыкался на мрачную стену молчания. Каким-то образом он догадался, что Танечке об этом говорить, не столько больно, сколько стыдно. Он отстал. Они вдвоем придумали ей историйку – певичка, бежала от антрепренера, который был несправедлив и жаден. Нет, она ему ничего не должна, нет, не преследует. Это он отбирал у нее все гонорары, с того дня, когда помер ее батюшка – разорившийся дворянин. Так про батюшку накликивать? Нет, Таня не боится. Нет. К настоящему отцу тоже не поедет. Нет, не защитит. Нет! Клим снова отстал. Стали сочинять дальше. Вид на жительство? Так все бумаги остались у поверенных батюшки, доехать до них – пока нету средств. Но все в порядке. Имя? Да хотя бы Зинаида.
– А на самом деле, Танечка, у Вас все в порядке? Простите! Зинаида…?
– Зинаида Зиновьевна. А уж, что бы совсем, как зеленая осенняя муха зудела – еще и Зеленина!
– Ну, уж Вы, Танечка… Уж, Вы, Зиночка, что-то совсем себя не любите! Зачем уж так-то? – сокрушался Клим.
– Не люблю? – Таня ехидничала после трудного для нее разговора. – А кто меня, когда любил то? Вон муженек мой законный в розыск на меня подал. Так что – не все ладно у меня, Клим Валерианович. Ищут меня.
– Вон оно как, – протянул Клим, но не испугался. – Как хозяйка-то наша сразу приметила! Хитрая, бестия, враз догадалась. Вы бы уж при ней поаккуратней, Зинаида Зиновьевна.
И началась у них странная жизнь. Придуманное ремесло очень пришлось тут впору, хозяйка нарадоваться не могла на Танины выступления. За них прощала ей многое, характерами они в повседневной жизни не сошлись. Таня на попытки расспросов не отвечала, гордо шествовала мимо домашних и слуг, ни с кем в приятельские отношения не вступала, доверяла только Климу. Танька с Манькой за глаза стали звать ее «графиней», не простив гордо поднятой головы.
Жила Таня, то есть Зинаида, теперь недалеко от комнаты Клима, в том же крыле дома. На стол и постой ей хватало с лихвой, еще и оставалось – слава о новой певице Зине Зелениной очень быстро разнеслась по тому контингенту, что наезжал сюда на пирушки и гулянки. Танины романсы пришлись ко двору, народу стало ездить больше, хозяин потирал руки и приступил к долгожданному расширению.
– Вот тебе и упущенная Выставка! Если боженька захочет, найдет, как наградить. Так-то, Клим Валерианович! Молодец! Хорошую в лесу добычу сыскал.
Таня пела в большом общем зале, где ужинали гости. Иногда, по личной просьбе – в каминной комнате для избранных лиц. Клим, как в прежние времена, подыгрывал ей на гитарке. Иногда кто-либо из гостей садился и за старый раздолбанный инструмент, что стоял в буфетной. Из постоянных жильцов, кроме самой Тани никто на нем не играл. Со временем она приоделась, завела и наряды для концертов, можно сказать что роскошные. Внимание публики ей нравилось, а тратить тут больше все равно было не на что.
Пела по настроению, то всего пару песен, а то могла и за полночь расстараться. После выступления она вставала, раскланивалась и уходила в свою комнату. То, что, бахвалясь друг перед другом, успели насовать ей от восторгов толстосумы во время пения, уносила с собой. Что и сколько с гостей брал хозяин, она даже не интересовалась. Но, видимо, тот был доволен, относился к ней уважительно, потчевал разносолами, предлагал и вина, а также наливок и чего душа пожелает. Не скупился.
Таня иногда выпивала пару бокалов легкого вина, но вина хлебного велела ей даже не предлагать. Она поставила себя так, что поползновений на ее честь пока не случалось, она была нужна тут для радостей душевных. Для иного рода увеселений существовали Манька и Танька. Получалось так, что в придорожном кабаке ей жилось безопаснее в этом отношении, чем в доме собственного супруга. Но все бывает до поры, до времени.
***
Однажды наехали гурьбой купцы. Обмывали крупное приобретение, сорили деньгами, требовали невозможного. В разгар гулянья, хозяин послал Клима в город за свежей клубникой. Вернулся тот уже в ночь, гости по-прежнему гуляли, Таня как раз приближалась к концу своего самого обширного репертуара. Ее потребовали за стол, отказать было трудно. Наливали шампанского, предлагали искупать в нем, угощали той самой клубникой, осетровой икрой и любимыми Таниными пирожными. После нескольких тостов вежливости, поняв, что нетрезвые мужчины распаляются все пуще, она захотела удалиться к себе. Те велели нести ликеры и коньяк. Таня испуганно смотрела на хозяина, который сам сегодня прислуживал за столом, но тот только зыркал на нее глазищами, поднимал многозначительно брови, а, при оказии, шепнул на ухо:
– Не кобенься, Зинаида, пей! С тебя не убудет. Потом выведу незаметно, как угомонятся. Надо только выбрать момент!
Таня пила крепкие напитки всего второй раз в жизни, но эффект оказался прежним. Буквально через четверть часа после первой рюмки, Танюшу как подменили. Снова в ней проснулась та тигрица, что таилась, пока разум мог уследить за ней. Таня с замашками царицы требовала еще напитков и комплиментов. Пошла плясать, чего никогда не делала тут прежде. Все мужское восхищение в зале принадлежало ей в эту ночь безраздельно. Кокетничала она напропалую со всеми, сидящими за столом, распоряжалась половыми, отмахнулась от Клима. Тот, понимая, что такие ее вольности до добра не доведут, хотел образумить певицу, да получил по сусалам. Через час кто-то из купцов кинул клич: «Кататься!»
Шумная толпа подвыпивших гостей, щедро осыпав чаевыми обслугу и не обидев хозяина, схлынула в ночную темень с криками и бубенцами, смыв вместе с собой и Таню, как была – в туфлях и платье в пол. Благо, что зима уж миновала! Понурый Клим побрел в свою комнатушку, прислонил к стене гитарку и сидел теперь на краешке кровати, дверь в коридор не закрыв, а все прислушиваясь. Мимо проходила хозяйка. Увидев его ожидающий взгляд, она остановилась в проеме двери и, покачав головой, спросила:
– Ну, что? Умыкнули?
Клим молчал.
– А оно и к лучшему! – вдруг, на что-то разозлившись, рубанула Матрена. – Совсем бы тебе душу изъела. Куда уж нам до таких! И не заглядывайся, касатик… Ложись-ка лучше на боковую – утро вечера мудренее.
Утро оказалось не только мудрым, но и добрым. Не выспавшегося Клима растолкала все та же Матрена. Он, спросонья, глянул в окно – уже рассвело, но видно было, что рань еще несусветная.
– Что? – непонимающе спросил он хозяйку.
– Вставай! – она ехидно ухмыльнулась и поджала губы. – Явилась твоя раскрасавица! Тебя требует.
Клим наскоро оделся и метнулся в комнату Зинаиды. Та сидела, вытянув вперед ноги и опустив лицо.
– Что, Та…, – Клим вовремя спохватился и обернулся, Матрена с усмешкой наблюдала за ними из коридора. – Что такое, Зинаида Зиновьевна? Вы звали меня?
Таня подняла голову и только простонала через силу:
– Ноги больно.
Клим припал на колени. Тоненькие подошвы домашних туфель были протерты до дыр, чулочки он аккуратно снял, стараясь не задирать высоко юбки – все стопы Тани были сбиты и изранены о камни. Отерев кровь, Клим принес тазик с теплой водой и снова окунулся в такие милые его сердцу хлопоты и заботы. Потом Таня ему рассказывала, как под утро уже, когда она велела везти себя обратно, один особо настойчивый кавалер все зазывал ее то «Во дворец, королева!», то, путаясь, «В нумера!», а поняв, что барышня вовсе с ним никуда следовать не желает, выдал тираду: «Раз ты такая цаца, так и иди пешком!» Таня гордо спрыгнула с коляски, ей это было не впервой. Как добиралась и сколько верст прошла, ответить она не могла.
Прошло еще какое-то время без происшествий, Таня снова поправилась довольно быстро. От упоминаний о крепком спиртном или о любых прогулках ее теперь кидало в панический страх. При одном только намеке на интерес к ней, не связанный с пением, или на любые предложения гостей с попытками выманить ее за пределы здешних владений, Таня даже не пыталась свести все к шутке или хитрости, а уходила в комнату Клима вместе с ним. Как правило, все вопросы к ней у мужчин тут же отпадали. Клим радовался такому сложившемуся порядку, подыгрывал ей с удовольствием, ему это даже льстило – надо же, они думают, что такое возможно! Не удивляются!
Когда гости разъезжались, Татьяна-Зинаида возвращалась в свои апартаменты. Но те минуты, а иногда и часы, что укрывалась она у Клима, полностью принадлежали ему – они беседовали обо всем на свете! Клим обожал эти редкие вечера.
***
В другой раз все было серьезней. От того серьезней, что гуляла не толпа разношерстных кавалеров, хоть и значительных своими кошельками да положением, что так застили глаза хозяину заведения, но все ж не знакомых с грубой силой, а прибыл к ним гость странный, редкий. Он-то и положил глаз на Татьяну. Не сразу. Сначала много пил и хорошо ел, двое сопровождавших его мужиков не хмелели, не болтали, не улыбались даже. По всему выходило, что люди это лихие, а он меж ними самый что ни на есть главный. По виду он был смуглым, жилистым, с копной чернявых волос, ножниц цирюльни сто лет не ведавших, но на цыгана не похож, так как волос у него не вился, а скорее стоял торчком, как проволока или солома. Глазищами из-под бровей водил так, что даже все повидавшие Танька с Манькою затихали на коленях у его молчаливых товарищей. Сам он, сидя за трапезой, к девкам не лез, лишь глядел, а как решили заночевать, так сгреб в охапку Маньку и ночь провел с нею.
Как делили Таньку оставшиеся двое, не ясно, но только под утро она освободилась, спросила у хозяина морсу клюквенного и ушла к себе отсыпаться. В обед гости снова ели и снова много пили, в сумерки стали собираться со двора. Зинаида вообще к гостям в этот раз не выходила, песен они не желали, гуляли тихо. Но в доме, конечно, мелькала. И вот, уже пред самым выездом, который кудлатый главарь все почему-то оттягивал, он дождался, пока вновь не заметил ее в коридоре, и вышел навстречу, перегородив путь.
– Собирайся, красавица, со мной поедешь, – велел он ей тем спокойным тоном, привычным к повиновению, которому отказать никак нельзя.
– Я Вас не знаю. И никуда с Вами не поеду, – Зинаида тоже умела зыркать глазами.
– Ух, ты, какая! – восхитился гость. – Смелая. Значит, не ошибся. Собирайся, милая. Едем.
Таня молчала и судорожно соображала что-то про себя. В руках у нее был кувшин с водой, за которым она, собственно, и выходила. Но каким-то чутьем она понимала, что плеснуть ею в гостя никак нельзя. Надо было придумать что-то иное. Но что?
Гость, заметив прикушенную губу и приняв поиск решения за капитуляцию, ухмыльнулся, и убрал руку, которой до этого опирался на стену, перегораживая проход. Зинаида проскользнула мимо него вдоль стены, но ринулась не к себе, а как уже привыкла в подобных случаях – в комнатушку к Климу. Тот по ее испуганным глазам понял, что что-то происходит и высунулся в коридор.
– Ах, ты ж, неладная! – покачал головой лохмач, увидев нового персонажа. – Ну, и зачем? Не хотел же я крови.
Услышав про кровь, Клим оглянулся, Зинаида тряслась, прижав кувшин к груди, и мотала головой.
– Уйдите, сударь, – Клим сам не понял, как посмел произнести что-либо, старался только, чтобы его голос не сильно дрожал. – Она с Вами не пойдет.
– Пойдет, милый. Пойдет. Сам же знаешь, что пойдет. Ну, зачем? – мужик никаких действий не предпринимал, а спокойно ждал в коридоре.
– Не пойдет! – голос Клима все-таки дрогнул. – Я не позволю.
– Ты? – с какой-то даже печальной усмешкой спросил гость. – Ну, я не хотел.
И он, как будто получив что-то желаемое, дождался, когда Климу пришлось перехватить его на пути к Зинаиде, и легким размахом впечатал того в противоположную стенку. Клим сполз по ней, из рассеченной головы и носа у него, действительно, показалась кровища. Гость перешагнул лежащее у стены тело и возник в проеме двери.
– Собирайся, милая. Ну, чего мы ждем?
– Вы не смеете! – теперь Зинаида захотела выйти в коридор, из этой западни, но снова наткнулась на железную руку, перегородившую ей выход, они с гостем оказались теперь совсем близко и смотрели друг другу глаза в глаза. – Пустите! Меня защитят, все равно не поеду!
– Кто? – насмешливо спросил гость, даже не пытаясь трогать Зину руками. Он стоял, не шевелясь, как скала. – Кто тебя защитит? Этот? Да тебя вообще хоть раз кто защищал? Вот поедешь со мной – узнаешь, что такое защита.
– Защищал! – отчаянно сопротивлялась Зинаидино упрямство.
– Кто? – снова ухмылялся гость. – Если б то было так, я б увидел. Не ври. Никогда не ври мне!
– Мне незачем Вам врать, – Зинаида попыталась успокоиться, но получалось плохо. – Пустите!
– Не пущу! Потому что врешь. Вижу! – гость сверлил ее глазами. – Ты мне-то не рассказывай сказок, красавица! Ни в жисть не поверю, что это там твой кавалер валяется. Так… Приблудился. Я уж разных баб повидал. Не смеши меня! И не ври.
– Пусти! – Зина уже впадала в панику, понимая, что спасения нет.
– А вот и пустил бы! – гость освободил проход, скрестил руки на груди, смотрел насмешливо, как бы играя в кошки-мышки, и удерживал Зинаиду теперь одним только взглядом. – Вот, если б не врала, может и пустил бы. Но ты же врешь!
И тут, как спасение, вспыхнул в памяти Тани тот злополучный день, когда столичный визитер спугнул ее своим перегаром. И как потом Сергей заслонил ее от претензий барона.
– Защищал. Было уже! – твердо стояла теперь на своем Таня. – Заслонил и вызов на дуэль желал сделать.
– На дуэль? – протяжно переспросил лохматый гость. – Правда, что ль из графьев? А я не поверил. И кто же? – он недоверчиво обернулся на тело, не подававшее признаков жизни. – Муж? Жених?
– Брат! – Таня уперлась в него глазами и взгляда не отводила.
– Бра-а-ааат? Ну, тогда верю. Ну, тогда простите, люди добрые, – гость недоуменно мотал головой, но уже было видно, что отступит. – Ну, прости, коли зашиб его. Не подумал. Да я не в полную силу, не боись. Оклемается! А, может, все-таки поедешь, а? В атласы тебя наряжу?
– Да я вроде и так, слава Богу, не в сарпинке хожу, – огрызнулась осмелевшая Татьяна.
– Ах, жаль, жаль! – улыбался теперь восхищенно гость. – Из нас с тобой знатная пара сложилась бы. А, брат? Может, отпустишь?
– Сама не хочет, значит никуда и не поедет, – ответил, приходящий в себя на полу Клим.
– Ну, как знаете, – гость поклонился. – Простите, на чем обидел. И прощевайте.
В этот день Татьяна переехала к Климу насовсем. Она сначала ухаживала за ним, промывала рану на голове, которая действительно оказалась не опасной, а к вечеру просто молча перенесла мелкие пожитки. Когда пришло время спать, легла в его постель. Клим до последнего находил себе какие-то дела в доме, в комнату не шел. Когда более тянуть стало невозможно, он собрался с духом, вошел, услышал Танино ровное дыхание, задул лампу и лег у окна на сундуке.
***
Что думали про них в заведении, то каждый по-своему скажет. Кто верил, кто смеялся, кто угадывал правду. А они так и жили – Таня на постели, Клим на сундуке. Вроде, как и действительно – брат. В остальном все вернулось на прежний лад, комната Танина оставалась за ней, но ее она теперь использовала только как сценическую грим-уборную, все равно все ее нарды в комнатушке Клима не поместились бы. Пела. Жили.
Таня потом всю жизнь будет вспоминать этот отрезок времени, как самый счастливый. Она занималась, чем хотела, чем нравилось. Благодаря обстоятельствам с нее осыпались все сословные ограничения и обязанности, от нее никто ничего не ждал, не требовал. Пусть в небольшом и замкнутом мирке придорожного притона, но она была абсолютно свободна и, по большей части времени, спокойна. А самое главное – за все это она никому и ничем не была обязана. Но кончилось это все довольно скоро.
Танюша пела в тот вечер, сидя за фортепьяно, сама себе аккомпанируя, и не всех посетителей могла рассмотреть – некоторые находились далековато от инструмента, а по краям залы стоял полумрак. Но певицу было хорошо видно и слышно отовсюду. В разгар вечера прискакали господа офицеры, сидели допоздна, после многие разъехались, а один пожелал остаться. Потребовал хозяина, тот вышел к гостю.
– А что, скажешь? Есть ли у тебя с кем ночь провести? Солдатская жизнь, она знаешь какая! Истосковался, понимаешь ли.
– Да как не быть! – хозяин махнул полотенцем половому, тот побежал предупреждать девиц. – Какую, изволите, Ваше благородие? Беленькую, черненькую? Или можно в город послать, но это тогда обождать придется.
– Да нет, здешнюю хочу. Татьяну зови, – отвечал офицер, хозяин кивнул.
Явилась чуть погодя разодетая Танька. Смуглый господин разглядывал ее с минуту, потом снова кликнул хозяина.
– Ты кого мне подсовываешь, шельма?
– Так сами ж Таньку пожелали, барин! – не понимал тот претензий. – Что стоишь, дура! Видишь, господин ласки желают?
Танька с широкой улыбкой пошла в обход стола. Работала. Офицер оттолкнул ее и с прищуром прошипел хозяину заведения:
– Мне полицию позвать? Или ты мне сюда сей миг баронессу фон Адлер предоставишь? Татьяну Осиповну? А?
Хозяин растерялся, совершенно не понимая, что от него хотят. Видимо, офицер по его лицу понял, что тот не врет.
– Только что тут песни пела! Раз живет в твоем заведении, значит должна обслужить по первому разряду! Ну-ка, давай ее сюда.
– Вы спутали что-то, господин хороший. Дама та к гостям не выходит! Да и зовут ее не Татьяна, а вовсе даже Зинаида. Обмишурились Вы.
– Я обмишурился? – захохотал Мавродаки, невесть как оказавшийся в этом краю. – А ну, показывай, где живет!
Хозяин застыл, не желая ни злить гостя, ни жертвовать приносящей ему золотые яйца Зинаидой. Пока он думал, офицер выложил на стол пистолет. Тут же к ним метнулся крутящийся поблизости половой и с поклонами повел Мавродаки, показывая дорогу. Тот пнул ногой дверь комнаты и застиг ее испуганную обитательницу, которую за минуту до того успела предупредить Манька. Клим был в отъезде с поручением.
– Ну, что, баронесса? – гость оглядывал убогое обиталище, скривив тонкие губы. – Вот и встретились? Вот, значит, где Вы теперь обитаете! Придорожной шлюхой изволите служить? Так-так. А гонору-то было! Попрошу со мной в апартаменты.
– Извольте выйти вон! – у Тани тряслись губы. – Я Вас не знаю.
– Ну, так узнаешь, красавица! – улыбался противной улыбочкой Мавродаки. – Я ж тебе еще год назад предлагал узнать меня, а ты все нос воротила. Извольте сейчас! Татьяна Осиповна?
– Вы меня с кем-то путаете! – Таня была бледнее бумаги. – Я певица, и Вы не смеете разговаривать со мной в подобном тоне. Извольте выйти!
– Пойдешь, коза? Пойдешь – миром обойдемся. Я даже муженьку твоему не скажу, что тебя нашел. А нет – так за мной не залежится! Завтра же здесь полиция будет. Разнесут этот вертеп до донышка! А, хозяин?
Хозяин, подслушивающий из-за угла, стоял – ни жив, ни мертв. Он так и не мог понять, ошибается заезжий господин, или эта скользкая девица, таким странным образом появившаяся в его доме, вот-вот подведет их всех под монастырь? Но тут на подмостках появилась Матрена Антиповна и, проявив вдруг женскую солидарность, вступила в мизансцену.
– Ну, обознался, касатик, так признайся, – миролюбиво попыталась она увести гостя из жилых помещений.
– Ты меня за рукав не хватай, тетка! – заорал на нее Мавродаки. – На эту… женщину розыск объявлен. Ее муж на нее все права имеет. Полнейшие!
– Ты что ли муж? – скрестив на груди руки, застыла в проходе Матрена. – Ты что ли права имеешь?
– Ну, не я! Так что же! Я ее мужа сто лет знаю, и ее ни с кем спутать не мог. Мы с ним в одном полку уж третий год служим!
– Ну, раз у тебя самого правов на нее нету, так и, пожалуйте, на выход, господин любезный, – Матрена указала ему направление.
– Ты белены объелась, тетка? – офицер явно не привык к такой бесцеремонности. – Да я ж полицию сюда приведу!
– А и веди! Вот приведешь – так все вместе и поговорим! И ты меня полицией не пужай! – мирная Матрена вмиг превратилась в хабалку и стала грудью наступать на Мавродаки, вытесняя его из узкого коридора в общий зал. – Нашел чем напужать! Идол! А ну, изыди! Я тут – полновластная хозяйка. Тут все права у меня и есть – вот туточки! У меня! У ну, иди своей дорогой! Погуляли, барин, и будя! А то сейчас полицию на тебя, дебошира, позову!
– Ну, вы меня еще попомните! – офицер ретировался к сеням. – Ну, вы все еще пожалеете об этом дне!
Когда дверь за ним захлопнулась, Матрена обессиленно опустила руки и, отмахнувшись от мужа, прошла обратно, в комнату к Зинаиде. Она зыркнула на крадущихся вслед любопытных домочадцев и плотно затворила за собой дверь.
– Ну, вот что, дева, – спокойно и серьезно вещала она Тане. – Или, как Вас там теперь – Ваше благородие? Уходить тебе надо. Этот не угомонится, сильно ты ему, видать, запала. Про мужа-то не врал?
Таня молчала, опустив голову.
– Ну, так, так, – пробубнила Матрена. – Собирайся. Деньжат-то хоть поднакопила? Лошадку тебе снарядим, до станции подбросить велю. А там уж, не обессудь.
– Где Клим Валерианович? – только и спросила Таня. – Не бойтесь, до света меня здесь не будет.
***
Через час вернулся Клим. Таня кратко и без слез рассказала ему все, чего он не знал до сих пор. И про добровольное сутенерство мужа, и про сегодняшний визит.
– Что же делать, Танечка? – как он до сих пор называл ее при волнении, спросил растерянный Клим. – Полиция – это… От полиции я не смогу Вас…
– Что делать? – горько усмехнулась Таня. – Бежать. Снова бежать. Такая, видно, мне судьба написана.
– Господи! – он, вдруг осознав все происходящее, тяжело опустился рядом с ней на кровать и обхватил голову руками. – Куда же Вы пойдете? Одна?
– Клим?
– Да?
– Вы так… Так заботились обо мне, – Таня прикусила губу. – Никто так обо мне…
– Не надо, Танечка! Давайте спать ложиться. До рассвета уж почти и времени-то не осталось. Вам надо отдохнуть перед дорогой.
Таня легла прямо у него за спиной и отвернулась к стене. Клим задул свечу, горевшую рядом, и хотел уходить. Но тут горячая ладонь перехватила его ледяную руку.
– Не уходи!
– Что Вы, Таня, – Клим остолбенел.
– Останься сегодня здесь. Забудь ты свой сундук! – Таню почти лихорадило, она развернулась снова к нему лицом, хотя он и не видел его в темноте.
– Танечка, не надо, – Клим попытался разжать ее пальцы, но она крепко держала его, так что он чувствовал, как впились в его кожу полумесяцы ногтей. – Татьяна Осиповна. Вы утром пожалеете.
– Не уходи! Мне страшно.
– Я посижу, посижу тут.
– Иди ко мне!
– Я лягу, я тут рядом полежу с Вами. Танечка! Что Вы делаете!
Клим почувствовал ее соленые от слез губы на своих губах и тут же утонул – в ее кудрях, в аромате ее волос и тела, в ее ласках.
Он проснулся, когда звякнул об пол, уроненный гребешок. Таня уже была полностью одета, причесана и готова к отбытию. Он посмотрел на нее с тоской и надеждой.
– Ну, вот! – она попыталась изобразить в голосе задор. – Я готова. Хорошо, что Вы проснулись. Давайте прощаться.
– Танечка! Таня! – Клим что-то судорожно натянул на себя и встал. – Я никуда тебя… Я одну Вас не отпущу! Таня, милая! Позвольте поехать с Вами?
Клим уже чуть не плакал. А Таня улыбнулась и велела:
– Только мигом!
Он вытащил все прибереженные деньги, попытался отдать ей, но услышал:
– Деньги должны быть у мужчины.
Клим Неволин задохнулся от счастья. Быстро покидал в узел какое-то шмотье. Подхватил Танины вещи, и они вышли на двор, где стоял утренний прохладный туман. Она почти весело посмотрела на него, начиналась новая страничка в жизни. А, будь оно, что будет! Раздался вдалеке стук копыт и дребезг дорожной повозки. Была еще надежда, что это ранние путники спешат на постой, но…
Таня бросилась к воротам, Клим с трудом поднял огромный засов и тут створки сами распахнулись. На дороге гарцевали несколько всадников, в казенной пролетке виднелись полицейские мундиры, а прямо перед ними стоял спешившийся Василий Людвигович фон Адлер. Весь полк дислоцировался, оказывается, неподалеку. Летние маневры! Мавродаки не понадобилось скакать за Таниным мужем в другую губернию.
Поняв все сразу, Таня смирилась, не желая причинять неприятности людям, которые ее приютили. Сейчас посреди двора стоял совсем иной человек, не та взбалмошная, капризная и самолюбивая до глупости барышня, что вышла из ворот Института благородных девиц всего лишь позапрошлой весной. Она спокойно усмехнулась, увидев супруга, полезла за корсаж, развернулась к Климу, и, отдав ему пачку ассигнаций, сказала: «Сбереги!». Васенька не посмел спорить о деньгах на людях. Таню увезли.
Клим побрел обратно к дому. По дороге ему попался валявшийся узелок. Он со всей силы пнул его, потом сел прямо в пыль и разрыдался. Опять! Опять он ничего не может удержать в своей жизни! Что же это за судьба такая! Рано или поздно все, все от него уходят, уезжают, пропадают. Вышла во двор Матрена. Закрыла раззявленные ворота, подошла. Постояла. Потом решительно взялась поднимать его за плечи.
– А ну, хватит! Пойдем в дом. Пойдем, пойдем.
Она по дороге умыла его, как ребенка, у рукомойника, сунула в руки полотенце. Придя в его каморку, она оглядела разоренное жилище, вздохнула.
– Ты вот что, Климент Валерьянович. Ты руками-то что делать умеешь?
– Я? – Клим поднял на нее непонимающий взгляд. – Я что-то должен сделать? Почему руками?
Он оглядел свои руки, про которые только что думал, что они ничего не могут удержать.
– Вон избы новые отстроили, – непонятно к чему вела Матрена. – Резчики к нам приехали. Это лучшие умельцы на всю волость! Пойди. Постой и посмотри, может, выучишься. А как хошь! Хоть лошадок из полена вырезай, хошь я тебе вязать покажу как, но только ты думки свои гони. Занятие себе какое найди. По сердцу! А то, так люди с ума-то и сходят! Умеешь чего, спрашиваю? Что раньше делал? Чем занимался, окромя службы?
– Я? – Клим еще всхлипывал. – Я раньше вирши слагать пробовал. Да, говорят, плохо получалось.
– Мне без разницы как! Вот возьми листочек и чернила, да сочиняй вволю. Только не сиди сиднем! Моему скажу, чтобы услал тебя куда побыстрее. Все при деле будешь. А сейчас спи!
***
Таня заболела еще в дороге. То ли сказалось сильное душевное напряжение, то ли она подхватила что-то в поезде, но привез ее Василий домой в совершеннейшей лихорадке. Таня болела всего третий раз в жизни. Болела долго и тяжело, как бывает с людьми физически крепкими, не поддающимися мелким хворям. Гарнизонный врач качал головой, а муж не заходил к ней, опасаясь заразы, только смотрел с порога. Один раз, заметив, что Таня пришла в себя, соизволил заговорить с ней:
– Вечно с Вами какие-то проблемы, милая моя! Снова пришлось просить отпуск. О Вашем поведении поговорим потом. Вы, сударыня, опозорили меня!
Миновал кризис, стало понятно, что Таня выживет. Доктор стал навещать пациентку все реже. Никто не заходил к ней, бывало, целыми днями. Вернулись остальные офицеры полка, лето кончилось. «У тетушки рожденье», – с тоской думала Таня, хотя за время своего житья на выселках, даже думать забыла обо всех родственниках и родных. Но, раз они, в лице ее мужа, сами напомнили о себе, то возвращалась и вся остальная, невыносимая баронская жизнь.
Таня выздоравливала. Она исхудала, почти ничего не ела. Когда начала вставать, то вечерами за стол с мужем не садилась, клевала днем, что попадется под руку, без аппетита. Но муж уже считал ее окрепшей и начал третировать настойчивыми просьбами написать отцу или тетке, чтобы выслали денег, ведь ее леченье ему дорого стало!
Не обошлось и без Мавродаки. Он получил порцию славы, поведав одиссею незадачливой баронской жены. Он ославил ее на весь городок, выслушивая восторги его ловкости и везению. Да-да, везению! Полиция вон сколь искала – не нашла. А он! Но ему было этого мало, и он решил насладиться еще и унижением жертвы. Он снова явился в дом Васечки, когда того не было дома и снова настойчиво требовал плотских утех, потому что смешно же, право слово, теперь-то! После целого года в притоне!
Таня не хотела даже видеть его, не велела пускать, но разве удержишь движущийся паровоз? Вольдемар охамел до такой степени, что посмел применить силу. Применять силу к немощной после болезни женщине, да и вообще, ко всякому, кого заведомо считаешь слабым, не всегда оказывается безопасным – непривыкшая к борьбе сущность может не рассчитать свои силы, и, так сказать, превысить пределы допустимого. Мавродаки обнимал Таню, мял платье, лез ей губами в самое ухо и, возможно, не без намерения привлечь внимание сторонних зрителей, прижимал ее к подоконнику, сорвав при этом кружевную занавеску. На окне строевым рядом стояли горшки с геранью и бальзамином. Один из них, даже в ослабевшей руке, оказался неплохим защитным оружием. Вольдемар рухнул с рассеченной головой у ног несостоявшейся жертвы насилия.
Таня моргала, глядя на распростертое тело, а в комнату никто не входил – прислуга боялась гнева любителя горяченького и ни на какие шумы не реагировала, как и было ей заранее велено. Таня нервно рассмеялась. Она выглянула в окно – улица была пуста в это время, концерт Вольдемара не удался со всех позиций. Лишь вдалеке бегали, поднимая пятками пыль, мальчишки. Таня накинула на себя пелерину – Мавродаки все-таки удалось оторвать ей ворот платья – и вылезла из окна. Никто не подумал остановить ее, она благополучно дошла до околицы. Сил было еще мало, поэтому на первом же поле, встретившимся ей по пути, Таня увидела скирду соломы и побрела к ней. Она обошла ее и прислонилась, сидя спиной к дороге. Потом закопалась вглубь и впала то ли в сон, то ли в болезненное забытье. Она слышала отдаленные крики и цокот копыт, но ее это больше не интересовало и не тревожило. Она еще пару раз приходила в сознание, но после снова проваливалась в блаженную темноту.
Возможно, если бы она прошла сегодня по солнцу чуть дольше, или, если бы встретила людей, которые заставили бы ее что-то говорить, что-то делать, да просто куда-то идти, то этот день стал бы последним для нее. Но ее не нашли – видимо никому и в голову не пришло, что беглянка устроит привал так скоро, не отойдя толком от места преступления. Таня окончательно очнулась от ночной сырости и прохлады. Она встала, напилась из попавшегося на пути колодца и пошла наугад дальше, как говорится – куда глаза глядят.
***
Тит Силантьевич Багряный был человеком не только важным, но и видным. Высокий рост, ширина могучих плеч, глубокий бас – все эти качества стали не последними при назначении его несколько лет назад на должность уездного исправника. Имея на огромном пространстве власть почти единоличную, не распространявшуюся лишь на губернский город, у которого было свое собственное начальство, эта должность требовала, как считали некоторые, носителя не только личностных, так сказать, внутренних качеств, но и обладателя чисто внешних атрибутов, способствующих устрашению многочисленных подчиненных. А уж, где страх, там и уважение, думали они. А где уважение, там и порядок.
С Титом Силантьевичем все это сочеталось, но не более чем в том самом внешнем, представительском проявлении. Господа становые приставы, хоть и с опаской ждали его визитов с обозрением уезда дважды в год, да знали за ним такую особенность: накричав на провинившегося служаку, Тит Силантьевич становился багров, что давало лишний повод для шуток в отношении его фамилии. Но все же знают – люди легко краснеющие, так же легко и отходчивы. Простит! Пожурит и простит.
Нынче его ждали в N-ском отделении. Зная вкусы начальства, местные служаки подготовились – заранее сгоняли в трактир за расстегайчиками, из дома их жены прислали соленых огурчиков да моченых яблочек. Все было готово, самовар уж расфуфырился, поспел к самому приезду, но начальство вдруг велело обождать. Сначала – неприятное дело. Предстояло учесть все паспорта и виды на жительство лиц, скончавшихся на подопечной ему территории за время, прошедшее с прошлой поверки. Не за едой же! Да еще к тому же померещился начальству девичий плач. Не бабский, а именно, что девичий! Уж будучи отцом двух барышень на выданье, он того с другим не перепутал бы. Ах, как не вовремя эта поездка. Сейчас бы дома сидеть, совсем о другом думать. Да, ладно.
Тит Силантьевич отрастил себе бороду, как у нынешнего императора, а замашками во всем превосходил скромного государя – любил широкие жесты, степенство, открывающиеся перед ним двери, накрытые столы. Но не подобострастие! Сейчас он в сопровождении немногочисленной свиты следовал в кабинет тутошнего начальника, который предоставлен был ему на время проверки отделения.
– Ну! Показывай, что тут у тебя накопилось? – смотритель уезда опустился в кресло, которое показалось ему маловатым по размеру, примерился, шевеля внушительным седалищем, прислушался, не скрипит ли.
Становой пристав кивнул сотскому, и тот вытащил из шкафа стопку бумаг, аккуратно водрузив ее перед начальством.
– Ух, ты, ух, ты, ягоды и фрухты! – воскликнуло начальство. – Этак мы тут до ужина просидим. Что так много-то?
– Так, Вы же знаете, господин уездный исправник – тут и с соседней волости документики, Вы же сами пожелали туда крюк не делать. Подвезли-с. Да еще пришлых много в этом годе у нас почили. Так что их тоже Вам придется учитывать.
– Ох, грехи наши тяжкие, – вздохнул уездный исправник, стал перебирать бумажки и снова прислушался. – Да что это там, действительно кто-то хнычет у тебя что ли?
– Да… – замялся становой и ладошкой показал сотскому выйти и разобраться. – Да это так. Пустяки.
Широкая улыбка подчиненного чем-то не понравилась Титу Силантьевичу.
– А ну, не крути! – велел он. – Что там у вас? Еще не хватало мне, чтобы потом слух пошел, что тут пытали кого-то, да именно, что при моем визите? Отвечать!
Он хлопнул ладонью по столу, стопка бумаг рассыпалась. Сунулся было сотский с отчетом, становой шикнул на него – уж лучше объясняться с начальством без свидетелей.
– Да девица тут одна, – мялся он, собирая с пола листы.
– Что за девица? Обалдел ты, что ли! Ты еще – задержанных в управлении разведи. Совсем тут распустились! Почему не в остроге? Что здесь делает какая-то девица? – уездный исправник стал багроветь.
– Да куда ее в острог, – как-то непонятно повел плечами становой. – Жалко.
– Тьфу ты! Работнички. Гулящую девку тебе жалко? Совсем уж!
– Да не гулящая она, – становой пристав и сам был уже не рад, что связался с приведенной утром странницей. – Говорит, на богомолье. Врет.
– Почему врет? – Тит Силантьевич ехал сюда долго, чай пил спозаранку, сейчас у него уже сосало под ложечкой. – Да не тяни ты! Доложи по форме!
– Докладываю! – становой вытянулся во фрунт. – Задержали девицу. Документов при ней нет. Видом из благородных. Про родных молчит. Плачет.
– Тьфу! – снова выругался в сердцах начальник, понимая, что трапеза откладывается. – Ну, давай ее сюда, что ли. Уж как-нибудь разберу ваши сложности.
Привели Таню. Даже в своем измотанном и помятом виде, она была статна и хороша. Тит Силантьевич оценивающе протянул:
– Ух-ты-у-уууу-ух-ты! Какие тут ягоды и фрухты! Это ж…
Более он ничего не успел изречь, потому что задержанная девица прямо перед ним пала в обморок.
***
Таня очнулась и поняла, что полусидит, полулежит в большом кожаном кресле, за массивным дубовым столом, а вокруг нее мечутся трое солидных мужчин – один вообще важный-важный, только растерявший сейчас всю свою грозность, другой тот, что привел ее и еще один, наверно, его начальник. Они махали на нее платками, брызгали в лицо, предлагали воды в стакане и всячески волновались. Она посмотрела на самого важного и все вспомнила.
– Я есть хочу, – без стеснения заявила она и смотрела теперь на исправника в упор, так, что тот даже смешался.
– Ну, давайте, – махнул он подчиненным, смущенный странным взглядом девицы. – Несите, чего там у вас? Знаю же, что готово все!
– Вы только присядьте, присядьте, Тит Силантьевич! – волновался местный начальник. – А то Вы сами того и гляди в беспамятство обратитесь. Вон, на стульчик. А то, что ж я потом Карелии Марковне о Вас докладывать стану? И девочкам?
– Ступайте, ступайте, – успокоило их начальство и присело напротив стола на стул для посетителей. – Ладно все со мной, хорошо.
Таня молчала, пока несли самовар и еду. Потом накинулась на пироги. Потом взяла моченое яблоко и уже с ним в руках, блаженно вздохнула.
– Ох, неладно! – она закатывала глаза от удовольствия. – Ох, не все ладно у Вас, Тит Силантьевич.
– Что это Вы, девица? Мы разве знакомы? Что за фамильярность? – Тит Силантьевич даже обиделся, совсем по-детски. – Я к Вам со всей душой, со всем пониманием. Угощеньями вот делюсь, а Вы? Перед Вами исправник уезда, между прочим. А Вы так, по-простецки!
– А мне, чем выше Ваш чин, тем сподручнее! – Таня выбирала второе яблоко. – А Карелия Марковна, по всей вероятности, Вам супругой доводится?
– Так, так, – полицейский начальник вглядывался в смелую барышню даже с каким-то любопытством. – И к чему это Вы ведете, девица? Вроде как у Вас в руках повод, а на мне сбруя? Чем таким Вы меня в узду взяли? Самому интересно!
– А вот и взяла. – Таня теперь, наевшись, боялась уснуть, так ее сразу разморило. – А интересно будет, когда я Карелии Марковне поведаю о Ваших похождениях в серебряной маске. Про гроб хрустальный. Да про забавы разные. Так-то! Или, может, Вашим подчиненным все рассказать? Прямо сейчас, никуда не трогаясь?
Тит Силантьевич молчал долго, разглядывал Таню.
– Ну, напугала! Ох. Сдаюсь! – шутливо скрестил он на груди руки. – А я ведь и не признал Вас сразу, барышня. Барон говорил, что Вы дворянского сословия. Так ли? Исхудали. Побледнели. Что так?
– Да жизнь такая.
– И чего же Вы в моем страхе из-под меня требовать желаете? – совершенно спокойно продолжал полицмейстер.
Вошел сотский, спросил, не надо ли чего. Таня испугалась, что сейчас разговор прервут, и она так и не успеет сказать, что хотела. Но полицмейстер отпустил младшего по чину, попросил не беспокоить, сам позовет.
– Вы отпустите меня! Иначе…, – Таня запнулась.
– Иначе? Ну, продолжайте, девица. Или не девица уже?
Полицмейстер имел в виду совершенно другое, но попал в точку. Таня испугалась, что он знает про мужа.
– Что? Что? – встрепенулся Тит Силантьевич, видя, что его подопечная норовит снова хлопнуться в обморок. – Да ты ешь, ешь, глупая! Сколь дней не кушала-то?
– Не помню, – прошептала Таня. – Но я больше не могу сразу. Меня уже мутит.
– Ну, тогда с собой дам, не бойся ты меня, не зверь я! – Тит Силантьевич встал и пересел к столу, к Тане поближе.
– Значит, отпустите?
– А вот это мы с тобой сейчас вместе и решим, дочка. Дочка у меня старшая, такая, как ты почти. Пей чаек.
– Я обещаю, что никому не скажу, если Вы…
– Да забудь ты свои угрозы. Не идет к тебе. А этим, – он кивнул на дверь, – даже не заикайся! Запрут как помешанную. Меня-то в управлении уж не один годик знают. Ни в жизнь не поверят. Ты думаешь, я тогда потащился на ту Выставку из большого желания? А на то сборище попал из болезненных склонностей? Дури-ии-ища! Я все, что в моем уезде делается знать должен. Если наших дураков поманили чем, то и я должен то прознать, за ними проследить, да на место их всех вернуть в целости и сохранности, даром что богатеи. Ума-то не у всех… Ты с бароном-то тем не дружишь больше, как погляжу?
– Он уж больше года, как умер, – Таня боялась сболтнуть лишнее.
– Вон оно как. Жалеешь? Родственник он тебе?
Таня так быстро замотала головой, а в глазах ее отразился такой испуг, что прожженный на уловках и не таких затворников полицейский, тут же понял, где собака зарыта. Через полчаса Таня выложила ему все: про мужа, про его любовь к долгам, картам и деньгам, про его нелюбовь к ней, и про опасность от его окружения.
– Да ну, какую-то ерунду ты говоришь, деточка, – не верил ей бородатый исправник. – Чтобы наш, русский офицер! Да быть того не может. Уж, я-то жизнь прожил! Многих армейских среди друзей имею, а такого паскудства не слыхал.
– Папа всегда говорил, что все от командира зависит. Как тот поставит, так и во всем полку станется, – авторитетно заявила Татьяна.
– А папа у тебя кто был? – уездному исправнику даже в голову не приходило, что такие мытарства могут выпасть на долю молодой женщины, почти девочки, если у нее жив отец.
– Генерал, – кратко ответила Таня.
– Ну, то, конечно, верно, – вздохнул Тит Силантьевич. – Но, может, ты не так поняла что? Может, у страха глаза велики? Может, вернешься?
В ответ он увидел такой твердости решимость, что вздохнул и молча стал перебирать бумажки, которые сдвинули при чаепитии на край стола.
– На преступление с тобой иду, – говорил он, слюнявя палец. – И не смей думать, что ты меня запугала. Пожалел я тебя, глупую. Только куда ж ты пойдешь? Есть у тебя во всем белом свете хоть одна родная душа?
– Есть! – твердо ответила Таня, пока не понимая, куда клонит этот большой и добрый дядька.
– Та-ааак. Мещанка, лет двадцати семи… Старовата для тебя, – вслух размышлял он. – Да и дети у нее остались. Не пойдет! Мертвяков-то не боишься? Ну, раз в гроб ложилась, чего уж. Да-ааа. Да и лучше бы дворяночку, чтобы хоть за триста верст можно уехать было. Крестьянка, крестьянка, опять мещанка. Вот. Вдова. Бездетная. Всего-то двадцати трех годков. И что ж ей не жилось, бедолаге! Тебе-то сколько? На, вот, держи. Теперь ты – Стрекалова Вера Михайловна. Только гляди, видишь, где она – ты – родилась и проживала? Так что, будь добра, в Горбатовский уезд ни ногой. Ее там кто угодно знать может. Так что…
– Куда ни ногой? – рассмеялась отчего-то бывшая девица, которая теперь стала – вдовица.
– В Горбатовский. А что?
– Нет-нет! Обещаю там не появляться. Спасибо Вам! – и Таня вскочила и чмокнула полицейское начальство в щеку. – А как же я? Отсюда?
– Сам подвезу.
Таня вышла из повозки за околицей с узелком моченых яблок в руках. Помахала рукой и пошла к какой-то деревне вдалеке, без дороги, через поле. Исправник уезда некоторое время смотрел ей вслед, потом велел:
– Трогай!
***
Счастье Лизы было полным и не замутненным ничем, потому что буквально накануне венчания она получила долгожданную весть от Нины. Лиза писала ей, звала на свадьбу, но, когда ей передали посылку от подруги, поняла, что они не увидятся. Ну, хотя бы что-то узнает она сейчас про Нину, так долго она волновалась за подружку, так долго не было от той никакой весточки. В коробке оказалось нежнейшее белоснежное белье, в нем Лиза и пошла под венец. И всего лишь небольшая записка. Но и ее было вполне достаточно!
«Дорогая, милая, любимая моя Лиза! Ты не представляешь, как рада я за тебя! Как только получила твое письмо, побежала давать работу моим девушкам. Все мерки твои я знаю наизусть, надеюсь, ты не растолстела? Хочу успеть, чтобы мой подарок оказался у тебя к сроку! У меня теперь своя мастерская. Помнишь, мы читали роман? В очередной раз, столкнувшись тут с проблемой поисков достойного внимания белья, я много думала. Размышляя о его важности, о месте, которое занимает хорошее белье в жизни женщин и девушек, я вспомнила твою злополучную резинку! Я видела еще, какие трудолюбивые вокруг женщины, как им просто нет иногда места, где бы применить свои силы. Я видела, в какой бедности, а иногда безысходности строятся их судьбы. Так вот, Лиза! В один прекрасный день все это соединилось в одну цель – мастерские. Мой муж мне не только разрешил заниматься своим делом, он всячески поддерживает меня. Знай, подружка моя дорогая, что пишет тебе самая счастливая на земле женщина! Это – правда. Ты, наверно, удивишься, вспоминая мое прошлое письмо? Да, в таком состоянии я была несколько месяцев, понимая, что даже с моим характером, долго прожить так, как пророчило мне замужество, я не вынесу. Тем более – всю жизнь. Если только не будет она совершенно короткой. Да, были у меня нехорошие, грешные мысли, не стану от тебя скрывать. Родители зимой уехали вдвоем в Тифлис, я была полностью наедине с собой. Как-то после того, как я только что вернулась из храма, прискакал князь Амирани. Я была в таком настрое, что жизнь моя была похожа на лезвие кинжала – тонко-тонко, остро-остро. И я все сказала ему! Лиза! Я знаю, девушки не должны, не могут так поступать. Но мне кажется, что еще тогда, когда стояла я в твоей комнате и смотрела в твое окно, я уже тогда думала только о нем! Я полюбила его, Лиза. Сказав ему об этом, я так мало ценила свою жизнь тогда, что даже стыда не ощущала. Мне просто нужно было избавиться от боли, которая переполняла мою душу. Какое же удивление постигло меня, когда оказалось, что князь испытывает ко мне чувства не меньшей силы. Он просто не смел об этом ни думать, ни говорить. Все решилось легко и просто. Его семье я понравилась, но там никто и не скрывал, что главным в этом браке было желание породниться с родом Чиатурия и улучшить положение за счет приобретенных земель. И я, и земли доставались им, просто я вышла не за племянника, а за дядю. Люблю тебя, моя Лиза! Желаю тебе и твоему художнику такого же счастья, какое чувствую сегодня я!
Княгиня Нина Кинулидзе»
***
Путеводный колобок сиял сегодня в груди Лизы особенно ярко, грел маленьким солнышком, иногда подступая какой-то щемящей нежностью прямо к горлу. Казалось, так было и так будет всегда. «Наверно, это и значит – изменить сущность, – подумала Лиза. – Потому что я сейчас стала другая. Вот-вот стану. Оставаясь собой, я одновременно делаюсь какой-то новой, такой, что больше и важней прежней Лизы. Теперь я – это не просто я. С нынешнего дня – я еще и жена этого человека!»
Тут она посмотрела на Льва Александровича и встретила ответный взгляд, глубокий и серьезный, подобающий моменту. Они стояли у подножия лестницы, со всех сторон их окружали близкие, родные люди. «Я – жена этого взрослого, красивого и умного, самого лучшего человека на земле. И так теперь будет всегда!», – Думала Лиза, и душа ее наполнялась каким-то новым теплом. И он настолько ценит ее, настолько доверяет ей, Лизе, что выбрал ее изо всех женщин на свете. И он любит ее. И она его любит. А это значит, что у нее, и только у нее, есть нечто, что может сделать этого сильного, талантливого, самостоятельного мужчину счастливым. И она понимает и чувствует это. И сама счастлива неимоверно!
Лиза улыбнулась Льву Александровичу одними глазами и заметила ответный свет его взгляда. Он в знак поддержки прикрыл глаза и чуть кивнул ей одобряюще. «Как же можно было не заметить этого раньше! – подумала Лиза. – Ведь это было понятно еще тогда! Вот тогда, когда стояла она у служебного подъезда Главного дома на ярмарке, смотрела на окна верхнего этажа, угадывая, за каким из них может скрываться господин архитектор. Когда потом распахнулась дверь, и он выбежал прямо к ней, и даже ругал ее за что-то в тот день. Разве не ясно было все это тогда? Или даже еще раньше! В пролетке, где ей стало плохо, а он бережно ухаживал за ней, как за ребенком. Или еще раньше?»
Тут двери распахнулись, и настала пора входить в прохладный полумрак храма. Лиза услышала за своей спиной вздох и каким-то образом догадалась, что это – папа. Она почувствовала, как Лев Александрович легко пожал пальцы ее руки, и они вместе ступили за порог.
Эпилог
***
А что же сталось с другими героями этой истории? Многих жизнь увела из нашего поля зрения, затеряла на огромных просторах Российской империи. Хотя не все из них до сих пор живут, не покидая ее пределов. Сергей Горбатов исчез из Нижнего Новгорода, никто не знает о месте его пребывания, даже тетушка. Возможно, ему удалось обойти все преграды и опасности и ведет он теперь европейскую богемную жизнь, как и грезилось ему в мечтах. Может быть он даже счастлив, если только может быть счастлив человек, навсегда покинувший родную землю. Так ли это? Никто не знает.
Варвара Михайловна страшно переживала его исчезновение, пыталась разыскивать, ходила даже на поклон к Удальцовой. Та лишь покачала головой: «Милочка! Вы бы уж обустройством собственной жизни озаботились бы. Не пара вам мой племянник, как ни горько мне это признавать. Эгоист и нахлебник! Найдите себе мужа надежного, с которым всю жизнь как за каменной стеной. Капиталы-то наши хорошо, да то – все временное. И не такое важное. Вот сижу я на своих мешках с деньгами, а на душе кошки воют! Вы – молодая, может Бог деток еще пошлет…» Мамочкина ушла от нее расстроенная, но поиски, позорящие ее перед людьми и выматывающие всю душу, прекратила. Заезжал утешать ее капитан Емельянов. Они стали часто появляться вместе, он вывозит вдову в театр и на прогулки. Поговаривают, он за ней ухаживает.
А Удальцова явилась как-то в особняк Полетаевых и просила у Андрея Григорьевича совета: «Вот, господин хороший, осталась я одна-одинешенька. Ни детей, ни племянников. Сама виновата – так воспитала. Так ты, друг любезный, помоги мне душу мою залечить. Денег-то у меня – куры не клюют! А ты нынче, слыхала я, в опекунском совете. Присоветуй. Может, школу какую для сироток поставить или больничку?» Теперь они оба заняты совместным проектом – за городом возводится приют Святой мученицы Татьяны для неимущих женщин и девочек.
Уехали за границу и родители Нины. Все-таки долгое пребывание в России и привычка к большому городу отложили отпечаток на запросы и потребности княгини. Князь увез ее развеяться после удачного замужества дочери, которую теперь спокойно можно было оставить с человеком, который заботился о ней так, что только пылинки не сдувал. Какой город они выберут для постоянного житья после возвращения в Россию, князья Чиатурия пока не решили. Может быть, вернуться в Нижний Новгород, может быть, обоснуются в Тифлисе, может быть князю предложат службу и тогда они выберут столицу. Лев Александрович, кстати, тоже обещает свозить Лизу в Италию, взамен свадебного путешествия, которое у них так и не состоялось. Но пока не выходит – все дела, дела…
Алексей Семиглазов после исчезновения Хохлова, вдруг, почти неожиданно для себя самого, оказался в центре революционной работы. Сначала не могли найти товарища, который согласился бы поехать на сходку в Москву. Алексею как раз надо было завершить там свои дела, и он взялся. Так как его узнали и запомнили те, кто съехался туда из других городов, то связываясь после с нижегородскими социалистами, многие обращались именно к нему. Со временем они втроем с Петром Олениным и Игнатом Кириевских сделались активными и центральными кружковцами в городе. Лида вышла за него замуж. Случилось это еще той зимой, когда мы видели ее на обрыве у Волги. Алексей ходил за ней незаметно, боялся, следил, потом вдруг проявил характер и заставил выслушать. Лида сильно злилась, когда он появился у нее из-за спины и оттащил от края пропасти. С ней случилась истерика, но Алексей переждал и высказал ей свое предложение.
«Поймите, Лида. Холод и сырость могилы – это все, точка, ничего не будет больше. Да, не будет боли, но не будет и завтрашнего дня. Вы, наверно, можете решать подобное для себя, но никто не давал Вам права решать это за не рожденную еще душу. И я не позволю Вам!» Лида плакала еще горше, порывалась кинуться вниз прямо сейчас. Алексей вытерпел все и, когда они оба сидели на заледеневшей земле, гладил ее, затихающую, по пушистым волосам: «Вставайте, ребеночка застудите. Вставай сейчас же!» «И про ребеночка знаешь?» – горько усмехнулась она. «Знаю, – отвечал Алексей. – И кто отец его знаю. Вот Вы не знаете, Лида, что такое расти одному. Быть одному всю жизнь! Вы выросли в семье, в большой семье! И не подозреваете, что это за благо! Выходите за меня. Тогда я смогу жить у вас не на птичьих правах, а вы все действительно станете моей семьей. А у ребенка будет отец. И у Вас сохранится доброе имя. Подумайте, это не так страшно, как комья земли сверху. Я буду ждать».
Лида подумала и согласилась. Хотя долго еще мстила и мужу, и себе, и всему миру за то, что сложилось все не так, как хотелось. Характер ее испортился, она стала злой и мелочной. Но, когда родился малыш, все силы свои она посвятила ему. Она стала сумасшедшей матерью! Даже Ольгу Ивановну она с опаской подпускала к внуку, не доверяя той ни стирку, ни пеленки. А Леночкино заикание со временем выправилось – сказались заботы вначале сестры, а потом – матери.
Егоровна оставила своего благодетеля и живет теперь в Москве. Да-да, Лев Александрович достроил свой особняк, там они и обосновались с молодой женой. «Наташа о твоем отце и без меня позаботится не хуже, доню, – говорила няня Лизе Борцовой после венчания. – А куда уж ты без меня? Не-еееет! Я вас не отпущу так. Уж выделите мне там комнатенку какую, хоть каморку под лестницей». Теперь в ее распоряжении весь нижний этаж с кухней, службами, домовыми слугами. Жильцы тоже покорно слушаются Егоровну, хотя среди них попадаются разные по характеру. В доме получилось двенадцать квартир и квартирок, есть в нижнем этаже шляпная мастерская, тут же, наверху, живет и ее хозяйка. Одна из квартир пустует, числясь за каким-то военным. Остальные заселены людьми разного достатка, но все вроде жильцы смирные.
Немного беспокоит владельцев лишь девятая квартира в антресолях – никто долго в ней не задерживался до сих пор, жильцы ее постоянно меняются. Лев Александрович, правда, подшучивает над заботами жены, когда та разыскивает нового поселенца, дабы не пустовали апартаменты: «Лиза, мне кажется, что это даже хорошо, что нет в этом жилище постоянства! Мне представляется, что не дурно бы в каждом доме иметь такую девятую квартиру – никогда не знаешь, что приготовит тебе завтрашний день, кого приведет. Это заставляет держаться в тонусе и не терять интереса к жизни. Как ты считаешь?»
Жил в девятой антресольной, по началу, еще один военный, из мелкопоместных дворян Рязанской губернии, да выиграл в карты столько, что нынче проживает на бульваре, в собственном особняке. Жил там семинарист, да получив приход, отбыл через полгода. Была и одна приключенческая история, почти криминальная, но, слава Богу, все обошлось! Жили там и девицы, бывало, и дамы. Но одна быстро вышла замуж, другая – получила хорошее место в другом городе. Жила, будучи проездом в Москве, Лизина товарка по Институту, арфистка Анечка Елагина. Ее концерты прошли с огромным успехом! Сама Лиза берет уроки фортепиано у одного из консерваторских профессоров, ее игра стала еще глубже и серьезнее. Арина Мимозва осталась в Нижнем Новгороде, там, где учатся ее сестры.
Савву Борисовича после многомесячных мытарств, конечно же, выпустили, выяснив каждый день, каждый шаг его, после вступления в железнодорожную конфессию, и ни одного предосудительного факта не обнаружив. «Знаешь, Вронечка, – говорил он после освобождения супруге, – мне иногда казалось, что они и мысль мою каждую занесли в реестр, да гербовой печатью закрепили!» Способность к шуткам у него сохранилась, хотя былого размаха в полете уж нет – крылышки ему эта скверная история пообломала. Пропавших денег так и не нашли, сбежавшего банковского работника – также. Савва проводит почти все время теперь с семьей, наверстывает упущенное с младшей дочуркой, первый год жизни которой он почти полностью пропустил по независящим от него обстоятельствам. Жена его, поглаживая свой вновь округлившийся живот, поговаривает: «Да, не зря я на свидания к тебе с такой регулярностью бегала. Вот и результат!», а Леве сказала: «Ничего, Левушка! Еще полгодика и отойдет, душа-то в нем осталась израненная, да живая. Еще услышим мы про размах Саввы Мимозова, помяни мое слово!»
Лев Александрович не бросает службу на фабрике Шульца, но, конечно же, это не может заполнить всей его творческой палитры. Сил и задумок в нем много, он постоянно ищет себе большого дела с тех пор, как достроил свои и Саввин дома. Но и он, обжегшись на проекте музея, в большие авантюры больше встревать не желает, а ждет, когда установится ясность в его душе и она сама подскажет ему, к чему ее нынче влечет. А пока господин архитектор наслаждается безмятежной жизнью с Лизой. В последний момент он переделал часть своего проекта, и Лиза увидела изменения тогда только, когда муж привез ее в Москву. Над особняком возвышался горделивый лев, но лапа его нынче не попирала земную твердь, а придавливала распластавшегося дракона. «Вот, Лиза! – объяснил ей Лева. – Пусть он служит напоминанием о побежденной гордыне, которая всегда норовит поднять голову. Тебе так нравится?»
Решилось все, как часто бывает, божьим промыслом, так как господин Борцов оказался личностью известной. Однажды, получил он по почте письмо с просьбой о встрече, согласился. Писал ему некий барон Галактион Карлович Корндорф, прибывший после многолетнего отсутствия в Россию и услышавший о таланте Льва Александровича.
– Кто же рекомендовал Вам меня? – спросил Лева невысокого господина средних лет при первой встрече.
– Знаете ли, дорогой Лев Александрович, прибыв в Нижний Новгород, мы с дочерью человек от пяти слышали Ваше имя, когда говорили о строительстве. Да, не меньше! Кто был первым, даже не припомню, – барон размышлял вслух: – Может быть, Павел Афанасьевич…
– А! Так Вы приехали из Нижнего! – обрадовался Лева. – Ну, с Павлом Афанасьевичем мы служили вместе. Да и вообще, с этим городом у меня многое связано. Моя супруга оттуда, там проживает ее отец.
– Вот, мы и подходим к сути моей нижайшей просьбы, дорогой мой! Отец! Именно отцовские заботы тревожат меня больше всего сейчас. В Нижний, как Вы его изволите называть, привело нас не очень радостное событие – мой брат оставил мне там наследство. Каюсь, я больше года не спешил покинуть мой дорогой Зальцбруг, но там дела наши совсем разладились, а дочка как раз подросла, – при упоминании о дочери голос барона теплел. – Знаете – весь этот романтизм, воспитание на читанных сто раз приключениях героев – легенды, сказки? «Я, папа, всегда мечтала быть принцессой!» Подземелья, гроты, сокровища… Эх! Не смог я сундуков с алмазами ей в приданое припасти, да тут как раз про наследный дом этот вспомнили. Она мне говорит: «Папа! У меня будет свой замок! Вернемся же в Россию!» Ну, собрались и поехали, – Галактион Карлович ненадолго замолчал. – Замок принцессы! Вы, говорят, именно что такой, своей супруге и отстроили? Да так, так! Я уж ездил, глядел. А в Нижнем нас ожидало разочарование, скажу Вам сразу, молодой человек. Дочь как увидала эти мрачные коридоры, темные лестницы, серые стены. «Это, – говорит мне, – замок какого-то дракона, а не принцессы». Ну, вот расстались мы с тем особняком, продали, явились сюда, к Вам. Где скажете, там и организуем строительство, если возьметесь.
Лев Александрович взялся.
– Лиза! – восторженно говорил он вечером своей жене. – Представь, какой полет для фантазии! Сказочные замки! Да пока существуют отцы, которые считают своих дочерей принцессами, дел мне хватит на всю мою жизнь! Ты как думаешь?
***
Клим Неволин жил ожиданием. Он не уехал с бутырок, сидел там сиднем, понимая, что Татьяна сможет его отыскать только там, когда сможет. Когда захочет. Если захочет. Он все-таки научился за этот время многое делать руками, Матрена была права – труд физический, требующий усилий и внимания, дающий здоровую усталость, он лишь и был спасением для тоскующей души. Клим вернулся было к сочинительству, складывал слова, подбирал рифмы, надолго застывал над пустым листом. Не складывалось и не легчало. Каждое слово, каждый образ уводил его в ту пору, когда она была рядом, а душа его была целой. Один только романс сложил он в своих мучениях. Вот лежит он теперь, аккуратно переписанный, и ждет Таню. Вернется она, будет ей новая песня, пусть поет. И денег ее он не смел тронуть. Она же велела: «Сбереги!», значит – вернется.
Но проходила неделя за неделей, еще одна, месяц, второй, зима, лето. Приближалась очередная осень. Клим сидел с молотком в руках и починял Маньке сбившийся каблук на ее красненьких щегольских ботиночках. Тут и сама она возникла на пороге его комнаты.
– Ну, и чего Вы зависли в дверях, нетерпеливейшая особа? – Клим вынул мелкие гвоздики изо рта, не умея что-либо делать, когда кто-то стоит над душой. – Идите с богом отсюда, премного буду Вам за то благодарен. Ну, только же взялся! Подождите же хоть полчаса. Вот ведь!
– Клим Валерианович, Вы это, – Манька оглядывалась на кого-то в коридоре. – Вы гвоздики-то положите от греха. Там это. Вы бы это.
– Тьфу! Ну что за невразумительное повествование, право слово? «Это», «это». Что там стряслось, любезнейшая Мария Ивановна, поведайте мне с расстановкой и толком?
– Там это, – Манька расползлась в искренней улыбке. – Там графиня наша возвернулась. Да не одна. С ребеночком.
Клим выронил молоток и стал зачем-то вытирать руки об рубаху. Потом медленно встал. Потом рухнул обратно. Слышались голоса, видимо, все встреченные по дороге сюсюкали с младенцем и приветствовали блудную певицу. Наконец, она пробралась через толпу любопытствующих лиц, и Клим увидел их в проеме двери. На руках Таня держала ребенка, лет, наверно, полутора. Сразу было видно, что это девочка, так она походила на мать. И то, что это именно родная мать держит ее на руках, никакому сомнению не подлежало.
– Здравствуйте, Клим Валерианович – Таня переступила порог и, по-хозяйски пройдя мимо Клима, усадила дочку на сундук у окна.
Обернулась. Молча смотрела на дверь, пока ту не прикрыли с другой стороны. В коридоре все затихло. Клим поднял на нее глаза и сразу понял, что вернулась она не к нему, что ей нужен отдых на пути, не более. Но он так рад был, что она именно его выбрала для своей передышки, что тут же улыбнулся ей навстречу, потом засуетился, стал раздевать, усаживать. Кинулся кормить.
Ближе к вечеру они сидели и разговаривали «обо всем», как бывало раньше. Клим захотел отдать ей деньги, она сказала: «Потом, потом…» Со смущением показал романс, она прочла, встала и поцеловала его сидящего в макушку. Свернула листочек и спрятала себе за корсаж. Потом рассказала, как жила эти два года. Ее обмороки в кабинете станового пристава были не от голода. Через пару недель она поняла, что готовиться стать матерью и стала думать, куда бы приютится на это время. Вернуться сюда боялась, так как муж это место уже знал. Нашлись добрые люди, пригрели. Зайдя в изнеможении в какую-то сельскую церквушку, так там она и задержалась. Осуждения не было, она показала документы вдовы, ее даже жалели. Врала, да. Она учила поповских детей музыке, ей давали кров и пищу. Родилась девочка. Окрестили Наденькой. Как только девочка окрепла для дальних путешествий, Таня направилась сюда. Нет ее душе покоя. Сколько же врала она за это время! Как хочется повиниться, открыться. Даже на исповеди не смела. Пришла вот сюда, к нему. Иначе невыносимо жить.
– Прости меня! – слезы текли по Таниным щекам. – Прости! Ты простишь – и многое мне простится, я знаю.
– Да за что ж, Танечка! Ну, прощаю, прощаю, конечно! Не плачьте, милая. Да и что ж такого? Ну, кто ж в жизни не солгал? Так не бывает, так не проживешь. Если только в скиту, праведником. А мы ж – в миру, среди людей. Зато вот дочка, какая славная у Вас. Ну, что ж, что лгала. Простится. Хотя бы ради нее!
– И за себя прости, – Таня прикусила губу.
– Прощаю, – тихо сказал Клим.
Таня подняла на него высохшие уже глаза и долго-долго глядела. Потом произнесла:
– Я грешница великая. Я не только лгу. Я, Клим, человека убила.
– Господи! Воля твоя! – испугался за нее Клим. – Как? Когда? Да не может такого быть!
– Может. Может, – Таня опустила лицо.
– Кого? – шепотом спросил Клим.
– Не мужа, не бойтесь, – Таня шмыгнула носом. – Приятеля его, вот, что тогда сюда явился. Вы его видели.
– Да, что не мужа – понятно… Боже мой! Бедная Вы, бедная. Сколько ж это мук-то! Давно это?
– Да вот прямо тогда, почти сразу как уехали. Я болела с месяц, а потом… Сама не знаю, откуда только силы взялись? Но, так, может, и не ушла бы я оттуда вовсе, там бы сгинула. А теперь что ж, – Таня подошла и поправила одеяльце на спящей девочке.
– У него фамилия еще такая странная… Не русская. Да?
– Да, – отвечала Таня. – А я разве называла ее когда?
– Тогда. Ночью. Но я не запомнил…
– Ну, ладно, – Таня вздохнула и повернулась к дверям. – Нам, наверно, пора,
– Даже не переночуете? – Клим боялся заплакать у нее на глазах.
– Да боюсь, – улыбнулась Таня. – Как бы снова муж не нагрянул.
– Какой муж? – испуганно спросил Клим и посмотрел на нее странным взглядом. – Вы что ж, ничего не знаете, Таня?
– Не знаю чего? – Тане стало отчего-то холодно и очень-очень страшно.
Клим отвернулся и снова полез туда, где прежде хранились ее деньги. Он вытащил стопку старых газет и стал судорожно перебирать их, листать, что-то отыскивая.
– Я, Таня, со всех волостей… С губернии той, где ваш гарнизон с мужем… – он продолжал искать. – Я ж у всех приезжающих, даже, если завернуто в них что было… Вот!
Он достал из кипы бережно хранимых им отголосков Таниной жизни одну газету и протянул ей.
– Что это? – она почему-то боялась взять ее в руки.
Тогда Клим сам нашел и прочитал коротенькое оповещение.
– «Штабс-капитан Владимир Мавродаки разжалован и сослан за дуэль, на которой от его руки погиб поручик N-ского полка Василий фон Адлер», – Клим с жалостью посмотрел на Татьяну. – А Вы не знали? Это еще два месяца назад, в июле.
– Как в июле? В каком июле? – Таня снова заплакала. – Значит, я не… Значит, Вольдемар жив?
– Жив, Таня. Но он убил Вашего мужа. Вы это-то поняли?
– О, Господи! – Таня рухнула на постель.
***
Таня с Наденькой остались. Они теперь спали вдвоем на кровати, Клим на своем горемычном сундуке. Таня ходила, что-то делала, даже улыбалась. Но Клим видел, что настоящей жизни в ней нет. Петь она отказалась наотрез. Она, вообще, по всей вероятности, не хотела начинать ничего, что могло снова привязать ее к этому жилищу. Она просто была рядом с ним, о чем-то подолгу думала иногда. Рассказывала истории про поповскую семью, о том, как жили они это время. Как тоскливо и тесно ей было в их мирке, как рвалась она куда-то, сама не ведая куда. Но ее прочно держали дочь и чувство вины. Вина, наверно, даже больше. Казалось ей, что рядом с батюшкой, с его благочинной семьей, с церковью, со службами ей может перепасть благодати и не так страшно будет, как в ином месте. Но признаться не могла. Теперь вот оказалось, действительно, простили, пожалели.
Клим слушал, поддакивал, одобрял. Но все больше проникался чувством, что он тоже является частью такого же тесного и душного для нее мирка. Другого, но такого же. Он видел ее рядом с собой, но никогда не видел ее в мечтах. Он даже в фантазиях не мог представить большего, чем воспоминания. Таня написала в гарнизон и получила свои настоящие документы. Бумагу, выданную ей уездным исправником, она хотела сжечь сначала, а потом отчего-то передумала и припрятала. Она стала часто ходить в церковь, просила ее отвезти с оказией. Вернулась оттуда однажды и велела Климу:
– Собирайтесь, Клим Валерианович. Едем венчаться, я договорилась.
– Танечка, зачем это? – с затаенной надеждой спросил Клим. – Вы ведь дворянского сословия, Вы же потеряете все, если со мной обвенчаетесь. Я для Вас не гожусь.
– Для Нади годитесь, – упрямо, стоя на своем, напирала Таня.
– Ну, если Вы считаете, что я отцом могу… Если девочке отец… Я, конечно.
На венчании Клим плакал. Не смог сдержаться. Надя теперь была записана как его дочь. Вернувшись из села, Таня вела себя как обычно – никому ничего не объявляла, праздников никаких не затевала. Клим боялся говорить с ней о будущем. И боялся наступающей ночи. Таня в этот раз переложила Наденьку на сундук, а постелила им вместе. Легла. Клим снова, как было уже однажды, тянул время. Таня заснула с краю, как смотрела за дочкой. Клим аккуратно пробрался к стеночке и затих.
– Обними меня, – тихо сказала Таня.
Он просунул свою руку под ворох одеял и обнял ее за пояс, прижавшись всем телом к ее спине. Вскоре послышалось ровное Танино дыхание. Клим пролежал, не шевелясь, всю ночь. Слезы катились у него по щекам и вымочили всю подушку, но утереть их, он не смел, чтобы не потревожить Танюшу. Под утро его сморил легкий сон, сквозь который он слышал, как Таня вставала к ребенку, как одевалась, как потом писала что-то. Он понял, что она сейчас уйдет, что он не увидит их больше никогда, и, чтобы не разрыдаться в голос, отвернулся к стене и незаметно для себя уснул уже накрепко.
Проснулся от тишины в комнате. Неужели снова это случилось с ним? Неужели так написано ему на роду – не иметь ничего своего? Никогда? Зачем тогда эта скоропалительная свадьба? Она хотела посмеяться над ним? Нет, не может этого быть! Его Танечка не такая! Просто он знает, всегда знал, что никакого будущего у них нет. Это он лгал себе все эти дни. Лгал перед алтарем, понимая, что все это не взаправду. Это не она, это он – грешник.
Послышалось легкое кряхтение, а потом детский плач. Клим вскочил и увидел, что Наденька проснулась. Что она никуда не делась! Он заметался по дому. Тани не было. На столе лежала записка.
«Милый мой! Прости мне еще раз. Ничего больше не хочу я с такой силой, как твоего прощения! Но, видимо уж, судьба у меня такая, все время убегать от мужей. Я не сумела стать ни хорошей женой, ни хорошей матерью. Простите меня вместе. Знай, Надя – твоя дочь. Ни один мужчина не прикасался ко мне после тебя. Муж боялся моей болезни, а тот подлец получил от меня цветочным горшком по голове. Ты будешь ей хорошим отцом, я знаю. Прощай!»
Жить с ребенком там, где происходили разгулы и попойки, Клим посчитал невозможным. Теплым сентябрьским днем, когда бабье лето кружило под ногами веселую канитель золотой листвы, Клим Неволин, держа на руках свою дочь Надежду, отпирал замок родного дома.
– Когда-нибудь и ты уйдешь отсюда, я это знаю и не боюсь. Но будет это не скоро! – он распахнул створки ворот настежь. – Смотри, Наденька! Вот здесь мы теперь будем жить!
31.03.2015




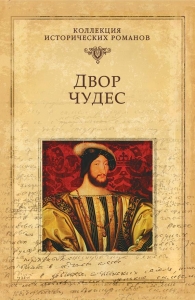
Комментарии к книге «Девятая квартира в антресолях - 2», Инга Львовна Кондратьева
Всего 0 комментариев