Досточтимый читатель!
Осмеливаюсь дать Вам совет: будьте настороже!
Открывая эту книгу, Вы рискуете очутиться вовсе не в том мире, в который ожидаете попасть. Уже привычный для Вас мир крестовых походов, королей и рыцарей, простой и прекрасной доблести и спорящей с нею простой придворной хитрости — этот мир остался далеко в стороне.
Теперь Вы свернули на волшебную тропу и вступаете в удивительный лабиринт, в котором уже знакомые герои не способны помочь Вам, ибо не имеют в него доступа.
Не спешите вперед: любое из слов на Вашем пути может оказаться ловушкой, любая из строк может увести из реальности в область странных аллегорий и притч, приблизив Вас к самым сокровенным тайнам великого Ордена Соломонова Храма, или же, напротив, вести в хаос событий и образов, смысл коих можно было познать лишь за предыдущим поворотом.
Если бы алхимики, жившие в те далекие века, увлекались составлением кроссвордов, нетрудно было бы предположить, что в руках, сначала — моих, а теперь — Ваших, оказался некий необыкновенный кроссворд, уже заполненные клетки которого позволяют разгадать исходные значения и смысл — значения и смысл многих важных событий средневековой истории.
Вот я и раскрыл Вам, досточтимый читатель, первую из тайн этой книги: свитки, ее составившие, написаны не моей рукой.
Когда-то угодив в лабиринт, Ваш покорный слуга был заворожен призрачными замками, дворцами и странными незнакомцами, что появлялись на его пути. Это путешествие, эти удивительные встречи вдохновили его взяться за перо — и тогда у выхода или, что так же возможно, у входа в лабиринт он осмелился воздвигнуть те новые дворцы и цитадели, какие, подобно своего рода душевным миражам, возникали и громоздились в его воображении.
История находки этих свитков в нашем с Вами собственном веке тоже весьма загадочна…
В стороне от опиумной тропы, пронизывающей горы Тавра, по дуновению северо-западных ветров и со времен праведных халифов известной под названием Нить Гурии, расположено узкое ущелье, над которым при благоприятной погоде можно различить развалины древнего замка.
Утром или в полдень, а также в любой час пасмурного дня путник-чужеземец пройдет мимо осыпающихся каменных груд, несомненно приняв их за изъеденные ветрами выступы гор, но зато ясным вечером, когда алое солнце коснется западного гребня и на несколько мгновений, растопит его остроконечные вершины, тогда от неприметных выступов и возвышенностей лягут на склоны ущелья четкие, словно наведенные чернилами тени… и путник замрет, пораженный ясным рисунком неприступных башен, зубчатых стен и полукруглых отверстий сквозных бойниц.
Впрочем, никто из провожатых, которыми в этих глухих местах света могут стать лишь последние джибавии из суфийского ордена «врачевателей безумия», не даст чужестранцу совета останавливаться здесь и дожидаться заката, а тем более сумерек: у этих мест недобрая слава. Встретить здесь после захода солнца целую толпу каких-нибудь ифритов, то есть джиннов огромного роста и крысиного рассудка, так же легко, как стаю мух на стамбульском базаре…
О происхождении развалин в этих краях можно услышать довольно любопытное предание.
Когда схлынули воды потопа, и ковчег Нуха (Ноя мусульманских преданий) опустился на вершину горы аль-Джуди, что высится на севере Аравийского полуострова, несколько демонов Иблиса, восточного дьявола, покинули своего темного господина, и как раскаявшиеся духи сошли на землю в образах «железных воинов», светловолосых великанов, облаченных в сверкающие доспехи. Они воплотились в людей на вершинах Тавра и возвели в горах неприступную цитадель, откуда выезжали всем своим могучим воинством для свершения дел справедливости. Среди простых смертных они стали первыми «ахль аль-китаб», то есть «людьми Писания», которые верили в того же Бога, что и мусульмане, однако больше поклонялись пророку Йсе и его матери, праведной Марйам, в которых нетрудно узнать Иисуса и Деву Марию.
Иблис конечно же возненавидел отступников и послал в горы Тавра крылатого змея, который, достигнув замка, пал на дно колодца и превратился в крохотную змейку, яд которой от такого превращения стал неизмеримо сильнее самых сильных земных ядов. Даже яд кобры или каракурта мог показаться в сравнении с ним всего лишь делом простого комариного укуса. Свернувшись в углу колодезной бадьи, змейка кусала в губы железных великанов, возвращавшихся с поля битвы и страдавших нестерпимой жаждой. Демонический яд был настолько силен, что не убивал, а, напротив, умножал до бесконечности телесные силы, так что каждый из приложившихся к бадье воинов начинал чувствовать себя самым великим богатырем на земле, вполне способным в одиночку навести на ней надлежащий порядок. Каждому стало казаться, что он вполне может обойтись без соратников. Печальный исход не замедлил наступить. Как только «железные воины» обратили свои мечи друг против друга, все силы сразу покинули их. Они пали наземь, их кровь стала синей и похолодела так, что на доспехах выпал иней, а перевалы покрылись ледниками, не таявшими потом целое лето.
Какова же истинная подоплека этой красивой легенды? Что может рассказать нам муза Истории Клио?
Обратимся к авторитетному труду профессора Гейдельбергского университета Бренна фон Гагенберга «Воины Креста: шлемы и маски» (В. von Hahenberg. Die Kreuzkrieger: Helme und Masken. Rudolstadt. 1912.), в котором этот эпизод крестоносного порыва на восток описан наиболее полно.
«В конце лета 1204 года, — пишет профессор в своей книге, — Филипп де Леплэсси, Великий Магистр Ордена Соломонова Храма, получил послание из Константинополя, подписанное одним из своих подчиненных, рыцарем-тамплиером графом Робером де Ту, который от себя лично, а также от лица еще тридцати девяти крестоносцев, выражал крайнее недовольство тем, что предводители похода стали плясать под дудку венецианских купцов-„толстосумов“. В этом послании прямо говорилось об измене Святому обету, о том, что рыцари пошли на службу маммоне, обратившись спиной к Господу Богу. Венеция, финансировавшая поход и повернувшая армию от Иерусалима на богатую столицу Византии, именовалась „дочерью вавилонской блудницы и дьявола“. Граф живо бытописал бесчинства крестоносного воинства в Захваченном городе, осквернение многих христианских святынь, грабеж и пьянство, коим предавались как благородные дворяне, так и простые паломники.
Великий магистр ответил графу де Ту в увещевательном и миролюбивом тоне, напоминая о воле Божьей, о необходимости войны не только с сарацинами, но и со схизматиками, наконец о неизбежных последствиях войн и о прощении грехов, снизошедшем со Святого Престола и покрывшем все крестоносное воинство со дня выступления в поход.
Граф и его рыцари оказались несговорчивы и объявили о своем отложении от ордена Храма.
Среди эдиктов императора Бодуэна I, воссевшего на древний византийский престол в качестве владыки несколько театральной Латинской империи, сохранился письменный приказ об аресте мятежных тамплиеров.
Слуги новоиспеченного «вазилевса» проявили нерасторопность. Причина на то была: о благородстве и доблести графа де Ту и его соратников менестрели уже слагали песни. Оказав мятежникам неохотное сопротивление, императорская гвардия упустила их из столицы государства и не сумела настичь на дороге, что вела на юг, в сторону Галлиполи.
С того дня, как на дорогах Византии, так и в анналах Латинской империи следы тамплиеров графа де Ту теряются, а появляются… на пути, ведущем в Конью, столицу Румского султаната.
При изучении румских источников трудно отделаться от впечатления, что рыцари поступили под прямой патронаж самого султана. Эмиры румских провинций как бы преднамеренно отводят своих гулямов с дорог, по которым движутся грозно вооруженные латники с красными крестами на белых плащах. Более того, их снабжают провиантом, а проводниками, оберегающими чужеземцев от всяких превратностей пути, становятся суфии-джибавии.
Миновав стороной столицу сельджуков, Конью, маленький рыцарский орден вновь исчезает за строками пергаментных свитков и появляется спустя десяток лет вместе с первым упоминанием о замке, возведенном в горах Тавра на границе Рума и Киликийской Армении, которая занимала средиземноморское побережье на юго-востоке современной Турции.
Рас Альхаг, что в переводе с арабского звучит как «Голова Заклинателя Змей», — под таким названием известен горный замок тамплиеров-отступников в арабских источниках. Самая яркая звезда в созвездии Змееносца носит то же имя. Но это совпадение — далеко не самая интригующая загадка рыцарей графа де Ту. Оставив в стороне главную тайну цитадели — кто и во имя какой цели воздвиг ее для крохотного войска рыцарей-беглецов? — последуем дальше по их следам и будем удивляться вновь и вновь.
Спустя еще три десятка лет «железные воины» Рас Альхага появляются в рядах монгольского войска, штурмующего Аламут, иранскую крепость ассасинов-исмаилитов, которые по сути дела упразднили Аллаха и всех прочих богов, объявив о своем собственном ангелоподобии, что позволяло считать весь остальной людской род никчемным и подлежащим поголовному истреблению. По свидетельству хронистов, все воины Рас Альхага пали при взятии Аламута, который вскоре после их гибели сдался уже без боя.
Как видим, исторические свидетельства мало чем отличаются от мифологических сказаний, настолько густой туман тайн и загадок окружает мятежных крестоносцев графа Робера де Ту и горный замок «железных людей».
Ныне в тех краях можно услышать еще одну легенду, о которой нельзя не упомянуть…
Если путешественник понравится своим проводникам джибавиям, они укажут ему на ряд полукруглых вершин, которые видны от развалин в стороне Киликийского перевала, и назовут их могилами «железных воинов». Перейдя на шепот, они поведают также о том, что один из воинов Рас Альхага остался жив и до сих пор бродит по подземельям цитадели, ожидая дня, когда его освободит всемилостивый и всемилосердный Аллах, призвав на последний бой с духами Иблиса.
По всей видимости, таинственный хранитель замка напомнил о себе спустя шесть с половиной веков.
Весной 1933 года французский археолог Жак Валадьен, считавший себя потомком графа Робера де Ту, проводил среди развалин древнего замка раскопки и обнаружил на дне колодца плотно запечатанный кувшин. По словам Валадьена, он ожидал найти в нем джинна арабских сказок, но обнаружил нечто куда более удивительное…
Речь шла о пергаментных свитках, содержавших записи частью на арабском, частью на тосканском языках и датированных началом четырнадцатого века.
Летом того же года Валадьен успел опубликовать несколько коротких отрывков из найденных им «дневников» безымянного и весьма загадочного автора. Ответом на открытие было обвинение в мистификации, выдвинутое против Валадьена рядом авторитетных научных изданий. Мнение оппонентов не смогли поколебать даже результаты криминалистической экспертизы, подтверждавшей подлинность находки.
Вскоре «дело о свитках Рас Альхага» приняло еще более интригующий оборот, вполне сообразный всей истории тамплиеров-отступников и их горной цитадели. Через месяц после начала Второй мировой войны свитки были похищены из университета Сорбонны, где их исследовала международная комиссия специалистов-историков. «Желтая пресса» разнесла слух о том, что похищение явилось делом рук Валадьена, стремившегося избежать окончательного разоблачения. Однако спустя месяц бесследно исчез и сам Жак Валадьен… Газеты обсуждали версию самоубийства, а научные круги внезапно вспомнили, что в бытность свою Жак Валадьен проявлял себя вполне добропорядочным человеком.
Минуло еще шесть десятков лет — и загадка «свитков Рас Альхага» вновь всплыла на поверхность. Причем всплыла в самом буквальном смысле слова: свитки были обнаружены в сейфе, стоявшем в особом, секретном отсеке германской субмарины, потопленной англичанами в районе Канарских островов в апреле 1945 года. Судя по бортовым документам, подводная лодка держала курс на Южную Америку… В 1989 году она была поднята с океанического дна кораблями Международного фонда «Гален», занимающимся, в частности, поиском контейнеров с отравляющими средствами, сброшенных в морские акватории.
Итак, загадочная рукопись хранилась шесть веков в подземных глубинах, а затем — еще четыре десятилетия в глубинах водной стихии. На этот раз она была укрыта не только глиняной оболочкой кувшина, но облачена еще и в бронированные латы, мистически напоминавшие о доспехах «железных воинов» горной цитадели.
На последнем свитке, в самом конце записи, обнаружено несколько малоразборчивых пометок. Выяснилось, что они сделаны рукой еще одной весьма таинственной личности, а именно генерал-майором Карлом Хаусхофером, тем самым, кто создал теорию геополитики и «жизненного пространства» и вместе с Гитлером основал некий оккультный Черный Орден, откуда, по утверждению фюрера, высказанному главе данцигского сената Герману Раушнингу, должна была выйти «вторая ступень человека, который будет мерой и центром мира, человека-бога». Заключительные строки свитка перечеркнуты алым карандашным крестом и помечены словом «FINSTERNIS!» («ЗАТМЕНИЕ!»).
Увы, приговор академической науки, признавшей «дневник» великого посвященного искусной мистификацией, остался в силе.
В 1991 году свитки были куплены на одном из аукционов антиквариата. Гражданин Ирака, который приобрел их, пожелал остаться неизвестным.
Мне посчастливилось держать в руках «свитки Рас Альхага» незадолго до их очередного исчезновения. Более подробно я познакомился с текстами по их фотокопиям, любезно предоставленным в мое распоряжение моим старым другом из Бейрута, профессором Джамалем Мазараи, изучающим символическую стилистику суфийского братства джибавия.
Мы с моим другом надеемся, что публикация текста, найденного в замке Змееносца, если и не приблизит час, когда все тайное станет явным, то по крайней мере вызовет у Вас, досточтимый читатель, пристальный интерес к той удивительной эпохе, когда происходило соприкосновение средневековых культур Запада и Востока, соприкосновение, которое не только вызывало высокие взлеты человеческого духа, объединявшие всех «труждающихся и обремененных» мощью нового нравственного призыва, но подчас порождало духовных, а вслед за духовными и политических химер, обладавших духовным зарядом огромной разрушительной силы.
Тексты первого и последнего свитков составлены на арабском языке, остальные — на тосканском диалекте четырнадцатого столетия. Специально для читателя, малознакомого с историческими реалиями той эпохи, записи разбиты на части, поименованные местами происходящего действия и соответствующими датами.
Следует особо отметить, что Первый свиток открывается стихотворной строкой, написанной на латыни и принадлежащей перу великого Данте. По его первоначальному замыслу именно такими словами должна была начинаться «Божественная комедия». Эта латинская строка служит вполне «законным» эпиграфом для всей рукописи, поэтому мы сочли возможным предварить ею весь текст.
Искренне Ваш
Октавиан Стампас
Ultima regna canam, fluido contermino mundo…note 1
Dante Altghieri
СВИТОК ПЕРВЫЙ. РУМСКИЙ СУЛТАНАТ
Начало осени 1307 года
Лежа на спине вроде опрокинутой черепахи, в плачевном бессилии созерцал я сияние загадочного светила. Не похожее ни на солнце, ни на луну, оно висело надо мной во тьме более густой и черной, чем смола драконового дерева.
Мои тщетные попытки пошевелиться кончались только сильной дрожью в конечностях, головной болью и приступами тошноты, как случается после чересчур обильного возлияния. Мне ясно представлялось одно: до такой степени дурмана я не доходил еще ни разу в своей жизни.
Итак, не в силах справиться с телом и членами, я решил овладеть своим рассудком. Сначала я никак не мог вспомнить, каким же вином наслаждался перед тем, как впасть в забытье и очнуться под неизвестным светилом в неизвестный час ночи. Затем оказалось тайной то место, где столь неумеренное пиршество могло происходить. И наконец наступили самые ужасные мгновения, когда, покрываясь холодным потом, я стал постепенно осознавать, что не способен назвать ни своего имени, ни даже языка, на котором завел со мной беседу мой внутренний голос.
Судорога пробежала по моему телу, словно душа пыталась вырваться из оков беспамятства и телесной муки и скорее воспарить из тьмы в сферы более близкие ко Всемогущему и Всемилостивому.
Однако та судорога, напротив, несколько взбодрила меня, вернула мышцам часть отнятых сил, а конечностям — их обычные свойства.
Я лихорадочно ощупал себя, надеясь обнаружить какой-нибудь памятный знак на своей одежде, но, увы, как мой мозг оказался лишенным всех одежд обычной человеческой жизни за исключением собственно рассудка, так и мое тело оказалось оставленным на холодном и безжизненном камне без всякой положенной ему защиты, за исключением плотной повязки на чреслах и какого-то шнурка с петлей на левом запястье.
Между тем, рассудок хладнокровно внес своего господина в разряд погребенных мертвецов, чему сразу же было дано подтверждение: донесся гулкий звон металла об камень, звон, какой может возникнуть разве что в глубокой пещере, а вскоре появилась огромная и мрачная фигура существа, демона, пришедшего завладеть всем, что от меня осталось.
«За какие же грехи, — в страхе думал я, — из меня теперь сделают фаршированное червями и саламандрами блюдо?!»
Невыносимую муку причиняло скорее само беспамятство, нежели грозящие мне прихоти подземных демонов.
Темный великан склонился надо мной и своей шершавой лапой стал подсовывать под меня холодный железный крюк, от которого в сторону тянулась толстая веревка.
Я собрал все свои силы и лягнул его ногой в грудь. Демон охнул, но тут же навалился, приник своей гадкой щетиной к моей груди и сдавил меня своими лапами, как обручем.
Потом он неторопливо обвязывал мою грудь своей страшной веревкой и двигал по моему телу железный крюк, собираясь зацепить его если не прямо за какое-нибудь из ребер, то по крайней мере за повязку на чреслах. Мне привиделось, как потащат меня этим крюком на подземную бойню, как по дороге сдавит повязка мою главную телесную драгоценность, и, не выдержав будущего позора, плюнул изо всех сил туда, где, по моему расчету, должны были находиться глаза демона.
Великан бросил меня на камни, так что я отшиб себе затылок и лопатки.
«Вот тебе, проклятое отродье! Теперь пожирай меня с любого конца», — мужественно подумал я, но в следующий миг раскрыл рот от изумления, потому что демон заговорил приятным человеческим голосом и притом — весьма учтиво.
— Мессир! — изрек великан. — Что вы делаете?! Ведь мне же надо спасти вас! Что же вы делаете, мессир?!
— Спасти? — невольно вырвалось у меня. — Кто вы?
— Ваш покорный слуга и верный воин Ордена, — отозвался незнакомец, лица которого я все не мог разглядеть. — Позвольте мне поскорей обвязать вас. Тогда мы успеем подняться раньше, чем они затопят колодец.
«Может быть, передо мной вовсе не демон, — подумал я, — а настоящий ангел, спустившийся с небес, чтобы извлечь меня из адских глубин темной, не просветленной лучом Божественной воли материи».
Мой неведомый спаситель, между тем, приподнял меня, обтянул широким кожаным ремнем, запах которого и приятная упругость тоже подействовали ободряюще, просунул крюк в какую-то петлю и отошел на шаг в сторону.
По чести сказать, я стыдился задать прямой вопрос о себе самом, думая — видимо по молодости лет, — что мое беспамятство является неким тайным изъяном, раскрывать который не следует так же, как обнажать срамные места.
Кто я? На каком языке говорю? Сколько мне лет? Как выгляжу и на кого похож? Красив собой или уродлив? Из благородного сословия или из простолюдинов? Наконец, законный сын своего неведомого отца или ублюдок? Подобно червям преисподней, бесчисленные вопросы точили мою душу.
— Славный воин, — сказал я ему, — приношу извинения за то, что обошелся с вами столь низко и неучтиво. Простите меня. Со страху принял вас за джинна.
— Мессир! — воскликнул воин, и по его движению в сумраке угадывалось, что он припал на одно колено. — Вы очень великодушны! Об извинениях с вашей стороны, мессир, не может быть и речи. Прекрасно понимаю, какие чувства вы можете теперь испытывать.
«Он понимает! Значит, ему известно все! »
Вместо благодарности я ощутил, к своему стыду, неудержимый приступ злости и недовольства.
— Помоги нам Бог! — сказал великан и чудесным образом начал воспарять над землей.
И вдруг меня осенило! Моя мысль внезапно стала ясной и чистой, как бьющий из-под камней родник!
Колодец! Конечно, же это был колодец! Я пропустил это слово, самое ценное из всех произнесенных моим спасителем.
От столь великого открытия у меня даже прибавилось сил. Я поднялся на ноги и, подергав за веревку, прикрепленную к кожаному поясу, догадался, что второй ее конец обвязывает самого воина, который теперь посредством двух очень прочных кинжалов поднимается наверх, используя щели в стенках колодца. Оставалось от души помолиться за успех его предприятия. Между тем, мои босые ступни тоже сделали открытие: пол был покрыт, по-видимому, правильным узором из множества отверстий, в которые мог бы просунуться детский кулачок.
Когда воин Ордена уже почти достиг спасительного светила, мне показалось, что где-то шумит подземная река, и тут же у меня пересохло во рту, а язык прилип к небу. Я вознес еще одну молитву, страстно возжелав всего одну горсточку чистой влаги.
Тем временем, достигнув вожделенного светила и уцепившись за его край, воин выбрался на свет Божий.
— Мессир! — донесся его радостный голос, теперь уже не искаженный подземной глубиной.
Я задрал голову, стараясь разглядеть его лицо, но он склонился так, что лицо оказалось в тени.
— Встаньте вплотную к стене! — крикнул он. — Я привяжу противовес и начну спускать его вниз!
С этими словами он исчез, а мне пришлось повиноваться и отступить на пол шага, рассчитывая, что, если тяжесть сорвется мне на голову, то я все же успею отскочить. За этими мыслями, я поначалу не заметил, что шум выдуманной мною реки заметно усилился, а пол стал мелко дрожать. Только я облизал губы и вновь подумал: «Хоть бы пару капель…» — как вскрикнул от ужаса. Холодные и стремительные змеи с шипением и свистом обвили мои ноги. Я подпрыгнул так, что едва не достал рукой спасительной луны. Снизу, через отверстия в полу, струи подземной воды ударили с такой силой, что я едва не повис на них, как побежденный воин на копьях своих врагов. Освеженный подземным фонтаном, я взошел на следующую ступень мудрости, сообразив, какая участь ждет меня в ближайшее время, если моего спасителя постигнет неудача. Действительно, беда подкралась не только снизу, но и сверху. Сквозь шум и свист воды послышались крики и лязг железа наверху. Моей ущербной памяти вполне хватало, чтобы догадаться, что там началась схватка не на жизнь, а на смерть. Спустя еще несколько мгновений все затихло, и я затаил дыхание, ожидая последнего приговора: суждено ли мне безрадостное утопление под землей или, напротив, — спасительное повешение. Воин Ордена появился на освещенной стороне, но я вновь не смог запечатлеть в своей новой памяти его настоящее лицо, так густо было оно залито кровью. Я содрогнулся — теперь уже вовсе не от холода.
— Мессир! — явно превозмогая мучительную боль, крикнул воин Ордена. — Слушайте меня! — Он вытянул руку над колодцем, и я заметил в ней какой-то предмет. — Во славу Божью, мессир! Я передаю вам то, что принадлежит вам по праву.
Он перевел дыхание, и в тот же миг тяжелая капля упала мне на лоб. Я невольно вытер ее тыльной стороной кисти и увидел на руке темную полоску: с неба шел кровавый дождь.
— Мессир! — донеслось до меня сверху. — Примите Удар Истины! У вас на левом запястье петля! Только вы сможете достичь Великого Мстителя и передать Удар Истины в его руки! Таково ваше предназначение, мессир! Во имя Ордена и Храма! Ловите!
Продолговатый предмет полетел вниз, и, успев разглядеть, а, вернее, догадаться, что это вложенный в ножны короткий кинжал, я вытянул руки, но, охваченный уже по колени бурлящей водной стихией, покачнулся. Кинжал ударился об воду рядом со мной, и на миг я замер от изумления: брошенный мне предмет плавал, как щепка! Он был необъяснимо легок.
— Мессир, вы приготовились?.. Петля на запястье!
Я поднял голову и ужаснулся вновь: тяжело раненый, теряющий последние силы, воин Ордена уже навалился на перекладину, упираясь ногами в край колодца и явно намереваясь использовать в качестве противовеса самого себя.
— Прошу вас, не надо! — невольно крикнул я.
— Мессир, вы обязаны подчиниться! — хрипло ответил он. — Вы готовы?
С ножен свисал короткий ремешок. Всего один миг я не мог понять, как соединить его с петлей на запястье. Вдруг мои пальцы сами исполнили некое весьма сложное движение, нашли какой-то замочек, щелкнули каким-то крохотным железным язычком — и кинжал повис на моей руке.
«Это движение оттуда — из темных глубин памяти, скрытой от меня кем-то…» — подумал я.
В тот же миг меня рвануло вверх из воды, уже достигшей пояса. Воин Ордена стремительно падал мне навстречу, закрывая своим телом свет. Не менее, чем вдвое, был он тяжелей меня, судя по быстроте, с какой мы менялись местами. Меня безжалостно крутило на веревке, но, когда мы на миг поравнялись, мне удалось схватить воина за руку и край одежды. Нас качнуло, ударив об стену.
— Мессир, что вы делаете?! — натужно хрипя, воскликнул мой спаситель.
— Не могу принять твою жертву, славный воин! — уже привыкнув вести разговор с помощью крика, ответил я ему.
— Вы не понимаете… — простонал он.
— Твое имя, воин! — повелительно крикнул я.
— Мессир! Вы же знаете, что запрещено… — явно оробев, пробормотал он.
— Тогда назовите мое имя! — потребовал я. Он дернулся в моих руках, и, даже не видя его глаз, я почувствовал, что воина объял неподдельный ужас.
— Имя!
Внезапно он изо всех оставшихся у него сил развернулся и ударил меня кулаком в челюсть…
В чувство меня привели нестерпимо яркий свет и живительное тепло. Сильная резь в глазах долго не позволяла мне оглядеться по сторонам. Наконец я определил, что повис над темной дырой колодца, из которого доносился гул и рычание водяных змей, и при том — всего в одном локте от перекладины в виде гладкого бревна, об которое вполне мог расшибить себе голову.
— Мессир! — донеслось теперь уже снизу. — Выбирайтесь! Буду отпускать веревку!
Я схватился руками за перекладину и, уцепившись ногами за одну из стоек, подтянулся к краю. Обезьянья увертка получилась у меня на удивление ловко, что давало надежду на новые полезные проявления скрытых сил и повадок.
— Отпускай веревку, воин! Теперь очередь за мной! Продержись немного!
Веревка сразу ослабла, а снизу донесся еще более ослабевший голос:
— Оставьте, мессир! Торопитесь, умоляю вас! Во имя Храма!
Теперь горизонт расширился вместе с дарованной мне свободой.
На выбор были могильный камень из серого гранита, положенный боком и, как видно, заранее предназначенный для моего спасения, а кроме камня, четыре трупа, разбросанные вокруг колодца. Мой спаситель действительно оказался доблестным и славным воином. Это открытие сильно ободрило меня, и я смело бросился к могильному камню, размер которого внушал мне трепет. Однако, не успел я обхватить его, как услышал поблизости какой-то шорох.
Зловещие мертвецы ожили: ко мне стремительно приближались все четверо, в широких серых одеждах, в тюрбанах, концы которых скрывали их лица. Злодеи угрожали мне широкими кривыми саблями, сверкавшими на солнце, и по своему виду ничем не отличались от своих поверженных наземь соратников, которые остались-таки смиренно лежать на своих местах, истекая тонкими ручейками крови.
Я кинулся к оружию одного из мертвецов, но застрял на половине пути, оказавшись сидящей на коротком поводке обезьяной. Успев прошептать первые слова молитвы, увернулся от первого удара сверкнувшей надо мной сабли и вдруг отлетел далеко в сторону. Удар случайно пришелся по натянутой веревке, поначалу спасительной, а теперь смертельно опасной, и перерубил ее. Валявшийся на земле меч очутился прямо под рукой. Мгновенная, сладостная судорога пробежала по моему телу: мне показалось, что мои руки знают тяжесть меча со дня моего дня рождения. Несколько молний сверкнуло разом. Ласкающий ухо звон пронесся коротким и приятным ветерком. К четырем уже остывшим телам добавилось еще четыре, уложенные почти ровным строем.
Совсем еще юная и непослушная память вернулась ко мне и повлекла к колодцу.
— Славный воин! — крикнул я вниз и ужаснулся.
Вода бурлила в темном жерле, поднявшись уже до половины. На ее поверхности, в яростном кипении подземной силы, не было никого, и никакая жертва не могла изменить воли Всевышнего. Ведающий верные пути лишь напомнил мне краткую заупокойную молитву.
Я был избавлен от весьма непривлекательной смерти, и в моей руке нашелся меч, вещь, как видно, самая необходимая в этих краях. Всего этого было уже вполне достаточно, чтобы радоваться жизни и благодарить Бога за не заслуженные мною благодеяния.
На западной стороне мира темным зубчатым хребтом возвышались мощные крепостные стены. По лестницам и заборолам я догадался, что нахожусь внутри цитадели, под, увы, ее весьма ненадежной защитой. Двор, посреди которого располагался колодец, был пуст, если не считать черепков расколотого кувшина, широкое горло которого глядело на меня, как пустая глазница. Чутко прислушиваясь к тревожному безмолвию, я повернулся лицом на восток и был вынужден задрать голову, потому что в тридцати шагах от меня поднималась ввысь неприступная башня. За ней до самых ангельских небес возвышались горные вершины, покрытые снегом, и окоемы хребтов сверкали под солнцем подобно стали йеменских мечей.
«Если мои необъяснимые злоключения и начались с выпивки, то пустые кувшины несомненно остались по другую сторону гор, посреди зеленой и благодатной долины, и уж никак не в этом месте, столь пустынном и непригодном для человеческих радостей, — так предполагал я, пристально разглядывая черные бойницы на башне: не следит ли за мной оттуда чей-нибудь недобрый глаз. — Значит, без темных духов, которые перенесли меня через заснеженные хребты и бросили в проклятую дыру, опять не обойтись».
Предоставленная мне свобода казалась слишком мала, а мир слишком тесен для глаз, и я, подумав, что волен в своем положении искушать судьбу, решил прежде, чем искать выхода из крепости, подняться на башню и обозреть простор взором самого предводителя ее защитников.
Крепко сжимая в руке меч, я стал обходить башню стараясь держаться вплотную к ее стене. Вскоре башня повернулась ко мне невысокой железной дверцей, опасно приоткрытой наружу. Нижний угол дверцы был окружен высохшими травинками, некогда пробившимися сквозь каменные плиты. Итак, дверцу открыли давно: может статься, не один десяток лет назад, если не этой весной. Я прижался плечом к еще не согретому утренним солнцем железу и немного надавил. Дверца не поддалась.
«По меньшей мере — десяток лет», — определил я и, заглянув в темную щель, увидел уходящие вверх ступеньки.
Я проскользнул в щель и очутился в зябком, пахнущем плесенью и мхом сумраке. Поначалу я, страшась ловушек, проверял на устойчивость каждую ступеньку, тыкая в нее концом меча, но уже на втором витке лестницы расхрабрился и резво поскакал по камням, как архар.
За несколько ступеней до второй бойницы я замер, зато поскакало назад мое сердце: там, у бойницы, сидел воин, целившийся из арбалета наружу. Я окликнул его и, не дождавшись ответа, приблизился. Он был слишком увлечен своим наблюдением и не повернул головы, даже когда я протянул вперед меч и тихо коснулся им ложа арбалета в расчете на мирное знакомство и на то, что он не успеет переменить цель своей охоты.
Раздался звонкий и печальный звук, словно лопнула струна лютни или зурны. Арбалет вывалился из рук облаченного в кольчугу и шлем воина, и он стал съезжать на пол. Шлем отделился от его плеч вместе с головой и покатился вниз по ступеням с пустым и громким стуком.
«Похоже, что нижнюю крепость захватили враги, — возникла мысль, — а башню все еще охраняют скелеты последних защитников».
Витком выше я намеренно громко кашлянул, и от того грозного сотрясения стен мне навстречу вновь покатилась сверху оружейная лавка вперемешку с содержимым могильного склепа.
На последнем витке лестницы у меня возник выбор: обратить свое внимание на дверцу, которая приглашала в некое внутреннее помещение башни или выйти на верхнюю площадку…
Площадка была пуста, если не считать старого щита с бронзовой чеканкой в виде лапчатого восьмиугольного креста и сломанного копья с бурым, изъеденным ржой наконечником.
Солнце сияло в прекрасном голубом небе, и горы блистали первозданной чистотой, но, увы, восемь тел, окружавших колодец и с высоты башни напоминавших ящериц, пригревшихся на теплых камнях, упрямо напоминали о том, что под этим прекрасным небом, развернутым над всеми рукою Всемогущего, меня могут подстерегать самые неожиданные опасности.
Я осмотрел земную твердь с той орлиной высоты и узнал не больше того, что открылось мне у верхнего края колодца. Теперь я мог насчитать еще больше вершин и хребтов и увидел за стенами на южной стороне крепости глубокое ущелье, но не заметил ни одного знака, что мог дать ответ хоть на один из тысячи мучивших меня вопросов. Может быть ответ был за предыдущей дверью, у последнего витка лестницы.
Можно было ожидать любого подвоха. За дверью открылась поразительная картина: свет ясного дня падал широким потоком сквозь зарешеченное окно на разноцветные хорасанские ковры, на стоявший посреди небольшого помещения продолговатый стол, на блюда с яствами и на кувшины самого соблазнительного вида. Там, за дверью оказалось все, что должно было оказаться в хорошей и правильно поставленной мышеловке. Мышь, надо признать, была не глупа, но желудок правил ее умом. И тогда ум, как мудрый визирь, предложил султану-желудку вполне достойное толкование событий. «Раз уж Всевышний был настолько милостив, что вызволил тебя из самого безвыходного положения, то несомненно убережет тебя, о, славнейший султан-желудок, и от столь никчемной и унизительной гибели, как смерть от яда, подсыпанного в еду. Посмотри, о великий султан, яства тронуты и испробованы. — Действительно, стол носил следы начавшегося пиршества. — Здесь были за трапезой твои враги, которые теперь лежат поверженными внизу, у колодца».
Опровергнуть столь блистательное объяснение было нечем, и, захлебываясь слюной, я бросился к столу и чего только не понапихал себе в рот одним махом, как обезьяна! Горсть еще теплых бобов, пожаренных на кунжутном масле с шафраном. Горсть замечательно крупного изюма-зебиба, кусок бараньей ляжки. Целая головка белого зиадильского лука, показавшегося мне сладким, как дыня! Все проскакивало в меня, как в бездонный колодец! Хорошо, что одна рука все еще была занята мечом, иначе мне грозила неминуемая смерть от самого постыдного обжорства. Тем временем дошла очередь и до кувшинов. Я сунул нос в одно горлышко, потом в другое. Третье показалось мне самым подходящим, и глиняное пузо кувшина перевернулось к потолку. Виноградная кровь проникла в меня, как солнечный луч в бездонный колодец. На одно мгновение стены и все предметы вокруг меня замерцали разноцветными искорками и стали видны столь отчетливо, будто испустили некое собственное свечение.
Получив первое наслаждение от жизни, я присел на скамью и, переводя дух, стал выбирать глазами, чем бы особо изысканным по здешним меркам завершить столь своевременную трапезу. Конечно же мое сердце дрогнуло при виде сочного крылышка фазана, окруженного солеными оливками. Я не стерпел и, оставив свой меч на столе, среди блюд, потянулся за подносом обеими руками, положил его себе на колени и вдохнул великолепный аромат.
Вот какого мгновения ждала моя соблазнительная мышеловка!
Я прожевал мясо, набил рот оливками и поперхнулся, ощутив голой спиной чье-то роковое присутствие. Поднос опрокинулся с моих колен. В дверях возвышалась темная и грозная фигура, облаченная в сплошные латы и франкский шлем с опущенным забралом. Правой рукой этот железный великан придерживал рукоять огромного двуручного меча, волнистое лезвие которого лежало у него на плече.
— Это ты, славный воин Ордена? — пролепетал я, поднимаясь и чувствуя трусливое разжижение в коленях.
Затрепетавший рассудок услужливо подсказал мне спасительную, но лживую разгадку: воин Ордена мог выбраться из колодца сам и, облачившись во все свое воинское снаряжение, подняться за мной в башню.
Первым ответом мне было молчание, а вторым — грозная и тяжелая поступь, с которой рыцарь двинулся от дверей в мою сторону.
Неторопливо приближаясь, рыцарь столь же неторопливо поднял левую руку и сжал железной перчаткой свободный конец рукояти.
— Кто ты, ответь! — пробормотал я. — Может быть, мы не враги друг другу!
Лезвие, между тем, проснулось и, блеснув серебристой змеей, поднялось надо мной до самого потолка.
Тени обманули меня. Латник был велик настолько, а меч его так длинен, что он, пожалуй, сумел бы разрубить меня пополам, размахнувшись от самой двери. Я отшатнулся, но было поздно: змеистое лезвие со свистом ястребиного крыла уже рассекало эфир над моей головой.
Меня спасла крохотная и несомненно волшебная оливка, попавшая под ногу. Раздавив ее, я поскользнулся и рухнул на пол.
Громоподобный удар меча пришелся по столу и разрубил его надвое. Стол сложился, а блюда и кувшины со звоном покатились в разные стороны.
Испуганной ящеркой я проскользнул по бобам, изюму и ручейкам вина к двери и, опрометью выскочив на лестницу, поскакал вниз по ступеням, слыша страшную и неторопливую погоню: подобно далеким звукам тяжелого колокола раздавались за моей спиной шаги железного великана.
Я лихорадочно считал витки и на пятидесятом замер, ужаснувшись: столько их никак не могло быть! Горячечная мысль вспыхнула в моей голове: что если я на бегу пропустил спасительную дверь и теперь пытаюсь искать спасение в ловушках подземелий? Тогда я помчался обратно наверх, как заяц, который, окончательно ошалев от погони, приметил спасительный кустик прямо под ногами охотника.
Гром шагов приближался мне навстречу, и вот уже страшная тень потянулась по ступеням из-за поворота, и блеснуло стальное жало меча.
Я бросился обратно, вновь перепрыгивая через доспехи и черепа и вдруг попал в какие-то необъятные подземные галереи с высокими сводами и редкими решетчатыми окнами, от которых исходили вниз полосы бледного света. Из глубины галерей донесся шум воды, и то, что несло мне гибель в тесном колодце, теперь поманило меня какой-то смутной надеждой.
Я двинулся в направлении шума сначала шагом, а потом, когда все пустоты галерей заполнил гром страшных шагов, — уже мелкой, испуганной рысью. Поступь моего железного преследователя была столь оглушительно громкой, что, казалось, он один наступает на меня отовсюду: и сзади, и спереди, и с боков.
То, что манило меня пением сирен, оказалось подземной рекой, бурной и полной каменных зубов, как пасть дракона. Я посмотрел на пенившийся злой поток, обернулся назад и подумал, что опять придется выбирать между двух смертей. Гранитные плиты пола были уложены так, что обрывались в реку ровной ступенькой. Вода нестерпимым холодом обожгла мою стопу. «Успеешь превратиться в ледышку раньше, чем разобьет об камни», — с каким-то постыдным, трусливым облегчением подумал я.
Гулкий звон шагов возвещал, что рыцарь приближается. Я брызнул себе в лицо воды и огляделся, бессовестно ища последнюю лазейку. И вдруг все широкие тени со всех углов и закоулков галерей тронулись, поплыли и сгустились в страшную фигуру с волнистым мечом в руках. Я отскочил в сторону и, уже не в силах бежать, обреченно попятился. И чем дальше отступал, тем, казалось все выше становился этот чудовищный панцирь, увенчанный хищной челюстью забрала и страусиным пером.
Меч завораживающе покачивался в руках великана. Лезвие неторопливо легло набок и поплыло куда-то в сторону, но в крохотный миг, оставшийся в зазоре между жизнью и смертью, я успел сообразить, что сейчас развалюсь на две ровные половинки, только уже не вдоль, а поперек.
Хвала Богу, Незримому и Всевидящему, по воле Которого мне вновь была дарована жизнь, а не смерть. Я нырнул под свист лезвия и был разом и оглушен, и ослеплен: оглушен ударом меча по шлифованному граниту стоявшей позади меня колонны, а ослеплен снопом искр, на миг озаривших пустоты подземелий.
Я откатился в сторону, очутившись на самом краю пола, и едва собрал силы для прыжка, как меч обрушился на плиту всего в двух пальцах от моего плеча, обдав меня своим смертельно холодным дыханием. Лезвие вонзилось в древний гранит. Черный излом трещины с хрустом пересек пол перед моими глазами. Гладкая плита стала крениться, и я соскользнул с нее прямо в бурный поток.
Все мои члены сразу онемели от холода. Не было и мысли сопротивляться бурунам. Меня крутило и бросало из стороны в сторону, тянуло куда-то вперед то головой, то ногами. Мое тело налетало на камни, ничуть не страдая от ударов. В этом шумном и неудержимом движении мне даже стало смешно, когда я вообразил себе железного великана, пытающегося разрубить своим огромным мечом вязкий и бесчувственный комок теста, каким я казался себе до тех пор, пока последние чувства не покинули меня.
Помню, что меня долго несло и швыряло в темноте, а потом впереди появилось дрожащее пятно зеленовато-голубого сияния. Оно увеличивалось, превращаясь в подобие небосвода, каким он бывает в рассветный час… Наконец я получил весьма чувствительный даже для куска теста удар прямо в лоб. «Небосвод» сразу покрылся багровым закатом, и тут же все опрокинулось в бездонную пропасть.
Воля Всевышнего воплотила меня вновь, и этим новым воплощением стал теплый сгусток ноющей и сладостной боли. Я наслаждался своей болью и своей неподвижностью, пока не почувствовал мягкого прикосновения прохлады к моему лбу, затем — к моим векам и наконец — к моим губам. По этим прикосновениям я и определил, что все еще имею лоб, веки и губы и, следовательно, скорее всего жив.
Я приоткрыл один глаз и увидел перед собой в тумане какое-то лицо в желтом ореоле и на этот раз не стал гадать, кто передо мной, человек или ангел, а широко открыл и второй глаз, решив дать работу обоим. Не связанные прихотями воображения, они стали мне верными слугами.
Надо мной стоял, склонившись, старик в желтом тюрбане и добродушно улыбался.
— Ля галиба илля-ллах! («Побеждает только Аллах!») — сказал старик.
— Таваккальту аля-ллах! («Я полагаюсь во всем на Аллаха!») — невольно ответил я ему и от удивления даже приподнялся на локтях, поначалу даже не заметив приступа мучительной боли во всех костных сочленениях.
Было чему удивиться! Я понимал и этот язык, совершенно не похожий на тот, на котором еще недавно думал и разговаривал с воином Ордена!
Старик засмеялся и положил мне на голову свою сухую жесткую руку.
— Не торопись, юноша, — сказал он. — Всемилостивый и всемилосердный Аллах, да будет Ему хвала во веки веков, ниспослал тебе новое утро и новую жизнь. Всего этого пока вполне достаточно для обладания.
Я подчинился его ласковому голосу и вновь лег на спину, закрыв глаза. Старик долго молчал, то чем-то шурша, то чем-то позвякивая. Когда я, не выдержав, вновь приоткрыл глаза, то увидел, что склоны гор уже покрылись золотистым блеском вечерней зари.
— Как чувствуют себя мозг и желудок, а также мышцы и кости доброго путника? — донесся до моих ушей веселый, по-стариковски скрипучий голос. — В согласном ли они единстве, или каждое думает о своей собственной печали?
Одним махом я вскочил на ноги и вздохнул полной грудью, не услышав в себе ни единой жалобы, поданной самой слабой связкой или самым слабым ребром.
— Клянусь небесами, все во мне едино и наполнено силой, — ответил я старику, без всякого труда отгоняя от себя смутные воспоминания о всех страшных снах, привидевшихся мне вдалеке от места моего нового воскрешения. — Даже тень не постыдилась бы теперь своего хозяина.
Сидевший у маленького костра старик поправил медный чайник на дорожной треноге и пристально посмотрел на меня.
— Сможешь ли ты назвать мне своего Учителя, юноша? — весьма уважительно спросил он.
— Учителя?! — изумился я и, встретив взгляд старика, почувствовал сильный прилив стыда. — Не помню. Отбило память. Со мною случилось что-то ужасное.
— Да, понимаю тебя, юноша, — заметив мою искреннюю растерянность, покачал головой старик и вдруг рассмеялся. — Ты вполне можешь поклясться небесами и в том, что тебе несказанно повезло. Разбойники могли забрать не только твою одежду и память.
В другое время и в другом месте я вспылил бы, не понимая, что можно было найти во мне или в моих словах смешного, но, хвала «разбойникам», они похитили и мое самолюбие, нечаянно оставив в опустошенном доме кое-что из ценных орудий для взлома, пригодных и для иных, вполне достойных целей.
— Разбойники?! — воскликнул я и, схватившись за левое запястье, похолодел. — Отец, куда они пошли?!
— Если судить по тому, что они бросили тебя на дороге головой на восток, а ногами на запад, — продолжая тихо посмеиваться, проговорил дервиш, — то они могли пойти туда… куда им заблагорассудилось… но вряд ли бы они стали плыть вверх по течению реки, которая недавно пролегала в одном направлении с твоим телом.
Только после этих слов я удосужился осмотреться по сторонам и прислушался к весьма громкому голосу реки, протекавшей в двух десятках шагов от места нашей встречи.
Прямо передо мной, на восточной стороне мира, над маленьким дорожным костром, над золотисто блестевшим чайником, над стариком-дервишем и его желтым тюрбаном возвышались уже знакомые мне по своему облику горы, покрытые закатным бархатом, все глубже отдававшим ночной синевой. Когда горы и дервиш исчезали и открывалась западная сторона, тогда передо мной расстилалось пыльное покрывало безлюдной равнины, кое-где заплатанное черным войлоком низких кустарников. Река же, бежавшая по узкой ложбине с гор, сердито шумела, прыгая через камни и проскальзывая между непреодолимых глыб, и быстро неслась через долину, словно скупясь и не желая превратить этот безжизненный простор в тень рая на земле.
— Да, юноша, на все воля всемогущего Аллаха, — услышал я голос у себя за спиной, — но все можно увидеть и в другом свете.
Необычное действие оказали на меня эти слова: не говоря ничего в ответ, я бросился к реке. До тех пор, пока еще что-то можно было разглядеть в быстро опускавшихся на землю сумерках, я тщательно обыскивал глазами и пальцами все щели между камнями как на краю суши, так и в окаймлявшей его пене бурного потока. Река обдавала лицо ледяной влагой, освежая и вразумляя меня. «Глупец! Ты занимаешься пустым делом!».
Наконец у меня от холода застучали зубы, и я, на онемевших ногах выбравшись из реки, бессильно опустился на плоский камень, еще не потерявший дневного тепла.
— Вот еще одно подтверждение того, — произнес дервиш с глубокомысленностью, столь же не объяснимой, как и его недавняя смешливость, — что надо искать там, где светлее.
И он, словно помогая мне в моих безуспешных поисках, принялся ползать на четвереньках вокруг своего крохотного огня.
— Ты смеешься надо мной, старик, — с беззлобной досадой сказал я ему.
Дервиш прервал свои поиски и вновь уселся на свое место, всем своим видом выражая крайнее недовольство.
— Ты опять все перепутал, славный охотник на драконов, — едва слышно пробормотал он, — именно теперь я серьезен как никогда.
Некоторое время мы оба молчали. Мне было стыдно присоединяться к старику, а пропавший кинжал, этот таинственный Удар Истины, не давал душе покоя. Лишь одно объяснение всего происходящего со мной казалось теперь правдоподобным: река вынесла мое тело из страшных подземелий, где царствуют демоны и, чудесным образом сумев уберечь бренную плоть от смертоносных препятствий, от камней и водопадов, заботливо уложила свою ношу на берегу, в устье долины. По воле Всевышнего она сделала все, что было в ее силах. Я был очень благодарен бурной и неприветливой реке. Мне и в голову не приходило, что меня мог вытащить из грозного потока какой-нибудь дряхлый старик-дервиш.
Что касается памяти, она перестала меня беспокоить. Прошлое пока потеряло смысл, а ближайшее будущее было определено, как у яйца, сквозь скорлупу которого стал пробиваться наружу маленький птенец. Мне полагалось найти Удар Истины, даже если пришлось бы подняться к истоку реки, а потом, повернувшись назад, спуститься к озеру или морю, в которые она впадала. Замечу, что наступило первое мгновение, когда меня перестала страшить повторная встреча с демоном.
— Нетрудно догадаться по твоему благородному облику, славный юноша, что ты — тонкий ценитель красоты земной и небесной, — донесся голос старика, следившего за тем, как я, поднявшись с теплого камня и, пройдя несколько шагов вверх по течению, стал приглядываться к вершинам гор, над которыми зажглись самые яркие звезды, — Ты несомненно выбрал для своего путешествия наиболее живописную дорогу.
— О чем ты говоришь, незаходящее светило мудрости? — спросил я дервиша, уже смирившись со своей будущей доблестью и даже возгордившись.
Он отвернулся от огня в мою, темную, сторону мира, отчего выражение его лица осталось столь же неразличимым, как и со спины, и рассказал историю слишком маленькую, чтобы отделять ее от всего остального повествования изощренным багдадским узором.
— Однажды прекрасным утром, — начал дервиш, — что сияло, как самая драгоценная жемчужина из сокровищницы Гаруна аль-Рашида, я возвращался домой. Вдруг мне пришла в голову мысль свернуть с пыльной и однообразной дороги в красивый зеленый лес и тем самым сократить свой путь. Радуясь замечательному дню, я углубился в чащу и не успел оглянуться, как оказался на дне весьма искусно устроенной волчьей ямы. Несмотря на все ушибы и царапины, остался очень доволен тем, что двинулся самым коротким и приятным путем. Ведь если уж посреди такой красоты, над которой потрудилась десница Всемогущего, могла случиться со мной такая неприятность, то посреди пыльной и ужасно скучной дороги могло произойти вообще все, что угодно.
Что-то произошло разом со всеми моими чувствами, как будто я долго и безнадежно брел по ночной пустыни и вдруг заприметил вдали огонек человеческого жилья или же, сидя в глухом подземном застенке, услышал чистую и прекрасную мелодию зурны.
— Учитель! — внезапно почувствовав прилив благодарности и даже любви к этому незнакомому старику, воскликнул я. — Не сомневаюсь, что ты знаешь, как выбраться мне из этого ужасного и необъяснимого положения… Позволь посетить твою чайхану на краю пустыни.
— Достойный сын своего отца, — ласково обратился ко мне старик, — ты так долго сомневался, не я ли тот самый разбойник, что лишил тебя здесь, у реки, всех, на твой взгляд, необходимых в жизни предметов… Прошу тебя не стесняться и разделить со мной скромную трапезу одинокого странника.
Я поспешил к его очагу и уселся напротив. Дервиш между тем вынул из своего мешка две небольшие деревянные чашки и протянул мне одну из них правой рукой, а другой снял с треноги чайник и поднес его к чашке. Я хотел было помочь ему и принять чашку из его руки, но он держал ее крепко, причем указательный палец оставался на верхнем крае в то время, как носик чайника угрожающе навис прямо над ним.
«Сейчас обожжется!» — подумал я и не успел раскрыть рот, как горячая жидкость потекла прямо на палец. Старик вскрикнул от боли, уронил чашку и, наверно, выронил бы из другой руки чайник, если бы я не успел ухватить его за ручку. Дервиш, конечно, ошпарился бы весь, не подвернись я вовремя со своим маленьким подвигом.
Тряся и размахивая рукой, он так кричал от боли, что я не на шутку перепугался вместе со всеми наблюдавшими за нами шакалами.
Оставив чайник на земле, я подхватил свою пустую чашку, бросился к реке и, наполнив ее до краев, помчался обратно.
— О, всемилостивый Аллах, какое несчастье! — стонал дервиш. — Какое несчастье! Я добываю себе пропитание каламом и чернилами. Как же теперь я удержу калам вареным пальцем?!
— Учитель! — сказал я, бережно схватив трясущуюся руку старика и сунув его вспухший палец в холодную воду. — Я стану твоей рукой! Клянусь, что не оставлю тебя ни на миг, пока твой ожог не заживет, ведь это я стал его невольной причиной. Учитель, я буду писать за тебя и клянусь, что ты ни разу не испытаешь голода!
«В самом деле?! — изумился я про себя. — Выходит, умею еще и писать?!»
— О, славный юноша! — сказал дервиш, переведя дух. — Всякая возможная благодарность не достойна твоей доброты и твоего благородства.
Потом он вынул палец из чашки, осмотрел его со всех сторон, понюхал, лизнул и усмехнулся.
— Совсем негоден, — язвительно проговорил он. — Думаю, его вполне можно отрезать и выбросить в реку.
— Учитель! — обомлел я.
— Твоя служба может затянуться, — мрачно сказал старик и вдруг расхохотался. — Что скажешь, доблестный наездник калама? Без чего обойтись труднее? Без пальца или без памяти, о похищении которой ты сокрушаешься столь назойливо по отношению к самому себе?
— Учитель! — еще сильней обомлел я.
— Теперь садись и рассказывай, — повелел дервиш. Переведя дух в свою очередь, я уселся поближе к огню и поведал дервишу о всех таинственных злоключениях, вместившихся в мою столь краткую по новой мерке жизнь. Дервиш слушал очень внимательно, прихлебывая чай из своей чашки и, когда я завершил свое предание, еще долго пребывал в молчании, поглядывая то на огонь, то на небосвод, весь наполнившийся чистыми каплями звезд.
— Действительно, необычная история, — наконец задумчиво проговорил он, — и весьма поучительная не столько для юноши, сколько для старика, воображающего, что он прожил долгую и полную, как багдадский караван, жизнь. Такие случаи происходят неспроста… или же совершенно случайно. Если отбросить все противоречия между твоим рассказом и твоим нынешним положением, то надо начать с того, что никаких древних крепостей в окрестностях нет, поверь мне на слово, … Попадаются в здешних горах кое-какие крепости, но до ближайших — не менее трехдневного перехода. Что ты можешь на это сказать?
Не в силах найти никакого объяснения, я невольно посмотрел в сторону реки, по-видимому, разбиравшей дорогу ночью не хуже, чем днем.
— Полагаю, — продолжал дервиш, — ты можешь поблагодарить разбойников, укравших твою одежду и, возможно, память по крайней мере за то, что они сделали из тебя очень искусного пловца.
«В самом деле, стоит ли держаться за те щепки, что плавают теперь на поверхности моей памяти? — рассудил я. — Потеряв всю собственность, стоит ли теперь торопиться с накоплением новой?»
Я охотно расстался бы в памяти с гибелью своего спасителя, оставив его в живых или упразднив само его существование. Но признать несуществующим тот испуг, что нагнали на меня чудовищный латник и его огромной длины волнистый меч, — это оказалось выше моих сил.
— Он чуть не разрубил меня надвое… — пробормотал я. — У меня даже остались ссадины на коленях, когда я выскакивал из-под стола.
— Ошибка, — спокойно произнес дервиш, подняв свой ошпаренный палец, который вовсе не казался теперь распухшим и больным. — Ты слишком долго смотрел на истукана. Чем дальше ты убегал, тем он становился больше. Признак сновидения. Увы, юный победитель драконов, скорее всего ты потел от страха задаром.
Дервиш немного помолчал и добавил:
— Ты не воспользовался самым точным способом проверки существования врага.
— Каким? — обрадовался было я.
— Как только он взмахнул своим мечом, надо было повернуться к нему спиной… Его, а не твои, усилия пропали бы даром.
— Хорошо, если это сон, — пожал я плечами, — а если не сон?
Старик нахмурился, делая вид, что мой вопрос ввел его в глубокие размышления, и наконец возвестил:
— В этом случае воину пришлось бы убедиться в твоем собственном несуществовании, что, по сути дело, одно и то же.
Я только и сделал, что разинул рот, а старик так расхохотался, что даже огонек заплясал на догоравших сучках, а его желтый тюрбан показался мне глазом демона-ифрита, подмигивавшим мне из мрака ночи.
— Алмаз ума, — обратился я к дервишу, придя в себя и по юношеской наглости решив не сдаваться, — мне представляется, что есть еще одна, последняя проверка бытия.
— Слушаю тебя, укротитель снов, — сказал дервиш, и весь обратился во внимание, что очень располагало меня к старцу, несмотря на все его шутки, которые ничуть не помогли мне выбраться на берег здравого рассуждения.
— Я ел… или мне снилось, что я ел — трапеза, если Учитель помнит, происходила в высокой башне — мне представлялось, что я ел бобы, а в изюме попадались косточки, и я, торопясь насытиться, проглатывал их. Можно теперь дождаться утра и естественного срока. Потом я отойду за камни и, немного потрудившись, расковыряю палочкой собственные испражнения. Таким образом бытие…
Я не договорил, потому что дервиш потянулся ко мне, словно стремясь разглядеть какую-то родинку на моем лице.
— Может, ты был учеником лекаря, — проговорил старик, — и испробовал на себе слишком сильное снотворное?.. Кое-какое бытие тебе несомненно удастся подтвердить таким способом, но чем ты докажешь, что бобы были съедены именно в крепости, а не в духане? Приготовленные наспех, они могли подействовать во время твоего сна не только на нижний желудок, но и на верхний.
С этими словами он коснулся больным пальцем своего тюрбана.
— Все ясно, Учитель, я не существую! — воскликнул я в отчаянии и взмахнул руками.
Дервиш засмеялся и протянул ко мне свои руки. Я невольно бросился к нему и бережно взялся за его иссохшие, тонкие пальцы.
— Вот теперь, славный дровосек пустыни, наступило время по-настоящему приняться за дело, — по-отечески ласково проговорил он. — Вообрази, как приятно начинающему горшечнику заглядывать в темную пустоту своего первого кувшина.
— Учитель, значит, это ты усыпил меня, наставляя на Путь! — горячо воскликнул я.
— Клянусь небесами, всего только шел мимо и увидел тебя лежащим здесь, на берегу, — ответил старик, намеренно сокрушавший всякую опору моих здравых рассуждений, как только я находил в своем прошлом опыте то, что могло послужить такой опорой.
Некоторое время мы просидели в молчании. Огонек на углях медленно угасал, точно засыпая, и ночь все крепче охватывала мои члены мертвенным холодом.
Теперь я был утомлен и подавлен сильнее, чем после безуспешной схватки с облаченным в доспехи великаном. С какой стороны не подступал к делу, все получалось, что я — — не более, чем безымянный Никто, не имеющий никакого значения под Небесами.
— Учитель, можешь ли ты хотя бы сказать мне, как я выгляжу, — обратился я к дервишу, явно отвлекая его от углубленной молитвы, — на какое племя похож и какой возраст мне можно дать?
— Темно. Утром посмотрим, — недовольно ответил старик и вновь погрузился в свое священное бормотание.
Я свернулся на боку, чувствуя себя бездомной, брошенной хозяином собакой и подумал: «Стоит поскорее заснуть, чтобы очнуться в каком-нибудь другом месте». Юность быстро забывает страхи и тяготится недостатком разнообразия, хотя бы и совершенно пустопорожнего.
Не успел я закрыть глаза, как один из угольков сердито затрещал и вспыхнул напоследок ярким язычком, и мне показалось, что от реки блеснула ему в ответ золотая монетка.
«Неужто динар!» — живо очнулся я, но память едва слышным, робким шепотом, будто стыдясь того, что к ней потеряно всякое доверие, подсказала кое-что поважнее денег.
Я вскочил на ноги, потом, стараясь не привлекать к себе внимания старика-дервиша, подхватил уголек пальцами, бросил его в чашку и побежал к воде.
Возложив последнюю надежду на свой глазомер, я выкатил уголек из чашки на высокий, плоский камень я стал осторожно раздувать алое пятнышко. Оно сделалось ярче, осветило мир вокруг себя всего на одну ладонь. Я, как шакал, вперился во тьму, качнулся вправо, потом влево, и вот обетованный динар снова сверкнул передо мной путеводной звездою. Оставалось сделать всего один шаг и протянуть руку.
— Нашел! — вскрикнул я, забыв о всяком почтении к старшим.
Моя рука сжимала небольшой и почти невесомый предмет, который был мне теперь дороже всякой памяти и всякой усвоенной мудрости. Кем бы ни был тот воин, спасший меня из колодца, человеком или призраком, уже не имело значения. Я дал ему слово исполнить его последнюю волю, и отныне мое обещание и моя собственная воля исполнить это обещание были единственными признаками, которые отличали от ночного призрака меня самого.
Больше не требовалось раздувать уголек: с паучьей искусностью пальцы моей правой руки пристегнули маленькие ножны к шерстяной косичке, висевшей на левом запястье.
— Учитель, учитель, прости меня! — жарко зашептал я, бросившись на колени рядом со стариком. — Я нашел его. Значит, я был в той крепости. Меня выбросила река!
Дервиш тяжело вздохнул и сказал такие слова:
— Это была ее ошибка. Но, хвала моему долготерпению, один мой совет ты все-таки не забыл.
— Какой совет? — уже вполне готовый не обижаться ни на какую, пусть даже самую злую шутку, радостно спросил я.
— Стал искать там, где светлее.
Я припал лбом к ногам старика и, почтив его таким образом столько времени, насколько хватило терпения, отполз на свое, уже успевшее остыть место.
Юность переменчива: мне уже не хотелось просыпаться в каком-нибудь незнакомом месте, и Всемогущий услышал мою торопливую и недостойную молитву.
Вскоре, однако, вновь пришлось убедиться в том, что наша самая обычная, повседневная память является причиной многих грехов и одного из главных — недоверия к Промыслу Всевышнего. Очнувшись и найдя себя во мраке, я вздрогнул и оробел. Конечно же, я вспомнил о мрачном колодце.
Чья-то рука касалась меня, имея какое-то неведомое мне намерение.
— Благородный искатель сокровищ небесных и земных, — донесся знакомый старческий голос, — пора подниматься в дорогу, если ты считаешь, что она еще не окончена.
Было тепло: меня покрывал шерстяной плащ.
Я вскочил на ноги и, не дав плащу дервиша вновь прикоснуться к пыли земной, протянул материю во мрак, все еще столь густой, словно мы находились на дне чернильницы со стола небесного покровителя всех писцов.
Мне показалось, что я проспал не более четверти ночной стражи, но чувствовал себя как никогда бодрым и отдохнувшим и объяснил это целебными свойствами волшебных шерстяных плащей, что оберегают странствующих дервишей куда вернее доспехов и кольчуги.
— Учитель! — сказал я старику, утопая в море благодарности. — За одно мгновение, проведенное под твоим священным плащом, я обязан стать твоим рабом по меньшей мере на год.
— Почем ты знаешь, что не прошло года, пока ты был под ним? — раздался передо мной во тьме голос дервиша. — Пророк, да будет имя его благословенно во веки веков, успел увидеть рай и ад и девяносто тысяч раз беседовал со Всемогущим Аллахом, между тем как упавший с его ложа сосуд не успел вытечь и наполовину.
— Я ничего не помню, — невольно оправдался я.
— В этом вся твоя беда, — усмехнулся дервиш, — но она в конце концов поправима. Надевай плащ, подвяжи его и носи, пока Всемогущий не пошлет тебе какой-нибудь более подходящей одежды. Не то у первого же стойбища кочевников меня примут за факира, водящего по селениям ручную обезьяну.
Сокровищница небосвода еще не лишилась ни одного из своих драгоценных камней, но на восточной стороне мира, по неровному краю черных, как смола драконового дерева, гор, уже пролег окоем просветленной голубизны, знаменуя о том, что погрузившийся во мрак минувший день был не последним перед наступлением Страшного Суда.
И вот мы двинулись по дороге, пролегавшей вдоль течения быстрой горной реки.
Когда же Всемилостивый Господь ниспослал утро и звезды потонули в молоке небесных кобылиц, я наконец решился показать мудрому дервишу таинственный предмет, крепко привязанный неведомыми силами к моему запястью и к моей судьбе.
— Ограбившие меня разбойники, по всей видимости, не сочли эту вещицу достойной внимания, — сказал я, показывая старику испещренные необыкновенными узорами ножны и маленькую рукоятку с золотым кружочком, который и сверкнул в темноте спасительной звездочкой.
На этом золотом кружке был отчеканен равносторонний крест с раздвоенными концами.
Дервиш долго рассматривал ножны и рукоятку, не принимая, однако, кинжал в свои руки, потом поднял глаза и долго рассматривал меня самого. Ущелья и разломы морщин сделались глубже на его древнем лбу.
— Теперь понимаю, о мудрейший из мудрых, — поспешил я упредить его сетования по поводу моей непреодолимой безмозглости, — что этот предмет вовсе не является доказательством моего неописуемого геройства в царстве демонов и в стенах их собственной крепости.
— Однажды я спал в доме одного из моих старых друзей, — стал вспоминать дервиш, — и мне приснилось долгое, изнурительное путешествие по пустыне. Во сне я страдал от жестокой жажды и, казалось, должен был умереть. Я увидел вдали, у самого горизонта, колодец и, страшась немилосердно обманчивого миража, пополз к нему. Колодец в моем сне оказался настоящим, не призрачным, но призраком оказалась бадья, а спасительная вода драгоценно сверкала на такой глубине, что не хватило бы веревки, свитой из всех моих жил. Мне оставалось на выбор или умереть от жажды наверху, или утонуть в подземелье, сделав один сладостный глоток.
Услышав эти слова, я вздрогнул.
— Не пугайся, юноша, — со слабой улыбкой сказал мне старик. — Все кончилось хорошо. Жажда была так мучительна, что я готовился избрать второе и перегнулся было через край колодца, как вдруг услышал позади себя звонкий удар. Из последних сил я обернулся и увидел бедуинский караван. Один из кочевников спрыгнул с верблюда, держа в руках медные сосуды, и нечаянно ударил их один о другой. Тут я проснулся и увидел, что жена моего друга уронила на пол бронзовый поднос. Что ты можешь сказать на это, великий собиратель тайн?
— Только то, — уже не чувствуя прежней робости, ответил я дервишу, — что все путешествие по пустыне было порождено падением подноса.
— Верно, — кивнул старик. — Время потекло вспять. Я в последний раз призываю тебя отказаться от всяких объяснений. Вчера при неверном свете крохотного уголька тебе померещился блеск золота в реке… Остальное, полагаю, ты способен домыслить сам.
— То, что сон продолжается… — вздохнул я.
— …и твой ветхий днями проводник — не более, чем ветхая, несуществующая бадья на краю колодца…
— …тоже несуществующего, — подхватил я. — И все же очень хочется дождаться, когда наконец поднос упадет на пол.
— Терпение, мой меткий стрелок из лучшего на свете лука. Терпение, — продолжал поучать меня дервиш, двинувшись по дороге и увлекая меня за собой. — Бери пример с меня. Посмотри на благословенные небеса. Посмотри на эту равнину. Слейся с этим ровным течением эфира. Если же тебе по молодости лет не нравится этот вид великого покоя, тогда отдайся бурному покою реки. Посмотри на нее: сколько силы и никакой личной выгоды. Дальше Судного Дня не продлится эта дорога, и дальше последнего Океана, Великого Хаоса, не побежит эта река.
Когда же мир засиял в лучах солнца и ночь убрала последние покровы и лоскутья мрака, я задал дервишу еще один вопрос:
— Учитель, могу ли я узнать, почему ты называл меня победителем драконов.
— Это очень древняя история, случившаяся с одним человеком, который жил в Китае, — грустно вздохнув, ответил дервиш. — Он тридцать лет обучался очень сложному делу охоты на драконов, но, освоив все известные в Поднебесной способы, не нашел своему искусству никакого применения.
Посмеявшись, а потом немного помолчав, дервиш добавил:
— Но такое могло случиться разве что в Китае, а здесь мы уж обязательно найдем тебе дюжину-другую отборных драконов.
Я невольно поднял к глазам Удар Истины и хотел было вынуть кинжал из ножен, но дервиш быстрым движением остановил мою правую руку.
— Терпение, мой юный победитель драконов, — повторил он. — Что было велено тебе во сне или наяву по поводу этого предмета?
— Передать его в руки некого Великого Мстителя.
— Кто, выходит, имеет право обнажить это оружие? — с усмешкой спросил старик и, не дав мне ответить, добавил: — Что бы ни произошло, старайся не оттягивать падение подноса по крайней мере излишними желаниями.
Итак, в одно мгновение я сделался ученее во сто крат.
Солнце вскоре стало печь немилосердно, и все предметы в отдалении, холмики, крупные камни и кустарники задрожали и потекли, подобно растопленному жаром воску.
Я часто отходил к реке, освежаясь и утоляя жажду, а старик всякий раз отказывался присоединиться ко мне, уверяя, что там, где воды слишком много, следует беречь ее вдвойне.
В полдень или немногим позже вдалеке перед нами затрепетала гряда удивительных белых холмов, и я не сразу догадался, что там раскинуты шатры кочевников.
Мы приблизились, и стойбище развернулось перед нами почти на половину света. Я увидел табун коней, вяло шевеливших хвостами, серое облачко овец, полтора десятка кибиток и множество всякой, не стоящей никакого запоминания мелочи.
Несколько малышей возраста трех или пяти лет первыми заметили нас, помчались навстречу, замерли шагах в десяти и, подобно вспугнутой с поля стайке птах, понеслись обратно к палаткам.
— Джибавия! Джибавия! — кричали старшие.
Появились женщины в пестрых и ярких одеждах, потом — мужчины. Седобородый старик в голубом тюрбане двинулся к нам, опираясь на высокий посох.
— Туркмены, — сказал мне дервиш. — Слава Аллаху, первыми увидели нас не их акынджи из отряда налетчиков-грабителей. Тот, который направляется к нам, судя по его одеянию, может оказаться тестем бея. Прояви к нему уважение и делай только то, что я тебе скажу.
Дервиш первым поклонился старику и приветствовал его на незнакомом мне языке. Я на всякий случай опустился на колени и коснулся лбом земного праха.
Дервиш одобрительно повел бровью, и старики заговорили о каких-то делах. Признаться, я даже обрадовался тому, что хоть какой-то язык не известен мне, а то у меня уже возникали сомнения в том, человеческого ли я рода.
— Они приглашают нас к себе, — рассказал мне дервиш, — и обещают хорошо накормить.
Несмотря на жару и непреодолимую даже целой рекою жажду, у меня весь рот наполнился слюной, ведь с ночи с моем желудке не побывало ничего, кроме куска сухой лепешки.
— Они говорят, — продолжал дервиш, — что у них есть молодой воин, который страдает довольно распространенным в этих краях видом безумия, приступ которого обычно начинается с наступлением сумерек. Юноша вскакивает в седло и до изнеможения носится по пустыне, пытаясь догнать и зарубить йеменской саблей своего двойника. Их табун уже потерпел ощутимый убыток. Его пытались связывать, но тогда в нем просыпается сила ифрита, и однажды он перевернул все шатры и кибитки.
Нас ввели в одну из палаток и поставили на ковер блюдо из бараньего мяса с чечевицей и луком, и я, протягивая руку вслед за медлительной рукой дервиша, испытал великую борьбу с силой голода, заставлявшего меня броситься на еду, подобно тигру на лань. Но я уже знал по опыту, пусть даже мнимому, порожденному моим воображением, что искушение трапезой не доводит до добра.
Не успел поднос опорожниться до половины, как земля под нами задрожала, донесся дробный стук копыт, а затем донеслись пронзительные горловые крики.
— Акынджи, — сказал дервиш. — Прибывают хозяева.
Полог шатра качнулся, обдав нас сухим и жарким эфиром, и перед нами появился высокий, молодой кочевник в пестром халате. Его широкий и очень дорогой ремень был украшен золотой и серебряной чеканкой, кольцами и яшмовыми пуговицами. На этом ремне висела прекрасная сабля хорасанской работы. Откинув на плечо конец тюрбана, кочевник показал нам свое лицо, узкое и породистое, покрытое до самых глаз аккуратно подстриженной черной бородой.
Каждый из нас приветствовал его согласно своему чину. В мою сторону кочевник протянул руку с крупным перстнем. Этот перстень с кроваво-красным рубином был красноречивее любого приказа и любой угрозы. Мне пришлось остановить на миг течение собственной воображаемо благородной жидкости алого цвета во всех своих жилах и смиренно приложиться к властной руке. Слышно было, как дервиш облегченно вздохнул.
Они обменялись несколькими словами, и кочевник вышел. Невольно я подался следом за ним, чтобы посмотреть на подошедшую конницу, но дервиш удержал меня за плечо.
— Здесь не город, — сказал он, — и любопытство излишне. Бей по имени Сапар. Хозяин долины. Ты все сделал правильно: чутье не подвело, а память могла помешать. Сейчас приведут больного.
Речь дервиша стала такой же краткой и отрывистой, как у принявших нас в свои шатры кочевников.
Прошло немного времени, и полог вновь встрепенулся, пропуская внутрь двух человек: бея Сапара и юношу с красноватыми, сверкающими недобрым блеском глазами. Выражение его губ, однако, противоречило выражению глаз. Он робко, даже пугливо приоткрыл рот и бросился к ногам старика. Бей положил руки на пояс и поиграл желваками. Дервиш сам поднял юношу с колен и, обращаясь к бею, произнес пару слов. Бей Сапар поднял руку, и в шатер вошел еще один воин, державший в руках пояс и саблю. Он повязал поясом душевнобольного, повесил ему на бок саблю и выскользнул из шатра. Бей быстрым движением руки приложил пальцы ко лбу и тоже вышел, оставив нас втроем.
— Убери поднос, — властно, как сам бей, приказал мне дервиш, и я отодвинул блюдо как можно дальше в сторону, к самой стенке шатра.
Дервиш повелел юноше сесть у края ковра, а сам, предварительно совершив омовение, сел напротив него. Он произнес еще два слова на наречии кочевников, и юноша дважды покорно качнул головой.
— То, что я потребовал от него, требуется и от тебя, — проговорил дервиш.
— Что мне надо делать? — спросил я, так же покорно склонившись над ним.
— Терпи. Смотри, — велел дервиш. — А третье — особая привилегия ученика: отгоняй мух.
Как раз мне попалось под руку тростниковое опахало, и я притаился сбоку, стараясь не мешать дервишу даже своим дыханием.
Минул час, потом другой, а дервиш и молодой кочевник продолжали смотреть друг на друга, почти не мигая. Коротая время, я с радостью дожидался появления мухи на лице дервиша и с некоторой опаской следил за гладким лицом юноши, которое постепенно покрывалось каплями пота. Наконец мне показалось, что все мухи перебрались на его сторону, и я, чтобы не тянуться через весь ковер, сам осторожно переместился от старика к своему ровеснику, которого посчитал таковым, раз уж нас обоих дервиш называл юношами.
Сабля кочевника оказалась рядом со мной, и я наконец догадался, что больного ввели в шатер безоружным, а дервиш повелел вернуть ему этот второй из главных признаков мужского достоинства.
Потом я потерял счет времени, и мне представилось, что уже близок вечер, раз эфир в шатре сделался как бы красноватым, пронизанным лучами заката. Полог шатра был плотно прикрыт, и мне не пришло в голову поднять взгляд и определить время дня по свету в отверстии на вершине жилища.
Мухи куда-то пропали. Мне сделалось скучно, и невольно вперившись в неподвижные глаза старика-дервиша, я почувствовал, что меня начинает непреодолимо клонить ко сну.
Вдруг что-то изменилось, будто погас светильник. Но темнее не стало. Юноша рядом со мной пошевелился и глухим голосом произнес несколько слов. Дервиш кратко ответил ему, и кочевник потянулся навстречу ему через ковер. В следующее мгновение дервиш размахнулся и закатил воину оглушительную оплеуху. Я отшатнулся от смертельного свиста, раздавшегося у моих ног. Так сабля вырвалась из своего кожаного доспеха и сверкнула над головой старика.
Весь шатер вздрогнул, и в него ворвались двое воинов с обнаженными клинками. Дервиш поднял руку, и все замерли, как вкопанные. Сам юноша как будто окаменел, держа саблю в поднятой руке. Я обнаружил, что и сам стою в весьма воинственной позе, решительно размахнувшись своей тростниковой секирой. Так минуло еще одно мгновение, поглотив долгие часы неподвижности.
Дервиш произнес несколько слов. Отблеск света затрепетал на клинке юноши. Он стал смеяться. Потом гортанно засмеялись ворвавшиеся в палатку воины. Острыми концами сабель они показывали на меня. Я повертел я руках опахало и тоже, не сдержавшись, захохотал. Смех оборвался, когда полог пропустил в шатер самого бея. Быстрым взглядом бей обвел все содержимое жилища и, произнеся одно короткое слово, вышел. За ним следом стремительно покинули шатер его воины, захватив с собою больного юношу. Мы вновь остались вдвоем с дервишем. Он посмотрел на меня, потом — на опахало и, усмехнувшись, сказал:
— Теперь я могу поверить, что в крепости тебе удалось уложить одним ударом четырех непобедимых ассасинов.
Он провел обеими руками по лицу и наконец рассмеялся сам, пятым и последним по счету.
— Он мог зарубить тебя, Учитель? — спросил я, радостно ожидая отрицательного ответа.
— Разумеется, мог, — всплеснул руками дервиш. — Чуть не зарубил. Так за что джибавии и берут деньги, когда исцеляют безумие? За страх.
— Что же произошло, владыка душ? — задал я новый вопрос. — Я ничего не понял.
— Ты стал свидетелем довольно простого случая, — стал объяснять дервиш. — По-видимому, одну из девушек, которую он возжелал, отдали другому… Состав же лекарства против этого древнего недуга заключается во взгляде и слове. — Уже пропустив начало сумерек, юноша спросил, долго ли еще продлится лечение. Я же спросил его, видит ли он, что я сижу в шатре. Он подтвердил, что видит. Тогда я спросил его, видел ли он меня когда-нибудь раньше. Он ответил, что никогда в жизни меня не видел. Тогда я попросил его приглядеться поближе. Тому, что произошло дальше, ты можешь быть честным свидетелем на любом, самом строгом суде.
— Однако вся сила противоядия заключалась, по-видимому, в последних словах… когда оружие было обнажено, — осмелился прибавить я.
— Верно, сокол поднебесья, — кивнул дервиш. — Ты становишься приметливым. Я сказал ему, раз он видит меня теперь, но никогда не видел раньше, то откуда он может знать, что его ударил именно я.
— И это все?! — Такой тонкий оборот может быть понятен простому воину, необразованному кочевнику?
— Разве от него требуется понимание? — раздосадовано проговорил дервиш. — Окружающие его люди здоровы рассудком, а он был болен и поэтому отличался от остальных, будь они кочевниками или придворными мудрецами. Теперь, очень надеюсь, не отличается. Иначе я напрасно претерпел эту опасность… и к тому же оказался глупее, чем ты обо мне думаешь, раз только что похвалил тебя.
В награду за успешное исцеление молодого воина нам отвели для ночлега целый шатер, и, пока дервиш, по-стариковски неторопливо и тщательно готовился ко сну, я мысленно беседовал с огоньком светильника, бескорыстным целителем ночной слепоты.
« Кто я… Никто. Дервиш прав: здесь и в этот час моя личность не имеет никакого значения, и нужно слиться с круговоротом материи. Лишь тогда раскроются внутренние смыслы событий. Моей воле необходимо слиться хотя бы с твоим чистым и простым светом, не разделимым ни на какие противоречащие друг другу частицы, ведь даже если тебя на время погасят, то все равно будут вынуждены когда-нибудь зажечь вновь».
Между тем, дервиш помолился, потом улегся навзничь, положив под затылок маленькую расписную подушку, и стал пребывать в неподвижности, но с открытыми глазами.
— Послушай меня, доблестный метатель боевых опахал, — наконец проговорил он тихим голосом. — Поразмышляв, я решил кое-что рассказать тебе для того, чтобы недуг, изгнанный из этого драчуна, не перекинулся ночью на тебя и ты не стал бы терять силы в борьбе со своей тенью. В конце концов у нас только один шатер, да и тот дан только на подержание.
— Внимаю тебе, Учитель мира, — обрадовался я и, повернувшись к дервишу, сразу забыл о целителе внешней слепоты.
— Во-первых, не трать чужое масло и погаси огонь.
Я тут же задул беззащитное пламя, и нас покрыл мрак.
— Это первое и лучшее средство против теней, — продолжал дервиш. — Во-вторых, помолись и ляг поближе, чтобы мне не пришлось тратить последние силы на ночной крик.
Я прилежно исполнил новые повеления.
— Рас Альхаг, — произнес старик довольно громко, так что даже зарычала собака, выбравшая место для ночлега у самого входа в шатер.
Мое сердце тревожно забилось, и какая-то сердечная жилка натянулась, как струна чанга.
— Это кресало не воспламенило огня? — спросил дервиш.
— Нет, — ответил я, — но искра была яркой.
— Название одной из мрачных цитаделей, существующих наяву, — продолжил дервиш. — Кинжал на твоем запястье отмечен знаком франкского ордена Храма царя Сулеймана. Этот знак имеет прямое отношение к Рас Альхагу, так же, как и река, на берегу которой ты вернулся в явь. Крепость считают заброшенной, порой она становится приютом для разбойничьих шаек. Но ходят слухи, что в ее подземельях скрываются последние ассасины, основавшие в этом франкском замке новое братство.
— Пока что тайн становится все больше, — вздохнул я.
— Терпение, юный светильник разума, — окоротил меня дервиш. — Терпи. Смотри. В темноте иногда видно лучше, чем при свете. Ныне настоящих ассасинов осталось так мало, что их предводители предпочитают беречь своих людей, и подбирают для «исполнения» крепких и юных невольников-полукровок.
— Полукровок? — встрепенулся я. — Учитель, ты хочешь сказать…
— Именно то, что в твоих жилах течет весьма причудливый сплав кровей. Ты в этих краях не найдешь зеркал и чистых озер, поэтому тебе пока придется поверить мне на слово. Итак, возможно, ты был куплен ассасинами на невольничьем рынке и скорее всего — у торговцев из Флоренции или Генуи, поскольку нужно было обезопасить свое предприятие от всех вероятных родственных связей в Руме.
Дервиш замолчал, ожидая моего слова. Очертания знакомого мне мира расширились, и я ответил старику:
— Мне известно, где находятся эти христианские города.
— Тогда двинемся дальше, — сказал старик. — Не меньше года тебя держали в крепости и посредством одурманивающих благовоний и питья готовили к какому-то опасному поступку.
Я затаил дыхание.
— Например, к убийству султана.
— А как же Великий Мститель? — поспешил я избавиться от страшного оружия, сразу раскалившегося на моем запястье.
— Не прячься в кустах, если и так кругом непроглядная тьма, — поучительно заметил дервиш. — Скорее всего только исколешься об шипы. Все может быть объяснено по-иному. Сейчас я лишь веду действие в наихудшем направлении: порой, правильно воображаемое, это действие исчерпывает само себя в первообразе мыслей и более не выходит за пределы воображения… Такую чепуху я, конечно, не мог сказать необразованному кочевнику, поэтому приношу мастеру калама свои извинения. Великий Мститель — всего лишь некая тень, некий знак впереди. Допустим, что это даже — тот самый «колодец в пустыне»… но до падения подноса на пол еще очень далеко. Если речь идет об убийстве султана Масуда, а хуже этого ничего в моей голове не возникает, то тем более неспроста Всемогущий направил мои стопы именно по этой дороге. Мы направимся прямо в Конью, и я приведу тебя во дворец султана. Визирь был когда-то моим учеником, не самым худшим. Мы попробуем разобраться во всем прямо на месте возможного преступления, упредив его исполнение и тем самым повернув время вспять. Вот тогда, надеюсь, поднос и загремит на полу, возвещая ударом счастливую действительность.
Радостно пораженный тем, что чудовищный узел может быть в скором времени развязан, я решил, что навсегда останусь учеником мудрого дервиша и, если не узнаю своего настоящего имени, то попрошу Учителя дать мне любое, по его усмотрению.
— У тебя нет желания узнать историю Рас Альхага? — спросил дервиш.
— Честно признаюсь, Учитель, — спохватился я, — что я снова был занят только самим собой.
— Эта история может пригодиться тебе, когда ты станешь отвечать на вопросы визиря, — пропустив мимо ушей мое раскаяние, сказал дервиш. — Поэтому постарайся не заснуть… хотя бы до строительства крепости Рас Альхаг.
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ДЕРВИША
Столетие тому назад франкские графы и бароны вновь, а именно в четвертый раз, дали обет завоевать священную для их веры Заморскую землю, где родился, жил, был распят на кресте, а затем воскрес пророк Йса. Этот обет именовался «взятием Креста», что в действительности обозначало «взятие меча», которого их пророк никогда в руки не брал. Те неверные, кто брал Крест ранее — а случалось такое трижды на протяжении столетия, отсчитанного назад от того времени, о котором идет речь — приходили в Палестину через Рум и его столицу Конью, как сущие варвары, стирая с лица земли селения простолюдинов, разрушая города и убивая поголовно их жителей, занимаясь грабежами гораздо чаще, чем молитвами. Надо сказать, среди них попадались честные и благородные воины, не падкие до гнусного разбоя, и таких, оставь они свое оружие дома, султан охотно пропустил бы в свою землю, как добрых паломников, за обычную дорожную мзду. Но их можно было пересчитать по пальцам.
Когда недобрые вести о буре, надвигавшейся из полуночных стран, дошли до владык, благочестивых имамов и шейхов, многие мудрецы сошлись во дворце египетского правителя. Эмиры обнажали свои клинки и выказывали перед султаном свою доблесть. Как обычно говорится в преданиях, «мечи их сверкали подобно тысяче молний, и сами воины были готовы пуститься навстречу врагу с быстротой бушующего ветра». Эмиры клялись правителю, что одним блеском оружия они ослепят неверных и приведут их к водопою гибели. Мудрые шейхи терпеливо дождались, пока храбрецы опорожнят кувшины своего красноречия, распустят пояса и откинут полы кафтанов.
Когда наконец стало слышно журчание ручейка, бежавшего в дальнем углу дворцового сада, султан обвел взглядом шейхов. Тогда достославный глава египетских джибавиев Ихвар Мисри низко поклонился владыке и сказал:
«Тень Аллаха на земле! Позволь напомнить тебе, мудрейшему из мудрых, одну историю, которую рассказывал три года назад, сидя на этом самом месте, глава охотников Шираза».
Султан улыбнулся и кивнул головой. «Однажды очень умная и хитрая обезьяна, — стал рассказывать шейх, — спустилась с дерева к ручью, чтобы напиться, и вдруг увидела прозрачный сосуд, внутри которого ярко краснела спелая вишня. Просунув лапу в узкое горлышко, она быстро зажала вишню в кулаке, но сразу догадалась, что не сможет вытащить лапу обратно. Внезапно появился охотник, который устроил эту простую ловушку. Обезьяна, крайне стесненная в движениях из-за бутылки, повисшей на ее лапе, не смогла бежать и была поймана. „По крайней мере вишня-то уж останется у меня“, — подумала она. В следующее мгновение охотник ударил ее по локтю, кулак разжался, и лапа выскочила из сосуда. Так охотник овладел всем вместе и тремя предметами по отдельности: и вишней, и сосудом, и обезьяной».
Доблестные воины удивленно переглядывались, а султан рассмеялся и, хлопнув в ладоши, сказал:
«Светочи Египта, делайте так, как сочтете нужным. Но делайте так, чтобы неверные не подумали, что клинки великого Салах ад-Дина затупились и потускнели, а его воины расползлись по развалинам, как одряхлевшие собаки».
«Применение найдется всем, — отвечал, склонившись перед султаном, Ихвар Мисри, — и холоду рассудка, и огню доблести».
То, о чем говорили между собою шейхи, собравшись в тайном кругу за стенами дворца, в знаменитой чайхане Зун-нуна, средоточии суфийских братств Мисра-Египта, так и осталось запечатанным кувшином. Известно лишь, что во франкские земли были посланы многие последователи тасаввуф из братства бангаритов, или «освобожденных от тени». Это братство состояло в основном из суфиев, в жилах которых текла смесь арабской и франкской крови. Они были потомками воинов Иерусалимского королевства неверных, которое было разрушено великим Салах аль-Дином, а также — потомками тюркоплиеров, наемной арабской гвардии Ордена Соломонова Храма.
Появившись во франкских землях, они принесли тайные послания арабским писцам, служившим у баронов, и другим «молчащим последователям». Некоторые из бангаритов, получившие от своих Учителей пояса с золотыми флоринами, приобрели доспехи, лошадей и оруженосцев. Верные принципу такийя, то есть «благоразумному скрыванию» своей веры, они дали мнимые обеты «принятия Креста» и влились в варварское войско.
Итак, собираясь в поход, графы и бароны снарядили послов в италийские города для найма галер и закупки необходимой провизии, но их правители и купцы отказали, так что храбрым и благородным воинам стало впору самим наниматься гребцами за самую мелкую монету и плошку с похлебкой.
Тогда один мудрый старец посоветовал им приобрести деньги и пополнить съестные запасы в средоточии богатства и роскоши христианского мира, а именно — в Константинополе.
В тот же самый день франкские предводители получили сведения о том, что в одном их храмов Константинополя, хранится древняя реликвия, обладатель которой обретет непреодолимую силу и чудесную неуязвимость на поле брани. Таким талисманом силы был небольшой железный кинжал, якобы выкованный из лезвия того самого меча, которым некогда была усечена голова нищего палестинского дервиша Иоанна, ближайшего сподвижника пророка Йсы.
Таким образом и случилось, что обезьяна сжала кулак. Христиане стали воевать против христиан. Могущественная столица неверных оказалась взята и разграблена, а земли султана спасены от губительного вторжения. Сказать правду, одного из своих обещаний многомудрый Ихвар Мисри сдержать не сумел: доблестным эмирам так и не пришлось просушить свои мечи на солнце. Однако султан остался вполне доволен и тем, что осталось на дне обещаний.
Между тем, посреди Константинополя, опустошенного, как лопнувший на базаре мешок с изюмом, одного из рыцарей обласкала удача. Это был человек из числа франкских графов и «молчащих последователей Пути» по имени Рубур, которого бангариты называли Рахманом. Будучи воином Храма, он знал, в каких местах следует искать припрятанные священнослужителями сокровища. В подвальном тайнике часовни, маленькой и ничем не привлекавшей к себе алчного глаза, он обнаружил заветный талисман, повесил его себе на грудь, под кольчугу, и открыл свою тайну нескольким соратникам, внушавшим доверие. Посовещавшись, они признали Рубура своим предводителем и, будучи людьми не робкого духа, решили испытать талисман, не предъявляя его никому из возможных противников в качестве одного лишь устрашающего боевого клича.
При первой же уличной ссоре обладатель могущественной реликвии обратил в бегство дюжину германских рыцарей и гнал их вдоль всей крепостной стены на виду изумленных толп народа.
Предводители франков похвалили своего воина за храбрость и укорили за то, что он опозорил соратников по крестовому обету, хоть и иноземцев, в глазах побежденных и насмешливых ромеев.
Затем Рубур выказал неподчинение императору, избранному рыцарями из числа франкских графов. Император повелел заточить Рубура в дворцовую темницу, знаменитую на весь мир своими ужасными и едва ли не бездонными глубинами, и содержать там вплоть до его полного и чистосердечного раскаяния. Благодаря талисману, Рубур мог захватить дворец и воссесть на императорский трон, однако, будучи «молчащим последователем», он отказался от излишнего пролития крови. Он проложил себе мечом дорогу до городских ворот и двинулся со своим отрядом на юг, мечтая основать свое собственное королевство, в котором, благодаря чудесному талисману силы, всегда будут царить правда и справедливость.
Таким образом, египетскому дивану пришлось собираться вновь перед раскрытой завесой великого султана и прикладывать ум к тому, как выйти из нового затруднения. На удивление всех эмиров и шейхов, талисман силы оказался предметом, существующим на самом деле и к тому же весьма действенным. Теперь надо было обуздать новую силу в лице мятежного графа Рубура и его рыцарей, среди которых было несколько бангаритов, которые и донесли об открывшихся свойствах кинжала.
«Что скажут мудрейшие из мудрых? — спросил султан, обращаясь к шейхам. — Что ожидать от этого заколдованного войска?»
«О, повелитель правоверных! — отвечал за всех мудрейших Ихвар Мисри. — Если, по твоему провидческому усмотрению, не настал черед доблести и сверкающих, как молнии, мечей, то будет весьма благоразумным поступить по одному из рассуждений моего учителя Зун-нуна, да будет благословенна память о нем.
Однажды, когда я был еще совсем юным учеником, незрелым, как мякоть ореховой завязи, мне довелось идти вместе с другими учениками шейха по довольно узкой улочке. Не помню, почему мы задержались у дверей лавки с благовониями, но только Учитель, пребывая в размышлении, не заметил, что мы отстали и ушел на два десятка шагов вперед. Вдруг мы услышали грохот, и нашим глазам представилась ужасная картина: скатившись с одной из крыш, падал человек, и падал он прямо на голову Учителя. Не успели мы окликнуть шейха, как он оказался под этой бескрылой птицей Рух. Оказалось, что бездельник выпил вина, вылез на крышу и, заснув на солнцепеке, свалился вниз. Мы все были крайне озадачены этим удивительным событием и, навещая Учителя, уже целый месяц пролежавшего в постели, решились наконец спросить объяснение. «Прекрасный урок и для меня, и для вас, — спокойно ответил Зун-нун. — Я наблюдал за падением, без труда предвидя, что пьяница свернет себе шею. Между тем, он цел и невредим, а шея свернута у меня самого. Вот совершенно правдивый образ будущего, сколь бы ясным ни казалось оно на первый взгляд».
Султан поднялся со своего золотого трона и, засмеявшись, хлопнул в ладоши.
«Делай, как сочтешь нужным, хитроумный Ихвар Мисри», — возвестил он свою волю всему дивану.
Тогда в горах Тавра началось возведение цитадели, предназначенной стать шкатулкой для опасного предмета, ибо Ихвар Мисри задумал припрятать талисман не только от неверных, но и от верных, которые, прослышав о его силе и потеряв разум, были способны превратить все земли пророка в пустыню бесконечных междоусобиц. «Аллах выбрал среди неверных самого простосердечного, — сказал Ихвар Мисри. — Значит, в ином случае нам пришлось бы иметь дело с самым лукавым из правоверных».
Два года лучшие каменщики из Багдада и Басры возводили стены и еще пять лет прорубали лабиринты подземелий, которые по своему узору должны были напоминать пару свернувшихся в одно кольцо змей. Это было сделано по велению Хидра, вечного покровителя суфиев, явившегося Ихвару Мисри в сновидении и поведавшего, что в сердцевине лабиринта талисман должен потерять силу.
Как только постройка была завершена, посланники-бангариты передали Рубуру нижайшую просьбу шейха встать в самом средоточии мира на страже справедливости, что вполне соответствовало действительности, ибо Киликийский перевал на границе с Малой Арменией казался лучшим засадным местом для всех дорог, ведущих в Палестину с Севера.
В третий, раз собрался диван египетского султана, и повелитель правоверных вопросил Ихвара Мисри:
«Почему бы нам самим не овладеть талисманом силы?»
«Павлин мира! — отвечал шейх. — В первый день обладания талисманом, ты уже сможешь обойтись без нас»,
И он обвел рукой мудрецов.
«Продолжай, повелитель рассудка!» — кивнул султан.
«Но уже во второй день нам невозможно будет обойтись без тебя, о звезда зенита!» — горько вздохнул шейх.
«Как это понимать?» — изумился султан.
«В предании сказано о силе, но ничего не сказано о власти, — пояснил суфий. — С каждым новым рассветом будет возникать искушение проверить прочность этого алмаза на еще более твердом материале. Я сам боюсь такого греха, о повелитель».
«Какова же сила талисмана?» — задал вопрос султан.
«Никто не знает» — развел руками суфий.
«Не к тебе ли приходил во сне Хидр? — усмехнулся султан. — Как же ты можешь не знать?»
«В сравнении с Рубуром я именно тот, кто тем более ничего не знает, ведь я никогда не держал в руках меча, — искренне признался шейх. — Что касается Хидра, то он направил наши действия, не раскрывая причин».
«Может статься, мы строили эту крепость зря, — поразмышляв, заметил султан, — и совершенно напрасно возимся до сих пор с этим франкским драчуном».
Некоторое время повелитель Египта пребывал в молчании, прислушиваясь к журчанию родника в глубинах дворцового сада. Потом он, нахмурив брови, обвел взглядом, диван и неожиданно для всех рассмеялся.
«Будь по твоему, достопочтенный Ихвар Мисри! — сказал он. — Ты избавил нас от нашествия варваров. Издержки покроем за счет полезного урока: будем считать, что некто упал с крыши нам на голову».
Представляя себе благодушного египетского султана, его диван и смиренно склонившегося перед золотым троном мудреца Ихвара Мисри, я, кажется, сам расслышал, журчание родника в дворцовом саду и под его ласковую песню тихо заснул.
— Учитель! Ты рассказал всю историю? — спросил я дервиша утром.
— Если ты видел во сне ее конец, то, значит, мы оба узнали ее окончание, — ответил дервиш.
Я не помнил никаких сновидений и честно признался дервишу:
— Учитель, как только я услышал журчание родника, то впал в забытье и теперь не помню ничего, кроме темноты.
— Значит, именно султанский родник вынес тебя из подземелий крепости, — смеясь, озадачил меня старик и добавил. — О событиях первых десяти лет ты узнал. Оставшиеся девяносто оказались не столь вместительны. Мы легко донесем их до будущего вечера.
Тем временем, в палатку вошел кочевник и принес мне одежду: халат с узорчатым голубым кантом, того же цвета пояс, длинную рубаху, штаны, сапоги с загнутыми носами и желтый, как у дервиша, тюрбан. Одну из двух тесемок штанов я использовал для того, чтобы плотнее подвязать к предплечью свою таинственную реликвию. Разумеется, внутренний голос не забыл напомнить мне: «А вдруг ты несешь тот самый талисман силы?» — и, разумеется, я дал себе слово не поддаваться искушению и не вступать ни с кем в препирательства только ради проверки своего временного могущества.
Дервиш внимательно следил за тем, как я повязываю тюрбан.
— Если ты и родился чужеземцем, то вскормлен молоком туркменской кобылицы, а повязывать тюрбан тебя учил сам шейх джибавиев, — сказал он, покачав головой. — Хотел бы я посмотреть, как твои руки поступят с франкским плащом или кинжалом ассасинов.
Я невольно схватился за предплечье.
— Их кинжалы другой формы, — успокоил меня старик и вышел из шатра, мягко напомнив, что не стоит следовать за ним.
Оставшись в одиночестве, я прислушался и не собрал никаких сведений о происходящем наружи, кроме блеяния овец, фырканья коней и приятного позвякивания то ли сбруи, то ли золотых динаров.
Дервиш вернулся очень довольным.
— Хорошая новость, — сказал он. — Племя движется по направлению к Конье, куда, по всей видимости, необходимо попасть и нам. Представь себе, целых двадцать кибиток тронутся по дороге и повезут нас — и весь этот великий наемничий труд обойдется нам совершенно даром.
Несколько дней езды в пропахшей потом и женским тряпьем кибитке остались почти порожними от событий. Могучие хребты постепенно отдалялись, становясь темнее и затягиваясь дымкой. Равнина же впереди и по сторонам оставалась неизменной, если не считать, что серая и каменистая почва постепенно уступила простор ржавым и грязно-зеленым пятнам болот. Из придорожных тростников иногда с шумом взлетали крупные птицы, их догоняли стрелы кочевников. По вечерам и на рассвете тростники шуршали, встревоженные ветром, и мне приходилось засыпать под этот тревожный шепот, гадая о подробностях девяти десятков лет, которые старик-дервиш скрывал всю дорогу, оправдываясь то часом для какого-то особого созерцания, то моей собственной неготовностью «почувствовать действие последних капель лекарства». Мне оставалось пока лишь гадать самому о себе: какой важной подробностью мог оказаться я сам на дне этого столетия, похожего на сон заключенного в сосуд джинна.
Однажды поутру я увидел на легких облаках удивительный мираж: впереди над дорогой парил прекрасный зеленый оазис с темно-синим озером посредине. Эта картина, однако, не вызвала ни у кого из кочевников восторга или благоговения.
— Миражи обычны на этой дороге, — сказал мне дервиш. — Ты видишь саму Конью, и, когда она покажется наяву, ты сам поймешь, почему она так похожа на озеро.
Минул еще один день, а утром следующего рассветный ветерок принес восхитительные ароматы яблочных садов и роз. Вскоре навстречу нам действительно потянулись сады и виноградники, которые после скуки и безжизненности пустыни выглядели настоящими райскими кущами.
За одним из пологих холмов, сплошь увитых венками из виноградной лозы, открылось пестрое и бесчисленное стадо палаток и шатров, и оттуда донесся неумолчный шум человеческой суеты.
Дорога перед нами раздваивалась, и наши возницы стали заворачивать вправо, к этому неугомонному стойбищу. Здесь, на распутье, дервиш сошел на землю, оперся на свой посох и коротко поклонился всему каравану.
— Наш путь остается прямым, — сказал он мне, и мы двинулись по направлению к возвышавшейся вдали, над садами, крепостной стене.
Когда до городских ворот, расположенных между высоких башен и сверкавших железными поясами обивки, оставалось не более сотни шагов, старик присел на большой плоский камень и стал беззвучно молиться.
— Делай тоже самое или делай вид, — внезапно услышал я его недовольный голос и тоже закрыл глаза.
Мимо нас долго двигались из городских ворот стада волов, коз, овец.
Прошло немного времени, и к мерному топоту скотины, тяжелой поступи и торопливому цоканью, примешался чужой звук: перестук копыт крепких, но легких. Заперев по велению дервиша глаза, я мог получить важные вести только от ушей и носа. Стараясь не сопеть, я потянул сгустившийся от животных сил эфир и как будто различил остановившегося поблизости коня. В следующий миг прямо над нами раздался молодой голос, выражавший крайнее почтение.
— Учитель! — негромко, но с горячим благоговением произнес он. — Я пришел исполнить твою волю.
— Ныне и в ближайшем будущем, Ибрагим, твоя дорога, по воле Аллаха, может гордиться своей протяженностью, — проговорил дервиш.
— Слушаю и повинуюсь, Учитель, — торопливо проговорил некий Ибрагим, и по резкому шороху я догадался, что он пал к ногам старца.
— Вот послание к благословенному шейху Якубу аль-Муалю, — раздались слова дервиша, произнесенные ясно и неторопливо, словно предназначались они по меньшей мере для двух или для трех слушателей. — Передай по пути еще два слова своими собственными устами. Вот они: «Он пришел».
Спустя несколько мгновений топот коня растворился в движении покорных пастухам стад, и я осмелился напомнить о себе терпеливым вздохом.
— Твоя молитва была весьма прилежной, — без всякого лукавства оценил мои старания дервиш. — Пришедшие вести просят нас поторопиться.
Я открыл глаза и прищурился: утро разгоралось чистым золотом Востока, Всемогущий Создатель раскинул над моей головой лазоревый шатер небес, а на земной тверди прямо передо мной лежала теперь большая, блестевшая темным глянцем свежести, коровья лепешка.
— Если мне не изменяют глаза, некий вестник пользуется довольно редкой породой лошадей, — сказал я дервишу.
— Кое-что вернее помнить по слуху, кое-что по запаху и только на худой конец — по внешнему виду, — пробормотал дервиш, поднимаясь на ноги. — Пойдем. Теперь улицы свободны. И не торопись: пока мы дойдем до ворот, нам нужно будет кое-что подобрать с дороги, — и он хитро посмотрел на меня. — Например, подходящее, для этого случая имя, Я предлагаю тебе самое простое: Человек С Реки.
— Возможно и другое: Человек Из Колодца, — предположил я.
— Если бы я сам достал тебя оттуда, то сгодилось бы и это, — ответил дервиш.
Между тем, мы приблизились к городским воротам настолько, что стражники смогли бы достать нас концами своих копий, не бросая их. Увидев дервиша, они почтительно поклонились старцу.
— Приветствуем тебя, святой отшельник, да снизойдет на тебя благословение Аллаха, — проговорил старший из воинов. — Давно мы не видели тебя.
— Благословение Аллаха и с тобой, славный хранитель города, — ответил привратнику дервиш. — Но если я давно не попадался тебе на глаза, значит, я входил все это время через Старые Ворота.
— Старые Ворота уже три года наглухо заложены камнем! — изумился до глубины души стражник. — Они крепче самой стены!
Дервиш всплеснул руками.
— Да пошлет Аллах дождь из гнилых слив на этот негодный город! — сердито воскликнул он. — То-то я всякий раз выбивался из сил. Почему, думаю, Старые Ворота стали такими неудобными.
Стражники переглянулись, старший звонко стукнул себя кулаком по круглому шлему, и оба расхохотались.
— Святой отшельник, — сказал старший привратник, переведя дух. — Тебя мы пускаем по слову нашего повелителя султана, да будут дни его бесчисленны, как песок в пустыне, а вот твой ученик должен положить дирхем. Прости нас, святой, мы люди подневольные.
— Пойдем отсюда, юный искатель Единого, — недовольно проворчал дервиш и потянул меня за рукав. — Уж если я сам кое-как проносил свои дряхлые кости через Старые Ворота, то ты прошмыгнешь в них быстрее ящерицы.
На этот раз стражники расхохотались так, что с башен сорвалась стая голубей и закружилась в ясных небесах.
— Вот вам десять мынгыр, — проворчал дервиш и протянул привратникам горсть медяков. — Уверяю вас, большего этот молчун не стоит.
Так мы оказались в столице Румского царства, Конье.
На первой же улице, мимо нас прошел торговец невольниками, ведя целую вереницу девушек-рабынь и громогласно расхваливая их качества.
Одна из них, самая последняя по счету, показалась мне знакомой, и я пригляделся. Личико ее, не скрытое покрывалом хиджаба, представилось мне воплощением красоты. На несколько мгновений оно затмило для меня солнце. Взгляд ее черных глаз, подобных глазам молодой газели, вонзился в мою душу и проник так глубоко, как не проникла бы и пущенная из лука с пяти шагов стрела. Перышки ее бровей отливали чернью хорасанского булата, в прямоте губ скрывалась страстность и непоколебимая воля, вовсе не свойственная для юных невольниц. Ровный и заостренный нос, словно у превратившегося в девушку ястреба, а более всего белизна ее кожи, совершенно поразили меня. Многих поучений дервиша я просто-напросто не расслышал, медленно и осторожно поворачивая голову вслед за красавицей.
Она шла в хвосте вереницы и ни разу не обернулась. Я уже решил было отпустить ее совсем на волю судьбы, а заодно и прогнать прочь из памяти, в точности следуя предписаниям своего проводника в этом не слишком понятном мне мире. Я уже стал поворачивать голову в другую сторону, дабы видеть только то, что могло ожидать меня впереди, как вдруг что-то произошло с вереницей рабынь, ни на миг не прервав песню торговца. Я вздрогнул, едва не оттолкнув в сторону дервиша.
Я вновь оказался спиной к своему будущему и теперь растерянным взглядом следил за вереницей, почти уже скрывшейся за поворотом. Накидка последней невольницы алела ярче освещенного солнцем граната, но я стоял, невольно доверяя своей неопытной памяти, а та запечатлела серенькое и невзрачное, как у соловья, оперение. И тут я заметил, что конец веревки, соединявшей все грустные бусины, обрезан и волочится по земле.
Я раскрыл рот, но, ничего не сказав, закрыл его. Внутренний голос подсказал мне, что не все тайны, тем более чужие, следует разглашать даже в узком кругу, даже в том случае, если эти тайны окажутся в конце концов всего лишь игрой сновидения.
— Святой отшельник! — раздался голос позади меня, но, однако принадлежал он человеку, который шел нам навстречу.
Я повернулся, и передо мной возник степенный и довольно упитанный человек с широкой саблей на боку, по одеждам и золотой цепи которого я признал сановника, ведавшего порядком в город: мухтесиба. Конечно же я удивился своей внезапной осведомленности и удивлялся ей впоследствии так часто, что стоит упомянуть о ней здесь в первый и последний раз.
— Святой отшельник! — повторил мухтесиб и учтиво поклонился дервишу. — Последователи уже собрались и слезно молили меня найти твою мудрость.
— Верно, их слезы падали в твои руки золотыми каплями, — проговорил дервиш.
Мухтесиб, поклонившись еще раз, двинулся по своим делам, а мы пошли дальше и, миновав мечеть, выложенную чудесным синим порфиром, свернули в небольшой дворик. Дверца, скрипя, приоткрылась, и кто-то пал перед нами на землю.
— Учитель, — донеслось с земли, — благословенный шейх ожидал твоего прихода. Братья приготовлены.
Голос дервиша изумил меня и даже немного напугал: вовсе не старческий, но крепкий и властный, его голос раздался подобно раскату грома.
— Да исполнится воля Всемогущего, — изрек дервиш. — Я пришел.
Маленький человек проскользнул впереди нас через дворик и скрылся за следующий дверцей, в которую можно было войти, только пригнув голову. Велико было мое удивление, когда, протиснувшись в этот проход, я очутился на широкой и светлой площади, выложенной розовым мрамором, которого, впрочем, было почти не разглядеть, потому что вся эта круглая площадь, обведенная ровной, в человеческий рост, стеной, была покрыта смуглыми телами молодых мужчин, обнаженных по пояс. Они лежали ничком, скрывая лица в соединенных горстями ладонях.
— Святой Учитель пришел! — возвестил голос, отразившийся со всех сторон, как от стен колодца.
— Да благословит тебя Аллах, святой Учитель! — поднялась с площади волна голосов.
— Да снизойдет на вас, джибавии, благословение Единого и Всемогущего! — громогласно изрек дервиш и, снова на мгновение превратившись в обыкновенного, немощного старика, прошептал мне на ухо: — Аллах привел тебя стать свидетелем дуса, обряда попирания. Встань на колени здесь, у отверстой двери, и молись. Терпи и смотри.
Я последовал его приказу и, совершив священное омовение, широко раскрыл глаза.
— Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! — подобно грому изрек дервиш. — Великий шейх джибавиев! Братья готовы принять твою волю по воле Всемогущего! Сойди, ибо двери отверсты!
И вновь с розового мрамора площади поднялись волны голосов, бившиеся о стены короткими и нетерпеливыми всплесками:
— Алла хайй! Алла хайй! («Аллах вечно живой!») Йа даим! Йа даим! («О, вечный!»)
Этот монотонный и тревожный плеск голосов потянул меня в забытье, и мне пришлось часто встряхивать головой и до боли прикусывать губу, чтобы не поддаться дурману этих истекавших от самой земли молитвословий.
Все джибавии лежали головой в направлении Мекки и ее священной Каабе, и я стоял у дверей, лицом туда же. И вот на противоположной стороне площади, на поверхности выбеленной стены появилась тень всадника. Вслед за тенью в узком проходе появился он сам: человек в голубом, как небо, халате и золотом тюрбане. Под ним был стройный жеребец темной масти с белыми ободками у копыт.
Голоса джибавиев зазвучали громче, выше и пронзительней, а плеск молитвословий участился.
— Джибавии открывают тебе Путь, о великий шейх! — возвестил дервиш, перекрывая шум волн. — Приди с Истиной, тень Единого!
И с этими словами дервиш, воздев руки горе, очень медленным шагом двинулся между тел навстречу всаднику, который был далеко не ветх годами, строен и чернобород и сильно напоминал мне сурового бея кочевников-туркмен.
Шейх тронул коня и столь же неторопливо двинулся по кругу вдоль стены.
Я вдруг услышал сдавленные стоны и глухой хруст и в тот же миг едва не повалился без чувств, узрев, что конь шейха идет осторожным шагом прямо по спинам джибавиев! Первые трое или четверо, казалось, выдержали невероятное испытание, оставшись в молчании и неподвижности. Но лежавший последующим, по-видимому не успел подавить свою робость и укрепить тело молитвою, как панцирем, и теперь корчился в судороге, выплевывая сгустки кровавой пены.
Этот несчастный как будто разрушил своей роковой ошибкой прочное, как мрамор, единство обнаженных тел. Он как бы оказался первой трещиной, сразу пронизавшей всю остальную поверхность. И все новые и новые тела подламывались под ударами копыт, хрустели ребра, раздавались хриплые стоны, в предсмертных судорогах приподнимались джибавии над плитами розового мрамора, беспомощно дергались их руки, словно пытаясь ухватить жизнь, выпавшую из рухнувшей крепости скелета. Златоглавый же всадник на черном коне невозмутимо продолжал свой смертоносный путь.
«Терпи и смотри», — вспомнил я слова старика-дервиша. Здесь я был чужаком и имел право лишь молча терпеть и смотреть. Шейх постепенно приближался ко мне вдоль стены, по левую руку, и я находил в нем все больше черт предводителя кочевников, принявших нас по дороге в Конью. Однако я не мог утверждать, что это именно он. Настолько иным был взгляд, что как будто перечеркивал собой все остальное сходство. Бездонная глубина покоя и удивительно приветливого добродушия открывалась мне во взгляде шейха, взгляде, разительно противоречившим всему, что происходило на площади, под ногами его коня. Признаюсь, я всеми силами своей души противился, но постепенно, по мере хода коня, сдавался благоговению и любви к этому необыкновенному человеку, такому благоговению, которое, словно сияние зари, покрывало поверху все земные препятствия, пропасти и ущелья. Я больше не видел умирающих фанатиков, добровольно принявших на себя непосильное посвящение; я видел только его спокойное, как небо, лицо, его голубой, как небо халат, и золотой, как солнце, тюрбан.
Дервиш возвращался ко мне по узкому проходу между тел, разделявшему площадь посередине. Затем, не дойдя до меня нескольких шагов, он, так же с воздетыми к небесам руками, свернул с прохода, переступил через одно тело, потом через другое и, наконец, опустился ничком и лег грудью на одного из юношей, на спину которого вот-вот должен был ступить губительный конь шейха. Надо еще сказать, что вороной конь вовсе не казался воплощением смерти. Он поводил головой, робко поглядывал вокруг большими темными глазами и, будто бы сам своим тихим и осторожным шагом старался облегчить участь тех, кто оказывался на его пути, но, однако, покорно подчинялся правившей им властной руке.
— Джибавии! — услышал я глухой, растекавшийся по всей площади голос старика-дервиша. — Настал час отречения! Забудьте себя! Слейтесь с Единым! Сила неизмерима, а боль ничтожна! Слейтесь с узорами мрамора, с приветливым для ваших тел холодом плит, с лучом солнца и поступью силы! Выберите одно: силу жизни или бессилие страха! Час выбора настал! Да будут благословен Единый и Всемогущий!
Конь наступил на дервиша одной ногой, попав ему прямо между лопаток, сдвинул на эту ногу весь свой непомерный вес, затем оперся на дервиша задней правой и двинулся по телам дальше.
— Слава Аллаху! — живым и спокойным голосом возвестил дервиш.
И конь прошествовал мимо меня по телам джибавий уже так легко и невесомо, будто превратился из земного животного в некое ангельское создание.
Пот градом катился с меня, пока шейх в тишине и мире двигался по телам дальше, сворачивая свой путь по площади, как змею, кругами внутрь. Все остальные, после дервиша, джибавии выдерживали поступь коня без мук и страданий. Из пораженных ранее только двое еще слабо стонали, а другие лежали, не подавая никаких признаков жизни.
Путь шейха к зениту площади становился все короче, а обороты вращения все быстрей. Оставалась всего дюжина последователей, еще не прошедших испытание, когда внезапно вновь раздался короткий, отчаянный вскрик, поразивший меня тем, что донесся со стороны, от самой стены, где пребывали джибавий, выдержавшие попирание.
Я повернул голову и не поверил глазам: там, откуда раздался крик, корчился в муках тот самый юноша, которого спас своим телом дервиш. «Что за обман!» — ужаснулся я и вдруг различил белое оперение стрелы, вонзившейся ему в спину. Откуда мог взяться злодейский стрелок?!
«Стреляли, конечно, из-за стены, — подумал я, — и могли попасть в любого другого, и значит…»
Не успел я довести мысль до конца, как ее опередила сама явь. Короткая молния мелькнула из-за стены, и тот же белый знак пометил самого шейха. Я смотрел во все глаза, и течение времени замедлилось перед моим взором. Стрела попала шейху чуть ниже правого уха. Конь, словно не заметив случившегося, продолжал неторопливо переступать по телам, поворачивая к средоточию площади. Шейх несколько мгновений продолжал невозмутимо сидеть в седле, не издавая ни малейшего стона, и только стал постепенно клониться на правый бок, не выпуская из рук поводьев. Сразу по древку стрелы побежала струйка крови, оторвалась каплями и обрызгала небесную голубизну халата. Я старался увидеть глаза шейха и наконец увидел их: взгляд главы попираемых оставался столь же спокоен и невозмутим, лишь подернулся завесой полной и необратимой отрешенности. Золотой тюрбан свалился с его головы, и в тот же миг вся площадь вздыбилась волнами человеческих тел.
Джибавии вскакивали на ноги. Поднялся невообразимый шум. Крики ужаса и отчаяния затопили гармонию молитвословий. Тело шейха исчезло в густом копошении обнаженных мышц, и я невольно обратил взгляд в сторону, там, у стены, так и осталась лежать на плитах розового мрамора вереница не выдержавших попрания джибавиев, и местами около них мрамор сделался багровым.
И вдруг новая волна покатилась по площади, от ее противоположного конца, от того самого прохода, из которого появился на вороном коне шейх. Эта волна тел и криков катилась прямо в мою сторону и, останься я на месте, смяла бы меня и разбила о стену куда безжалостнее копыт вороного коня. В последний миг, вскочив на ноги и подавшись в двери от напора бегущих и уже теснящих меня джибавиев, я успел заметить тени, а за тенями — вступавших на площадь раскосых всадников в лохматых варварских шапках, а высоко над шапками — стаю алых шелковых змей.
Волна тел вынесла меня сначала в маленький дворик, а затем, едва не размозжив об стену, — на улицу. Противостоять этой волне было глупо и бесполезно, и вместе со всеми джибавиями я бежал, вдыхая потный запах страха, по одной узкой улице, потом по другой; наконец, третья улица между глухих стен, разделявших кварталы, оказалась шире предыдущих, и я, как невольный пловец, несомый бурной рекою, стал пробиваться к берегу. Мне удалось зацепиться за какой-то угол и попасть как бы на маленький и спокойный, тенистый островок.
Оказавшись на этом укромном островке, увы, нестерпимо пахшем мочою, я, тем не менее, перевел дух и, провожая глазами последних беглецов, сам остановился на мысли, что в город ворвались какие-то варвары-завоеватели, вроде акынджей, только сильнее, ужаснее видом и многочисленней. Какой-то неясный, но очень тревожный шум доносился до меня из-за стен: по моему расчету, — со стороны главной, дворцовой, части города. Я не нашел ничего лучшего, как взобраться на стену.
Растянувшись на ней вроде ящерицы, я опасливо осмотрелся, а потом поднялся на колени и поверх черепичных и тростниковых крыш увидел только пики минаретов и верхнюю часть великолепного султанского дворца, отливавшего синевой более яркой и прекрасной, чем небосвод.
Шум за хребтами и лабиринтами стен усиливался, и когда сквозь отдаленных грохот и крики донесся до моих ушей сладостный звон оружия, я понял, что не утерплю — как не напиться из колодца посреди пустыни — того, чтобы не разузнать, кто там воюет и с кем и кто одолевает кого.
Выбирая повороты, у которых мелодия боя становилась все слышнее, я бесстрашно двигался по пустынным улицам, не удивляясь тому, что все мирные жители забились по своим углам, а лавочники плотно законопатили ставни. Казалось, что всем в этом городе все известно, кроме одного меня, который только что проснулся и не может ничего понять. И наконец я очутился на дворцовой площади, гремевшей и бушевавшей подобно вулкану.
Ослепительней тысячи молний сверкали над площадью мечи сражавшихся; звонче и оглушительней тысячи самых широких ромейских гонгов-симантр звенел булат Дамаска и Хорасана. Пестрые всадники неистово сражались с белыми, смешавшись вместе с ними в одном великом и смертельном водовороте. Я не мог определить, кто кого одолевает, и потому, осторожно забравшись на решетчатые ворота ограды, окружавшей медресе, оглядел все берега этого кипевшего гибелью жерла.
У врат султанского дворца, заслоняя собой мраморные ступени, стояли три ряда белых всадников, плотно сомкнувших щиты и опустивших частокол пик, готовых пронзить любого, кто выскочит на них из грохочущего коловращения. Над всадниками колыхались чёрные драконы знамен. На верхних же ступенях, вплотную к вратам, стояли, возвышаясь над всадниками, еще два ряда мощных бехадуров в золотистых шишаках с черными султанами. Их тела были прикрыты большими щитами с золотыми кружками посредине. Между рядами этих пеших воинов почти незаметно двигались лучники, но именно они были в эти мгновения куда опаснее конных и пеших великанов. Их стрелы проносились среди султанов и черных знамен и поражали одного за другим пестрых всадников, число которых на площади пока значительно превышало число белых защитников дворца.
Итак, теперь я вполне разобрался в том, что пестрые пытаются прорвать оборону дворца. Нападавшие понравились мне гораздо меньше, чем белоснежные защитники. Некоторое время я радовался, замечая, как валится с седла то один, то другой пестрый разбойник, пронзенный в шею или в лицо стрелой, получивший смертельный удар в грудь или спину, потерявший руку с мечом или голову. И я огорчался каждый раз, когда видел обагренные кровью белые одежды на земле, среди чащи лошадиных ног.
Сила пестрых как будто начала иссякать и самый опасный водоворот битвы подвинулся в мою сторону, обдав меня волной конского пота и терпкого аромата гибели. Одна из стрел, пущенных со ступеней дворца, звонко щелкнула рядом со мной по воротной петле, и я уже было решил соскочить с решетки и юркнуть в более безопасное место, как вдруг услышал пронзительный крик: «Алп! Алп! Алп-Арслан!» («Герой! Лев!»)
В тот же миг с той самой улицы, что вывела меня к страшному и прекрасному зрелищу, вырвалось девять всадников в белых одеждах поверх кольчуг, в сверкающих франкских шишаках и белых плащах. Я вздрогнул и едва не сорвался с решетки, сразу забыв о всякой опасности, ибо на плащах и на огромных щитах этих «алпов» увидел те самые кресты с раздвоенными, как змеиное жало, концами. Ведь одним из таких же крестов, только в виде крохотного и неприметного знака, был помечен Удар Истины, плотно привязанный к моему предплечью.
Я затаил дыхание и вперился взором в этих воинов, внезапно появившихся на поле брани. Не сдерживая коней, они бесстрашно вклинились в самый опасный водоворот схватки и, к моему неописуемому изумлению, принялись направо и налево сбивать с коней белых, — в моем понимании, праведных стражников дворца. Напор пришельцев был неудержим. Не успел я еще раз вздохнуть, как все плиты под ногами их коней покрылись белым слоем тел, запятнанных алыми метками.
Эта горстка светлолицых франкских «алпов», из под шлемов которых выбивались пряди волос цвета спелой пшеницы, медленно, но неумолимо продвигалась в сторону дворца, расчищая себе дорогу длинными мечами. Пестрые, окружив их с боков и тыла плотным полукольцом, обрели ровный боевой порядок и даже поднимали высоко щиты, перехватывая стрелы, направленные со ступеней дворца в непобедимых франкских воинов.
Черные знамена тревожно закачались над дворцовой сотней отборных всадников. Они тронули своих коней и, вступив в круг битвы, сошлись в схватке с нападавшими. Битва закипела с еще большим ожесточением. Кони скользили по окровавленным плитам и падали, давя седоков. Тела убитых людей и поверженных коней лежали грудами, мешая живым — своим и врагам, — развернуться. Армия пестрых, окружавшая непобедимых носителей алых крестов, снова начала таять.
Вдруг я заметил среди белых рядов небольшую пеструю фигурку в белом тюрбане, конец которого плотно обматывал лицо всадника. Этот пестрый, заметить которого среди сражающихся было легко разве что с моей высоты, чувствовал себя среди врагов, как рыба в воде. Пригибаясь, он умело проскальзывал между защитниками дворца, никому не нанося смертельных ударов. Но и среди белых я не видел никого, кто занес бы над этим странным лазутчиком свое оружие. Напротив, ему даже уступали место, и он быстро передвигался с явным намерением выбраться в тыл пестрых. Я распознал в этом явлении некий коварный замысел.
Лишь у одного из франкских рыцарей голова была защищена не обычным шишаком, а грозным шлемом. Решетчатое забрало скрывало лицо воина, а золотистый султан возвещал всем, что украшает собой предводителя отряда. Действительно, силой и храбростью он превосходил своих соратников, мощно продвигаясь вперед, раздавая неотразимые удары направо и налево, опрокидывая с лошадей сельджукских бехадуров, а порой повергая их ниц вместе с лошадьми.
Невольно вперившись глазами в алый крест на его плаще, я внезапно подумал, что этот доблестный воин может быть тем самым Великим Мстителем, к которому меня посылает судьба и воля Всевышнего. Грозный его облик, правду говоря, мало вязался с крохотным невесомым кинжалом, притаившемся на моем предплечье, но раздумывать было некогда: пестрый злодей-лазутчик явно подбирался именно к нему.
У меня перехватило дыхание, когда бесчестный негодяй проник через задние ряды пестрых и, тайно вынув острый стилет, бесшумно и точно нанес по сторонам от себя два смертельных удара. Передние воины не заметили, как их товарищи повалились с седел подобно кулям с мукой.
Не успел я испугаться, как обнаружил, что уже сам увертливой лисой проскальзываю среди бьющихся всадников, где-то ныряя прямо под брюхо коня, где-то на единый миг притворяясь убитым среди убитых. Можно было пробиться вперед еще быстрее, вскочив на любого из коней, оставшихся без седоков, но я знал наверняка, что, конного и безоружного, меня срежут, как колос серпом, в первый же миг. Я уже не видел ни доблестного воина, ни злодея и продвигался по наитию в сторону синей и прекрасной горы султанского дворца, откуда навстречу все еще летели стрелы и грозили копьями неприступные ряды огланов, личной гвардии султана.
Трижды валились мне на голову с седел поверженные седоки, и, когда я добрался до цели, то уже был так с ног и до головы перемазан кровью, что вполне мог сойти за увечного, смертельно раненого воина, не представляющего для любого всадника никакой угрозы. Уже едва пригибаясь, я достиг франкских рыцарей быстрее пестрого и щуплого злодея. Здесь стоял оглушительный звон мечей. У меня на все не хватало глаз. В любой миг я мог превратиться в разделанную тушу.
Злодей тоже не дремал: выглянув из-за спины отбивавшего удары пестрого всадника, он уже поднимал руку, держа стилет за острие. В самой середине пекла я облился ледяным потом и только успел подобрать с земли чей-то щит, как лошадиный круп перегородил дорогу всей моей доблести.
— Мессир! — не выдержав, крикнул я во весь голос. Рыцарь, как мне показалось, вздрогнул и обратил на меня зарешеченный взор.
— Слева! Слева! — истошно завопил я, прикрываясь щитом от смертоносного дождя.
Рыцарь успел приподнять край своего щита, когда нить рока между крохотной щелкой, едва обнажавшей шею у края кольчужной сетки, и летящим жалом стилета сократилась до двух локтей. Стилет звонко и злобно ужалил угол щита и, жужжа и вращаясь, отлетел в сторону.
— Благодарю тебя, добрый воин! — донесся сквозь звон оружия могучий голос франка.
— Проклятье! — ответил я на том же языке без всякой учтивости, поскольку глаза мои успели разглядеть новое жало первого: невиданную железную звезду, каждый из тонких шипов которой мог бы при верном попадании пройти в ушко кольчуги и, разорвав его, достать до сердца.
Пестрый злодей искусно двигался среди сражающихся, не попадая под удары, а в руке его уже готовилось к змеиному броску эта страшная выдумка Иблиса.
Благодарность франкского льва так воодушевила меня, что жизнь потеряла для меня всякую цену. Я был готов на любой подвиг и как раз вовремя попал на базар, где подвигами торговали тоже по самой низкой цене.
Отступив к пестрым в тыл, я продрался через чащу конских хвостов и, пару раз подпрыгнув, вновь приметил своего главного противника. Он, заезжая теперь по правую руку франка, выбирал место для броска. Я вновь, уподобился какому-то хищному подпольному зверьку, скорее всего крысе, и за один вздох настиг злодея.
Он уже начал отводить руку каким-то особым способом: снизу от бедра, со змеиной гибкостью выворачивая кисть. Но тут большая и злобная крыса кинулась на него, схватила лапами за плечо и потащила из седла. Злодей повалился с коня на плиты площади, и крысе ничего не оставалось, как только вцепиться зубами в его запястье. Тонкие и хрупкие на вид, но несущие самую коварную гибель, .пальцы разжались, и я, живо подхватив железную осу, отбросил ее подальше. Орудие предательского убийства звонко запрыгало по камням под норами всадников, и в то же мгновение меня поразил раздавшийся около моего уха вскрик. Невольно я разжал хватку и повертел головой. Я мог поклясться, что кричала от боли и страха девушка, но как она могла попасть сюда, в глубину этого кровавого котла, и как хватило бы мне сил спасать еще кого-то?!
Не успел я поклясться кому-нибудь, как получил от злодея в живот искусный удар сапогом, выбивший из меня всякое желание дышать, спасать и клясться. Злодей ускользал! Легко, как кошка, вспрыгнул он на коня. Но и крыса оказалась не из дохлых. Неимоверным усилием протолкнув в грудь глоток терпкого эфира, я кинулся за ним и в броске схватил за пояс. С такой злостью я выдернул врага из седла, что мы оба покатились кубарем под ноги коней, пританцовывавших под чанги и цимбалы сражения.
Насев на злодея и прижав его лицом к камням, я мог бы окончательно уподобиться крысе и для своей же безопасности перегрызть ему горло, однако, ощутив над ним самую малую власть, я невольно принял человеческое обличье и решил устроить все достойным истинной доблести образом, а именно: пленить презренного и бросить его к ногам славного франка, как только тот освободится от своих непомерных хлопот.
Я сидел верхом на злодее, сумев заломить ему правую руку за спину до самых лопаток, и под грохот сражения, происходившего, в моем понятии, где-то в небесах, спокойно размышлял: «Главное повыдергивать из этого молоха все шипы и жала. А уж потом будем вязать, не то он успеет плюнуть и в меня каким-нибудь смертоносным гвоздем».
Злодей не шевелился, пока я срывал с его пояса всякие кожаные чехлы и кошельки, в которых скрывалось что-то несущее гибель: какие-то шипастые плоды каштана, иголки, звезды и непонятного предназначения цепочки. Полдюжины тонких, как рыбьи косточки, стилетов прятались за голенищами его мягких, по-султански роскошных сапогов. «Злодей не из простых наемных разбойников, — подивился я. — Такие сапоги получают из рук самого султана».
Все шипы и жала я раскидал, куда мог, стараясь только не попасть под ноги франкских коней, и полагал, что самое опасное оружие наверняка скрывается у этого разбойника за пазухой.
Придавив злодея всем телом к земле так, что теперь уж он и вздохнуть не мог, не то что пошевелиться, я стал просовывать под него руку, стремясь попасть за пазуху. Негодяй заскрипел зубами, словно подтверждая, что я оказался очень проницателен.
— Змея, потерпи чуть-чуть, — злорадно прошептал я врагу на каком-то из трех языков; не помню, на каком именно. — Сейчас ты станешь ручной и безвредной.
Моя проницательность оказалась выше всяких похвал!
Оружие, которое я нашел за пазухой подлого убийцы, без труда сразило бы любого алпа-льва или бехадура. Меня оно сразило даже не вынутое из ножен!
Похоже, мы со злодеем оба перестали дышать!
Моя рука сжимала прекрасную, упругую и теплую, как согретый вечерним солнцем персик, девичью грудь!
Сила дрогнула во мне, и хребет на миг ослаб. Только этого и ждала колдунья войны. Извернувшись с невероятной быстротой и живостью, она сбросила меня на плиты, и, едва я кинулся на нее, со столь же колдовским и прелестным изяществом закатила мне своим сапожком оглушительную оплеуху.
Все поплыло передо мной, кроме прекрасных черных глаз и остреньких перышек-бровей. Тех глаз и тех перышек я не мог не узнать!
Вот что означала обрезанная веревка, тянувшаяся за вереницей юных рабынь: та веревка напоминала мне тогда о новой неразрешимой и ошеломляющей тайне!
Лишь только река моего нового, на этот раз легкого и необременительного, беспамятства выбросила меня на берег яви, я вскочил на ноги и огляделся.
Юная и прекрасная злодейка пропала бесследно, зато благородный рыцарь-франк был не только жив и невредим, но и успел подступить к самым воротам дворца, каждым ударом меча сокращая число огланов. Уже падали один за другим пешие бехадуры внутреннего строя, те, что ослепляли нападавших золотыми зеркальцами на своих щитах. Черных султанских знамен осталось, как сухих камышин после жестокой осенней бури.
«Этот кинжал, который она бросила во франка, — подумал я, не зная толком, что теперь делать, — отскочил от его щита прямо мне в сердце».
Я потрогал священную реликвию, привязанную к предплечью, нащупал пальцами узор восьмиконечного креста и решил, что никакого выбора у меня уже нет и безгрешным отшельником посреди этого коловращения жизни и смерти мне быть не суждено. Сначала, мысленно, я был за одних, а затем, уже делом, за других. Оставалось продолжать дело, а не бесплодную мысль.
Тогда я выбрал себе на площади подходящий меч, щит и коня.
Теперь уже небольшого труда стоило мне добраться до кипящих волн прибоя и стать плечом к плечу с доблестными франками. Меч легко и верно подчинялся моей руке, и, значит, не только в сновидениях и миражах получался из меня искусный боец.
«Верно, был и колодец и все остальное, — думал я, — или, по крайней мере, есть то, что есть!»
Разумеется, я старался уверить себя в том, что своим боевым опытом обязан не только «талисману силы», действительному или мнимому.
— Благодарю тебя, добрый воин! — вновь донеслись до моих ушей сладостно согревавшие сердце слова рыцаря. — Мое имя Эд де Морей. Рыцарь Соломонова Храма и комтур Конийской капеллы Ордена. Вы спасли мне жизнь. Вот вам моя рука.
С этими словами Рыцарь Храма отпустил на мгновение меч, положив его рукояткой на седло, а клинком на закрытое щитом предплечье, и протянул мне облаченную в кольчужную перчатку руку. Я сделал так же, как он, и наши руки встретились. Что-то, как птенец под скорлупой, шевельнулось в моей скрытой памяти, и я хотел было попросить рыцаря, чтобы он приподнял забрало и показал свое лицо, но вместо этого только сказал ему:
— Для меня высокая честь, мессир, пожать вашу доблестную десницу. Не имею возможности ответить вам достойно вашему слову. Я не знаю своего настоящего имени и своего происхождения. С моей памятью случилось несчастье.
— Вот незадача! — изумленно воскликнул рыцарь.
Наш разговор был прерван последним напором белых, но вскоре пестрые снова оттеснили их со ступеней, и рыцарь, достигнув решетки дворцовых ворот безуспешно потряс их своей крепкой рукою.
— Дьявол! — воскликнул он. — Где же Адиль? Что он мешкает?
Из глубин дворца тоже доносились отголоски сражения: то ли то было эхо с площади, то ли схватка не столь жаркая и многолюдная происходила и там, в покоях и райских садах.
— Мне не известно также, — честно признался я, — на чьей стороне, против кого и за обладание каким богатством я теперь сражаюсь.
— Если так, то вы просто баловень судьбы, добрый воин, — сказал рыцарь, вглядываясь в роскошные дебри дворцового сада. — Провидение послало вас решать участь Рума. Жестокому султану Масуду приходит конец.
— Вы и есть Великий Мститель, мессир? — прямо спросил я.
— Великий Мститель?! — замерев в седле, ошеломленно проговорил рыцарь и обратил ко мне забрало своего шлема. — Но если так… добрый воин, то вам известно больше, чем известно всем, а все эти мелкие хлопоты вас не должны беспокоить. Нет, я не Великий Мститель.
Я возблагодарил Бога за то, что оказался неглуп и не стал сразу открывать свое сокровище.
Эд де Морей приподнял забрало и нетерпеливо ударил мечом по решетке запертых ворот.
— Адиль! — крикнул он внутрь. — Тысяча прокаженных демонов!
— Будьте осторожны, мессир! — предупредил я его. — Я не столько спас вашу жизнь, сколько на короткий срок отвел опасность. Поднятого забрала достаточно для страшной угрозы. Видели бы вы, сколько… — я должен был сказать «у нее», но запнулся, и сердце мое неукротимо забилось.
— Что сколько? — переспросил рыцарь.
— …сколько я видел приспособлений для того, чтобы угодить в ухо с пятидесяти шагов.
— Доблестный чужестранец, — проговорил рыцарь-храмовник, пристально всматриваясь в дворцовый сад, — по вашему виду не скажешь, кто вы и откуда. Но если вы познакомились с Черной Молнией только сегодня, то несомненно хранит вас рука Господа нашего Иисуса Христа или вашего Аллаха.
Едва я раскрыл рот, чтобы расспросить про Черную Молнию, поразившую щит рыцаря и мое сердце, как в саду зашевелились кусты и выпустили двух человек в одеждах дворцовых слуг. Они побежали к воротам, причем один отставал, приволакивая ногу и держась за окровавленное плечо.
— Адиль! — радостно, но сердито воскликнул рыцарь. — Наконец-то! Вы там, должно быть, заснули.
— Господин! — горячо зашептал Адиль, тот самый раненый человек, открывая врата. — Половина наших людей перебита. Торопитесь!
— Де Бриен! Задержи караманцев снаружи! — повелел, обернувшись, де Морей одному из рыцарей. — Эти яблоки не для них!
Восемь доблестных рыцарей и с ними один безымянный найденыш в грязном туркменском рванье бросились на горячих конях в святая святых сельджукского царства. Павлины с дикими криками разлетались у нас из-под копыт, и золотые плоды сыпались с веток нам на головы.
Мы подскочили к галереям, откуда из сумрачных глубин доносился звон мечей, и спешились.
Плотным и решительным строем мы вторглись в дворцовый сумрак, приятно освежавший тело и душу. Переступив через мертвецов в белых одеждах и напугав ручных обезьянок, которые таращились на нас со своих золотых перекладин и бряцали цепочками, мы отдернули занавеси и распахнули новые двери.
Во внутренних покоях дворца еще кипели живые силы и звенела сталь. Здесь битва шахматной пехоты на доске из ионийского порфира оказалась еще более головоломной, чем на площади: белые фигуры сражались с белыми. Мне ничего не оставалось, как только прижаться вплотную к рыцарю Эду де Морею и повторять все его выпады и удары, более защищаясь от неожиданных наскоков, чем нападая. По-видимому, и сам комтур в пылу схватки слабо различал своих и чужих, потому что, отмахнувшись как-то мечом и снеся им чью-то голову заодно со сжимавшей саблю рукой, он вдруг разразился бранной тирадой, полной досады и огорчения.
Наконец из белых фигур на доске остались только те, какие вели себя вполне учтиво и не боялись поворачиваться к нам спинами. Облепленные этими союзниками со всех сторон, словно обваленные мукой, рыцари-тамплиеры вместе с одним поддельным кочевником кое-как протиснулись в следующие покои. Там железная поступь франков канула в мягкую плоть ковров и тюфяков.
Впереди, у завешенных пурпурным бархатом дверей лежало несколько великанов-стражников с пробитыми шеями. Я заметил на стрелах белое оперение.
— Оставаться здесь! — приказал всем на тюркском наречии Эд де Морей, а сам со своими товарищами двинулся к занавесям.
Он отвел мечом пурпур в сторону и ткнул острием в дверь нежной белизны, какая бывает только у слоновой кости. Дверь распахнулась. Предводитель тамплиеров на одно мгновение прислушался к безмолвию и решительно шагнул внутрь.
Получив передышку, я огляделся. Свет солнца, проникал в покои сквозь разноцветную мозаику стекол, поражавшую своей красотой, играл бликами на узорчатой эмали китайских и флорентийских ваз, на серебре подносов, кувшинов и чаш. У одного из мятежных огланов уже раздулось пузо от припрятанного впопыхах сосуда. Остальные тоже рыскали глазами, как голодные волки, и хватались то за одно, то за другое, быстро превращаясь из храбрых воинов в груженое стадо ишаков.
Признаюсь честно, я бы прихватил с собой все остальное, кроме золота и серебра, так соблазняли меня своей негой расписные тюфяки и подушки, так хотелось соорудить из них роскошную горку и провести на вершине час заслуженного отдохновения. Не выдержав соблазна, я присел на один особенно пухлый тюфячок, но, помня, однако, старый урок, решил не выпускать из руки своего оружия.
Из покоев, в которые канули тамплиеры, не доносилось никаких вестей и никаких звуков, и у меня стали тяжелеть веки. Я встряхнул головой, повертел ею, как разбуженная ворона, и обнаружил рядом с собой, на расстоянии протянутой руки, небольшой поднос с круглопузым кувшинчиком и нарезанными ломтями хлеба и дыни.
Концом сабли я подвинул к себе поднос и, стараясь не терять бдительности, взялся за дыню. «В мышеловку-то мы залезли, — рассудительно подумал я, — но еще предстоит выбраться из нее». Эта притча означала, что бой возможен и на обратном пути. Растолстевшие и отяжелевшие от припрятанных сокровищ огланы могли теперь оказаться негодными союзниками. Поэтому я и решил оставить заслуженное насыщение желудка до лучших времен и только одним скромным глотком довершить трапезу. Я потянулся за кувшином, взял его за горло и поднес к лицу. Аромат дворцового вина коснулся моих ноздрей и опьянил своей изысканностью. «Глупцы, — вспомнил я о славных воинах, превратившихся в грабителей, — главное сокровище оказалось скрытым от ваших глаз».
Я прильнул губами к горлу кувшина и сделал только один глоток. Таким прекрасным вином могла бы угостить меня в райском саду какая-нибудь черноокая гурия!
Мозаики окон поплыли передо мной и засверкали, как россыпи драгоценных камней. «Хватит, — повелел я самому себе. — Терпи. Смотри».
Величайшим усилием воли я отвел руку с кувшином и поставил его обратно на поднос. Другой рукой я приложил ко лбу давно остывший клинок и совершенно протрезвел.
Как раз в это время в дверях за пурпурными занавесями появился рыцарь и подал знак.
— Сотник! — громко позвал он. — С пятерыми — к великой завесе.
Мы вошли в комнату, сиявшую золотом. Тронное возвышение перед нами было скрыто от глаз простых смертных великой завесой из филадельфийской парчи, пурпур которой отливал блеском змеиной чешуи.
Эд де Морей снял с головы шлем, и я увидел немолодого человека со светлыми глазами, несколько вытянутым, мужественным лицом и прямым носом, на котором я заметил продолговатый шрам, пересекавший и левую щеку. У рыцаря были тонкие, прямые губы и несколько выдававшийся вперед подбородок. Я стоял перед настоящим франком, перед первым франком, которого я мог запомнить заново, и у меня стало тепло на душе: что-то родное и знакомое нашел я в его чертах и мог догадаться, что и в моих жилах должна течь хотя бы капля настоящей франкской крови.
— Что предвещает твой пристальный взгляд, добрый воин? — улыбнувшись, спросил Эд де Морей.
— Прошу извинить меня, — был мой ответ. — При весьма странных обстоятельствах я потерял обычную человеческую память. Теперь мне кажется, что настала пора найти своего старшего брата.
Брови рыцаря приподнялись от изумления, и он, поведя рукой в железной перчатке, заметил:
— Уверен ли ты, добрый воин, что им не может оказаться любой из попавших в эти покои? Или даже тот… — он на миг как бы запнулся, — кто остался за этой завесой?
Он подвел меня к запретному пределу и концом меча приподнял тяжелые складки парчи.
Я увидел древний платановый трон с золотыми львами на подлокотниках, а под ним, на розовых ступенях — тело румского владыки в голубых одеждах. Невольно я поискал глазами пятна крови.
— Его придушили, — пришел мне на помощь Эд де Морей. — Крепким шелковым шнуром. Полагаю, орудие убийства уже пропитали смолой и сожгли.
— Кто это сделал? — полюбопытствовал я, почувствовав облегчение от того, что с безоружным повелителем Рума покончил так неблагородно кто угодно другой, только не рыцари-храмовники.
— Вероятно, эмир дворца и серхенги, начальники телохранения, — ответил рыцарь. — Заметь, добрый воин, кто-то еще с утра приказал всем огланам, в том числе и верным султану, надеть погребальные одежды. — И увидев мой изумленный взгляд, он пояснил: — В твоей потерянной памяти, добрый воин, осталось, что белый цвет у сельджуков — знак глубокой печали. Обычно огланы должны быть одеты в черное или голубое.
Позади нас донеслись звуки мощных шагов.
— Пора отойти с дороги господ и хозяев, — сказал рыцарь, и мы отошли к стене, примкнув к одной из франкских шеренг.
К моему страху, пришельцами, господами и хозяевами оказались те самые узкоглазые и приземистые варвары в меховых шапках.
С обнаженными саблями, концы которых были обращены вниз, с луками и колчанами за спиной, они прошествовали двумя рядами к великой завесе и расступились на два шага, образовав между собой проход.
— Кто они? — не выдержав, обратился я шепотом к рыцарю Эду.
— Монголы, — шепнул он в ответ. — Сейчас мы увидим наместника.
Знатный варвар в богатых одеждах, вооруженный широкой саблей, покоившейся в ножнах, шествовал по проходу между бехадурами, а следом за ним шли еще два воина-монгола с белыми султанами на блестящих шишаках.
— Ереджени, принц крови из Хулагуйдов, — шепнул мне Эд де Морей. — Посланник ильхана. Приглядись к знакам на его одежде, когда он сядет на трон.
Монгол коротко посмотрел на мертвого султана и снова повел рукой. Двое лохматых бехадуров бросились исполнять его волю. Они вскочили на ступени, схватили султана за ноги и потащили вниз. Пока они проворно волокли тело через тронный зал к выходу и одежды султана тоскливо шуршали по полу, четверо других бехадуров кинулись ничком на оскверненные мертвой плотью ступени. Тогда посланник ильхана, подняв ногу и оперевшись на плечо телохранителя, ступил на одушевленную лестницу и легко поднялся по спинам своих подданных к султанскому трону. Без всяких церемоний и без всякого показного величия принц уселся на него, как истинный кочевник немного подобрав ноги, и обозрел покои.
— Что видит добрый воин? — донесся до меня шепот рыцаря Эда.
Я увидел на груди монгольского принца золотой крест, висевший на золотой цепи.
— Принц — христианин несторианского исповедания, в отличие от ильхана-мусульманина, — пояснил рыцарь Эд. — Потому отдален от дворца ильхана. Но это знак Провидения. Верю, что Рум станет первой ступенью к освобождению Святой Земли.
Монгольский наместник еле заметно кивнул, и этого кивка оказалось достаточно, чтобы величественный и гордый рыцарь Эд де Морей сошел со своего места, двинулся к трону и, остановившись у нижней ступени, низко склонил свою франкскую голову.
Монгол подозвал рыцаря ближе и одним непонятным словом, произнесенным, правда, вполне приветливо, заставил Эда де Морея склониться еще ниже.
Когда рыцарь покинул самые опасные окрестности трона и вернулся на свое место у стены, мой взгляд не слишком понравился ему, и он сказал:
— Принц подарил мне коня из табуна Хулагу.
Звуки новых шагов возвещали о приближении новых пришельцев, и, если господа уже были на месте, то надо было ждать появления хозяев.
Вошедшие оказались сельджуками и были одеты в черные и синие сельджукские одеяния. Их было много и разного вида: старых и молодых, воинов и сановников. Едва они настороженной толпой заполнили всю свободную площадь тронного зала, как по мановению руки пожилого человека в золотистом тюрбане, рухнули ниц и поцеловали узорчатые плитки. Так сделали все, кроме двоих: самого пожилого сановника и густобородого человека в тюрбане, что был украшен крупным рубином.
Монгольский принц сделал учтивый кивок и движением пальца поднял всех на ноги. Тотчас те двое двинулись вперед, достигли священной лестницы и, так же опустившись ниц, поцеловали первую ступень. Затем человек с рубином поднялся по ступеням и встал по правую руку монгола.
— Ходжа Маджд-ад-дин Четвертой руки, — громко и отрывисто произнес монгол с искаженным тюркским выговором. — Волею Всевышнего, — продолжал монгол, — ваш повелитель и владыка земель Рума.
Снова зашумела волна придворных, повергшихся ниц.
Вместе с рыцарем Эдом я совершил достаточно низкий поклон и этому господину, которых становилось в Руме чересчур много.
Между тем, монгол поднялся с трона с таким видом, будто походя присел на него отдохнуть. Он стремительно и легко спустился со ступеней и быстро пошел к выходу. Впереди него, рассекая толпу сельджуков, прошествовали к дверям телохранители, а следом — вереница бехадуров.
Лишь только господа покинули средоточие власти Румского государства, бросив его на произвол хозяев, как вздох облегчения, подобный утреннему ветерку над озерной гладью, пронесся по разноцветной толпе придворных. Лица просветлели, и воскрылия одежд весело затрепетали.
Среди общего ликования до меня вдруг донесся полный печали вздох самого рыцаря Эда де Морея.
Новый султан, сверкнув кровавым рубином, воздел руки горе и изрек густым и приятным на слух голосом:
— Благословен Аллах, Милостивый, Милосердный!
Сельджуки повернулись лицом в сторону Мекки и, совершив ритуальное омовение, встали на молитву.
— Все радуются победе, — пробормотал я себе под нос, опустив голову, — только герой, снискавший победу, радуется меньше всех.
— Столько хлопот и усилий, — тихо проговорил тамплиер, — и все опять понапрасну.
— Но ведь пришел конец жестокому султану, — напомнил я рыцарю его собственные слова.
— Новый хозяин трона не лучше прежнего, — еще более тихим шепотом откликнулся рыцарь Эд. — Я полагал, что будет править наместник, великий нойон ильхана. Тогда Рум приблизил бы меня к Святому граду Иерусалиму.
— Мессир полагал, что здесь будет править ссыльный кочевник-христианин? — задал я вопрос, не рассчитывая на ответ.
Действительно, рыцарь Эд промолчал и лишь разразился новым горестным вздохом.
Двор новоиспеченного султана Масуда Четвертого окончил молитву, и повелитель сельджуков, воссев на трон, выпятил грудь и оглядел подвластную его взору часть поднебесного мира.
Как я и подозревал, взгляд его темных глаз также остановился на рыцаре Эде де Морее.
Вновь рыцарю-тамплиеру пришлось вздохнуть и — вновь приблизиться к подножию трона. Он остановился у нижней ступени и, с достоинством склонив голову, приложил к груди облаченную в доспех руку.
— Неустрашимый лев и краса всех храбрецов! — изрек султан. — Твой праведный поступок достоин высшей похвалы, а доблесть достойна самой высшей награды. Знаю, чужеземец, что по обетам своей веры ты аскет и не станешь носить халата с моего плеча. Возьми же лучшего жеребца из моих караманских табунов.
— Великий царь нашего времени, — отвечал султану рыцарь Эд де Морей. — Моя благодарность не имеет пределов. Однако, по законам Ордена рыцарю дозволено иметь не более трех коней. Двое из них прошли со мной огонь и воду. Они мне как братья, и я им как брат, а не господин. Выше моих сил расстаться хотя бы с одним. А третьего подарил мне великий нойон ильхана.
Все сердечные жилы натянулись во мне, как струны чанга, когда я услышал такие дерзкие речи. Однако султан и бровью не повел.
— Но ныне поутру появился доблестный юноша, — продолжил свою речь рыцарь Эд, и я затаил дыхание, предчувствуя подвох, — и этот славный юноша сегодня спасал меня от верной смерти столько раз, сколько можно насчитать старых рубцов на моем теле. Сила и храбрость его поразительны, а ведь он едва достиг совершеннолетия. Полагаю, о великий царь, он достоин лучшего коня не меньше твоего покорного слуги.
— Ты говоришь удивительные вещи, неустрашимый лев, — приподняв бровь, проговорил султан. — Где же этот храбрец?
— Скромность его превосходит доблесть, — ответил рыцарь Эд и, повернув голову, посмотрел на меня.
Во взгляде рыцаря Эда я, прочел безоговорочный приказ.
Этот взгляд подобно огромному мечу рассек толпу придворных, и глазам султана предстал некто в одеждах туркменского племени.
— Юный сокол с вершины великой горы Аль-Джуди! — воскликнул султан. — Человеческого ли ты рода или дух, сошедший с небес? По твоему виду даже самый могущественный прорицатель не определит, ни твоего рода, ни места происхождения.
— О царь вселенной! — сказал я, совершив должный по такому случаю поклон и отважившись говорить только правду. — Я и сам ищу ответа на этот вопрос, ибо со мной произошло великое несчастье. Я потерял память и не в силах даже назвать своего настоящего имени. Только один мудрый дервиш…
— Всемогущий Аллах! — раздалось громкое восклицание, прервавшее мою речь.
Я запнулся и с изумлением посмотрел на пожилого сановника, стоявшего по правую руку султана. Этот человек пристально разглядывал меня и щурился так, будто я превратился в иголку, и он теперь тщится старческими руками попасть ниткой в мое игольное ушко.
— Мудрый визирь! — обратился к нему султан, повернув голову. — Неужели и ты хочешь удивить нас какими-нибудь чудесами?
— Всемогущий Аллах! — вновь воскликнул новый визирь нового султана и протянул ко мне руки. — Да ведь это ни кто иной, как мой любимый племянник, потерянный много лет назад и уже оплаканный, как мертвец. Аллах всемилостив! Он послал мне мальчика в такой радостный день. Доброе предзнаменование, великий царь!
Старец, пошатываясь, спустился со ступеней и обнял меня с такой искренней радостью, что я и сам едва не расплакался, хотя, увы, не мог вспомнить своих кровных уз. К тому же. я так свыкся с чудесами, что не удивился бы, если бы меня самого признали султаном. Впрочем, не стану лукавить: я был счастлив, потому что для счастья нашлись все причины,
— Воистину Аллах всемогущ, — изрек султан. — Ты прав, визирь. Эта неожиданная находка может быть добрым предзнаменованием того, что мой халат не пропадет даром. Вот воин, достойный принять его на свои плечи. Тот, кто любит меня, пусть одарит юношу от всего сердца. Он долго странствовал, перенес много тягот, поэтому нуждается во многом.
Не успел я перевести дух, как оказался погребен под горой сокровищ, роскошных одежд и оружия.
Славный рыцарь Эд де Морей и его воины внезапно оказались за пределами уже освоенного моей памятью и только что полюбившегося мира. В те мгновения память бережно сохранила взгляд рыцаря Эда, полный сочувствия, которое я принял, как самую лучшую награду за все странствия и неизвестные мне прошлые тяготы.
Затем румский двор занялся чествованием вождей «пестрого» караманского племени, доблестно сражавшегося у стен дворца, а меня отвели в другие покои. Там «посланника удачи» отмыли, натерли самыми дорогими благовониями, одели в красивые одежды и накормили такими яствами, которые он, по смутному подозрению, не мог отведать ни разу за последнюю тысячу лет.
Так я превратился в настоящего сельджука, младшего серхенга, носящего черные одежды, алый пояс, алые сафьяновые сапоги и алый тюрбан. На боку у меня повисла дамасская сабля, а тайную реликвию я стал крепить выше, у самого плеча.
Меня поселили в правом крыле дворца вместе с остальными серхенгами, которые с первого же дня стали обращаться со мной, как со своим начальником, а вовсе не младшим по возрасту и чину.
Все складывалось так, будто я наконец искупил перед Всевышним какую-то тяжкую вину и теперь получаю заслуженное воздаяние.
Однажды вечером визирь и мой дядя позвал меня в свои покои, усадил на тюфяки подле треног с курившимися благовониями и, потчуя сказочными блюдами, принялся рассказывать историю, которую при иных обстоятельствах я должен был бы знать лучше него.
РАССКАЗ ВИЗИРЯ
Дорогой племянник, теперь, когда ты немного освоился с новыми одеждами и новой жизнью, пришло время поведать тебе о твоем отце и открыть удивительную историю твоего рождения. Возможно, услышанное тобой восстановит хотя бы часть утраченных воспоминаний, и мы сумеем разгадать не только тайну твоего исчезновения, но и тайну твоего имени, не известного даже твоему отцу вплоть до того дня, когда мы расстались с ним и он отправился в свое роковое путешествие на Восток.
Мы происходим из древнего и знатного аравийского рода. Все наши предки и родственники были известны своей близостью к халифам, султанам и эмирам, а также прославились знаниями в каламе, науках и военном деле.
Твой отец носил имя Умар ибн Хамдан аль-Азри и считался великолепным наездником, метким стрелком и умелым спорщиком.
Однажды во дворце египетского султана зашел разговор о статуях, привозимых из пределов Византии и Индии. В тот вечер сотрапезники султана, в числе которых был и твой отец, не скупились на похвалы одной такой статуе, недавно доставленной из Трапезунда. Искусно вырезанная из розового камня, эта фигурка изображала девушку с прекрасными чертами лица и округлостями тела.
Умар и раньше подолгу глядел на нее, особенно в часы обильных возлияний, иногда не к месту замолкая, а порой и вовсе теряя нить беседы. На этот раз султан, весьма благоволивший к Умару, не вытерпел и сказал: «Сколь же приятней для глаз и ушей, но опасней для здравого рассудка изваяние, хотя и такое же безмолвное, как это, но зато способное двигаться и исполнять любое твое желание».
Этими словами султан, догадываясь, что у юноши на сердце, хотел отвлечь его от пустых грез, от этого мраморного миража, а, с другой стороны, намекал на новую наложницу визиря, немую красавицу из скифского племени.
Твой отец Умар вспыхнул в душе, посчитав слова султана за насмешку над его неопытностью, и дал себе страшную клятву в том, что найдет способ увидеть Гюйгуль — так назвали немую уже в Египте — и сравнит ее красоту с красотой мраморной статуи.
В одну из ночей, когда визирь был в отъезде, ему удалось проникнуть в дом. По веревке он взобрался на крышу и с помощью кинжала сумел поднять несколько черепиц.
Между тем, Гюйгуль случилось зайти в один из покоев, где больше никого не было. Там и застиг ее твой отец, сразу узнав по всем известным приметам. В тот же миг они воспылали друг к другу такой сильной любовью, что не смогли удержаться и насладились последними смыслами страсти.
Тем временем брешь была обнаружена, и стража поспешила на розыски дерзкого, как полагала, вора, забравшегося в дом.
Пытаясь улизнуть из покоев визиря тем же путем, Умар попал в засаду, заколол двух стражей и спасся бегством.
Ему пришлось скитаться в разных местностях и даже кочевать среди бедуинов, пока, наконец, он не добрался до Иерусалима. Но и там его пребывание открылось соглядатаям могущественного визиря. У всех ворот встали преследователи, и пути из города были перекрыты.
Последнюю свою драгоценность, перстень с большим изумрудом, Умар отдал торговцу, под домом которого был обширный подвал с тайными отделениями, где твой отец и стал проводить дни и ночи.
Однажды в поздний час он услыхал шаги и, осторожно выглянув из-за кувшинов с маслом, едва различил во тьме человека, спускавшегося в подвал без светильника.
Не подходя ближе, незнакомец позвал твоего отца по имени и, не дождавшись ответа, произнес, искажая слова чужеземным выговором:
«Не бойся меня, храбрец. Я, в твоем неверном понимании сам неверный, негоциант из славного города Флоренции. Мое имя в этот час не имеет значения. Сегодня я разделил трапезу с хозяином этого благословенного дома. Мы с ним старые друзья, и он поведал мне твою историю».
Услышав такое признание, Умар невольно откликнулся и, едва не повалив кувшины своего спасителя, вышел навстречу незнакомцу.
«Теперь, когда ты стал ближе, — продолжил флорентиец, черты которого были не различимы во мраке, — я смело могу признаться и в том, что хорошо знаю твоего гонителя».
Умар отшатнулся и вырвал из-за пояса кинжал.
«Я безоружен, славный воин, — с усмешкой сказал незнакомец, будто видел в темноте не хуже совы. — И добавлю, что так же, как ты, поступил однажды визирь султана. Я не могу сказать, что после этого мы остались друзьями. Именно поэтому я с радостью полез сюда по темной лестнице, рискуя свернуть себе шею, и теперь готов помочь тебе безо всякой денежной мзды. Даже напротив, мой замысел потребует кое-каких издержек от меня самого».
Делать было нечего, и Умар в знак доверия бросил кинжал на каменный пол подвала.
«Я не сомневался, юноша, в твоем благородстве, — продолжил флорентиец. — Город нашпигован ассасинами визиря, как жареный фазан оливками. Есть только один способ обмануть их всех».
Незнакомец помолчал, словно ожидая, что твой отец догадается сам, но холодный рассудок изменил Умару, и он был готов принять любой замысел, не вдаваясь в его лучшие или опасные стороны.
«Самый верный способ спасти себя — это перестать быть собой», — сказал флорентиец.
«Объясни, добрый человек, — совсем смутился Умар, продолжая пребывать во тьме внешней и душевной. — Я не понимаю».
«Нужно сменить обличье, юный воин любви, — ответил негоциант. — Нужно на время притвориться неверным… или верным — с какой стороны посмотреть — и попасть в подземные темницы Аль-Баррака».
«Клянусь Аллахом! — обомлел Умар. — Лучше умереть!»
Можно было понять его порыв, ведь в застенках Аль-Баррака содержали пленных христианских воинов благородного происхождения, ожидая за них крупные выкупы.
«Хорошо, будь по-твоему, — равнодушно сказал флорентиец. — Я ухожу. Но заметь, юный гордец, твоя судьба, подобно яркой звезде небосвода, влияет и на судьбу твоей возлюбленной. Те же самые золотые динары я могу истратить и на ее выкуп, но в чьи руки тогда я передам ее свободу?»
«Прости меня, добрый человек, — переведя дух, смущенно сказал Умар. — Я поспешил».
«Верно. Поспешил, — согласился флорентиец и тихо позвенел в темноте золотыми динарами или флоринами. — Ты даже не спросил, какую выгоду я собираюсь извлечь из своего замысла. Впрочем, сейчас, достаточно знать то, что я остаюсь недругом визиря. Кроме того, я не собираюсь обращать тебя в чужую веру, а просто предлагаю надеть всего на одну неделю кольчугу и плащ франкского рыцаря-тамплиера и на такой же срок принять франкское имя, которое я тебе предложу».
«Но мне известны всего несколько слов на, франкском наречии!» — недоумевал твой отец.
«Тем лучше, — засмеялся во тьме флорентиец. — Ты станешь первым глухонемым рыцарем-тамплиером. Ты просидишь в самом безопасном месте Иерусалима неделю или немногим больше, пока охотничьи псы визиря не высунут языки от изнеможения и не вернутся, поджав хвосты, к своему хозяину. У вас принято давать самые страшные клятвы. Так вот я клянусь перед тобой небесами, землей, на которой стою и всеми своими предками, что спустя недолгий срок выкуплю тебя из этого шутовского плена и помогу соединиться навеки с прекрасной Гюйгуль».
«Да поможет тебе Всемогущий Аллах!» — только и мог сказать Умар аль-Азри.
«Аминь! — вновь усмехнувшись, добавил по-своему флорентиец. — Следуй за мной и ничего не опасайся. Золото прокладывает прямые пути в любом мраке лучше всякого крота».
Повернувшись, он стал быстро подниматься по лестнице, так что Умар, не успев разыскать на полу свой кинжал, поспешил за ним. Он решил во всем довериться чужеземцу, поскольку понимал, что иного выхода нет, если только не оставаться невесть сколько времени среди кувшинов и, когда-нибудь выбравшись наверх, ослепнуть, подобно упомянутому кроту.
Флорентиец решительно прошествовал через дом, миновал внутренний дворик и коротко простился с хозяином, который без светильника вышел проводить гостей и приотворил перед ними маленькую дверцу. Столь же решительным шагом, без всякой охраны, флорентиец двинулся по узкой улице и вскоре привел дышавшего ему в затылок Умара к новой дверце.
Он тихо постучал в нее перстнем, произнес какое-то латинское слово, и дверца, как от волшебного «сезама», подалась внутрь.
Здесь внутренний двор был обширен и наполнен благоуханием розовых кустов. Услышав журчание родника, Умар подумал, что попал в один из уголков рая, и решил, что ничуть не ошибся, когда увидел прекрасную гурию, открывшую дверь дома. У твоего отца разбежались глаза от изобилия роскошных ковров и занавесей, сверкающих блюд и кувшинов, от золотых индийских статуй и китайских чаш, покрытых диковинными драконами.
«Исполни теперь все желания глаз и желудка, — сказал флорентиец, приглашая Умара к ковру, который был заставлен всевозможными яствами. — Оставь всякую учтивость за порогом. Нам обоим известно, что еще до восхода солнца у тебя начнется строгий пост».
О какой учтивости можно было вспоминать в это время, если сильный молодой воин неделю кряду пробавлялся лепешками и вареными бобами!
Не успел флорентиец и глазом моргнуть, как Умар опустошил поле роскошной трапезы и опорожнил полный кувшин родосского вина.
«После такого успешного сражения нужна передышка, — сказал негоциант, усмехаясь. — Иначе, опасаюсь, мне придется нести славного воина вместе со всеми этими блюдами до самого Аль-Баррака на своих собственных плечах. Отдохни до третьей стражи и приготовься к, увы, не слишком приятному пробуждению».
Флорентиец вышел, а Умар устроился на тюфяках и задремал.
Потом он рассказывал, что ему снился райский сад, Гюйгуль в одеждах прекрасной пери и множество неописуемой красоты гурий, окружавших свою госпожу и его возлюбленную.
Когда властная рука растолкала Умара за плечо и он с трудом открыл глаза, перед ним на ковре уже были разложены кольчуга и плащ франкского рыцаря-тамплиера. Флорентиец собственноручно помог ему переодеться и показал, как должен крепиться на плечах белый плащ с красным тавром, которое к тем годам сменило принятый ранее восьмиконечный крест.
Приняв чужую личину, Умар заметил свое искаженное отражение на круглом боку одного из больших золотых сосудов.
«Не слишком-то я напоминаю франка», — вздохнул он, еще надеясь, что, увидев явную химеру, флорентиец все-таки откажется от своего замысла.
«Значит, юноша не видел настоящих палестинских тамплиеров, — отрезал тот. — Приглядись ко мне».
С трудом отгоняя винные пары, которые придавали всему в глазах смутные очертания миража, твой отец вгляделся в расплывчатые черты флорентийца. Он запомнил только спокойную и вовсе не коварную улыбку, обрамленную аккуратной подковой бороды, и проницательный взгляд светлых глаз.
«Меня тоже нелегко принять за аравийца, — сказал негоциант, — а между тем, половина крови, текущей в моих жилах, хашимитского разлива».
Твой отец был изумлен этим признанием до глубины души и потому, оставив всякое душевное сопротивление, кротко последовал за своим загадочным благодетелем в темный сад.
В двух шагах от внешней дверцы, за которой таились для твоего отца все опасности негостеприимного города, торговец остановился и, приблизившись к Умару вплотную, прошептал ему прямо в ухо:
«Запомни свое новое имя, то имя, что ты обязан носить до самого освобождения. Запомни. С этого мгновения ты — Гуго».
Умар вздрогнул, заметив некое сходство с именем своей возлюбленной.
«Повтори», — строго повелел флорентиец.
Твой отец повторил.
«Сносно, — удовлетворенно кивнул флорентиец. — Этого вполне достаточно, поскольку мы уже знаем, что ты немой рыцарь, не владеющий грамотой».
Услышав гневный вздох твоего отца, он добавил:
«Ничего постыдного. Большинство рыцарей из северных франкских областей безграмотны, вшивы и дурного воспитания. Так что не требуется никаких излишних церемоний».
Они вышли на улицу, и вновь флорентиец уверенно двинулся вперед без всякой охраны и света, как по покоям собственного дома.
Затем они проникли в пределы третьего двора, так же благоухавшего ночным ароматом роз, спустились по лестнице, преодолели три сотни шагов по узкому подземному ходу, с потолка которого падали капли испарений, и наконец, в ответ на звонкий стук перстня, загремела тяжелая связка ключей и гулко заскрежетала мощная решетчатая дверь.
«Это он», — кому-то властно сказал флорентиец, и из неведомых пустот донеслось эхо.
«Да, господин, — подобострастно ответил флорентийцу некто, принятый твоим отцом за тюремщика. — Все будет исполнено, как велел господин. Никто не увидит его».
Заскрежетала еще одна мрачная дверь, и Умар сделал еще два шага, которые могли стоить ему очень дорого.
«Теперь тебе, славный потомок Адама, остается только доверять моей клятве, — доброжелательно сказал негоциант, прикоснувшись к плечу Умара. — Вот залог доверия».
С этими словами он взял Умара за руку и вложил в нее перстень, который тот сразу узнал на ощупь: тем самым перстнем он расплатился неделю назад с владельцем подвала.
«Я доверяю тебе, добрый человек», — сказал твой отец.
Несколько мгновений флорентиец простоял перед ним молча, а потом ответил:
«В моей жизни никто не доверял мне так, как доверяешь ты. Такое доверие заслуживает с моей стороны большей мзды, чем будет стоить тебе твое спасение. Жди. Прояви терпение. Прощай».
Флорентиец канул во тьму, из которой появился, а перед твоим отцом вернулась на свое исконное место железная дверь, а затем, лязгнув железной челюстью, повисло кольцо замка.
Тот пронзающий душу лязг замка стал последним значимым событием, предварившим безмолвную неделю, которая выросла в целый месяц нестерпимой тишины и тоски. Ничто не отличало бы застенок от могильного склепа, если бы единожды за день в крупную ячею решетки не просовывалась живая рука, подавая узнику плошку бобов и кувшин с водой.
Наконец Умар потерял счет времени, и в его голове ослепительным огнем, пронзившим тьму, вспыхнула мысль, что он жестоко обманут.
Тогда он решился на отчаянный шаг.
Он надел на себя кольчугу, отбросил в дальний угол франкский плащ и, как только рука кормильца вновь появилась в окошке, дернул за нее так, что тюремщик звонко стукнулся лбом об несокрушимую дверь и безвольно повис снаружи. Изловчившись, Умар просунул на свободу свою руку и сумел снять с его пояса связку ключей. На оставшееся дело потребовалось чуть больше ловкости, и вскоре тяжелый дух подземелья показался Умару прекрасным ароматом роз.
Он, привыкнув к темноте, легко обнаружил лестницу, бросился по ней наверх и… угодил прямо в толпу стражников, которые едва не подняли его на острые пики.
Твоего отца жестоко избили и бросили обратно в подземелье. Он слышал злобные речи стражников, желавших его смерти. «Чего эмир возится с этим негодяем! — кричали они. — Прирезать его, как барана, и делу конец. Обещанного выкупа нет уже целый год!»
«Неужели прошел год?! — ужаснулся Умар. — Тогда мне и вправду конец!»
Он хотел было развеять все чары и признаться стражникам во всем на своем родном языке, который уже едва не стал забывать, но вспомнил о страшной клятве, нарушить которую означало потерять и честь и душу, пусть даже эта клятва была опрометчиво дана бесчестному и бездушному человеку.
Тогда твой отец сам стал молить Всемилостивого Аллаха скорее послать ему смерть и решил не принимать более никакой пищи.
В ту ночь, которая ничем не отличалась от дня, ему снились яства, расставленные на ковре, то ли в райском саду то ли, в доме коварного флорентийца.
Стук собственного сердца разбудил его. Прислушавшись, он различил шаги, которые показались ему знакомыми. Разумеется, он принял их за слуховой обман, вызванный голодом.
Поначалу он не поверил и двум теням, одной высокой, а другой маленькой, появившимся за решеткой. Только недовольный скрежет открывающейся двери вывел его из забытья, и он едва не лишился чувств, когда услышал голос флорентийца.
«У тебя, славный воин, не хватило терпения всего на один день, — грустно вздохнув, проговорил флорентиец. — Этот день обошелся мне дороже, чем все прочие дни нашего с тобой знакомства, вместе взятые. А их насчитывается девять десятков».
«Стражники говорили, что прошел год!» — не сдержавшись, воскликнул Умар.
«Нетрудно установить, кто говорил правду», — усмехнулся флорентиец и снял покрывало с маленькой фигурки, стоявшей рядом с ним.
Как раз в это мгновение тюремщик вынес из-за спины флорентийца крохотный огонек, свет которого вызвал у твоего отца страшную боль в глазах.
Чужестранный торговец терпеливо дождался, пока Умар привыкнет к этому крохотному подобию небесного светила, озаряющего землю.
И вновь твой отец не поверил своим забывшим все земные радости глазам! Ведь перед ним стояла его возлюбленная Гюйгуль!
Они бросились друг другу в объятия, и Умар почувствовал теплую и тяжелую округлость ее живота.
«Так мог ли пройти целый год, — заметил флорентиец, — если твой сын только-только собирается выйти из темницы вслед за своим отцом? В отличие от отца, он терпелив и с радостью принимает свое временное заточение как обстоятельство, уготованное свыше».
«Прости меня, добрый человек! — раскаялся Умар, преклонив колени перед своим благодетелем. — Я думал, что ты обманул меня и получил мзду за нового пленника Аль-Баррака».
«Кое-кто действительно получил мзду, ведь целый год в застенке находился человек, имя которого тебе было присвоено. Пришлось временно подменить его, дабы умело устроенный побег не был до поры обнаружен. — Так в нескольких словах флорентиец раскрыл перед Умаром почти все тайны. — Тем временем, твой гонитель подвергся опале, которая тоже отняла у меня немало средств, но, прежде, чем он потерял голову, я успел выкупить у него твою возлюбленную».
«Добрый человек! — воскликнул Умар. — Я готов остаться твоим верным слугой на всю жизнь!»
«О всех торговых расчетах поговорим позже, — спокойно проговорил флорентиец. — Теперь наверху ночь. До рассвета мы должны выбраться из города и достичь моих погребов в Хевроне. Там тебе, славный воин, придется провести еще неделю с повязкой на глазах, иначе немому тамплиеру никогда больше не придется увидеть свою возлюбленную. Слепота — не лучшая плата за немоту. И не забудь рыцарский плащ, славный воин. Он стоит немало и может еще пригодиться на долгом пути. За его потерю истинный тамплиер платит весьма позорным покаянием».
Выехав из Яффских ворот Иерусалима, всю ночь без остановок двигалась по дороге в Хеврон повозка, полная мягких перин. На перинах возлежала прекрасная Гюйгуль, а рядом с повозкой скакал на вороном жеребце Умар. Теперь он сам видел во тьме не хуже совы и часто заглядывал за колыхавшиеся занавески, с радостью узнавая черты любимой. Всю дорогу она счастливо спала и, если бы даже раскрыла глаза, то в той безлунной тьме вряд ли бы смогла ответить на страстный взгляд своего любимого.
Зато наутро, добравшись до Хеврона, они, как говорится, поменялись глазами. Теперь уже Гюйгуль глядела во все глаза на своего храбреца и кормила его из рук в то время, как он с плотной повязкой на лице мог отвечать на все нежности только улыбкой и ласковыми прикосновениями пальцев.
«Здесь нам необходимо на время расстаться, — услышал Умар голос флорентийца. — Мои слуги помогут вам на первых порах. Я знаю, славный воин, что тебе давно не терпится узнать об обязательствах. Вот они. Первое: не давать своему первенцу имени до того дня, в который я приду к тебе».
Твой отец был очень удивлен, но, разумеется, согласился.
«Второе: когда я приду, ты будешь обязан передать мне нечто, не имеющее никакой цены в золоте, — повелительно добавил флорентиец. — Я же, со своей стороны, обязуюсь пустить это нечто в рост и некогда вернуть тебе с прибылью»
Твой отец начал было клясться, но флорентиец оборвал его.
«Не нужно клятв, — сказал он. — Достаточно простого обещания. В залог нашего договора сохрани этот знак».
И флорентиец вложил в руку ослепленного повязкой Умара половинку разрубленного надвое золотого флорина.
Затем флорентиец сел на коня и уехал. Когда Умар обрел способность посмотреть ему вслед, пыль, поднятая копытами, уже осела на окоеме земного предела.
Умар и Гюйгуль вернулись в Египет, и там у них родился сын, в котором ты, дорогой племянник, легко угадаешь самого себя. Целый год они жили счастливо, хотя — и в некотором смущении по поводу безымянности своего сына. Объяснить людям ее причину было нелегко.
И вот однажды, поздним вечером, за стенами дома раздался тихий стук. Твой отец встрепенулся, безошибочно узнав повелительную учтивость перстня, сидевшего на указательном пальце флорентийца.
Твой отец признавался потом, что вздохнул с облегчением, направляясь через садик к двери: ведь спустя несколько мгновений ты должен был обрести имя.
Флорентиец вошел, держа в руках свернутый франкский плащ. Сославшись на спешку, он вежливо отказался присоединиться к трапезе и блеснул в сумраке второй половинкой флорина, что хранилась у него в кошельке.
«Все мое имение по праву принадлежит тебе, чужестранец», — сказал Умар.
«Вижу, что дела твои поправились и богатство прибыло, — с добродушной улыбкой заметил гость. — Значит, судьба действительно благоволит к тебе, славный воин. Я сдержу свои обязательства и не потребую лишнего. Я пришел за твоим первенцем».
У твоего отца подкосились ноги, и он опустился на колени.
«Клянусь Аллахом, лучше умереть!» — в отчаянии проговорил он.
«В таком случае я ухожу, — без всякого огорчения сказал флорентиец, — а ты остаешься здесь… в темнице».
И он, повернувшись к Умару спиной, сделал шаг наружу.
Собрав все свои силы и поборов отчаяние, Умар предложил роковому гостю остаться.
«Бери свое, добрый человек, — смирился он. — Я обязан исполнить договор».
И вот Умар попросил твою мать Гюйгуль уйти во внутренние покои, а сам втайне от нее вынес тебя в сад и передал флорентийцу. Тот бережно обернул тебя белым плащом с алым знаком франкских тамплиеров и сказал:
«Я тоже обязан исполнить наш договор, славный воин. Я обещаю и даже клянусь, что твой сын вырастет искусным и крепким воином, и он ни в чем не будет испытывать недостатка. И я обещаю, что однажды ты увидишь его и удивишься той высоте, на которую он будет вознесен».
С этими словами он вышел на улицу, а твой отец остался стоять перед дверями, словно каменное изваяние.
Они с матерью долго горевали, потом у них рождались дети, но все оказывались дочками, и, когда твоя мать Гюйгуль умерла, Умар продал почти все имение и пустился в дорогу на поиски сына.
Увы, у меня не хватило сил удержать его. Однажды, спустя десять лет безуспешных поисков, он встретился мне в Дамаске. На нем была шерстяная накидка дервиша и желтый тюрбан. Он говорил какие-то несуразные вещи о райских садах и о том, что тебя забрали ангелы на какую-то свою горную вершину. Мне показалось, что у него повредился рассудок, и вновь я пытался убедить его вернуться под родной кров. Однако он был неумолим и все твердил о том, что все ангелы когда-то были людьми и что ты случайно упал с небес и вовсе не должен был рождаться из человеческой утробы».
Так настала моя очередь рассказывать старику все удивительные сны, которыми, казалось, уже была доверху полна моя новая память.
Но прежде, не вытерпев, я задал вопрос:
— Дорогой дядя, как же ты узнал меня после стольких лет?
— Это самая простая из всех загадок нашего рода, — тихо засмеявшись, ответил дядя. — Я видел тебя во младенчестве и видел стоящим перед султаном. Твои одежды были порваны в сражении, и я, благодарение Аллаху, смог различить своими немощными глазами крупную родинку на твоей груди, под левым соском.
Удовлетворив свое любопытство, а вернее расставшись с каким-то смутным подозрением, я набрался духу и вспомнил то странное светило, не похожее ни на солнце, ни на луну, что висело надо мной во тьме более густой и черной, чем смола драконового дерева.
Дядя слушал, весь превратившись во внимание. К середине рассказа он стал раскачиваться из стороны в сторону, потом опустил веки, а когда я добрался до площади, усеянной телами джибавии, он, наоборот, широко раскрыл глаза.
В некотором смущении, если не сказать страхе, завершал я свое повествование, и, уже собравшись было показать дяде удивительную реликвию, доставшуюся мне при самых необъяснимых обстоятельствах, я в конце концов переменил решение и отложил последнюю тайну до более спокойного часа.
— О Великий Аллах! Какая беда! Какая беда! — запричитал дядя, когда я добрался до подножия румского трона и своими глазами увидел задушенного султана Масуда Третьего.
— Какая беда? Откуда она взялась? — изумился я.
— Такая ужасная беда, мой дорогой племянник! — все качал головой дядя. — Даже если бы мне было известно твое имя, данное тебе чужими людьми, я не мог бы его назвать, ибо в тот же миг ты бы достал спрятанный под одеждами гибкий кинжал и бросился бы исполнять повеление. Такова тайная сила главы ассасинов.
— Ничего не понимаю дядя, — в свою очередь продолжать недоумевать я, — и вовсе не собираюсь исполнять чье-либо повеление.
— Хочешь — не хочешь, а исполнишь, — вздохнул визирь султана. — Флорентиец с хашимитской кровью тоже исполнил его, хотя его целью не было убийство. Из тебя действительно вырастили сильного и крепкого воина, несмотря на кажущуюся тщедушность. Повелители ассасинов умеют создавать обманчивую внешность. К тому же они всегда ценили полукровок. Хотя ты ничего не помнишь, но ты, пока рос, ни в чем не испытывал недостатка, ибо о воспитанниках-ассасинах ходят легенды, будто они живут в райских садах, что разбиты в стенах таинственных горных замков, едят невиданные блюда, а прислуживают им прекрасные пери, которые не снились и самому Синдбаду-Мореходу.
— Пусть будет по-твоему, но причем здесь плащ тамплиера? — продолжал я сопротивляться какой-то страшной тайне, которую вот-вот должен был узнать.
— Милый племянник, ассасины считают, что добытый плащ франкского рыцаря-тамплиера обладает особой магической силой, позволяющей исполнителю воли имама успешно перевоплощаться в своего врага, — ответил дядя. — Ведь франкский Орден был основан на развалинах иерусалимского храма древнего царя Сулеймана, который в конце своей жизни якобы научился у южной царицы Шабы этому искусству.
— Насколько это доступно моему разумению, — решил я предварить дядино откровение, — мой благодетельный дядя и визирь великого султана, да снизойдет на обоих благословение Аллаха, считает, что меня во младенчестве забрали некие ассасины, о которых я, увы, ничего не помню…
— Беспамятство может быть важным подтверждением их зловещего присутствия в твоей судьбе, — с живостью перебил меня старик.
— Пусть так, — согласился я. — Вот они забрали меня, воспитали в каком-то горном замке, откуда, опять же по моему разумению, кто-то пытался меня спасти, но, по-видимому, потерпел неудачу, а затем вложили в меня некую волю своего имама. Что за воля?.. Наконец, тот фальшивый флорентиец обещал отцу «пустить приобретенное в рост» и к тому же в один прекрасный день показать ему сына.
— Когда я видел твоего отца в Дамаске, он пересказывал мне предания, в которые верят ассасины, — ответил дядя. — Когда я видел его в последний раз, там же, в Дамаске, он сказал мне, что отправляется на Восток, где должен увидеть того самого франка, имя которого он носил в застенке Аль-Баррака. В ту пору мне было известно, что на Востоке могли оказаться только те франки, которые вместе с монгольским войском осаждали одну из горных твердынь ассасинов.
— То были рыцари Рубура, пришедшие из Константинополя, — догадался я.
— О, если бы твоя воля подчинялась тебе так же, как твой рассудок! — воскликнул старик. — Мне ничего не нужно будет говорить тебе, когда ты узнаешь, что наш великий султан, да продлит Аллах его дни, в дни своей молодости тоже состоял в войске, сокрушавшем горные крепости ассасинов.
— То, что я мог быть послан ради убийства повелителя Рума, вовсе не новость для меня, — успокоил я своего дядю, а заодно и самого себя. — Но, хвала Всемогущему, теперь мне об этом известно вдвойне — от двух мудрейших из известных мне людей, так что отныне обстоятельства вполне подвластны моей собственной воле.
— Имя, — тягостным стоном ответил мой дядя. — Появится некто, который в определенный час произнесет твое имя. И Рум содрогнется. Ты не хозяин себе, мой дорогой племянник.
— И не господин, — мрачно усмехнулся я, вспомнив слова рыцаря Эда и невольно, к своему стыду, подумав, не есть ли и он какой-нибудь переодетый имам, умело махавший мечом для отвода глаз. — Но если ты, мой дядя, знаешь, на что я способен, останови своего дорогого племянника. Пока не названо имя, я готов исполнить твою, а не чью-нибудь, волю. Пока моя личность не растаяла вовсе в стихии какой-то чужеродной силы, я отдаю тебя в твою власть. Сделай что-нибудь.
— Ничего нельзя сделать, — покачав головой, горестно ответил дядя.
— Тогда убей меня, — без всякой боязни предложил я, хорошо представив себе, какая мерзостная жизнь меня теперь ожидает. — Так или иначе смерть при дверях.
— Бесполезно, — совсем отчаялся найти выход из положения мой мудрый дядя. — Они пришлют другого.
— Не верю, что никак нельзя перехитрить этих негодяев! — в сердцах воскликнул я.
— Как можно перехитрить рой ос, облепивший тебя со всех сторон? — задумчиво спросил дядя.
— Только нырнуть в воду, — пришло мне в голову. — Если есть вода.
— Попробуем найти воду, — с той же напряженной сосредоточенностью сказал дядя.
— Только не колодец, — поежился я.
— Возможно одно: оградить тебя от человека, который явится произнести твое имя, — заключил дядя свои размышления. — Нашим оружием должно стать время. Пусть ассасины проявят нетерпение. Рано или поздно кто-нибудь начнет искать встречи с тобой.
— Не может ли им стать именно тот, на чьей совести убийство жестокого султана Масуда Третьего? — оставив всякую учтивость, прямо спросил я.
Во взгляде моего сановного родственника промелькнула растерянность. Он долго смотрел на меня, старчески пожевывая, а потом сказал:
— Дорогой племянник, ты — единственный человек, который еще связывает меня с этим миром, и я приложу все силы, чтобы спасти тебя.
На другой день меня переселили в одну из самых дальних комнат дворца, связанную с остальными покоями длинным и узким коридором. Там я стал стражем какой-то особой султанской печати, которая хранилась в железной шкатулке с замысловатым замком, а сама шкатулка была по самую крышку вмурована в гранитный куб, возвышавшийся посредине комнаты.
Долгие дни я проводил в одиночестве и размышлениях, которые уносили меня в самые невероятные дали и приводили порой на края пугающих пропастей и потоков.
Дядя обычно навещал меня на рассвете, и мы вдвоем выходили в сад, где он рассказывал мне всякие новости. Так, в кажущемся покое и безопасности минули два месяца, а на исходе второго дядя стал появляться передо мной мрачнее самой ночи. Тяжело вздыхая, он открывал мне свои тревоги и говорил, подобно рыцарю Эду, что новый султан не оправдал надежд и оказался еще более жестоким и скаредным, чем его предшественник. По словам дяди, вся страна за один месяц пришла в упадок вследствие неразумного правления, повсюду зреют мятежи, и даже обласканные султаном караманцы, на чьих мощных плечах новый султан въехал во дворец, уже глухо ворчат и готовы на решительный шаг.
В один из дней с утра до вечера из-за стен дворца доносился тревожный шум, и дядя потом рассказал мне, что горожане возмутились непосильными поборами и пришли к дворцу за справедливостью, но их разогнали гулямы, и теперь с площади убирают мертвые тела.
Та особая султанская печать начинала казаться мне неусыпным глазом какого-то злого демона, следящего за каждым моим движением, и я уже решился было высунуться над водой и посмотреть, что делается снаружи. Я выбрал укромное место у стены, где можно было незаметно, под прикрытием кустов и ветвей, забраться на стену, отделявшую дворец от города, и стал дожидаться ночи. Но едва наступила первая стража, как на пороге моего почетного узилища появился дядя.
В его взгляде я различил скорое явление нового чуда и, увы, не ошибся.
— А теперь, дорогой племянник, — медлительным и властным тоном произнес дядя, — крепко возьми себя в руки. Представь себе глыбу вечного льда, лежащую на вершине горы, и помести в нее свое сердце, как учили тебя в горной твердыне повелители ассасинов.
— Такого упражнения я тоже не помню, — ответил я дяде, предчувствуя явно не добрый поворот в делах.
— Тем лучше оно удастся тебе, — сказал дядя и замолчал.
Я нарочно оттолкнул от себя подальше эту воображаемую глыбу вечного льда, однако мгновение смутной тревоги и робости минуло, и на душе воцарилось вдруг такое блаженное спокойствие, что я был готов теперь к тому, что сам дядя превратится на моих глазах в самого ужасного ифрита. Что-то в этом роде в конце концов и произошло.
Пересчитав появившиеся на небосводе звезды, дядя опустил глаза и ласково положил мне руку на плечо.
— В стране смута, — с неподдельной грустью произнес дядя. — Страна разорена. Так или иначе, Масуд Четвертый обречен.
— Не знаю, что происходит в стране, — заметил я, — но мне теперь хорошо известно, что в ней лучше быть последним нищим, чем султаном.
— Вижу, что ты достиг вершин мудрости, — тихо рассмеялся дядя. — Я отдал полвека тому, чтобы знать, что в этой стране происходит, и до сих пор не достиг желаемого. Ты же, мой дорогой племянник, можешь не тревожиться, поскольку знаешь не меньше султана, а, возможно, и больше его.
— Я не поспеваю за этими переменами, — сказал я, заметив, что раздражение пробило брешь в стене моего спокойствия. — Вчера я не должен был никоем образом убивать султана, а сегодня, напротив, уже должен во что бы то ни стало его прирезать…
— Не «во что бы то ни стало», а наиболее выгодным для тебя и государства способом, — уточнил дядя.
— Не желаю никого убивать, — отрезал я.
— Хорошо понимаю и поддерживаю твой душевный порыв, — вздохнул дядя. — Но я вспоминаю бейты, написанные одним весьма разумным человеком:
Ведь древняя мудрость нам так говорит:
Иль царь убивает, иль сам он убит.
Еще вчера я пришел к мысли, что тебе необходимо опередить того, кто должен произнести твое имя. Тогда тайная воля раз и навсегда потеряет свою силу, и ты станешь свободным.
— И уже никогда не узнаю свое имя, — усмехнулся я.
— Разве имя, данное повелителем ассасинов, можно считать настоящим именем? — поверг меня в замешательство дядя и добавил: — Не будь нетерпелив, как твой отец. Придет час, и Всемогущий пошлет тебе настоящее имя, и раз уж Создатель всего живого послал тебя мне, значит, мой долг спасти тебя. Султанов может быть много, а племянник у меня только один.
— Благодарю тебя, мой дорогой дядя, — без всякого лицемерия склонил я голову, видя, в каком трудном положении находится великий визирь.
— К тому же не следует забывать, что и рой самых злых ос может оказаться вовсе не порождением Иблиса, а исполнением воли Всемогущего.
Я с удивлением посмотрел на дядю, черты которого в густеющем сумраке были различимы уже с трудом.
— Ведь и ассасины, даже сами того не желая, могут оказаться простыми исполнителями воли Аллаха, если станут наиболее выгодным средством ее исполнения.
— Теперь оправдано все, — развел я руками.
— Кто заставлял тебя рубить гулямов Масуда Третьего и врываться во дворец вместе с франками? — строго спросил дядя.
Я вспомнил о знаке на кинжале, который еще должен передать некому Мстителю, вспомнил про плащ рыцаря Эда, вспомнил про Черную Молнию и ответил:
— Никто.
— Ты уже зашел слишком далеко, чтобы сворачивать с полдороги, — заключил дядя. — Теперь тебе пора узнать главное. Через неделю начнется великая охота. — С этими словами дядя потянулся к моему уху. — На реке, у Старой плотины, растет кизиловый куст. Под ним, среди камней, ты найдешь кожаный мешочек с динарами. При бережливом расходе тебе хватит их на год. Беги прямо на север, в Трапезунд. Ты сообразителен, говоришь на разных языках, и сможешь устроить свою жизнь. Ручная лисица уже готова исполнить мою волю. Она утянет султана прямо к плотине. Я позабочусь о том, чтобы свита отстала на достаточное расстояние.
— Позволь задать тебе еще один вопрос, дорогой дядя, — решился я.
— Слушаю тебя, мой дорогой племянник, — ласково сказал дядя, — и прости меня за то, что и мне приходится играть твоей жизнью, но такова судьба.
— Кому суждено быть преемником Масуда Четвертого? — полюбопытствовал я.
— Хотя бы Масуду Пятому, — с видимым равнодушием ответил дядя. — Его имя ничего не скажет тебе.
— Но есть ли уверенность в том, что он подойдет лучше предыдущего? — решился я на новую каверзу.
— Это уже два вопроса, — заметил визирь. — Но я отвечу и на него: такой уверенности не может быть никогда. Меня огорчает только то, что, судя по всему, на исходе наступившей недели мы увидимся в последний раз.
Дядя ошибся на пару дней: последний раз я увидел его во второй день следующей недели, когда садился на коня, чтобы присоединиться к охотничьей свите султана, состоявшей из трех тысяч воинов. К тому мгновению, когда оставалось только сунуть одну ногу в стремя, а другой оттолкнуть от себя земную твердь, я получил все надлежащие указания и должен был запомнить такое количество подробностей, что дядя, остававшийся эмиром дворца по приказу султана, сказал, прощаясь со мной:
— Буду надеяться, что твоя новая память остра так же, как новый клинок.
— Надеюсь, что его успеет выхватить из ножен моя собственная, а не чья-нибудь чужая рука, — добавил я, имея в виду того, кому известно мое опасное имя.
— Буду молить Аллаха, чтобы Он отвел от тебя злого демона, — вздохнул дядя. — Верные мне гулямы не отступят от тебя до последнего часа. Ночью же не забудь заложить уши воском.
— Лучше я отрежу себе голову и спрячу ее под кошму, — сказал я.
Так мы посмеялись на прощание, и я оттолкнул от себя ногой земную твердь. За спиной у меня висел монгольский лук и колчан, полный стрел с белым оперением, с боку торчала дамасская сабля, одна рука сжимала длинную пику с черной сельджукской змейкой у наконечника, а подмышкой другой руки был еще спрятан гибкий индийский кинжал, проникающий по рукоятку в живую плоть, даже если его просто поставить сверху на острие и только один миг придержать, чтобы не упал. Столько смертей было приготовлено для неудачливого султана Масуда Четвертого, что я подумал, а не выскочил ли я из одной тучи вместе с прекрасной Черной Молнией.
Выехав из городских ворот, великая охота владыки Рума длинным змеем растянулась по дороге, которая была мне еще незнакома.
Впереди, рядом с султаном, ехал назначенный им эмир охоты, за ним двигались беи правого и левого крыльев, а следом скакали лучшие бехадуры Рума, и у каждого на локтях висели у кого лисий, у кого волчий хвост, а у кого — даже кисточка от хвоста пардуса. Каждый из таких знаков отличия давался самим султаном за особую меткость. «Неужели мне придется всю жизнь носить на локте клок черной султанской бороды?» — с мрачным весельем подумал я.
Между тем, охота поднималась на пологий холм, и, когда вершины достиг хвост великой свиты, в котором и торчала страшная скорпионья игла, тогда моим глазам представилась прекрасная зеленая долина, посреди которой стоял дворец из синего камня, издали весьма напоминавший тот дворец, что остался за нашими спинами в столице Рума.
«Какой прелестный мираж!» — подумал я и спросил ближайшего ко мне гуляма, что это за место, хотя уже знал о нем из указаний дяди.
— О доблестный серхенг! Сам основатель Рума великий Алаэддин Кейкубад Первый назвал это место Райской Долиной, — ответил гулям. — Он возвел дворец, который ты видишь. Великие султаны Рума, да снизойдет на них благословение Аллаха, всегда останавливаются здесь в первый день охоты. Это нужно для того, чтобы охота прошла удачно.
«Очень хорошо! — мелькнула у меня мысль. — Проверим, какому из двух охотников благоволит удача».
В том дворце, похожем на столичный, султан устроил в первый вечер роскошный пир. Мои охранники пригубили не только султанские кувшины, но и припасенные втайне, так что небывалая опасность стала угрожать султану раньше срока. Тогда я незаметно выбрался в сад, где нашел уже как будто знакомый мне родничок, и, крепко заложив себе уши воском, притворился напившимся до беспамятства.
Когда я открыл глаза и посмотрел на небо, то понял, что султану Масуду Четвертому все же удалось встретить еще один рассвет, теперь, по замыслу моего дяди, уже действительно последний.
Мои стражи хватились меня и, найдя, едва не на руках донесли до коня.
Еще не успело взойти солнце, когда я по велению эмира охоты занял свое место у Старой плотины. Каждый куст, каждый камень был мне здесь указан и поименован дядей. Один я оставался неким безымянным призраком, которому было суждено появиться здесь на час и вскоре исчезнуть, оставив за собой кровавый след.
Найдя под кизиловым кустом кожаный мешок, в котором по весу могло быть не менее десяти тысяч золотых динаров, я снова прикрыл его камнями и вернулся в седло.
Вокруг было безлюдно, где-то таилась предательская лисица моего дяди, и река негромко волновалась на гладких камнях. Время шло, и дядин замысел, подобно волшебству великого джинна, постепенно претворялся в жизнь. Мне показалось, что даже солнце встает теперь над горами, исполняя точно в срок одно из повелений визиря и подавая знак сидящей за камнем умной лисице.
Между тем, мой мудрейший дядя не знал, что я начал исполнение своего собственного замысла, в котором солнцу, реке и утреннему ветерку предоставлялась полная свобода.
Лисица появилась на дороге так внезапно, точно в нее превратился один из валявшихся там камней. Снимая со спины лук, я вновь подумал про дядю, как про могущественного джинна. Только джинн мог переместить в эту опасную глушь султана, оставив всех его телохранителей где-то в стороне, то ли связав их, как сноп пшеницы то ли, вовсе превратив их в беспорядочную стаю перекати-поле.
Султана Масуда Четвертого не пришлось долго ждать. Едва успел я приложить к тетиве разрез монгольской стрелы, как он появился из маленькой рощицы на своем белом коне, несшемся вскачь за огненной колдуньей.
Лисица бесстрашно мчалась прямо ко мне, точно дядя втайне где-то показал ей меня и моего коня. Я тронул жеребца пятками и двинулся вперед, спускаясь с плотины навстречу жертве.
Спустя еще мгновение лиса юркнула в сторону, едва не обмахнув хвостом копыта моего жеребца. Султан опустил руку к седельному колчану за новой сельджукской стрелой, но белое оперение монгольской стрелы уже достигло моего плеча, а наконечник почти прикоснулся к выгнувшейся силе буйволова рога.
— Стой, повелитель! — крикнул я. — Останови коня!
Белый иноходец султана вздыбился и пугливо заржал» точно попав во внезапно поднявшийся вихрь. Полагаю, первое, что увидел султан после огненного хвоста лисицы, была монгольская стрела, нацеленная ему прямо в сердце.
— Не двигайся, повелитель! — предупредил я его. — Я сам подъеду к тебе.
Султан невольно оглянулся и, не найдя своих гулямов, вновь обратил взгляд в мою сторону. Я не заметил в его глазах страха, что очень ободрило меня.
Когда между нами осталось всего полдюжины шагов, я задал султану вопрос:
— Где твои гулямы, повелитель? Кто задержал их?
Губы султана сжались, и он ничего не ответил.
— О повелитель, две силы, желающие твоей смерти, послали меня взять твою жизнь, — признался я султану. — Один вихрь принес меня с гор, а другой направил меня из твоего собственного дворца. Если я не спущу тетиву, ее спустит кто-то другой. Я не желаю убивать тебя, повелитель, ибо не знаю, кто ты, хороший человек или плохой. Скажи мне правду, действительно ли страна разорена тобой, действительно ли ты творишь несправедливость. Если я увижу, что твои уста вещают правду, я пущу эту стрелу в реку и прикрою тебя от другой стрелы своим собственным телом.
Султан пристально посмотрел мне в глаза и горестно вздохнул.
— Страна разорена, — сказал он, — и в ней творится несправедливость. Если бы ты мог, юноша, одной стрелой пронзить весь клубок змей, опутавших Рум.
Не задавая больше никаких вопросов, я повернулся в сторону и спустил тетиву: белое оперение мелькнуло над потоком и кануло в быструю воду.
— Теперь, повелитель, можешь отсечь мне голову, — сказал я и бросил монгольский лук под ноги белому коню. — Я не джинн и не раб лампы, которую потерли клоком собачьей шерсти.
— Удачная охота, — улыбнулся мне султан. — По крайней мере я обрел одного воина, которому могу теперь доверять до конца.
— Я сдержу свое слово, о повелитель! — почувствовав неописуемую радость и теплоту на сердце, воскликнул я и склонил голову.
В следующий миг я услышал короткий и мучительный стон султана. Вскинув взгляд, я увидел белое оперение монгольской стрелы, пронзившей шею Масуда Четвертого. Разинув рот, я смотрел, как султан валится набок и падает с седла на землю, прямо на мой лук.
Что-то зашуршало в стороне, и, повернувшись, я заметил негодяя, перескочившего от камня к камню. Я соскочил с коня и, схватив лук султана, вырвал из его колчана черную сельджукскую стрелу. Убийца выстрелил, но попал в бедро моего коня, который дернулся и едва не сшиб меня. Но в следующий миг стрела с черным оперением уже достала плечо негодяя, а другая, пущенная вдогонку первой, приколола мерзавца насмерть.
Когда я повернулся к султану, он уже успел испустить последний вздох и теперь широко раскрытыми глазами глядел в небесный простор. Его конь тыкался теплыми ноздрями в щеки своего повелителя, словно хотел согреть остывающую плоть.
— О Всемогущий! — взмолился я. — Неужели Ты никогда не даруешь мне истинной свободы?!
Пока я в отчаянии допрашивал Всемилостивого и Всемогущего, ко мне с тыла приближался угрожающий топот и в спину неслись злобные крики. Мой конь был ранен, сесть на султанского коня я бы себе не позволил и при всем том вовсе никуда не собирался бежать.
Гулямы, верно, порубили бы меня саблями, как баранью ляжку для плова, если бы их не остановил старший серхенг.
— Стойте! — крикнул он. — Нечестивый убийца нашего повелителя должен быть казнен позорной казнью на глазах жителей Коньи!
Мне оставалось только смолчать и прийти к заключению, что охота, по всей видимости, завершена.
В славную столицу Румского царства я возвращался в сопровождении огромной свиты. Только веревки, прикрутившие мои руки к бокам, можно было рассматривать со стороны как знак, отличавший меня от новоиспеченного султана.
Дяди я больше не увидел ни на дворцовой площади, ни в саду, ни в самом дворце. Он не спустился ко мне и в темницу, не встретился и на следующее утро, когда меня вели через сад к дворцовым воротам. Прислушиваясь в последний раз к журчанию родника, я подумал, что счет султанов в дядиной копилке наконец окончен.
Страх и радость поделили царство моего сердца безо всякой войны между собой. Было, чего страшиться, ведь истекал последний час моей, хотя и непонятной, но все-таки собственной жизни, в которой я запомнил и прекрасные небеса, и роскошные блюда, и журчание родника, и, наконец, жгучие глаза Черной Молнии. С другой стороны, было, чему радоваться: мне казалось, что я собственным усилием в неравной борьбе с демоническими силами обрел свою главную ценность жизни под небесами: свободу. Если бы теперь и явился какой-нибудь тайный господин, чтобы произнести ненавистное мне имя, то чего бы добился он от связанного по рукам слуги, ведь даже маленький, невесомый кинжал тоже сорвали с моего предплечья и упрятали от меня, по всей видимости дальше самой острой сабли. Я с радостью расстался с ним, а заодно и с Великим Мстителем, теперь представлявшимся мне некой грозовой тучей, висевшей в недоступной дали, за грядами гор. Я решил присвоить себе имя сам, с последним вздохом, но, хотя до ворот оставались считанные шаги, я все не мог припомнить какое-нибудь имя, подходящее для такого важного дня.
Страх, однако, захватил еще половину удела, доставшегося радости, когда глазам моим открылась наполненная жителями Коньи дворцовая площадь и возвышавшееся над россыпями голов орудие казни. На широком деревянном помосте были возведены еще одни неприхотливые ворота, состоявшие из трех бревен, то есть — двух крепких косяков и одной верхней перекладины. С перекладины вниз, до высоты человеческого роста, свисала толстая веревка, кончавшаяся сеткой с крупными ячеями, а на косяках, примерно на высоте плеч, болтались ремни из темной кожи. Эти райские врата стерег грозный привратник, огромный эфиоп, каждая из грудных мышц которого едва ли не превосходила размером лошадиный круп. У него на поясе безо всяких ножен, на одной кожаной петле, висел широкий меч, по виду которого я и догадался о назначении всех остальных приспособлений.
Сетка должна были облечь целиком мою голову и затянуться петлей на шее, а ремням, схватившим запястья, полагалось напрячься изо всех сил и растянуть мои руки в стороны. После чего наступала очередь заточенного клинка и огромного эфиопа. Играючи, эфиоп отсекал мне правую руку, которая безвольно повисала на правом косяке, затем кровь левой руки должна была так же обрызгать левый косяк. Ноги мои при этом, разумеется, подкашивались, отчего я повисал в сетке, затягивая петлю, как на виселице, и последним жестом черной десницы эфиоп должен был отбросить в сторону потерявшее надобность тело, оставляя голову в сетчатом мешке для обозрения любопытному народу.
Когда я шагнул на первую ступень эшафота, для радости в цитадели моего сердца оставалась единственная, самая верхняя, бойница. Последней моей вполне бесстрастной мыслью было подозрение, а не этот ли самый эфиоп скрывался в темных доспехах, когда преследовал меня по лестницам и закоулкам горной крепости.
Сетчатый мешок был так туго затянут на моей шее, что с трудом пробивалась отрыжка, явно свидетельствовавшая о том, что меня наконец прохватил настоящий предсмертный страх, хотя мне казалось, что всякий страх кончился и осталось только тягостное нетерпение. Сквозь ячейки я окинул взором площадь и не нашел в многолюдстве ни одного из трех человек, которых желал бы увидеть: ни того, кто, возможно, спас меня из горной реки, ни того, кого я спас на этой площади, ни ту, которую я на этой же площади едва не погубил. Не было ни дервиша, ни рыцаря Эда, ни Черной Молнии, а грозный эфиоп уже встал за моей спиной. Теперь, после искусного затягивания всех положенных узлов, ему оставалось доделать сущую мелочь.
Когда стоявший у края помоста дворцовый кади, охрипнув, выкрикнул последнее слово приговора и стал сворачивать пергамент, я коротко помолился и закрыл глаза. Сквозь гул литавр и голосов я расслышал бычий вздох палача и подумал, как бы извернуться и вместо руки подставить голову. И вдруг моя правая рука ослабла и, как плеть, шлепнулась по бедру. Со свистом пронесся рядом со мной тяжелый меч и рассек помост.
«Совсем не больно!» — поразился я и раскрыл глаза.
В тот же миг упала и вторая моя рука, и что-то обрушилось мне на голову!
Буря уже бушевала на площади, когда я наконец разобрался во всех своих разрозненных видениях и чувствах. Руки остались целы, зато ремни оказались отсечены от косяков страшными стальными звездами! Голова осталась на плечах, зато веревка была срезана у самой перекладины! Меч остался цел, зато была разрублена доска помоста, и сам эфиоп, пронзенный в шею длинным жалом стилета, лежал под перекладиной, подобно темной слоновьей туше, испуская смертные хрипы.
Еще безо всякого ясного замысла в голове, чудом оставшейся на своем законном троне, я дернул меч за рукоятку, но вырвать его из помоста мог теперь разве что такой же мощный эфиоп. Я хотел было вооружиться стилетом, уже один раз спасшим мне жизнь здесь, на месте казни, но едва я протянул руку к бычьей шее эфиопа, как всей моей волей овладел звонкий крик, донесшийся из толпы:
— Беги! Быстрей!
Этот чудесный голос мог принадлежать только Черной Молнии!
Не глядя, я прыгнул с помоста прямо на толпу, разбежавшуюся передо мной, как стадо овец. Черную Молнию я узнал только по стройному телу лани и по тюрбану, конец которого скрывал лицо.
— Пригнись! — крикнула она, очутившись прямо передо мной, и стремительно понеслась через площадь, рассекая толпу, подобно брошенному во врага стилету.
Я пустился за ней, прихватив болтавшиеся за мной ремни и веревку.
Черная Молния вела меня к устью той самой улицы, по которой я вышел на площадь в час низложения султана Масуда Третьего. Но когда с воплями ужаса разбежались перед нами последние ротозеи, пришедшие посмотреть на разделку человеческого тела, сама Черная Молния, вскрикнув от изумления, метнулась в сторону, и моим глазам открылась бешеная скачка франков, уже готовых вырваться из узкого русла улицы и вновь подчинить площадь своей власти. На мгновение я замер, будто окаменевший, а франкские рыцари во главе с Эдом де Мореем мчались прямо на меня.
Вокруг началась ужасная давка. Невольно оглянувшись, я заметил над толпой движение черных тростников. То были длинные пики султанских гулямов, пробивавшихся ко мне сквозь чащу обезумевших зевак. Еще одного мгновения мне хватило, чтобы узнать все новости о Черной Молнии. Остерегаясь и толпы, и гулямов, она скользила вдоль стены, окружавшей площадь, явно примериваясь взлететь на нее и спастись из этого хаоса. Я бросился было помочь ей, но кони франков, опахнув меня тяжкой теплотою, уже заворачивали с улицы вдоль стены и мощным галопом уже настигали ту, которую я на этой же площади однажды едва не погубил и которая только что спасла меня от самой отвратительной из всех уже известных мне смертей.
— Юноша! — донесся до меня с небес голос рыцаря Эда. — Беги! Мы не выпустим гулямов отсюда!
Это новое повеление спасать свою шкуру я исполнить не мог и во весь дух бросился вслед за рыцарем Эдом. Он уже обогнал Черную Молнию, едва не придавив ее конем к стене, и круто развернулся. Франки тут же осадили коней, встав плотной цепью, и опустили мечи.
Черная Молния оказалась в западне и, прижавшись спиной к камням, показала врагам два тонких кинжала, которые появились в ее руках, словно по волшебству уличного факира.
— Проклятый волк! — бросила она в лицо рыцарю Эду, одарив его таким жгучим взором, что его шлем мог бы раскалиться докрасна. — Не твой день! Убирайся прочь!
— Акиса! — назвал ее по имени рыцарь Эд и заговорил дальше на весьма чистом арабском наречии. — Зачем он тебе? Ответь!
Гулямам оставалось приложить немного усилий, чтобы добраться наконец до бежавшего преступника. Я по старой привычке юркнул прямо под жеребца рыцаря Эда и очутился у стены, рядом с той, чьи убийственные звезды, в кого бы не летели, все равно попадали мне в сердце.
— Ты еще здесь, таинственный юноша?! — невесело изумился Эд де Морей. — У тебя что, девять жизней? Беги и знай: я не стану убивать ее.
— Она только что спасла мне жизнь! — с весьма нелюбезной угрозой в голосе ответил я рыцарю Эду и, повернувшись к девушке, ласково попросил ее: — Акиса! Прошу извинить меня за все доставленные хлопоты. Нельзя ли одолжить один из твоих кинжалов: в этой сети я чувствую себя пойманным жаворонком.
Не успел я глазом моргнуть, как острие, тонкое, как солнечный отблеск на воде, скользнуло по моей шее и по лицу, и сетка упала к моим ногам.
Ястребиный взор девушки остался столь же опасен и столь же невозмутим, когда я благодарил ее, слагая замысловатую газель.
— Помедли еще немного, и все ее старания окажутся напрасными, — пробормотал рыцарь Эд, оглянувшись.
Он, пожалуй, не ошибался, поскольку позади франков, уже выстроилась цепь гулямов, ожидавших, когда появятся бреши в железной стене тамплиеров.
— Почему ты пришла за ним, Акиса? — повторил свой вопрос рыцарь Эд.
— Потому, что ты нерасторопен, франкский волк, — огрызнулась Акиса. — Говорю тебе, убирайся, или я успею перерезать горло вам обоим!
— Я не убивал султана, мессир, — вновь вступил я в разговор, который нравился мне все меньше и меньше.
— Проклятье! — выругался Эд де Морей и, пригнувшись в мою сторону, проговорил, как мог, тихо: — В десяти шагах, за решеткой медресе, сточный желоб, там большое отверстие в стене.
— Не уйду отсюда убийцей султана, — ответил я тамплиеру. — То, что я остаюсь, — доказательство моей невиновности.
— Всемогущий Боже! — взмолился рыцарь Эд. — В поселениях прокаженных безумцев найдешь больше здравого умысла, чем посреди Коньи. Ты будешь оправдываться перед теми, кто убил султана, не так ли?
— Здесь жители Коньи и здесь вы, мессир, — сказал я, предчувствуя некую развязку. — Мне порукой ваш меч. Отпустите Акису, и я исполню ваше требование.
— Она слышала то, что я сказал тебе, юноша, — холодно проговорил Эд де Морей. — Впрочем, она знает, где выход, несмотря на то, что не слишком хорошо понимает по-франкски.
— Акиса, — ласково обратился я к Черной Молнии, — остался один выход с площади и остался всего один выход из положения. Я очень хочу, чтобы мы все трое мирно разошлись.
Акиса, ни на единый миг не обратившись ко мне, с той же неизбывной злобою глядела на франков и угрожала двумя тонкими жалами девяти тяжелым мечам. Когда я понял, что она не сойдет с места, пока враг не отступит, бешенство охватило меня и, плюнув себе под ноги, я двинулся прямо на франков, протиснулся между их коней и оказался лицом к лицу с сельджуками.
— Берите меня! — громко сказал я им. — Не я убил вашего султана! Но если хотите, я подожду, пока вы найдете нового палача!
Никто из бехадуров не шелохнулся. Какая-та серая дымка вдруг стала застилать мои глаза. Я тряхнул головой и заметил, что один из серхенгов, тот самый, который поспел первым туда, где убили султана, и всего на один день уберег меня от разделки на плов, теперь сгибает буйволовый рог своего лука и кончик стрелы словно бы опасливо пятится от меня, целя острием мне прямо в сердце.
Жгучая боль пролилась мне в грудь на мгновение раньше, чем слуха достиг низкий звон смертоносной струны.
Гладкие камни площади вздыбились перед моими глазами и ударили меня подобно морской волне.
Куда-то понесла мое тело та мощная волна, и, когда сила ее иссякла, меня еще долго качали и баюкали ее младшие сестры, а когда всякое волнение моря жизни или смерти утихло совсем, я открыл глаза и увидел над собой низкий, тяжелый небосвод тронного зала и на нем выпуклые очертания свернувшейся в кольцо змеи.
Я потрогал пронзенную грудь и нашел, что одежда на ней целее ребер, которые ответили на прикосновение глухой болью, какая бывает после несильного ушиба. Только после этого я приподнялся и, как сова, повертел головой, знакомясь с уже давно знакомым мне местом.
Опустошенный от всякой роскоши, тронный зал предстал моим глазам таким, будто последний раз нога человека, притом, судя по разрушениям, беспощадного варвара, ступала по его порфировым плитам век назад. Трона не стало, ущербные ступени были покрыты густым слоем песка и пыли. Пол вокруг меня рассекали, подобно молниям, изломы трещин, а по краям разбитых окон извивались ветки старого, давно облюбовавшего дворцовые покои плюща.
Отгоняя от себя прочь всякие разгадки случившегося, я поднялся на ноги и направился к окну, стараясь обходить пятна птичьего помета. Выглянув наружу, я увидел запущенный сад и часть щербатой стены. Только песня родничка, донесшаяся до моих ушей из непроходимых зарослей, осталась полна юной радостью и весельем.
Остальные покои выглядели под стать средоточию султанской власти. В приемной дворцовой канцелярии я вспугнул парочку счастливых голубок, а в трапезном зале гулямов потревожил гроздь дожидавшихся ночи летучих мышей, мерзко затрепыхавшихся над моей головой.
Меня все сильнее мучила жажда, и, выйдя из дворца, я решил добраться до родника. Теперь он скрывался в такой густой чаще, что, беря приступом колючие кусты и сплетения лиан, я весь исцарапался и разорвал до самого локтя левый рукав. Тогда-то, обратив взгляд на свою левую руку, я, можно сказать, наконец пришел в чувства. Маленький и невесомый кинжал, таинственный Удар Истины, оказался на своем месте и привязан именно так, как его привязал я сам в тот день, который прекрасно запомнил.
«Значит, явь оборвалась по крайней мере с того самого часа, когда у меня отобрали кинжал на пороге дворцовой темницы, — рассудил я. — Все последующее промелькнуло перед моими глазами миражом, простым сновидением. О Всемогущий, сколько напрасных переживаний! Страшная казнь, чудесное спасение! Прекрасная Акиса пришла за мной, стояла рядом, и уже я сам хотел спасти ее! И на какой подвиг я решился, подумать только! Ведь в другой раз, наяву, никакой смелости не хватит».
Ворота были открыты, вернее, просто повержены, и, ступив наружу, я подумал, что и весь город стерт с лица земли нашествием каких-то гуннов, вихрем промчавшихся по этому краю. Я видел безлюдный простор, пологие холмы, купы кустарника и жидкие рощицы, а в недоступной дали — затянутые серым туманом хребты гор.
За одним из холмов мне померещилась косая струйка дыма, я направился в ту сторону и, когда достиг вершины, увидел внизу небольшое селение. Обернувшись, я вспомнил прекрасный мираж: буйный оазис с огромным сапфиром, окруженным изумрудной россыпью. Я видел этот отдаленный дворец основателя Рума в сновидении про султанскую охоту и про заговор некого всемогущего визиря, представившегося моим дядей.
Спустя несколько шагов вершина холма поднялась вровень с моим теменем, и волшебный оазис исчез. У меня промелькнула мысль, что теперь он исчез совсем, развеялся, как дым, и появится вновь, чтобы обмануть мои глаза, если я снова вернусь наверх.
Внизу, около селения, меня встретила заливистым лаем черная собачонка. На ее голос из саманных хижин выскочили дети. Увидев меня, они быстро пособирали с дороги увесистые камни и приготовились к осаде. Я остановился, решив не вступать в сражение, и дождался перемирия, которым стал обязан древнего старику. Он вышел из крайнего домика и, поглядев на меня из-под ладони, поманил крючковатой рукой.
— Ты спрашиваешь, давно ли в этом дворце останавливалась охота повелителя Рума, — скрипучим, как трещины старого дуба, голосом проговорил старик, усадив меня на тростниковые циновки и протянув половину лепешки. — Ты выбрал верный дом, где можно спросить. Кроме меня, не осталось в округе никого, кто видел здесь великую охоту султана. Я видел ее, когда был таким же неразумным зверенышем, как те, что хотели закидать тебя камнями. Там плохое место, юноша. Очень плохое место. Говорят, этот дворец не отличается ни одним камнем от того, что стоит посреди Коньи. Так хотел славный Алаэддин. Но однажды во дворце завелся шайтан. Очень плохое место, юноша. Не ходи туда. В прошлую ночь там горели огни, как бывало в ту пору, когда приезжала великая охота, и многие из нашего селения слышали нынче топот и ржание коней. Те, что выходили на вершину холма, рассказывают, как во дворце всю нынешнюю ночь пировали, но кто пировал, теперь не узнаешь: то ли разбойники, то ли демоны, то ли ассасины.
— Ассасины?! — встрепенулся я. — Старик, скажи, что ты знаешь об ассасинах.
— Я ничего не знаю, — живо повел рукою старик. — Говорят только, что они сговорились с новым хозяином дворца, и приходят сюда по ночам, чтобы узнавать новые тайны.
— С каким хозяином? — опасливо полюбопытствовал я.
— С тем, — коротко ответил старик.
— А кто теперь хозяин в Конье? — догадался я спросить о самом важном.
— Я-то думал, что ты ходишь по всем дорогам и все знаешь, — огорченно вздохнул старик. — Хотел спросить у тебя самого.
— Я пришел из чужих краев, — честно признался я.
— Говорят, что теперь нет никакого хозяина, — пробормотал старик. — Говорят, будет теперь один монгольский наместник.
«Значит, султан все-таки убит», — заключил я и к тому решил, что лучшим способом отделить сон от яви будет не бегство куда глаза глядят, а путешествие в саму Конью, если только сама Конья, и это селение, и этот старик, не являются плодом моего воображения или злыми чарами каких-нибудь ассасинов, которые обрели полную власть над моими чувствами. Я пообещал гнусным чародеям, что вскоре они устанут от моей безрассудной доблести и от всех ужасных казней, от которых им придется меня спасать пусть даже в сновидениях.
Узнав у старика, по какой дороге можно дойти до стен столицы Румского царства, я пустился в путь и к вечеру нашел, что его длина примерно совпадает с длиной той дороги, которую я преодолел вместе со свитой Масуда Четвертого, сидя на коне в почти безмятежном забытьи. У ворот Коньи я увидел тех же привратников, которые получили за меня горсть медяков от старого джибавии.
— Я приходил сюда со старым дервишем, которого вы знаете, — смело подойдя к ним, сказал я. — Он заплатил за меня десять мангыр.
— Десять мангыр! — рассмеялся старший привратник. — Значит, ты был воробьем, а твой дервиш нес клетку.
— Теперь я хуже воробья, — вполне согласился я с догадкой стражника. — У меня нет и десяти мангыр. Но мне очень нужно пройти в город. Обещаю вам, что сегодня же заработаю и принесу вам положенный дирхем. Без него вы можете не пропускать меня обратно.
— Хорош воробей! — продолжал потешаться старший. — Его выпустили из клетки, он проголодался и теперь просится назад.
— Вы должны пустить меня, — решился я на последнее средство. — Приглядитесь, ведь ни кто иной как я убил вашего султана.
Теперь от хохота присели оба, и если бы я был пошустрее и обладал навыками рыночного воришки, а не ассасина, то, верно, успел бы юркнуть в ворота, пока они утирали слезы.
— А с безумцев мы берем десять золотых динаров! — только и ответил мне старший привратник.
И тут в перекрестии пик стражей я вдруг увидел всадника, направившегося из города к воротам. Не успел железный колпак старшего стража, съехавший от смеха с его лысой головы, стукнуться об землю, как «воробей» успел упорхнуть и пропасть в придорожных кустах.
Стражи крикнули мне вдогонку какие-то обидные слова, но я пропустил все мимо ушей. Теперь мне больше всего на свете был нужен тот, кто покидал стены города: франкский рыцарь, носивший имя Эд де Морей.
Он выезжал из ворот неспеша. Я молил Всемогущего, чтобы Он умерил пыл всадника и за пределами города. Моя молитва была услышана: шагом двинулся конь рыцаря Эда по той самой дороге, которая только что привела меня к столице.
Неизвестный мне замысел рыцаря Эда, что повел его именно по этой дороге, я принял за вещий знак и с удвоенной быстротой помчался, огибая кусты и крупные камни. Как только расстояние между рыцарем Эдом и последним встречным прохожим растянулось на бросок копья, придорожный кустарник вздрогнул, и славному рыцарю преградил дорогу некий безымянный герой.
— Рад приветствовать вас, мессир в этот вечерний час! — проговорил я с учтивым поклоном.
Рыцарь Эд натянул поводья и, поглядев на меня, приподнял бровь.
— Приветствую и вас, юноша, — ответил он с холодностью, которую, я сразу истолковал в нужном для меня направлении: от Коньи — к логову демонов или ассасинов. — Любопытно узнать, чем вызвано ваше внезапное появление, столь же таинственное, сколь и ваше исчезновение из дворца.
Открыв рот, я хотел было высыпать целую гору новых вопросов, рожденных его словами, но сдержался и, взяв себя в руки, учтиво задал вопрос, прибереженный заранее:
— Мессир, оно вызвано одной мучительной догадкой. Ради всего святого, ответьте мне, когда вы видели меня последний раз.
— Воистину странный вопрос! — усмехнулся рыцарь Эд и пожал плечами. — Столь же странный, сколь и ваше одеяние. Я думал, что когда-нибудь увижу вас, юноша, в филадельфийской парче и тулузских сукнах, на великолепном арабском скакуне.
— Объяснитесь, мессир! — рассвирепев, потребовал я.
— Серхенг, слову которого я могу верить, сказал мне, что видел собственными глазами, как вы, исполняя чью-то волю, задушили шнурком раненого султана и, ободрав с него все дорогие перстни и золотую нагрудную цепь, исчезли в потайном ходе.
От такого свидетельства я едва не задохнулся, а переведя дыхание, огляделся по сторонам, чтобы проверить, стою ли я еще на дороге вблизи Коньи или уже провалился в бездонную пропасть.
— Если все случилось так, как привиделось этому доблестному серхенгу, — медлительно проговорил я, стараясь сохранить достоинство, — то может ли исчезнувший в потайном ходе узнать, кто правит Румом ныне?
— Не тот ли, чью волю исполнял искусный убийца? — вновь недобро усмехнулся франк.
— Значит, монгольский наместник? — внезапно догадался я.
Рыцарь ответил молчанием, рассматривая меня с высоты своей доблести.
— Именно тот ссыльный монгол несторианского исповедания, — добавил я, — власти которого над Румом так желал славный франкский рыцарь, когда осаждал стены дворца. Не так ли?
Конь рыцаря Эда, вздрогнув, переступил в сторону, а сам рыцарь совершил жест, значение которого вспыхнуло во мраке моей утраченной памяти: я увидел крестное знамение.
— Владеющий колдовством не нуждается в роскошных одеждах, — пробормотал франк.
— Мессир, вы хотите сказать, что не передавали никому своих заветных мыслей о том, как поставить Рум первой ступенью к Святой Земле? — сделал я новый выпад, не имея в руках никакого оружия, выкованного из праха земного.
Конь рыцаря Эда попятился еще на несколько шагов.
— Изыди, сатана! — прохрипел рыцарь Эд.
— Мессир, вы наносите мне оскорбление, — вспылил я, не в силах более держать себя в руках, и двинулся вперед ровно на столько шагов, на сколько отступил жеребец франка. — Потому, не имея своего коня, я могу требовать, чтобы вы спешились и приняли мой вызов.
— Кто посвящал тебя в рыцари, ночной хорек?! — скрипя зубами, выдавил из себя тамплиер. — Твой туркменский шайтан?
Настоящим колдуном оказался не я, а рыцарь: именно его слова в одно мгновение превратили меня в злобного хорька. Не успел рыцарь вытянуть свой меч и на треть из ножен, как я уже подскочил к седлу, повис на всаднике и стянул его с седла на землю.
Благодарение Всемогущему, наша борьба завершилась в одно мгновение и безо всякого вреда для обоих. Легким движением руки тамплиер отбросил меня далеко в сторону и, поднявшись на ноги, поправил ножны.
— Однажды ты спас мне жизнь, — сказал он, внезапно обретя спокойствие. — Я не могу проучить тебя, как назойливого сарацина. Говори, что тебе нужно от меня.
В это мгновение меня осенило.
«Час настал!» — подумал я и, смело шагнув навстречу тамплиеру, задрал рукав на левой руке.
— Вот, доблестный рыцарь, — показал я ему загадочную реликвию, — если я и действую по чьей-то воле, то хочу узнать, по чьей. И я пришел за ответом к тому, кто по своей или чьей-то воле носит такой же знак.
Могучий рыцарь Эд де Морей отшатнулся и побледнел, а затем, собравшись с чувствами, сделал всего один шаг навстречу мне прежде, чем преклонить колено и опустить голову со смиренной речью:
— Мессир, я приношу вам свои извинения и готов служить вам и Удару Истины до последнего вздоха.
«С этого надо было начинать», — с досадой подумал я и поспешил поднять с дороги того, кого менее всего ожидал взять себе в слуги.
— Сир, — обратился я к нему, — вы старше меня, и я не сомневаюсь, что ваша доблесть так высока, что превышает мою высокородность, какова бы она не оказалась. Но если разница в наших положениях такова, что именно мне придется принять вашу службу, то я прошу вас послужить только одному: а именно полному доверию к моим словам, к тому, что я вынужден рассказать вам, сир, в надежде добраться до истины, Удар которой, кажется, выбил меня из седла.
Вскоре славные стражники городских ворот Коньи увидели назойливого воробья за плечами франкского рыцаря, возвращавшегося в город, и были весьма изумлены.
— Они просят за меня десять динаров, — шепнул я рыцарю на ухо.
— С какой такой стати? — возмутился тамплиер.
— Я сказал им, что убил султана, — признался я.
— Святая Мадонна! — покачал головой франк. — Двух десятков динаров у меня с собой не найдется.
Едва скрылись мы с глаз опешивших привратников, как рыцарь Эд пришпорил коня. Заставив прохожих распластаться по стенам, мы проскакали по узкой улице и остановились у высоких, в два человеческих роста, ворот, обитых железом. На створках, снизу доверху, был отчеканен восьмиконечный крест, разделявшийся ровно надвое, когда ворота открывали.
Спустившись с седла, рыцарь Эд подал мне руку, и я не посмел отказаться от его помощи, хотя, разумеется, стыдливо огляделся по сторонам.
Затем рыцарь Эд постучал в ворота железным кольцом, и, когда приоткрылось вратное окошко, он, не показывая своего лица тому, кто подошел на стук, негромко повелел:
— Жан! Открой и поторопись позвать господина приора.
Раздался шорох хорошо смазанного засова, створки подались внутрь, и я, шагнув вслед за рыцарем Эдом во двор, увидел спину человека в темной сутане, стремительно семенившего к дому, маленькие, полукруглые окна которого были озарены слабым светом.
В густеющих сумерках я различил подкову, висевшую на цепочке над открытой дверью темной кузницы, перекладину с развешанной на ней коновязью, мощные, вровень с входными, ворота конюшни. Я насчитал еще полдюжины дверей каких-то служб и по такой основательности постоя определил, что рыцари-тамплиеры здесь, в столице сельджукского Рума, вовсе не случайные гости или наемники.
От дверей братского корпуса к нам спешил уже другой человек, торопливость и мелкий шаг которого никак не вязались с его крепким телосложением и руками дровосека. На вид ему можно было дать больше пяти десятков.
— Брат комтур, вы вернулись! — взволнованно проговорил он, косясь на меня. — Случилось что-то непредвиденное?
— Чрезмерно предвиденное, брат приор, — спокойным, твердым голосом ответил Эд де Морей. — Тот, за кем я был послан, вышел мне навстречу намного раньше, чем был оседлан мой Калибурн.
— Что вы говорите, брат комтур! — прошептал приор, удивление которого, верно, уже превысило внушительные размеры его собственного тела.
— Собирайте капитул, брат приор. Немедля, — так же спокойно повелел рыцарь Эд. — Скажите братьям одно: он пришел.
— Святая Мадонна! — перекрестился приор.
— Посланник здесь. Перед вами, — добавил Эд де Морей.
— Святой Крест! — с еще большим испугом прошептал великан-приор и низко поклонился мне.
Моя память, словно одежда, зацепилась во тьме за какую-то острую колючку, и, не замечая оказываемых мне почестей, я принялся дергать ее туда-сюда, а потом, можно сказать, присел на корточки, пытаясь нащупать и выдернуть злополучный шип.
Мне удалось найти его! Да, этот шип действительно торчал во тьме, ведь я сидел на камне с закрытыми глазами, когда по дороге в Конью старый дервиш передавал некое послание в руки своего ученика Ибрагима, прибавив к посланию два неписаных слова: «Он пришел».
— Мессир, — обратился я к рыцарю Эду, когда приор исчез исполнять то, что должно было последовать за предвиденным.
— Мессир, — не слишком учтиво оборвал меня Эд де Морей. — Приношу извинения. Теперь это обращение положено вам. У вас есть право называть меня «братом».
— Брат Эд, — поправился я и почувствовал несказанную теплоту, разом охватившую мое сердце.
Пройдя несколько шагов и не дождавшись от меня смысла обращения, Эд де Морей сам задал вопрос:
— Вы хотели что-то сказать, мессир?
— Брат Эд, — с радостью повторил я, — не известен ли вам некий «благословенный шейх Якуб аль-Муаль»?
— Якуб аль-Муаль? — переспросил комтур конийских тамплиеров, и в его голосе можно было-легко расслышать не только изумление, но и тревогу. — Нет, не известен. Странное для араба имя. Возможно, сын некоего крещеного сарацина.
— И при этом шейх? — в свою очередь изумился я.
— Ничего не могу сказать, — покачал головой Эд.
В эти мгновения мы, войдя в братский корпус, уже поднимались по лестнице, озаренной масляным светильником, что был повешен на стене в виде лампады.
— К тому же, насколько можно догадаться, — продолжил я по праву свой допрос, — вы, брат Эд, получили от кого-то уведомление, что меня можно разыскать, если отправиться по дороге, ведущей к одному месту, известному ныне как логово демонов или ассасинов. Оно известно и нам обоим, поэтому лучше его не упоминать. Но мне необходимо узнать, чье слово уверило вас в том, что день предвиденного наступил.
Теперь мне открылся широкий коридор с низенькими дверцами по обеим сторонам, и я догадался, что здесь, на втором ярусе строения, расположены кельи братьев-тамплиеров.
— Никого не слышно, — задумчиво произнес рыцарь Эд. — Вероятно, все уже спустились по западной лестнице и ожидают в нефе. Мессир, если верить тайным знакам на пергаменте, а не верить им — смертный грех, то послание получено мной непосредственно от вас.
«Слишком трудно смириться с тем, что один из нас и есть этот благословенный шейх Якуб аль-Муаль», — подумал я и повторил свою мысль вслух, присовокупив к ней вопрос о том, кто привез послание к воротам капеллы Ордена.
— Согласно преданию, пергамент должен быть привязан к стреле, пущенной из-за городских ворот, — ответил рыцарь Эд. — Сто лет тому назад на заднем дворе капеллы был посажен кипарис как цель для священной стрелы. Сегодня на рассвете мой оруженосец в свой установленный черед вышел на задний двор к этому древнему дереву.
— Стрелу венчало белое оперение? — уточнил я.
— Нет, черное, сельджукское, — несколько удивил меня Эд де Морей. — В пергаменте было указано, что комтур должен выехать не ранее шестого часа, чтобы к полуночи достигнуть Чудесного Миража.
«Вот как именуется охотничий дворец Алаэддина», — уяснил я себе.
Завернув в какой-то новый проход, мы столкнулись с человеком, явно дожидавшемся нас.
— Брат комтур! — сказал он, однако низкий поклон отвесил одному мне и притом безо всякого обращения, которое теперь я посчитал некой страшной тайной, не произносимой человеческими устами.
— Брат сенешаль! — ответил ему рыцарь Эд. — Приготовьте посланнику достойную одежду, а что касается меча, то случаю подобает «Благословенный Вход в Иерусалим».
Сенешаль, еще раз низко поклонившись, исчез во мраке, а мы, вернувшись в коридор, остановились у одной из келий, дверь которой никак не отличалась от аскетического вида прочих.
— Мессир, прошу вас освятить мое жилище своим посещением, — изрек рыцарь Эд, потянув за грубое кольцо.
Когда загорелся фитиль восковой свечи, то кроме нищенской лежанки, покрытой сухим тростником, дощатого стола с кувшином и лежавшей на углу пергаментной Псалтири, недешевой, судя по крышке переплета, а также висевшего на стене кипарисового распятия, я ничего более в этой убогой каменной каморке не обнаружил.
— Жилище достойное великого рыцаря, — без всякого лукавства признал я.
Комтур румских тамплиеров ответил молчанием, а спустя мгновение на пороге кельи появился сенешаль и с неописуемым почтением передал на руки комтура тщательно сложенные одежды, поверх которых покоился убранный в дорогие ножны франкский меч.
Оставаясь настороже, я, конечно, приметил, что мои руки, управляясь с франкским одеянием, не испытывают никакой неловкости, а тело ничуть не сопротивляется тесноте материй на ляжках и талии.
— Взгляните на гравировку, мессир, — предложил мне рыцарь Эд, приобнажив меч и поднеся его к моим глазам. — «Осанна в вышних». Примите его, мессир, как дар капеллы.
Я поблагодарил рыцаря со всей учтивостью и, затягивая пояс с ножнами, добавил с невольным вздохом:
— Если бы я еще мог знать, ради каких благ обязан принять его.
— «Ради каких благ»? — опешил комтур.
— Прошу вас, брат Эд, не забывайте, что усилиями союзников или врагов, то есть с некой целью, у того, чей приход вы ожидали, отнята память, — напомнил я ему. — Мне не известно, кто я. Каждый жест, каждое слово вызывают у меня тысячи вопросов.
— Да, да, я стараюсь не забывать этого, мессир, — пробормотал рыцарь Эд и повлек меня из кельи в другой конец коридора, на западную лестницу.
Спустившись, мы оказались в весьма обширном помещении, в котором совершенно отсутствовали окна. Освещенное двумя рядами масляных светильников, покоившихся на бронзовых треногах, оно по своему виду сразу напомнило мне всплывшую из бездн моей памяти базилику: я отметил ту же продолговатость со ступенчатым возвышением, несколько уплощенный свод и низкие галереи на длинных сторонах помещения. Большего в те мгновения мне разглядеть не удалось, поскольку все передо мной загородили грозные рыцари, облаченные в белые плащи.
С большой настороженностью стали они разглядывать меня, и я удивился, заметив наконец, что, пожалуй, любой из них мог сгодится мне в отцы. Бороды половины из них оказались богаче серебром, нежели борода самого комтура.
— Братья! — негромко обратился к ним Эд де Морей. — Долгие годы службы, проведенные нами на земле иноверцев, не прошли даром, и, волею Всемогущего, кипарис не успел состариться и засохнуть. Тот, чьего прихода мы ожидали, стоит перед нами. Не удивляйтесь его словам и вопросам.
Один из рыцарей выступил на шаг из полукруга.
— Брат комтур! — произнес он густым голосом.
— Брат маршал капеллы, говори! — кивнул ему Эд де Морей.
— Я имею смелость напомнить братьям слова святого Иоанна Крестителя, — сказал маршал капеллы, любезно напомнив мне о том, чья голова была изображена на стене помещения. — И теми словами задать пришедшему вопрос: тот ли он, или ждать нам иного.
Слова маршала мне ничуть не понравились. Я тоже сделал один шаг ему навстречу и задрал рукав, расширявшийся к запястью.
— На вопрос маршала капеллы я не имею ответа, — чистосердечно, как и раньше, признался я. — К вратам вашего дома меня привез доблестный комтур, который и назвал меня тем, чей приход ожидался вами столь долгое время. Вот признак, так же загадочный для меня, как и многозначимый для вас. Сколько себя помню, я всегда носил этот предмет. — Последние слова, разумеется, содержали каплю лжи, но по существу были правдивы.
Все тамплиеры разом преклонили колена.
— Мессир, — смиренно произнес маршал, обращаясь ко мне. — Других признаков нет, и ваш ответ вполне достаточен.
— По преданию, братья, мы должны приветствовать Посланника братским поцелуем, — напомнил Эд де Морей скорее мне, чем тамплиерам.
Он первым учтиво обнял меня за плечи и прикоснулся своими жесткими губами к моим губам. Поцелуи остальных братьев сильно смутили и встревожили меня. Седобородые мужи, несмотря на видимое благоговение, обхватывали меня своими сильными руками, как девушку, и, не ведая стыда, проводили пальцами по моим чреслам и ляжкам. Смутная волна каких-то тяжелых воспоминаний вновь поднялась в сумрачном хаосе моего таинственного происхождения, но на этот раз не выбросила на берег ничего, кроме скоропреходящей тошноты и отвращения.
За этим обрядом последовала весьма скромная трапеза, состоявшая из сухих лепешек и разбавленного вина. Прислуживали за столом безбородые слуги моего возраста, одетые во все черное.
По окончании трапезы состоялся еще один, благодарственный, молебен, в словах которого приор говорил об исполнении сроков, о приближающемся Судном Дне и обо мне как вестнике долгожданной победы света над тьмой. Если молитвенным духом и были бледно озарены лица окружавших меня франков, то никакой радости от того, что наконец настал час, ради которого рыцари Храма пребывали на чужбине добрую сотню лет, я в их бесстрастных взорах не нашел. Трапеза в полусумрачном зале больше напоминала сновидение, нежели все минувшие мои сны, которые теперь казались мне ярче утренней яви. Так я снова впал в глубокие сомнения.
«Возможно, все они давно покойники, — нарочно пугая себя и страхом торопя пробуждение, предположил я. — Целую сотню лет сидят здесь на одном месте и ожидают свою жертву».
Устав требовал от братьев после трапезы немедля удалиться в свои кельи для уединенной молитвы, и, вновь оказавшись под покровительством одного рыцаря Эда, я вздохнул.
— Мне кажется, что я опять пребываю в колдовском сне, — так и сказал я рыцарю Эду, когда мы поднялись в его келью.
Это признание немного успокоило меня, поскольку я тут же предположил, что, если спящий скажет во сне, что он спит, то сон в тот же миг несомненно должен рассеяться.
— Я видел, с какой тревогой, мессир, вы смотрели на лица братьев, — сказал рыцарь Эд. — Они долго учились не ожидать ничего и ни на что не надеяться. Это было необходимо, для того, чтобы удержать цитадель.
— Подобно Али Бабе, я теперь стою над пещерой, полной тайн и сокровищ, и страшусь произнести волшебное слово, — добавил я к своему признанию еще одно. — Могу ли я воспользоваться своей властью и заставить тебя, брат Эд, бодрствовать до тех пор, пока из глубин пещеры не будет извлечен последний самый мелкий бриллиант?
— Мессир, — сдержанно улыбнулся рыцарь Эд. — Меня мучает то же самое искушение. Что касается бодрствования, то я обучен этому искусству.
— Хотелось бы начать с сотворения мира, — с трепетом вздохнул я, предчувствуя, что начинается та ночь, когда многое из тайного должно стать явным, — однако опасаюсь, что нам не хватит времени до Судного Дня. Имея в виду свой незначительный возраст и почти опорожненный сосуд памяти, я предпочел бы первым предъявить свои монеты для сличения с настоящими, имеющими хождение в этой стране.
— Я-то, столько лет ожидал этого дня, чтобы проверить свои собственные сбережения, — с мучительным вздохом проговорил рыцарь Эд.
— Видно, главному чеканщику угодно, чтобы мы сами научились отличать фальшивые монеты от настоящих, — мудро рассудил я и начал свой рассказ.
Когда я приблизился к его завершению и уже таился в придорожных кустах с намерением смело выступить навстречу рыцарю Эду, направлявшемуся к дворцу Чудесного Миража, толстая свеча в келье комтура укоротилась на целую нарезку, свидетельствуя о начале второй стражи.
С улыбкой кивнув мне, как только я выскочил на дорогу, рыцарь Эд поправил загнувшийся кончик фитиля пальцами, будто вовсе не чувствовавшими жара маленького огня, и, немного времени побыв в молчании, покачал головой:
— Не сиди я сейчас в своей келье и не будь мы связаны вещими знаками, более значимыми, чем все самые сокрушительные события, случившиеся в Конье, я подумал бы, что началась одна из тысячи ночей царицы Шахерезады. Так чудесна и удивительна ваша история, мессир.
— Для удобства представим дело так, что никаких чудес нет, а есть один обман, — предложил я.
— Разумно, — кивнул рыцарь Эд. — Тогда вернее начать с самого конца и заметить, что никакого султана Масуда Четвертого не было и в помине.
— Об этом я уже догадался, — не преминул утвердить я.
— Власть сельджуков в Руме кончилась на Масуде Третьем, — продолжал рыцарь Эд. — Теперь царством повелевает монгольский наместник.
— Значит, брат Эд, вы достигли желаемого? — задал я старый вопрос.
— Увы, — усмехнулся Эд де Морей. — Ваш сон, мессир, оказался отчасти вещим. Получены сведения, что великий ильхан Олджайту намерен в скором времени прислать сюда одного из своих эмиров, строгого мусульманина. Нынешний наместник требовался ильхану только для поддержки заговора и в качестве иудейского козла отпущения, если выйдут неприятности. Вы оказались правы, мессир, наша поддержка заговора только ухудшит положение христиан в Руме.
— Этот узел завязан на другом конце веревки, — сказал я, — а чтобы развязать узел на нашем конце, нужно для начала потянуть за два изгиба. Во-первых, ясно, что я заснул раньше, чем ступил на порог тронного зала. Во-вторых, несмотря на то, что сон в главных видениях лжив, однако содержит некие правдивые и немаловажные подробности, тайные наяву. Что ты можешь на это сказать, брат Эд?
— То, что ваш сон, мессир, не простой морок, — осторожно проговорил комтур. — Кто-то не только обманывает вас и сбивает с толку, но и намерен с помощью образов, отсутствующих наяву, показать вам нечто, как вы заметили, немаловажное.
— Кто? — встрепенулся я.
— Мессир, — рыцарь Эд потеребил одну из двух тонких косичек, заплетенных в его бороде. — Мессир. Что я могу сказать? Вы посланы из сфер, мне не доступных.
— Тогда подергаем с другой стороны, — поспешил я, испугавшись, что так узел затянется еще крепче. — Комтур вошел в тронный зал, а я остался с изменившими султану гулямами и приступил к трапезе.
— Кстати, о трапезе, — спохватился комтур и постучал по столу грубым перстнем-печатью.
Тут же из коридора донесся слабый скрип, затем приоткрылась дверь кельи комтура, и перед нами появился смиренный юноша в черных одеждах.
— Гавриил, самая пора сходить к Симону. Возьми двойную ношу, — повелел ему рыцарь Эд, и, как только юноша, отвесив низкий поклон, исчез, комтур повернул голову ко мне. — До еврейского квартала отсюда пара шагов. Полагаю, доброе вино только ускорит ход мысли.
— Возможно, что ускорит, — сказал я в ответ, — если только не вся загадка в вине, которое и отправляет меня в сонные странствия, ведь во дворце я тоже приложился к одному подозрительному кувшину. Из него, по всей видимости, и выскочил вроде джинна этот Масуд Четвертый.
Лицо рыцаря Эда окаменело, и мне пришлось добавить:
— Брат Эд, я искренне доверяю тебе. Как раз твои слова указали мне на возможную отраву. К тому же есть повод проверить наверняка, не все ли вино стараниями неких демонов или ассасинов действует на меня столь сокрушительно.
— Я не помню, мессир, чтобы вы пили вино во дворце, — с нерешительностью проговорил комтур. — Впрочем, если вы сделали там всего один глоток, то это могло произойти и за моей спиной. Важно другое: я не входил в тронный зал. Туда могли войти только два главных серхенга. Естественно, что мой взор был долгое время прикован к дверям тронного зала, ведь там могло произойти все что угодно. Один раз я обернулся, но вас уже не увидел. Потом один из серхенгов, тот, которого я знаю много лет, появился в дверях и позвал меня. От него, уже находясь в тронном зале, я узнал о вас странные вещи.
— Этот серхенг, должно быть, одного с вами возраста? — полюбопытствовал я.
— На год старше, — ответил комтур. — Ему ровно сорок.
— А какого возраста продольный шрам на его лбу? — задал я новый вопрос, на который комтур ответил только удивленным молчанием, и тогда я удивил его еще больше: — Это тот самый серхенг, который разбудил меня, пустив черную сельджукскую стрелу мне прямо в сердце. Не уверен, что он намеревался разбудить меня таким способом.
— Я всегда доверял ему, — тяжело вздохнул комтур.
— Нет никаких достоверных свидетельств того, что он лжет, — успокоил я рыцаря Эда, — как и того, что именно он убил султана здесь, наяву или в моем сне. Нельзя даже определить, чью волю он исполняет и какую, злую или добрую. Но не в нем дело. Для удобства оставим пока одно объяснение: кто-то подсыпал в дворцовое вино щепотку дурманного средства и поставил передо мной кувшин. После чего, судя по всему, я был похищен или действовал, подобно одержимому лунной болезнью. Из всего этого я делаю заключение, что хорошо бы научиться избегать подобных ловушек в будущем.
— Заключение вполне разумное, — согласился рыцарь Эд, немного взбодрившись от моих слов. — По-видимому, мессир, вы сами стали полем сражения неких великих и таинственных сил. Если нельзя решить исход битвы одним всеобщим столкновением, то следует применять череду засад и наскоков. Самое лучшее: таиться у могущественного врага в тылу. В нашем случае это означает, что перлы истины нужно искать в море лжи. Вспомним еще раз те события, которые вы несомненно считаете сонными видениями или же рассказанными вам преданиями. Признаюсь, меня более остального удивили рассказы дервиша наяву и — визиря в сновидении. Притом истинный визирь последних султанов Рума, Ахмад Лакуши, не имеет никакого внешнего сходства с вашим всемогущим «дядей». Вы не заметили сходства «дяди» с самим дервишем?
Я покачал головой, ощутив прилив смутной тревоги.
— Итак, примем на веру, что дервиш был наяву, а визирь, — несомненно, во сне, — продолжил рыцарь Эд де Морей. — Затем вновь направим стопы от конца к началу. Обдумав немного рассказ визиря, я могу сомневаться в ваших кровных связях с Умаром аль-Азри не меньше, чем — с самим визирем. Со слов визиря, получается, что ваш отец должен был появиться на свет немногими годами раньше или позже падения Константинополя и провозглашения Латинской империи. Тогда, мессир, либо вы чудесным образом сохранились, либо достопочтенный ваш отец родил вас, будучи восьмидесятилетним старцем, а такое последний раз случалось разве что во времена Авраама. Из этого я могу сделать только одно заключение: зная, что ваш сон может в любой миг оборваться, визирь торопился и в судьбе вашего отца отлил сплав из судеб двух или больше колен вашего рода.
— Таким образом, брат Эд, вы относите визиря к разряду добрых духов, являющихся во сне? — с некоторым недоумением рассудил я. — Мне, однако, он предстает в ином свете.
— Возможно, нет существенной разницы в том, через какой источник к вам, мессир, должна вернуться утраченная память, — пожав плечами, ответил рыцарь Эд. — Мессир, я простой воин, хотя моему отцу некогда удалось заплатить за мое образование добрым учителям в Париже. Поверьте, я не силен в различении духов. Я вижу перед собой череду малообъяснимых событий, и обстоятельства нашего разговора заставляют меня кое-как соединить их в единую цепь. Свыше ста лет Румская капелла ожидала Посланника, который, согласно, пророчеству должен открыть Великого Мстителя, который, в свою очередь, восстановит истину в Ордене и укрепит его духовное могущество. Наконец Посланник появляется, и мы обнаруживаем, что он сам пребывает в неведении относительно своей миссии. В этом мы не находим ничего удивительного: во многих преданиях можно найти посланников и пророков, пораженных подобным неведением. Однако здесь рассказ самого посланника наводит на мысль, что он на своем священном пути сделался жертвой каких-то неведомых врагов, а, с другой стороны, ему оказывают посильное покровительство некие неведомые союзники. Меня более тревожат вторые, нежели первые. Извечные наши враги известны, в какие бы одежды они ни облачались. Что же касается тайных друзей, то источник их появления может представлять для нас не меньшую опасность, чем все крепости ассасинов вместе взятые.
— Всемогущий Боже! — воскликнул я. — Теперь я вижу, что мне не так уж плохо. Похоже, лучше в этом мире ничего не помнить, чем помнить все пророчества и предания, перепутанные между собой, как шерсть в колтуне!
— Прошу вас, мессир, вспомните, действительно ли дервиш запретил вам выходить из шатра, когда приехали акынджи со своим одержимым, которого потом так искусно исцелил старик? — спросил меня комтур, словно пропустив мимо ушей мою мятежную речь.
— Если мне память действительно не изменяет, то так оно и было, — кивнул я.
— Полагаю, что все туркменское стойбище было подстроено для вас, мессир, — спокойно продолжал комтур. — Вам устроили некий сон наяву за невозможностью дать хороший урок во сне. Где-то вам пригодится то, что вы там видели и слышали. Возможно также, что я не прав.
— Что вы тогда скажете, брат Эд, о ритуале попирания или о гибели шейха? — недоумевал я. — Наконец о сражении на дворцовой площади и о Черной Молнии?
При упоминании о Черной Молнии комтур вздрогнул, и взгляд его, на удивление, просветлел.
— О Черной Молнии я могу сказать, увы, многое, — сказал он, и его вздох насторожил меня еще больше. — О ней я могу даже спеть. Но, мессир, скажу вам одно: если суфии захотят, они могут безо всякого наваждения возвести для вас целый город, чтобы разыграть перед вашими глазами забавный спор двух кукол, а потом, когда вы отправитесь в путь, разобрать его за вашей спиной по камням в течение одного часа.
— Знать хотя бы один короткий ответ на еще более короткий вопрос, — простонал я, — и тогда неважны все остальные подробности и фокусы. Ради какой цели возводится шутовской город и населяется тряпичными куклами?
— Вот, мессир, — тихо произнес рыцарь Эд и медленно провел рукой по лицу, — мы сидим здесь и ждем часа, когда все тайное станет явным.
В это мгновение раздался тихий стук в дверь: слуга комтура вернулся из еврейского квартала с двумя увесистыми кувшинами вина.
— Вот и дождались, — заметил я. — Не пройдет и часа, как явное с такой силой ударит нам в головы, что собьет с ног.
Рыцарь Эд сдержанно рассмеялся и, как только его юный слуга покинул келью, всем своим видом дал понять, что, несмотря на возлияние, приходит черед второй половины обоюдных откровений, которые, совместившись подобно двум частям одной тайной монеты, позволят увидеть полный лик правды, имеющий хождение под небесами.
— Мессир, — тихо, если не сказать «едва слышно», обратился ко мне комтур тамплиеров Румского царства. — По чести говоря, я решился доверить вам всю свою жизнь, ибо многое из того, что я теперь намерен открыть вам, является тайной за семью печатями. В узком кругу своих соратников я поклялся не выдавать этих сведений никому, ибо их разглашение может привести к ужасному разгрому светлых сил, ратующих за истинную чистоту Ордена. Но в клятве имеются в виду простые смертные, в то время как Посланник, согласно преданиям и пророчествам, приходит из сфер Провидения, которые едва можно назвать земными. К тому же обстоятельства, не упоминавшиеся ни в каких пророчествах, заставляют меня принимать собственные решения на поле брани.
— Понимаю, брат Эд, — поддержал я комтура. — Вероятно, в преданиях и пророчествах не указано, что Посланнику по дороге отобьют память.
— Именно так, мессир, — подтвердил рыцарь Эд. — Известно, что Посланник обязан скрывать свое имя, но здесь, как я вижу, совершенно иной случай. Кто-то почти достиг цели, сбивая вас с пути, и кому-то почти удалось исправить ваши стези. Короче говоря, я принял решение рассказать вам все, что хранит мое сердце и мой рассудок и ради чего посреди иноверской Коньи, через которую некогда проходили пути Крестовых походов, уже более века стоит капелла Ордена. Если мое решение правильно, то вполне возможно, что силы светлых воинов будут восполнены, а если я делаю роковую ошибку, тогда меня ожидает слава Иуды Искариотского. Хотя, видит Бог, я почти до пятого десятка служил Ему верой и правдой и ныне желаю только одного: Его вящей славы.
— Могу поклясться, брат Эд, — с воодушевлением сказал я ему, — что желаю того же и всю тяжесть роковой развязки, если сделаюсь невольным виновником таковой, готов поделить надвое.
Эд де Морей пристально посмотрел мне в глаза и, неторопливо отпив глоток вина из грубой глиняной чашки, приступил к раскрытию тайн:
— В вашем рассказе, мессир, меня более всего удивила история, поведанная дервишем из суфийского ордена джибавиев на том отрезке вашего путешествия, который мы оба приняли считать явью, а вовсе не сном. Рыцарь Рубур, упоминавшийся в той истории, без сомнения не кто иной, как граф Робер де Ту, прославившийся своими подвигами при взятии Константинополя в году одна тысяча двести четвертом от Рождества Христова, а именно, столетие тому назад. Удивительно, что ни о каком таинственном кинжале и ни о какой чудесной силе его обладателя я ровным счетом ничего не слышал ни среди христиан, ни среди иноверцев. Никому во всем Руме столько не известно о самом графе Робере де Ту и крепости Рас Альхаг, сколько знаем мы, рыцари румской капеллы Ордена Иерусалимского Храма. Мне знакомы многие суфии и даже некоторые суфийские шейхи, и я уверен, что для любого из них история, рассказанная этим странным дервишем, стала бы поразительной новостью.
Знайте, мессир, что граф Робер де Ту нарушил один из обетов Ордена Храма и нарушил намеренно, с полным сознанием глубины своего проступка. Но этот проступок послужил для него только внешним поводом для разрыва с верховным капитулом Ордена и его Великим Магистром. Притом заметьте, мессир, всю оставшуюся жизнь граф Робер хранил самый важный обет, вполне совпадающий с главной заповедью, которое хранит Писание Нового Завета. Граф Робер покинул Константинополь и Латинскую империю, спасая дочь сельджукского султана, которая была пленницей сначала греков, а затем и франков.
— Признаться, эта история куда чудесней и удивительней, нежели легенда о кинжале, дарующем непреодолимую силу! — воскликнул я.
— Действительно, все это мало похоже на правду, а если это правда, то чем может быть славна история ренегата, который польстился на женщину, не выдержал искушения, а потом, ради того, чтобы оправдаться, объявил себя непреклонным поборником веры и обрушил обвинения во всех смертных грехах на великий Орден, меч которого только и делал, что защищал в заморских землях веру Христову?
— Так чем же славна эта история? — спросил я, давая понять рыцарю Эду, что при случае готов оправдать дела и поступки Рубура.
— Дочь султана была красавицей, каких мало рождалось на земле, — задумчиво проговорил рыцарь Эд, разглядывая пламя свечи, и поставил опустевшую чашку на стол. — Вскоре она родила графу Роберу сына, вместе с которым они переправились в Никею. Затем граф отослал свою супругу вместе с ребенком в Конью, а сам пересек границу Румского царства только через несколько лет, когда получил от султана приглашение взять под свою защиту цитадель в горах Тавра, на которую давно покушался египетский султан.
Разливая по чашкам вино, Эд де Морей опорожнил первый кувшин еще на четверть, а я, пока он занимался делом, не терпящем праздных разговоров, заметил:
— Вся эта история вполне могла бы удовлетворить любопытство, если бы за ней, как за полупрозрачной занавесью, расшитой всякими занимательными картинами, не проглядывали бы очертания некой тайной комнаты, в которой происходит действо, не доступное случайному и невнимательному взору. Если бы не обстоятельства нашей встречи, у меня не появилось бы желания задавать новые вопросы.
— То, что я успел рассказать, — кивнул рыцарь Эд, — даже нельзя назвать историей или вступлением к ней. Мессир, с вашего позволения, я усугублю кое-какой грех, то есть кое-какое нарушение Устава, в чем раскаиваюсь уже заранее. После чего мне, надеюсь, удастся развернуть перед вами картину великой и нескончаемой войны.
Я не преминул поддержать хранителя самых страшных тайн со времен сокрытия Чаши Грааля. Залпом опорожнив глиняные чашки, мы доверительно посмотрели друг на друга, и рыцарь Эд, смахнув с бороды капли вина, приступил к главному повествованию этой удивительной ночи, только дважды прервавшись на короткое время ради исполнения молитвенного правила, обязательного по Уставу Ордена рыцарей-тамплиеров.
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ЭДА ДЕ МОРЕЯ, КОМТУРА КОНИЙСКОЙ КАПЕЛЛЫ ОРДЕНА СОЛОМОНОВА ХРАМА
В последний год правления Бодуэна Первого, короля Иерусалимского, отличавшегося не только воинской доблестью, но и почти монастырской набожностью, появились предсказания о том, что с его смертью начнется постепенный закат христианского королевства в Палестине, завоевание которой стоило великих усилий и неисчислимых жертв среди рыцарей, давших обеты Креста.
Некие очевидцы поговаривали в страхе о кровавой звезде, висевшей целую ночь над стенами Святого города.
Как бы отвечая порывом духа на все эти тревоги и предчувствия, девять французских рыцарей дали иерусалимскому католикосу обет целомудрия, бедности и послушания. При этом в виду многочисленных опасностей, угрожавших христианам в Палестине, они взяли на себя святой долг оказывать вооруженную защиту паломникам на их пути от морского берега к местам земной жизни и страданий Спасителя, охраняя их от сарацинских и христианских придорожных разбойников. Надо признать, что последние к тому времени уже едва ли не сравнялись по своей численности с неверными.
Во главе этих отрекшихся от мирской суеты людей, служивших во славу Пресвятой Матери Божией и соединивших монашеский образ жизни с обычаями изначального рыцарства, стал Гуго де Пейн, отменный рыцарь, смелый и доблестный воин, каких можно насчитать немало среди тех, кто принял обет Креста, ради освобождения Заморской земли на Востоке.
Вскоре на иерусалимский престол вступил Бодуэн Второй, король, не столь прославившийся в подвигах, как его предшественник, но зато устроивший свою жизнь монарха почти по монастырскому образцу. Помня о недобрых предсказаниях, он оказал новому рыцарскому Ордену особую честь, как бы призывая его братьев восстановить неприступную цитадель христианского духа в Палестине. С этой целью он передал рыцарям в вечное владение часть своего дворца, которая приходилась прямо на место святая святых древнего храма Соломона. С этих пор рыцари стали называться Pauperes commilitones Christi templique Salomaniaci, «бедными братьями во Христе при храме Соломона».
Папа Гонорий Второй утвердил зародившийся Орден, и благородный Гуго де Пейн был признан его Великим Магистром. Король Бодуэн обратился к духовному отцу всех христианских народов того времени, святому аббату Бернару Клервосскому, смиренно прося того взять под свое водительство рыцарей Храма, и святой человек Бернар собственноручно начертал устав Ордена, который был принят на соборе в году одна тысяча сто двадцать восьмом от Воплощения Господа.
Кроме подробных указаний относительно богослужения, соблюдения постов, обхождения с больными и бедными, устав внушал рыцарям Храма почтительное отношение к старцам и безусловное повиновение главам Ордена. Но прежде всего тамплиер должен был избегать мирских наслаждений и развлечений, которые были доступны и даже поощрялись среди рыцарей-дворян. Женатые мужи могли вступать в ряды Ордена, однако не имели права носить его отличительные знаки, а именно белый льняной плащ с восьмиконечным алым крестом, означавшим безропотное принятие мученичества, и белый шерстяной пояс Иоанна Крестителя как символ сердечной и плотской чистоты. Не допускалось никаких украшений на платье и оружии.
Подобно монахам, члены Ордена в мирное время должны были оставаться в своих кельях, делить простую общую трапезу и довольствоваться жестким ложем. Главной радостью и счастьем их жизни должна была стать смерть за святую веру и за своих братьев.
Этому Ордену, в котором жизнь и смерть его братьев были отданы Всемилостивому Творцу, отверзлись сердца христиан всей Европы. Государи и простолюдины увидели в них воинов во славу Божию. Чуждые всякого честолюбия, они возвращались с поля брани в тишину своих храмов. Они были монахами, которые, однако, не пользовались безмятежностью обычной монастырской жизни. Они были монахами, которые жаждали кровавых опасностей и во всякое мгновение были готовы к самопожертвованию.
В Орден стало вступать много молодых людей из самых знатных дворянских родов, ибо вдруг стали в чести не ссоры, затеваемые от скуки, не смехотворные подвиги на нескончаемых охотах и пирушках и не караулы под окнами зевающих дев, а ночлег под открытым небом на камнях далекой земли, сухая корка хлеба и кувшин простой воды.
Могущественные властители и богатые негоцианты стали осыпать новую общину своими милостями. Со всех сторон потекли к Ордену приношения, оружие. В Орден передавали лучших коней. Многие из сильных мира сего отказывали Ордену по завещаниям десятую долю своих имуществ и огромные имения.
Так началось невольное искушение праведного братства маммоной, и не мудрено, что наступило время, когда к пустым кельям Ордена стали присматриваться люди, имевшие на душе вовсе не бескорыстные помыслы. К тому же, увы, стала расти зависть к Ордену Рыцарей Храма и в сердцах тех, кто по праву должен был называть тамплиеров своими кровными братьями и встречать их с широко раскрытыми объятиями. Оплотом этой греховной зависти стал Орден Святого Иоанна Иерусалимского, который образовался на Святой земле несколько ранее Ордена Храма и также был посвящен попечению и заботе о странниках и больных пилигримах. Рыцари-иоанниты, носившие черные плащи, на левой стороне которых был пришит восьмиконечный крест из белого полотна, стали считать себя на основании малозначимого старшинства воинами более достойными высоких милостей и даров. Так, исконный враг рода человеческого заронил великий грех вражды в сердца лучших и сильнейших воинов христианского мира. Этот грех не раз ослеплял рыцарей, толкая их в дьявольское горнило междоусобной брани, которую порой с великим изумлением наблюдали с близлежащих гор и холмов сами сарацины, поскольку они внезапно теряли всякую нужду в применении коварства и жестокости и даже получали возможность сохранить свои воинские достоинства про запас.
Но не богатые дары и не зависть оступившихся братьев стали главным и самым ужасным искушением для благородных рыцарей Иерусалимского Храма.
Спустя девять лет после основания братства рыцарей-монахов, в один из весенних дней — передают, что это произошло накануне праздника Ваий — перед вратами Ордена появился некий бродячий монах, державший за плечом холщовый мешок с какой-то тяжестью. На вопрос привратника он ответил, что желает видеть Великого Магистра, ибо имеет приношение, которое может оценить по достоинству только верховный глава Ордена. Спустя некоторое время ему был дан ответ, что Великий Магистр готов принять Божьего слугу, на что монах довольно дерзко изрек:
«Господин, пославший меня, столь велик в христианских добродетелях, и приношение его столь свято, что глава вашего братства нисколько не потеряет своего достоинства, а, напротив, прославит себя еще больше, если спустится сам с высоты своего величия и примет на свои руки то, что по праву признает главою всех глав».
Такая речь не удивила и не разгневала Великого Магистра, ибо на дорогах Палестины не трудно было встретить странников с самыми необыкновенными причудами рассудка, если не прямо одержимых. Пришельца просто оставили вместе с его приношением за закрытыми вратами.
На другое утро Великому Магистру доложили, что человек в монашеском одеянии и с полотняным мешком за плечом продолжает стоять на том же самом месте, вовсе не выказывая нетерпения и как бы не чувствуя неудобства. Глава Ордена велел не прогонять его, а только вынести лепешку и предупредить, что странник вряд ли дождется большего.
Пришелец не принял лепешку, а известие, полученное уже невольно, как будто бы пропустил мимо своих ушей.
И так каждое утро Великому Магистру доносили, что удивительный монах попирает босыми стопами все тот же камень посреди мостовой, вовсе не теряя присутствия духа и живого блеска глаз.
На третий день после празднования Пасхи Великий Магистр Ордена дал наконец волю смущению и решил, что за воротами стоит в самом деле не простой смертный, а, возможно, ангел, посланный с небес, ибо ни сам глава Ордена, ни один из его приближенных и ни один из праведников близлежащих монастырей не знали такого аскета, который был способен без особенных усилий простоять на одном месте более десяти дней подряд.
Глава Ордена повелел широко распахнуть ворота и, выйдя навстречу пришельцу, с искренним благоговением спросил его:
«Кто ты, святой человек, и откуда?»
«Я послан тем, чье имя известно всему свету, а местопребывание — тайна для всех непосвященных, — спокойным, тихим голосом отвечал монах. — Мой господин узнал о великой доблести и добродетелях вашего братства и в знак своей любви передает Ордену святую реликвию вместе с посланием, начертанным собственной рукою. Один только преосвященный глава Ордена достоин принять реликвию в свои руки, а послание моего господина должно быть открыто только для его глаз».
Столь же неумолимо пришелец отказался ступить за порог капеллы, и Великому Магистру пришлось самому приложить весьма немалые усилия, чтобы донести мешок до зала великого капитула.
Исполняя волю удивительного гостя, глава Ордена повелел всем отойти от дверей и, когда в одиночестве раскрыл тайну приношения и запечатлел в своей памяти строки послания, начертанного на дорогом пергаменте, то вышел к членам капитула с бледным лицом, едва не оставив за собой, в зале, дар речи. Первым его стремлением было вновь выйти к монаху, способному на невиданный с древних времен подвиг, и он изумился еще больше, когда узнал, что монах успел бесследно исчезнуть среди улиц Иерусалима.
Тяжестью, скрытой в полотняном мешке, оказалась человеческая голова, отлитая из чистого золота в натуральную величину. Послание же было подписано именем самого таинственного из всех христианских правителей, а именно — пресвитером Иоанном, блаженное царство которого скрывалось и скрыто до сих пор на самом краю мира, за неприступными горами Индии.
В послании воздавались хвалы духовной и воинской доблести рыцарей Храма. Далее в нем говорилось, что золотая голова является точным образом священной головы Иоанна Крестителя, усеченной нечестивым царем Иродом, и что повелитель затерянного, но подобного раю, государства праведных христиан посылает самую дорогую реликвию из всех, коими изобилует его столица, Ордену тамплиеров в знак признания их великих подвигов. Кроме того, пресвитер Иоанн просил принять в Орден девять доблестных юношей из его страны, принадлежащих к знатным дворянским родам и направленным в святой город Иерусалим, куда они должны прибыть несколько позднее. В самых трогательных словах пресвитер умолял Великого Магистра и членов капитула не выдавать тайны их происхождения, чтобы они ничем не отличались от остальных братьев, и в качестве вступительного взноса смиренно просил не презреть скромного дара в виде девяти золотых слитков весом в тридцать орденских мечей каждый. Этот вес как бы обозначал собой боевую силу любого из девяти присылаемых в Орден юношей.
Спустя еще неделю, в навечерие, появились и сами посланцы пресвитера. Готовившиеся увидеть могучих титанов, члены капитула были весьма разочарованы, встретив молодых людей, хоть и крепких в мышцах, но достаточно низкорослых и вовсе не производивших впечатление несокрушимого ангельского воинства. Трудно было определить, из какого народа они вышли. У части из них волосы были темные, у части — светлые. То же самое можно было сказать и об их глазах. Все они сносно говорили по-франкски, и, если добавить к этому, что Палестина давно стала тиглем, в котором образовывались самые причудливые сплавы кровей, то станет понятным, почему не потребовалось особых стараний верховного капитула, чтобы вскоре отвлечь от вновь прибывших недоуменные взоры остальных братьев иерусалимской общины.
Пришельцы произнесли и признали под клятвой все догматы христианской церкви, после чего смиренно приняли испытательное послушание.
В первой же схватке с сарацинами они без всякого смущения вырвались вперед и проявили такую невиданную ловкость и такую неописуемую доблесть, что с того дня разговоры о тридцати на девять мечах, если и возникали вновь, то велись с совершенным почтением.
Кто бы мог подумать, что эти юноши, так искренне молившиеся на глазах у своих новых братьев, так неукоснительно соблюдавшие все строгие обеты на протяжении последующих долгих лет пребывания в Ордене и, наконец, так самозабвенно бросавшиеся в битву с неверными, порою заслоняя соратников своими телами от десятков стрел и мечей, — кто бы мог подумать, что все они были не более чем верными рабами предводителей одной из самых ужасных и богопротивных ересей, возникавших под небесами со времен потопа!
На Востоке они были известны под разными названиями. В одних местах их прозывали батинитами, в других — рафези, что значит «отвергнувшие Бога», а в иных — хашишийа, то есть «употребляющие дурманные травы». И повсюду эти слова произносились с ужасом и трепетом, как имена зловещих демонов. В христианском мире последователей богомерзкого учения Старца Горы стали называть ассасинами, или убийцами.
Совсем немудрено, что исконный враг рода человеческого смог взрастить свое дьявольское семя именно на землях, подвластных неверным. Там в неведомых пустынях Персии выросло и раскинуло свои ветви отравленное древо, там созрели и раскрылись его плоды, и пустынный ветер понес легионы новых семян во все пределы поднебесного мира.
Вот как под внешним видом правоверного магометанства распространялась эта богомерзкая ересь.
Сначала в селении или в городе появлялся приятной наружности человек, напоминавший собой всеми уважаемых паломников в Мекку и начинал прилежно вести самый благочестивый образ жизни. При этом он старался не привлекать к себе взоров и сердец окружающих его людей. Разумеется, происходило совершенно обратное мнимым чаяниям мнимого хаджи, и вскоре люди начинали обращать к праведному пришельцу свои удивленные взоры и свои алчущие истины сердца.
Тогда начинался час следующего искушения, и если к рафези приходил человек образованный, то тайный посланник нечистого начинал вести с ним нескончаемые диспуты по поводу догматических трудностей веры, то и дело обескураживая собеседника странными вопросами вроде того, почему Богу потребовалось для создания мира целых шесть дней, хотя Ему не доставило бы труда произвести все потребное в мгновение ока. И если никакие каверзные вопросы и уловки не могли поколебать сердца и рассудка собеседника, а сам рафези убеждался, что человека не удастся отклонить в сторону, то он непременно выражал самое глубокое почтение перед познаниями и убеждениями искушаемого и, что называется, отходил от него прочь, стараясь более не вступать с ним ни в какие сношения. В противном случае, как только он замечал, что в душу собеседника посеяно смущение, он сразу высыпал новый короб самых неожиданных вопросов и намеков. И тогда, лишь только у сбитого с толку собеседника появлялась сладостная надежда, что судьба свела его с тайновидцем, который может приоткрыть ему исподнюю вселенной, так сразу искуситель шептал ему вкрадчивым голосом в оба уха, что так оно и есть, что волею Всемогущего Аллаха ему, как великому учителю небесных тайн, наконец послан достойный ученик.
Если же к раскинутой сети посланца сатаны прикасался безграмотный простолюдин, то вопросы и намеки становились попроще. Например, лжепроповедник мог спутать ясное понимание вещей в голове простого крестьянина или ремесленника, предлагая тому поразмышлять, зачем Бог наградил его десятью пальцами на каждой руке, хотя для работы может требоваться меньшее количество более крепких членов.
Кроме того, умному и глупому, высокородному и простолюдину он терпеливо, день за днем, напоминал о жестоком сердце и не слишком ясном рассудке эмира, о несправедливости судей, о ненасытной алчности сборщиков податей. Нетрудно вообразить, что такое средство искушения действовало куда вернее всякого приворотного зелья, и стоило собеседнику хоть раз кивнуть головой, как это становилось знаком к самому многозначительному намеку на то, что есть на свете тайный образец справедливости, который, став примером для избранных, в мгновение ока превратит измученное игом государство в тень рая на земле.
Можно сказать, что всем, кто стойко противился умелым измышлениям искусителя, он, в отличие от прочих злодеев-еретиков, отвешивал самый почтительный поклон, зато всех остальных, уловленых в паучьи сети, утаскивал за собой в потаенные двери нечестивых посвящений.
На первых ступенях лживого познания неофита убеждали, что Аллаху вовсе не угодно царствование ныне царствующих, а все первосвященники погрязли в самых страшных грехах и пороках и не могут обладать ни каплей Божественной благодати. В глазах неофита все это отчасти совпадало с видимой действительностью. При этом неофита заставляли благоговеть перед великой тайной истинного, но остающегося до поры неведомым и невидимым, великого имама, единственного руководителя правоверных мусульман, который однажды придет во славе, дабы воссоздать царство Божественной справедливости.
На следующей ступени новообращенного окончательно запутывали в тайных значениях планет, камней, металлов и чисел. В этом дурмане рассудка его уже ничего не стоило убедить, что самая почитаемая книга мусульман Коран является не более, чем собранием поговорок, которые следует понимать в любом подходящим для обстоятельств значении и перетолковывать в таком направлении, которое обеспечит успех в делах. Более того и сам возможный успех становился в глазах еретиков самым верным свидетельством благосклонности Аллаха к сугубо личному пониманию его указаний, содержащихся в священном для мусульман писании.
Когда же обращенный, уже совершив много дел во славу невидимого имама, приближался к нему почти вплотную, ему открывали новую сокрушительную тайну: будто бы на небесах существуют два творца, причем один из них, почитающийся высшим, создал материальный мир для наслаждения второго, низшего, да и сам низший был создан желанием высшего. Дошедший до столь высокой ступени еретического знания адепт обычно к этому дню уже обладал известной властью и значительным имуществом в кругах своих собратьев. Его ум давно уже стал совершенно податлив к отрицанию всех ранее признанных догм, которые заведомо представлялись ему лишь неким мостом к последней истине.
Высшие предводители ереси убеждали его, что люди были и до Адама, что никакого воскресения мертвых, а тем более Страшного Суда и возмездия за содеянные грехи, никогда не будет, а произойдет лишь механическое переустройство планет и небесных сфер, так что истинный посвященный достигнет рая и ангелоподобного вида, опираясь на свои собственные силы и волю имама, тем более что зависти и козней со стороны ангелов вовсе не стоит опасаться, поскольку на самом деле никаких ангелов в духовном мире тоже нет.
Наконец отступник, уже облеченный властью посылать на смерть неофитов низших степеней вставал перед адскими вратами самой великой и потрясающей лжи, которую он теперь безо всякого колебания был готов принять за последнюю истину. Врата распахивались, и за ними неофит, ставший ныне иерархом, видел притягательную бездну. Вероятно, тут уж сам враг рода человеческого, являвшийся ему в образе невидимого имама, окончательно убеждал его, что на самом деле и Бога никакого тоже нет, а истинна лишь одна применимая к делу философия, единственно потребная для главной цели еретиков, а именно — утверждения своего непобедимого государства, в котором будут управлять ересиархи, а весь народ станет беспрекословно подчиняться им до такой степени самоотречения, что любой из подчиненных будет готов по мановению пальца своего господина броситься в самую глубокую пропасть.
Именно такой фокус показал однажды глава ассасинов Генриху Шампанскому, побывавшему у него в гостях. Прогуливаясь с Генрихом по крепостной стене своей горной цитадели, глава ассасинов буквально повел одним пальцем, и двое фанатично преданных своему предводителю юношей, которых называют фидаинами, без колебаний кинулись вниз и разбились насмерть об камни.
Таким образом основой ереси можно считать третье искушение, которым сатана пытался смутить Христа посреди пустыни, а именно искушением властью над царствами, коими повелевает темный дух. Становясь верными слугами нечистого, эти еретики как бы получали силу губить людей посредством двух других искушений, то есть прельщая их лживыми превращениями камней в хлеба и заставляя их без страха бросаться в пропасть, убеждая, что силою своего ангелоподобия не дадут преткнуться своим рабам о камни, а если кто-то и разобьет об землю свою плоть, то душа уж непременно взлетит до самого седьмого неба.
Надо признать, что дух этого опасного богохульства зародился в землях неверных не менее пяти веков тому назад, однако тот, кто довел ересь до совершенства, жил и собирал свою паству незадолго до тех дней, когда в Европе впервые прозвучала страстная проповедь Креста и цвет благородного воинства стал собираться в долгий и полный неописуемых опасностей путь во Святую Землю.
Будто бы враг рода человеческого торопился огранить свой черный камень и вставить его в оправу из праха земного ко вполне определенному сроку.
Основателем и главой секты ассасинов, собравшей в своем котле самый убийственный яд ереси, стал некий Хасан ас-Сабах, в молодости бывший товарищем многих визирей и поэтов и среди них — одного из самых славных и почитаемых стихослагателей Востока, Омара Хайяма. Собрав своих последователей в Египте, ас-Сабах добрался до пределов Персии и там в горных окраинах страны овладел, благодаря своей хитрости и коварству, несколькими неприступными крепостями. Затем посредством всяких мудрых речей и угроз ему удалось склонить на свою сторону жителей окрестных селений, так что вскоре он стал повелителем целого государства, отколовшегося от власти падишахов. Правители Персии, а затем, когда часть ассасинов засела в ливанских горах, и султаны Египта, неоднократно выступали с войсками для покорения опасных мятежников, не походы всякий раз кончались неудачей. Тому было две причины: природная неприступность захваченных еретиками цитаделей и фанатичная преданность своим главарям их защитников.
Хитроумный Хасан ас-Сабах измыслил против своих врагов еще одно орудие, куда более действенное и могучее, нежели любые стенобитные машины и котлы с кипящей смолой.
В стенах своих горных цитаделей ас-Сабах, или, как он стал себя величать, Старец Горы, развел чудесные, не виданные со времен райской жизни Адама, сады. Какие диковинные плоды можно было найти в тех средоточиях земного блаженства! Какие диковинные птицы были собраны здесь со всех концов света, дабы услаждать взоры и слух очарованных гостей! Самых красивых девушек-рабынь приобретал ас-Сабах на невольничьих рынках Басры, Дамаска и даже Флоренции, дабы они своими прелестями и ласками окончательно убеждали несчастных пленников чар, что волею всемогущего учителя те вознесены в теле прямо на седьмое небо, где обитают прекрасные гурии и где для новых гостей предназначены места и чины несуществующих ангелов!
Все в этих садах было предназначено для обмана, самого греховного со времен предательства Самсона Далилой. Старец Горы привлекал к себе крепких юношей из простонародья, в которых он замечал достаточное развитие ума и хитрости, потребной для намеченных целей. Коварными речами он убеждал их, что они стали на правильный путь в поисках истины, а затем отчасти с помощью магического внушения, а отчасти посредством курений гашиша погружал их в кратковременное беспамятство.
Тут я, конечно же, навострил уши, подобно зайцу, расслышавшему, что к нему тихо подкрадывается лисица.
Очнувшись, будущий ассасин обнаруживал, что уже вознесен в райские кущи, ибо ничего подобного на грешной земле он никогда не видал ни во сне, ни наяву. Надо к тому добавить, что ас-Сабах особенно предпочитал улавливать в свои сети молодых людей, проживавших в местах пустынных и неприглядных.
Не успевал пленник злого волшебства перевести дух и утолить первый приступ голода, какой всегда охватывает после опиумного или некого иного дурмана, как его окружали гурии такой неописуемой красоты и такие чудесные вина подносили они ему в драгоценных сосудах, что несчастный навсегда запоминал, чем отличается настоящий рай от жалкого прозябания на земле. Под чарующее пение птиц и райских дев, под нежные звуки зурн и чангов юношу увлекали в водоворот таких наслаждений, какие не снились даже султанам и падишахам.
Признаться, я даже немного успокоился, заметив, что в моей памяти нет и следа подобных видений, способных удерживать душу в вечной ловушке.
И вот когда перед глазами прилежного ученика ас-Сабаха появлялась самая прекрасная гурия и с улыбкой, которую можно сравнить только с лезвием самой дорогой индийской сабли, протягивала к своему избраннику нежные руки, именно в это самое мгновение тьма поглощала все чувства мнимого ангела и он падал с небес на землю, приходя в себя на безжизненных камнях и под палящим солнцем.
Разумеется, милосердная рука учителя была приложена к его темени и он слышал голос Старца Горы, возвещавшего, что вступивший на путь ученик был удостоен лицезрения конечной цели своего путешествия и он сможет легко достичь ее, если отдаст свою волю в руки мудрого водителя.
Не нужно долго гадать над ответами очарованных юношей. Теперь они были готовы на все.
Так ас-Сабах добывал духовную руду и выковывал из нее самое устрашающее оружие против своих главных врагов — султанов, падишахов, эмиров, визирей, имамов, тех, которые хранили верность Единому Богу, хотя и представляемого мусульманами в еретическом виде.
Старец Горы учил беззаветно преданных ему юношей-фидаинов различным языкам и тому, как менять обличья, как, подобно камбале, становиться одной окраски с подводными камнями и песком, как среди христиан выглядеть праведным христианским монахом-странником, как среди парсов поклоняться огню, как в молитвах и духовном рвении превосходить самых ревностных шиитов и — многому другому, что могло пригодиться на пути не к раю, а к убийству, коварство которого должно потрясти весь мир и нагнать страху на всех, кто хотя бы в мыслях затевает распрю с таинственным и непобедимым Старцем.
«Ты без промедления вернешься в чертоги рая и встретишь прекрасную гурию, которая давно тоскует по тебе, — говорил ас-Сабах юноше, которого предназначал на заклание вместе с одним из своих знатных врагов. — Ты заслужишь это воздание, не доступное никому из простых смертных, как только прервешь жизнь этого нечестивца, порочащую небо и землю».
С этими словами ас-Сабах влагал в руки фидаина особый позолоченный кинжал, который можно было легко скрыть в поясе или где-нибудь на теле.
Невольно я задрал свой рукав и потрогал загадочную реликвию, однако рыцарь Эд де Морей покачал головой, давая понять, что она никак не может быть зловещим даром ас-Сабаха, и продолжал свой рассказ.
Вскоре на дорогах некого царства появлялся или странствующий ученик дервиша, или монах, или же в службах какого-нибудь эмира начинал прилежно трудиться новый помощник конюха, и тот помощник своим завидным усердием добивался в конце концов более высокого звания, приближавшего его к плоти господина. Некоторые из посланцев смерти, которых можно сравнить с кинжалом, брошенным твердой и не знающей промаха рукой, сами становились воинами ближнего телохранения своей жертвы. Многие месяцы и даже годы мог фидаин ожидать подходящего случая, чтобы не только исполнить волю своего повелителя, но и потрясти коварством содеянного все государство. Фидаин незаметно извлекал свое жало, либо когда сильный мира сего принимал гостей в своем дворце, либо когда молился в храме при великом стечении народа, который приходил в неописуемый ужас, становясь свидетелем убийства. Разумеется, и сам убийца в этом случае обычно становился жертвой разъяренных стражей, но смерть-то ведь и была главным предметом его земного вожделения и его прилежных земных трудов.
В самом средоточии безопасности и благополучия теряли свои жизни многие знатные и славные храбрецы, громогласно клеймившие дьявольское учение ассасинов и самого предводителя секты и собиравшие силы, чтобы раз и навсегда покончить в этим рассадником страшной духовной болезни. Позолоченный кинжал настигал их там, где они менее всего ожидали встретиться лицом к лицу со смертью.
Один из персидских правителей, подступивший со своим войском к стенам горной цитадели ас-Сабаха, называвшейся Аламутом, что значит «Гнездо Коршуна», проснулся поутру и в ужасе увидел два ассасинских кинжала, вонзенных в изголовье его ложа. Приколотое кинжалами послание гласило, что в войске правителя есть немало ассасинов, и если им будет дан с высот цитадели условный знак, то славный господин проснется на другой день с десятком кинжалов, торчащих у него между всеми ребрами. Правитель, напугавшись до смерти, повернул свое войско вспять и убрался восвояси.
Даже великий Саладин, направившись со своими славными воинами к крепостям, захваченным ассасинами в ливанских горах, — и тот не устоял перед темной магией зловещих шейхов. В пути по ночам его мучили такие ужасающие сны и подступало такое мучительное недомогание, что даже он, самый доблестный и благородный из всех сарацин, вынужден был смирить свой воинственный пыл и отказаться от войны с осиными гнездами.
Самой знатной жертвой ассасинов среди христиан стал Конрад Монферратский, считавшийся иерусалимским королем в изгнании, поскольку ко времени его мнимого правления Святой Город уже был захвачен войсками Саладина. Однако надо признать, что Конрад был по своему характеру столь жестоким и коварным человеком, что позолоченный кинжал, проливший его кровь, даже многими христианами был сочтен за сугубое воплощение воли Всевышнего.
Хасан ас-Сабах, будучи безбожником и обманывая свою паству, естественно был правителем весьма суеверным и старался упрочить свою силу различными магическими приемами. Захватывая средоточия земного могущества, неприступные цитадели, он лелеял надежду овладеть и самым средоточием вселенной, обладание которым обеспечило бы злодею, возмечтавшему о вселенском господстве, вечную и непреодолимую мощь. Таким средоточием Старец Горы считал вовсе не открытую для любого смертного Голгофу, которую избрал центром мира сам Всемогущий Господь, а храмовую гору Иерусалима, где некогда стоял храм Соломона, отринутый Богом, когда избранные им служители отвернулись от истинного Мессии. С тех пор покинутое Господом и некогда священное место стало вожделенной целью темных духов, которые словно бы возмечтали вновь, как и во времена ханаанской древности, возродить свои кровавые мистерии и обряды, посвященные людоеду Молоху.
Хасан ас-Сабах, никогда не покидавший потаенные комнаты и сады Аламута, скончался за несколько лет до того, как в Иерусалиме был основан Орден Рыцарей Храма, и власть над царством ассасинов перешла к его сыну Кэх Бузург Умиду, который со всех сторон выглядел не столь внушительно, сколь его отец, а потому с еще большим рвением стал замышлять, как бы овладеть скипетром Соломона. Тогда-то и появился перед дверями Ордена лже-монах с приношением в виде золотой головы идола.
Кэх Бузург Умид разослал своих людей по всем невольничьим рынкам Востока покупать крепких мальчиков, особенно если по виду они казались выходцами из благородных семей христианского мира, а если по всему было ясно, что в их жилах течет смесь восточных и западных кровей, то в этом случае не скупиться ни на какие средства вплоть до убийства купца и кражи столь ценного, в глазах повелителя ассасинов, товара.
Этих невольников, жертв сарацинских нашествий и пиратских нападений на суда и побережья Европы, второй шейх ассасинов содержал, как лучших птиц в золотых клетках. Им ни в чем не было отказа, они ели и пили на золоте и серебре, дни и ночи проводили в тех самых садах, куда иные, слепые исполнители воли «невидимого» имама, попадали на несколько мгновений, да и то одурманенные. Многим из них глава ассасинов давал прекрасное образование и превосходную воинскую выучку. Самые опытные ассасинские проповедники-даи вели с мальчиками, а затем с юношами долгие беседы, в которых использовали и убеждения рассудка, и приемы магического внушения. Так Кэх Бузург Умид создал новое преданное ему войско, которое было способно не только на молниеносные исполнения приговоров, но и на кропотливое, не требующее больших средств и передвижения войск завоевание государств, подобное внутреннему действию болезни вроде антонова огня.
Так были воспитаны и обучены эти отборные ассасины, до последней глубины своих сердец убежденные в том, что, исполняя волю невидимого имама, они становятся единственными хранителями высшей справедливости на земле и возводят земное царство правды, в котором все будут равны и счастливы под предводительством мудрейшего из мудрых, очередного Старца Горы. И были они к тому же убеждены, что для претворения праведных помыслов Старца нельзя брезговать никакими средствами, ибо низшую ложь грешных людей можно преодолеть только высшей, полезной для счастья и спокойствия ложью, подобно тому, как только высший из двух творцов может насытить низшего до такой степени, что низший из двух растворится в насыщающей его силе, вновь обращаясь в чистую волю высшего. Такова была их вывернутая наизнанку вера. Такова была их отринувшая Божью благодать философия. И трудно осуждать этих несчастных юношей в проникшем в их сердца богохульстве, ведь с малых лет они были пленниками тех, кого можно назвать воплотившимся духом пустыни.
Не ведающие страха, искусно владеющие любым оружием, и легко, как горсть песка — воду, впитывающие в себя любые обычаи и обряды, они быстро приживались и восходили по ступеням высоких званий и чинов как среди сарацин, так и среди рыцарей-крестоносцев.
Проникнув в Орден Рыцарей Храма, они вскоре стали самыми приближенными братьями Великого Магистра и снискали глубокое уважение даже в круге высших чинов Общества Сионской Общины, древнего союза, в который входят наиболее мудрые советники европейских королей, но о котором нельзя говорить более того, что уже сказано.
Кэх Бузург Умид повелел своим лазутчикам создать в Ордене свой, тайный внутренний круг посвященных, ведающих истину и способных привлечь из числа христианских рыцарей тех, в ком живет беспокойный дух сомнения. Этот круг лже-тамплиеров должен стать как бы мрачным противовесом, темной тенью для райского круга высших ассасинов, основанного в Аламуте. Для завоевания вселенной с помощью колдовских приемов новый «шейх уль-джебаль», то есть шейх горы, задумал создать свой рай и свой ад. На его карте место Соломонова храма должно было стать вратами в ад.
Именно по повелению своего тайного господина лжетамплиеры стали служить в самых сокровенных глубинах капелл черные мессы, производить самые чудовищные надругательства над святым Крестом, а золотая голова, конечно же, не имевшая ничего общего с образом святого Иоанна Крестителя, а прямо отражавшая черты Хасана ас-Сабаха, стала главным идолом ассасинов. Всех уловленных христиан, которые удостаивались кощунственной чести взойти, а вернее, спуститься во внутренний круг, первым делом заставляли поклониться этой голове, а затем поцеловать старшего из посланцев шейха горы прямо в срамное место.
Надо сказать, что всякие сношения с женщинами были запрещены тайным ассасинам под страхом мучительной смерти, поскольку, как думал шейх горы, только женщина способна выведать у мужчины самые сокровенные тайны, какую бы страшную клятву ни давал тот, дабы охранить их от мира. Так расцвел в тайном круге Ордена пышным цветом грех содомии.
Позднее, дабы укрепить возведенные столпы ада, третий шейх горы, из потомков ас-Сабаха, подбросил в Орден через своих людей искусно подделанную древнюю книгу, из которой якобы становилось ясным для всякого здравого ума, что Спаситель был обычным, грешным человеком и, попросту говоря, обманщиком. Случилось это новое, еще более гнусное нападение на первоначальный дух некогда славного Ордена во времена, когда Иерусалимом правил король Фульк Анжуйский.
Но и это не стало пределом нечестивых вожделений главарей ассасинской ереси. Спустя почти полвека, незадолго до падения Иерусалимского королевства франков, среди рыцарей Храма появился не кто иной, как пятый шейх горы, называвший себя Анаэлем. Власть над Аламутом и другими крепостями он передал своему брату, а сам задался целью через внутренний круг достичь высших званий в Ордене. Можно сказать, что среди плевел, разбросанных на пшеничном поле, на этот раз возрос самый опасный злак, ничем не отличавшийся от пшеничного и в каждом из своих многочисленных зерен содержавший смертельный яд разврата. Анаэлю удалось, хотя и не на долгий срок, стать Великим Магистром Ордена Храма, но его деяния могли стать настолько тлетворными для всего христианского мира, что терпение Всевышнего, по-видимому, иссякло, и лже-магистр исчез в горах под обвалом.
Разумеется, далеко не все рыцари-франки поддавались искушению войти в число посвященных внутреннего круга, якобы ведающих последние тайны мироздания, и далеко не все рыцари оставались безропотными овцами, которых подгоняли ударами палок воры, забравшиеся в овчарню. Многие противились кощунствам и восставали, но становились всего лишь гласом вопиющего в пустыне. В Париже и Риме верили не их словам, а доносам на этих рыцарей, всегда упреждавшим откровения последних. Сами рыцари вскорости пропадали бесследно, а их имена упоминались затем в мессах среди имен тех, кто сложил свои головы в сражениях с ассасинами. Подкупом и угрозами посвященные внутреннего круга, среди которых были и комтуры, и маршалы, и сенешали, сдерживали дух тех, кто упирался, невольно попав на порог преисподней.
И все же противление никогда не затухало, несмотря на то, что его пламя заливал неиссякаемый золотой ручей, исток которого нужно было искать в далеких персидских горах.
Однажды — это случилось также незадолго до падения франкского королевства в Палестине — некому тамплиеру из верных было указано во сне, что из глубин Востока, из самого средоточия ереси явится посланник, который принесет священное оружие, именуемое Ударом Истины. На деревянных ножнах оружия будет вырезан изначальный знак Ордена: восьмиконечный крест, от которого новые предводители Ордена уже отказались, заменив его тавром, что мог обозначать как дорожный посох древних патриархов, так и простую букву «Т», замыкавшую Орден в цитадели собственной греховной гордыни. Как и всякий знак в учении ассасинов, тавр на плащах мог истолковываться с любой стороны.
Предание, с которым впоследствии безуспешно боролись облюбовавшие Орден ассасины, гласит, что тому тамплиеру, удостоенному сонного видения, было также открыто время, когда среди самих братьев Ордена тайно появится Великий Мститель и этот Великий Мститель будет в силах изгнать злого духа, вселившегося в чистый дом веры.
Одним из доблестных людей, бережно скрывших это предание в своем сердце, стал граф Робер де Ту. Он не был тамплиером, когда, приняв Крест, отправился в третий поход христианского воинства во Святую Землю. Увы, этот поход из-за распрей его предводителей кончился неудачей. В битве при Арсуфе, защищая славного английского короля Ричарда Первого, носившего прозвище Львиное Сердце, и получив ранение в руку, граф был пленен сарацинами и отвезен в Иерусалим, где немало времени провел в темнице аль-Баррак. В ее стенах содержали всех знатных христиан, за которых Саладин надеялся получить выкуп. Не имея особого богатства и знатных родственников, граф вполне мог рассчитывать на пожизненное заточение, однако Саладин почитал храбрых врагов и разрешил графу свободно жить в Иерусалиме. Он даже повелел графу обучать арабских писцов франкской грамоте и тем самым честно зарабатывать на лепешки.
Однажды на рынке графу повстречался человек, громко заговоривший с ним на франкском языке о достоинствах форели, копченой на коричных углях, а затем шепнувший графу на ухо, что является тамплиером и послан в Иерусалим с тайной миссией. О существе своей миссии он ничего не рассказал графу, однако, уже выйдя на улицу, поведал ему, что между делом занимается сбором сведений о благородных пленниках.
В самых цветистых выражениях незнакомец хвалил доблесть графа, о которой был наслышан, а затем прямо заявил графу, что имеет право выкупить его из плена за любые деньги на том условии, что граф вступит в Орден Храма.
«Именно таких храбрых и честных людей, как вы, граф, только и не хватает в Ордене», — признался незнакомец.
Робер де Ту видел, какую замечательную храбрость выказали тамплиеры в битве при Арсуфе, сражавшиеся, как сыновья одного отца, и потому почти не колеблясь принял условия нового благодетеля.
Оказавшись на свободе, в родной Франции, куда после падения Иерусалима, переместился Великий Капитул Ордена, граф Робер де Ту, верный своему обещанию, прошел по всем ступеням посвящений, многое узнал и многое затаил в своем сердце.
В году одна тысяча двести четвертом он стал одним из первых, кто ворвался в осажденный крестоносным войском Константинополь. Там, в столице христианских схизматиков, с ним случилось нечто, на первый взгляд удивительное. Он освободил из греческого плена прекрасную сельджукскую принцессу, всем сердцем полюбил ее, и вскоре она зачала от него сына.
Узнав о таком грехе, Верховный Капитул наложил на графа строгую епитимью, на которую тот ответил прямой дерзостью и, не раскрывая публично никаких темных тайн Ордена, отправил в Капитул вполне безумное послание, в коем объявлял об учреждении своего собственного Ордена Храма, во главе которого станет он сам, женатый тамплиер. Верховный Капитул не нашел в этом послании ничего, кроме горячечного бреда победителя, который, сокрушив самый великий из всех земных городов, возомнил о себе невесть что и именно по этой причине не представляет никакой опасности. Особого удивления у адептов внутреннего круга не вызвало даже то, что храброго графа поддержали еще три десятка отступников из числа отборного орденского воинства.
Граф Робер не раскрывал тайн внутреннего круга, и этого было вполне достаточно, чтобы Цербер продолжал спокойно дремать. К тому же сам граф и некоторые из его соратников нарушили обеты орденской нищеты и целомудрия, и даже если бы вдруг покусились на главный обет, молчание, то уже ничего не стоило обвинить их в корыстной клевете. Граф намеренно притворялся взбалмошным юнцом, опьяненным победой и богатой добычей, пил и ел за троих и задирал всех рыцарей нефранков, которые встречались ему на улицах.
Все же Орден приложил кое-какие усилия к тому, чтобы остановить ренегатов, но стычка у городских ворот, называемых в Константинополе Золотыми, завершилась не в пользу Верховного Капитула. Донесение комтура о подвигах и безобразиях графа, отправленное из столицы греков, умолчало о действительных силах, которые помогли отступникам пробиться через плотные цепи войск, выставленные новым императором. Комтур сослался на сочувствие воинов Креста к мятежному графу, что отчасти совпадало с истиной. Однако франкский император Константинополя намеренно выставил против тамплиеров подчиненные ему отряды немецких и итальянских рыцарей, которых нельзя было упрекнуть в любви к своим франкским «братьям по Кресту». Комтур, которому был отдан приказ Капитула арестовать графа и его сообщников, не нашел в себе силы признаться, что в решающее мгновение откуда не возьмись, подобно налетевшему рою пчел, на крышах и в проулках появились простолюдины числом не менее полусотни, оказавшиеся весьма искусными пращниками и метателями тяжелых цепей, легко сбрасывавших с коней латных всадников.
Будь эта подробность боя известна верховным лжетамплиерам внутреннего круга, дорога графа Робера несомненно была бы обременена новыми, куда более опасными ловушками. Однако повергнутые наземь и опозоренные рыцари сумели скрыть причину своей неудачи даже от императора, твердя в один голос, что подверглись внезапному нападению каких-то франкских воинов, которых поначалу приняли за своих союзников.
Если Верховный Капитул в конце концов и почувствовал неладное, то было уже поздно: тот, кому искренне доверился граф Робер де Ту в поверженной столице греков, уже посадил его войско на галеру, и она успела отойти от берега не менее, чем на полет стрелы.
Но даже самая правдивая история об отступничестве и бегстве графа Робера де Ту и о его таинственных помощниках умалчивает об одной вовсе не заметной, но очень существенной подробности: о том, как доблестный и весьма осторожный граф доверился на улице Константинополя, можно сказать, первому встречному да еще прямо объявившему о том, что он, неверный из Рума, предлагает рыцарю-христианину, обнажившему свой меч против сарацин, добрую службу при дворе конийских султанов.
Так оно и было на самом деле, и то, что поведал пришелец из Рума графу Роберу, стало главной тайной всех тамплиеров, чающих возрождения Ордена.
В один из вечеров, когда охмелевшими завоевателями был разграблен и подожжен храм Иоанна Крестителя, что принадлежал схизматикам, граф вместе со своим оруженосцем бросился к его дверям в полной решимости погасить огонь, охвативший место, которое должно почитаться священным среди всех, поклоняющихся Сыну Божьему и его последнему пророку. За ними следом в огонь кинулся третий человек, по виду чужеземец. Объединив усилия еще с несколькими подоспевшими на помощь горожанами, они сумели сбить огонь с деревянных перегородок и балок. При этом чужеземец спас графу жизнь, оттолкнув его в сторону, когда, потеряв опору, повалилась одна из позолоченных колонн, выточенная из тяжелого ливанского кедра.
При свете адского огня граф и чужеземец пожали друг другу руки, а затем, когда дым, наполнивший приделы храма, выгнал всех вон, чужеземец задержал графа и сказал, что имеет сказать графу нечто крайней важности, и сделать это необходимо до того, как они выйдут на всеобщее обозрение.
Так граф Робер де Ту, мужественно терпя едкий дым вместе со своим необычным собеседником, узнал, что его помощник и, может быть, спаситель является посвященным одного из суфийских орденов и что суфии трех братств уже давно объединились с сельджукскими правителями Рума в праведной борьбе против колдовской ереси ассасинов, опасной для истинных почитателей Аллаха и его пророка Мухаммада куда больше, нежели для правителей и воинов христианского мира.
Дервиш открыл графу, что именно тайные суфии, а не тамплиеры выкупили его из сарацинского плена и направили в Орден, ибо получили свыше свидетельство, что именно графу суждено стать одним из самых важных звеньев в неразрывной цепи предания о Великом Мстителе, который сокрушит власть ассасинов и не позволит их предводителям укрепиться в недоступной мусульманам Европе тогда, когда пробьет последний час их власти в горах Персии и Ливана.
Тот дервиш выказал поразительную осведомленность не только во всех подробностях пророчества о Великом Мстителе, но и во всех тайных чаяниях самого графа Робера, что, конечно, глубоко ошеломило его. Переведя дух, граф честно признался дервишу, что просто вынужден доверять ему, ибо, если тот подослан темными силами, то самому графу теперь остается чувствовать себя обреченным невольником, у которого даже мысли находятся в полной власти неких всемогущих господ. Он только попросил у дервиша один час на размышление и молитву, дабы самому испросить свыше окончательное решение.
Пришелец учтиво поклонился графу и попросил его в случае верного решения выйти из дома, где тот находился на постое, положив левую руку на правое плечо, и тогда суфий подойдет к нему при удобных обстоятельствах.
Ровно час пребывал граф Робер в самых трудных за всю свою жизнь размышлениях и самых искренних молитвах, в которых просил Господа открыть Свою волю и уберечь его от рокового шага. Рассудок же просто подсказывал, что нужно согласиться, ведь враг не бросился бы за ним в огонь, ставя под угрозу свою собственную жизнь, да и к тому же, будь ассасины столь могущественны, что им открыты все самые сокровенные мысли людей, его важная для пророчества о Великом Мстителе жизнь должна была прерваться еще в иерусалимской темнице Аль-Баррак.
Не получив никакого определенного ответа с небес, граф Робер поднялся с колен и направился к дверям, в последний раз вопрошая Всемогущего Бога о милосердии и совете. Стоило ему ступить за порог, как он невольно заметил, что плащ собрался складкой на правом плече, и он так же невольно, привычным жестом, поправил его левой рукой. Такой жест не мог остаться незамеченным и для скрывавшегося где-то поблизости дервиша. В тот же миг графа Робера де Ту осенило, и он сказал себе: «Вот он, вещий знак!»
Все, происшедшее в последующие часы, дни и месяцы уже известно.
Братства дервишей помогли рыцарям переправиться сначала в Никею, а затем, в полном согласии с новыми предсказаниями и расположением светил на небосводе, — обосноваться в Руме.
В это время султаны Рума, также следуя советам суфиев, начали возводить неприступную цитадель в горах Тавра. Строительство велось в строжайшей тайне, но вдвойне строжайшей тайной был замысел шейхов трех братств, объединившихся против ассасинов, когда они повелели дервишам донести до ушей Аламута весть о новой крепости, которой суждено было превратиться в запретный, а потому тем более вожделенный плод для еретиков.
Действительно, эта крепость должна была послужить двум противоположным целям: с одной стороны, стать угрозой, а, с другой, — приманкой. Ее первое назначение было таково: стать пограничной опорой в сношениях с царством Малой Армении и защитой Киликийского перевала, через который проходил важный торговый путь, а также — дорога паломников, стремившихся достичь родины апостола Павла, города Тарса прежде, чем выйти на холмы Палестины. Тайным же назначением твердыни было превратиться в ловушку для ассасинских шейхов.
Дело в том, что сразу после смерти ас-Сабаха, в стане ассасинов начались раздоры. Отрава гнусного учения вполне способствовала таким распрям: сразу несколько неуемных властолюбцев объявили себя истинными посланниками невидимого имама, а кое-кто не постеснялся и признать таковым самого себя.
Часть отколовшихся ассасинов ушла из Персии в горы Сирии, почитая себя за истинных продолжателей дела Старца Горы. Наиболее знаменитым из шейхов-ренегатов стал некий Рашид ад-дин Суман, который, незадолго до падения Иерусалимского королевства франков, вел переговоры с Верховным Капитулом Ордена Храма, предлагая свою помощь в войне с Саладином в обмен на владение остатками Соломоновой святыни.
Между тем, с далекого Востока, из дебрей и пустынь Китая стала надвигаться варварская буря, великое нашествие монгольских орд. Кроме всякого вреда, от нашествия варваров всегда есть одна существенная польза: неся разрушения, оно одновременно становится очистительным ураганом, сметающим власть сытых корыстолюбцев и богопротивных магов, которые под видом истинных, ниспосланных свыше учений порабощают умы и сердца народа. Суфии не ошиблись, когда стали предрекать падение Аламута. Как только монголы овладели Персией, оказалось, что все чары ассасинов бессильны против них: умы варваров не могли подняться до самых простых рассуждений о справедливости и таинственных значениях десяти пальцев на руках, и никто из ассасин не был способен принять внешнего облика косматого гунна.
Суфии предугадали, что чаяния обеих противоборствующих между собой голов дракона обратятся к неприступной крепости, возведенной на границе Рума. И они предложили тамплиерам графа Робера де Ту принять крепость под свою защиту, прямо открыв перед ними двоякую задачу обороны. Цитадель, стоящая на мусульманских землях и при этом занятая франками-тамплиерами, должна была представляться ассасинам некой магической звездой, зажженной на неподвижной оси небосвода.
Горной цитадели было дано название Рас Альхаг, такое же, что носит самая яркая звезда в созвездии Змееносца, созвездии, которое считается священным для «внутреннего круга».
Суфии считали, что именно под этим созвездием в скором будущем должен родиться посланник, который придет с Востока, держа в руке Удар Истины.
С того дня, когда тамплиеры обосновались в крепости Рас Альхаг, их жизнь окутал туман тайны. О том, что происходило в Рас Альхаге в последующие годы, вплоть до переноса капеллы из крепости в столицу Рума — а это произошло в году одна тысяча двести девяносто первом от Рождества Христова, — известно совсем немного.
Граф Робер де Ту дожил до глубокой старости. Незадолго до своей кончины он встретился со своим сыном и благословил его войти в союз с монголами ильхана Хулагу, который уже вел свои войска в горы Персии против ассасин. Известно также, что рыцарский гарнизон Рас Альхага не иссякал на протяжении десятилетий, хотя и оставался немногочисленным: суфии разыскивали среди христиан Кипра, Греции и даже Сицилии таких молодых людей, чьи головы были способны мыслить, а сердца проникались великой и благородной целью. Известно еще, что после смерти графа Робера в новом поколении стражей случались разногласия и извращения первоначальных замыслов, ведь рыцари оставались грешными людьми, а не превращались в ангелов. Таинственные и неосязаемые цели порой сами оборачивались источниками различных искусов и душевных недугов. Покровители Рас Альхага, суфии, поныне хранят молчание о том, какие это были искусы и недуги. Известно только то, что и ассасины не дремали, и по этой причине сама цитадель, увы, становилась порой неприметным для остального мира полем сражения между силами Добра и Зла.
Многие тамплиеры из Рас Альхага, ушедшие на Восток под предводительством сына Робера де Ту, пролили кровь при взятии Аламута, Меймундиза и других твердынь ассасинов в Персии.
К тому времени христианский пыл в сердцах франков охладел настолько, что едва ли не большинство самонадеянных молодых людей вспоминали о подвигах своих предков во Святой Земле не иначе как с улыбками сытых купчишек. Орден Храма, сдав последние твердыни в Палестине и переместившись в спокойную Европу, тоже растерял боевой дух. Многие маршалы, коннетабли и сенешали занялись подсчетом денег и накоплением векселей. В Орден стали стремится люди, жадные не до подвигов, а до презренного металла. Чем более расширялся круг людей, способных при тайных посвящениях топтать Распятие и поклоняться любому идолу, тем все уже становился круг людей, способных распознать ядовитые плевелы, занесенные в самое сердце Европы.
Даже среди неглупых и добросердечных молодых людей все меньше и меньше можно было найти таких, которые были способны проявить хотя бы живое любопытство, когда им рассказывали о кощунствах, царивших за глухими стенами рыцарских замков. Теперь богатых и сумрачных тамплиеров можно было встретить на любом перекрестке. Они попросту мозолили всем глаза, и только простаков можно было теперь напугать злыми демонами, точащими свои кинжалы в далеких китайских горах.
Впрочем, последние шейхи сирийских и персидских ассасинов тоже превратились в карликов по сравнению с титанами, основавшими ересь и копившими силы, чтобы ниспровергнуть небеса.
Маленький сын Хуршаха, последнего повелителя Аламута, сдавшегося монголам, был отдан в гарем и обучен на вышивальщика. Из него вырос юноша, похожий на девушку, с прекрасными чертами лица и трепетным сердцем. Привезенный в столицу Рума, он стал любимым другом владыки всех прочих румских сердец, мудреца и мастера калама Джелаладдина Руми. Потом прекрасного вышивальщика и наследного повелителя всех ассасинских кинжалов выкрали оставшиеся фидаины и, когда он отказался от власти, убили и бросили в колодец.
Но если румские султаны были готовы теперь отмахнуться от прошлых тревог, то мудрые суфии хорошо знали, что чума, собравшая свою страшную жатву и ушедшая в чужую страну, имеет обыкновение в скором времени возвращаться обратно, чтобы подобрать потерянные по дороге колосья.
Когда времена изменились, капелла, основанная графом Робером де Ту, была переведена в саму Конью. Все было устроено так, что и по сию пору члены Верховного Капитула уверены, будто доблестные тамплиеры Рума — единственные рыцари, несущие тяжелую службу в окружении неверных, — заняты лишь насущными заботами о смиренных паломниках. Верховный Капитул закрывает глаза на то, что Конийская капелла является прямой наследницей мятежного духа Робера де Ту. Ведь в конце-концов мы тешим самолюбие нынешних предводителей Ордена: как-никак в самой Азии, на землях неверных, имеется сила, противостоящая эгейской империи иоаннитов.
Такова первая правда о тамплиерах Рума. Такова вторая правда, скрытая под железной крышкой первой правды. Такова, наконец, третья правда, хранимая в хрустальном сосуде второй.
Ровный огонь свечи внимал вместе со мной тихому рассказу Эда де Морея и затрепетал, когда рыцарь Эд заключил последнюю правду об Ордене тамплиеров в хрустальный сосуд. Я догадался, что огонь был потревожен моим глубоким вздохом.
— Мне дышится уже намного легче, брат Эд, — признался я. — Прояснилось многое. Но не все.
Рыцарь Эд тоже бросил короткий взгляд на свечу, восковой столбик которой сделался ниже еще на одну нарезку.
— Кто же знает все? — безнадежно вздохнул он.
— То-то и любопытно, что кто-то может знать, судя по всей этой кажущейся неразберихе, — заметил я. Рыцарь Эд тревожно промолчал в ответ.
— Из вашего рассказа, брат Эд, следует, что местные ассасины давно выродились, и теперь опасны те, что засели в замках Франции. Не так ли?
Рыцарь Эд пошевелил бровями и неуверенно кивнул:
— Отчасти так.
— Однако, — в свою очередь вздохнул я, — весь опыт моей нынешней, довольно краткой жизни убеждает меня в обратном: весь Рум так и кишит ассасинами, да еще какими! Будто бы сам шайтан рассыпался на целое воинство хитрых колдунов, умелых душителей и искусных метателей железных звезд. Что скажете, брат Эд?
— Что я скажу? — Тут рыцарь Эд оживился и расправил плечи. — Я скажу, что Посланник пришел. Я скажу, что это верная примета: чума вот-вот вспыхнет с новой силой. Я скажу, что змеи долго спали. Теперь их пригрело адским огнем, и клубок зашевелился вновь. Я скажу, что истинным рыцарям Храма тоже пора сбросить дрему и точить мечи.
— Не могу поверить, что недавно на дворцовую площадь Коньи выезжала дремлющая армия тамплиеров, — заметил я.
— Нужны поводы для учений, — улыбнулся рыцарь Эд.
— Нужны, — согласился я. — Вот мне и любопытно, какими судьбами вас самих-то, брат Эд, занесло из Франции в эти забытые Богом места?
— Эти места отнюдь не забыты Богом, — со всей серьезностью поправил меня брат Эд.
— Верно, — поддержал я его. — Сравнение неуместно.
— История довольно долгая, — с некой душевной тяжестью или же усталостью медленно проговорил рыцарь Эд. — Во многом я обязан необыкновенной судьбе своего отца. Боюсь, так нам не хватит одной свечи, а воск здесь стоит недешево. Зажигать же сальную не годится для встречи с вами, мессир.
Наши кувшины были давно опорожнены, но вино было разбавлено водой по-гречески, и в голове стоял только легкий и приятный шум, подобный голосу реки, не заглушавшему важных мыслей.
— Вы правы, брат Эд, — сказал я, не оставляя намерения подобраться к кое-каким загадкам с другой стороны. — Еще одну, третью, необыкновенную историю нам в одну ночь не втиснуть, как трех баранов в один, пусть даже большой мешок. Увы, пока что я бессилен похвалиться своими предками. К великому своему стыду и страху, ничего не могу сказать даже о своем отце. А как граф Робер де Ту назвал своего сына от сельджукской принцессы?
— Гюго, — был ответ.
— В честь основателя Ордена Рыцарей Храма? — спросил я, почувствовав в душе некое внезапное воодушевление.
— По всей вероятности, так, — кивнул рыцарь Эд.
— Вот самое великое оправдание и объяснение всех поступков графа! — едва не в полный голос воскликнул я.
— Да, мессир! — поддержал меня рыцарь Эд, и глаза его засветились едва ли не ярче озарявшей нас свечи. — Это имя тоже некогда помогло мне сделать правильный выбор.
— А как окончил свои дни Гуго де Ту? — открыл я дверь для следующего вопроса.
— При осаде Аламута в него попали со стены отравленной стрелой, — ответил рыцарь Эд. — У него было очень крепкое здоровье, и он боролся с ядом целый месяц. До того самого дня, когда шейх ассасинов сдался монголам и открыл ворота крепости.
Свеча на несколько мгновений грустно склонила свое пламя, узнав о мучительной кончине славного рыцаря.
— Итак, насколько я вижу, славу победы над ассасинами монголы разделили с тамплиерами из Рас Альхага, — продолжил я свои рассуждения, — хотя те, наверно, составляли малую крупицу всей осаждавшей армии.
— Зато драгоценную крупицу, — вставил рыцарь Эд.
— Несомненно, — подтвердил я. — Последний прямой потомок ас-Сабаха сдался не только ильхану, но, можно сказать, и Гуго де Ту. Теперь вернемся к Рас Альхагу. Можно ли считать, что в качестве приманки крепость так и не потребовалась? Что в ней творится ныне?
— Времена изменились, — напомнил мне рыцарь Эд. — Ныне там логово разбойников, или, как слышно из рассказов простолюдинов, логово демонов.
— Или логово ассасинов, — повернул я на свое. — Так же как и Дворец Чудесного Миража.
— Да, теперь там могут хозяйничать ассасины, — признал рыцарь Эд.
— И тот самый колодец, из глубин которого я начал свое путешествие во сне или наяву, должен находиться не иначе как в Рас Альхаге, — заключил я.
— Мне пришла такая же мысль, — сказал рыцарь Эд, — однако я не имею права касаться вслух каких-либо тайн. — Он осекся и спустя мгновение добавил. — Без вашего на то соизволения, мессир.
— Кто мог быть тем человеком, который обратился ко мне в колодце так же, как вы, брат Эд, а затем пожертвовал собой ради моего спасения? — коснулся я вслух такой тайны, которая могла оказаться слишком тяжелой и для всех обетов рыцаря Эда. — Он мог быть франком и мог быть тамплиером. Не так ли?
— Не стану похваляться, мессир, — глядя мне прямо в глаза, сказал рыцарь Эд, — но более десятка лет мне были неведомы сомнение и растерянность. Теперь я вспомнил значения этих слов. Мессир, я могу сказать только одно: все братья румской капеллы на месте. Потерь за последний год не было. Если в Рас Альхаге объявился некий тамплиер, то он не из моего стада.
— Вот он, камень преткновения, — сказал я рыцарю Эду и самому себе и при этом перевернул один из кувшинов и постучал по его донышку кулаком.
— Есть ассасины.
Ассасинов я изобразил своей кружкой, подвинув ее к перевернутому кувшину.
— Есть тамплиеры.
Для их обозначения я воспользовался кружкой собеседника.
— Есть дервиши.
Упомянув о суфиях, я взял за горло оставшийся кувшин.
— О тех, других и третьих мы знаем уже немало. А это кто?
И я снова постучал по донышку перевернутого сосуда, скрывавшего теперь таинственную, отдающую глухим звуком, пустоту.
— Каким-то образом я попал в руки ассасинов. Кто-то помог мне избавиться от них наяву или во сне. Предчувствие подсказывает мне, что некто стоит за плечами суфиев и знает о всех трех больше, нежели трое знают о нем. Если я встречу того дервиша, я задам ему один вопрос: знают ли всемогущие и всеведущие суфии, откуда берется посланник с Ударом Истины. Если он мне скажет, что посланника приносят ангелы или аисты или его находят на гороховом поле, то я смогу быть уверен, что память мне когда-нибудь вернут вместе с приростом от ее оборота в деле.
— Мне известны многие дервиши, но тот, кого вы, мессир, встретили по дороге в Конью, мне определенно не известен, — только и добавил рыцарь Эд к моему назойливому дознанию.
За время нашего долгого разговора свеча истаяла почти до основания, и когда я взглянул на маленькое окошко кельи, то заметил, что осенняя чернота в нем уже слегка вылиняла, напоминая о близком рассвете.
— Брат Эд, — обратился я к комтуру, решив, что малый остаток ночи все же следует использовать по ее прямому назначению. — Прервем наши недоумения короткой молитвой и коротким сном. Полагаю, сегодня мы оба честно его заслужили.
— Да, мессир, — встрепенулся рыцарь Эд, тяжело приподняв голову. — Келья для вас приготовлена.
— Простите, брат Эд, — проговорил я, поднимаясь на ноги и напрягая затекшие мышцы, — я намерен заснуть на этот раз по своей воле, узнав еще одну немаловажную подробность.
Рыцарь Эд посмотрел на меня снизу вверх, и в его глазах я прочел безмерную усталость.
— Почему братья-тамплиеры Рума долгие годы учились ничему не удивляться и ни на что не надеяться? — нарочито улыбнувшись, спросил я.
В это мгновение за дверью послышалась торопливая дробь шагов, и в нашу беседу вторгся короткий, условный стук — два и один, — подтвердивший, что спешили именно к келье рыцаря Эда.
В один миг усталость соскочила с плеч Эда де Морея и он бодро встрепенувшись вперился глазами в дверь.
— Святая Земля! — громко произнес он.
Дверь приоткрылась, и на пороге возник еще один, не известный мне молодой человек. Он старался удержать спокойный и смиренный вид, но его вздохи выдавали сильное волнение, и два миража одной свечи загорелись в его больших глазах так ярко, что, казалось, в самой келье стало втрое светлее.
— Говори, Жак! — повелел комтур. — Что случилось?
— Мессир! — дрожащим голосом ответил Жак и дальше заговорил, коверкая слова, отчего, приглядевшись к нему, я догадался, что он родом из здешних мест. — Мессир! На дереве не было. Я отвернулся. Какие-то крикнули. Далеко. Раз! Оттуда! Из другого места. Стрела. В дереве. Глубоко-глубоко. Белая. Белая стрела, мессир.
Рыцарь Эд поднялся, и, не стой здесь слуга Жак, верно, вскочил бы, как ужаленный.
— Жак! От моего имени призови господина приора, — повелел комтур таким голосом, которым отдают приказы в засаде. — Бери эту свечу. Смотри, чтобы господин приор не оступился на своем любимом месте.
На каждом слове Жак успевал кланяться и, насыпав два десятка поклонов, какие вовсе не приняты у христиан, выскочил вон с оплывшей свечой в горстях.
— Поторопимся, мессир! — со сдержанной тревогой, сказал рыцарь Эд и, уже когда мы сбегали по лестнице в тот внутренний дворик, что находился позади капеллы, добавил: — Боюсь, что остатка ночи нам не хватит даже для короткой молитвы.
Затянувшееся высокой пеленой облаков рассветное небо уже мало отличалось по цвету от серых плит под ногами. Глаз уже мог легко различить на них даже самые тонкие трещины, а белое оперение стрелы, пронзившей черную кору древнего кипариса, пылало перед нами, как пламя самой дорогой свечи из воска горных пчел.
Рыцарь Эд подошел к дважды раненому кипарису решительным шагом и отломил древко стрелы у самого наконечника. Тонкой жилой, пропущенной через отверстие в древке, вроде нитки через игольное ушко, к стреле был привязан свернутый трубочкой листок пергамента.
Сломав древко еще раз, прямо по отверстию, рыцарь Эд освободил таинственное послание. Света как раз хватало на то, чтобы разобрать строки важных вестей, столь важных, что лицо и осанка доблестного комтура изменились трижды, пока он читал и перечитывал франкские, как я приметил, буквы, начертанные неведомой рукой.
— Мессир! — произнес он глухим, словно бы простуженным голосом, и в его мутно покрасневших от тревог и бессонной ночи глазах я прочел великую важность нового, нежданного послания.
— Мессир! — повторил рыцарь Эд. — Наше будущее столь же теперь ясно, сколь и страшно. Со дня на день король Франции Филипп Четвертый арестует всех тамплиеров на доступных ему землях. Будут заключены в тюрьму сам Великий Магистр Жак де Молэ и весь Верховный Капитул. Все имущество Ордена будет конфисковано в пользу короны.
Мало вестей из поднебесного мира могли теперь удивить меня, но эта весть оказалась из той самой заветной дюжины.
— Брат Эд! — едва переведя дух, прошептал я. — Так чья здесь воля? Что хорошо, а что плохо?
— Мессир! — борясь с растерянностью, проговорил комтур тамплиеров Рума. — У вас больше простора в голове. Рассудите сами и скажите мне.
— Что я могу сказать? — бессильно развел я руками.
Бросив под дерево остаток стрелы с белым оперением, комтур снова обратил взор на пергамент и убедился еще раз, что столь сокрушительное известие не было всего-навсего порождением его собственного мозга, утомленного бессонницей.
— Мессир, ведь это не очищение Ордена, а его полное уничтожение, — пояснил комтур, справившись с приступом растерянности. — Мессир, мы насчитали множество тайных и могущественных сил, но самой сокрушительной оказалась обычная человеческая зависть. Король издержал казну и теперь нашел способ обогатиться, не отправляясь завоевывать обильную золотом Индию.
— Что вам еще известно о короле Франции? — спросил я, ибо хорошо постиг за последнее время только одно ремесло: как задавать вопросы.
— Ничего хорошего, — покачал головой рыцарь Эд. — Он злой и корыстный человек. Говорят, что весьма пригож лицом и не брезгует мужеложством. Хитрый мот и враг веры Христовой. Все его деяния были направлены на то, чтобы сокрушить твердыню христианства в Риме. Ему удалось отравить Папу и посадить на Святой престол бордосского архиепископа, человека робкого и безвольного.
— Может быть, ассасины добрались и до королевского престола? — предположил я.
— Что вы хотите сказать, мессир? — изумился новому обороту рыцарь Эд.
— Вдруг король Филипп и есть самый настоящий ассасин, — без особого сомнения на сердце раскрыл я свою мысль до конца.
— Ассасин?! — содрогнулся доблестный рыцарь.
Молча оглядел он окружавшие нас стены, поднял глаза на вершину кипариса и, успокоившись, проговорил:
— Такое даже представить себе невозможно.
— Пусть не ассасин, а «варвар-завоеватель», — так я, свободный от всяких вассальных законов, легко перебросил скипетр и тиару из одной руки в другую. — Может быть, очистительный ураган, подобный монгольскому нашествию, все же станет полезен Ордену?
— Мессир, — пожав плечами, обратился ко мне рыцарь Эд, — вообразите себе, что город некого королевства захвачен жестоким врагом, и его жители возлагают все свои надежды на скорый приход армии короля. Вот король приходит, осаждает его стены и вместе с чужеземным врагом уничтожает всех чаявших спасения горожан.
— Ужасная картина, — признал я.
— Здесь происходит нечто подобное, — продолжал рыцарь Эд. — Честных тамплиеров немало. Можно ли быть уверенным, что все они знают о тайне Румской капеллы. Наверно, королю доносили из разных источников о кощунствах, происходящих в некоторых замках Ордена. Ясно только, что король Филипп опасается не кощунств, а военной мощи Ордена и его богатства. Это означает одно: всё арестованные, праведные и грешные, будут осуждены на смерть. А ведь нам известно, что последние годы сам Великий Магистр Жак де Молэ уже начинал колебаться, ступая то на белые, то на черные клетки шахматного поля.
«Вот произойдет фокус, если король Филипп и окажется тем самым Великим Мстителем, которому я должен послужить всей своей судьбою», — подумал я, но эту мрачную мысль решил не высказывать вслух.
Позади нас послышался довольно робкий шум, и мы увидели приора, торопившегося к священному дереву и к не менее священному известию, от которого у бедного служителя, судя по его виду, мог бы случиться удар прямо у подножия кипариса.
— Брат приор, — не нагоняя страху, обратился к нему спокойным голосом Эд де Морей. — Получена весть столь немаловажная, что капитул придется собирать вновь. Потрудитесь во Имя Господа еще раз, брат приор.
Приор посмотрел на кипарис, а затем — на его подножие, где лежали остатки стрелы. Свернутый пергамент, торчавший из руки комтура, тоже не успел укрыться от его острых, испуганных глаз.
— Святой Крест! — воззвал приор, осенив себя знамением, и поспешил в обратную сторону.
— Может быть, новый мой вопрос покажется вам кощунственным, брат Эд, — предварил я свое сомнение. — Однако можно ли полностью доверяться сведениям, полученным столь необыкновенным образом?
Рыцарь Эд вовсе не принял мои слова за кощунство.
— Во-первых, мессир, ни одно из сведений, которые получены нами от людей, направляемых дервишами во все страны, ни разу не оказалось ложным, — уверил он меня по дороге к дверям. — Во-вторых, в нашем положении правильней доверять самым необычайным посланиям и посланникам, нежели простому гонцу. Он может заслуживать не большего доверия. Так или иначе, мессир, нам, тамплиерам Рума, нет причин для колебаний. Здесь мы ожидали вас, мессир, и в послании ясно указано, что нам делать дальше.
— И что же? — спросил я.
— Вы должны достичь Франции, мессир, — наконец открыл мне мое будущее рыцарь Эд де Морей. — Корабль под названием «Морфей» придет за вами в Трапезунд. И, следовательно, мы, тамплиеры Рума, обязаны обезопасить вашу дорогу до этой столицы империи греков.
«Кому же суждено стать Великим Мстителем? — все пытал я себя явно не разрешимой до некого урочного часа загадкой. — Великому Магистру или королю Франции. Кто должен нанести Удар Истины? И в чем она, эта истина? И не будет ли вернее совсем отказаться от этого пути, а попросту сбежать на свободу? Но смогу ли я отличить свободу от постыдного предательства?»
Пол капеллы, выложенный черными и белыми плитами, подобно шахматному полю, показался мне вещим предостережением. Я старался ступать по одним лишь белым плитам, и моя походка, конечно же, казалась со стороны противоестественной.
Румский капитул Ордена, в который входило полностью все рыцарское войско, выслушал новое чрезвычайное сообщение своего главы с тою же бесстрастностью древних изваяний, с какою встретил посланника Удара Истины, чье появление чаялось на протяжении целого века или даже больше того.
Пока двор капеллы сдержанно — дабы не перебудить всех жителей Коньи — громыхал и позвякивал приготовлениями к долгому походу, комтур улучил немного свободного времени среди распоряжений и приказов и подошел ко мне. Его память оказалась лучше моей, ибо он напомнил мне мой старый вопрос, уже затерянный среди вороха новых мыслей.
— Вот для какой цели, мессир, братья-тамплиеры закаливали свои души, дабы ничему не удивляться и ни на что не надеяться, — сказал он. — Если бы они сохранили юношеский пыл, сколько бы сомнений могло возникнуть в эту ночь! Кто бы уберег нас от разлада? Мы надеемся только на то, что Господь помилует нас, если мы без всякого колебания совести и рассудка совершим роковую ошибку.
— Значит и вы, комтур… — начал было я, удивившись, однако осекся.
— Лучшие годы своей жизни мы прожили на чужой земле, — сказал рыцарь Эд. — Невольно передумаешь о многом. Но поверьте, мессир! У нас ничего нет на свете, кроме вас и Удара Истины.
Не успел донестись с минаретов призыв муэдзина к первой утренней молитве, как отряд доблестных румских тамплиеров уже двинулся в путь. Только приор и во главе с ним полтора десятка крещеных наемников из местных жителей, называемых в Ордене тюркоплиерами, остались поддерживать порядок и жизнь в капелле. Все девять рыцарей с девятью оруженосцами и девятью лишними, заводными конями тронулись в путь, в последний раз поцеловав Святое Распятие, воздетое руками приора, глаза которого светились теперь несказанной силою духа. На улицах Коньи нас провожали взорами самые прилежные лавочники и нищие.
У ворот города комтур показал монгольскому сотнику пайдзу, бронзовый языческий медальон, дающий право войску или каравану смело двигаться по всем дорогам государства, и мы выехали первыми, предводительствуя стадами коров и коз, которых выгоняли на поля пастухи.
Я очень сожалел, что стража сменилась и знакомые мне пересмешники не могут увидеть чудесного превращения воробья в прекрасного сокола.
От главных ворот мы повернули на север и приняли службу той самой дороги, что вела прямо к цитадели моих загадочных сновидений.
Мальчишки из бедного селения, расположенного у подножия холма, на этот раз не подумали подбирать на дороге камни. Они отбежали повыше, на добрую сотню шагов, и засели среди острых обломков гранита, а когда я мирно махнул им рукой, сорвались оттуда, как перепуганные птахи, и пропали в дальних расщелинах. Старику, который некогда угощал меня лепешкой и сведениями о том, что делается наяву, я протянул с коня горсть дирхемов, и он, низко поклонившись, проводил нас взглядом из-под руки до самой вершины холма. Не подумал ли он, что духи возвращаются в свое логово?
Чудесный Мираж появился из-за окоема холма перед нашими взорами, не запоздав ни на мгновение.
Все было неподвижно, кроме одной темной точки, удалявшейся от нас по дороге далеко впереди. Хвост пыли выдавал ретивого всадника. Я пригляделся и подумал, что вижу не иначе как гонца неких сил, враждебных или союзных.
— Быстрый ездок, — заметил и рыцарь Эд. — Легкий под ним скакун.
— Да и сам ездок, как видно, не грузен, — показалось мне, и сердце мое забилось, вопреки всем ясным доводам рассудка.
Рыцарь Эд тревожно посмотрел вдаль и заключил:
— Пуганая собака и тростника испугается.
— Эта стрела — в мой загривок, — вздохнул я. — Надеюсь, мы не станем останавливаться на ночлег в этих местах? Охотой на ручных лисиц и султанов я уже сыт по горло.
Комтур внял моим тревогам, и отряд расположился коротать первую ночь пути там, откуда дворец, заброшенный обычными смертными султанами и их подданными, уже не был виден плотскими глазами.
За несколько мгновений посреди темнеющей, пустынной равнины, вокруг придорожного колодца, выросли десять шатров, и яркий огонь костра опалил куски мяса, размягченные в дороге под седлами.
Когда из колодца вытянули бадью с водой, Эд де Морей кинул в нее несколько алых песчинок и, поднеся бадью к костру, пригляделся к воде.
— Порошок из голубиной печени, — пояснил он. — Выдает всякую отраву.
— Тростник тростником, а предосторожность уместна, — согласился я. — Брат Эд, вам тоже запал в душу тот одинокий всадник?
— Всадник, конечно, не большая редкость, — ответил рыцарь Эд, — но я привык доверять чутью.
— Мое чутье вторит вашему, брат Эд, — поддержал я комтура и решил признаться в искушавших сердце опасениях. — Хоть конь и скакал быстро, но из моей головы никак не выскакивает мысль о Черной Молнии. Не появится ли на нашем пути чреватое грозой облако?
Комтур долго молчал, опустившись перед огнем на складное дорожное сидение.
— Я приложу все силы, чтобы уберечь вас от любых опасностей, мессир, — с некой тенью неуверенности в голосе проговорил он.
Полновесная темнота еще не опустилась с небес, и ночь еще не поглотила равнину вместе с крошками, коими мы, верно, представлялись ангелом с высот звездных сфер, однако лицо комтура, освещенное костром, показалось мне сумрачней ночи.
— Вы хотели бы задать мне еще один вопрос, мессир? — сдался рыцарь Эд моему многозначительному молчанию.
— Ничего не могу поделать со своим любопытством, — весело признался я. — Оно, по-видимому, восполняет убыток памяти.
— Мессир, мне так же трудно удержать себя от нижайшей просьбы, — вздохнул комтур.
— Всякий повод оказать вам честь, брат Эд, радует меня до глубины души, — уверил я его.
— Мессир, пообещайте не посмеяться над моим безумием, — тихо проговорил рыцарь Эд де Морей.
— Безумием? — удивился я. — Но ведь и вы, брат Эд, не смеялись над всеми безумными россказнями, которыми я потчевал вас едва не половину прошлой ночи. Безумного я обнаруживаю в своей жизни куда больше, чем здравого, и не нахожу в том ничего смешного. Говорите, брат Эд.
— Больше скажет моя одежда, — ответил рыцарь Эд. — То, что привлечет ваш взор первым, выдаст мою тайну и мой грех.
На белом льняном полотне выделялась прямая черная полоса, спускавшаяся от правого плеча до пояса.
— Ваш глаз верен, мессир, — глухо проговорил рыцарь Эд, будто и впрямь исповедываясь мне в неком смертном грехе. — Вы заметили цвет Дамы моего сердца.
Удар, в тот же миг пронзивший мне мозг, я могу назвать только ударом черной молнии.
— Дама сердца?! — обомлел я, ибо явь в самом деле становилась безумней самого безумного видения.
Небу ничего не стоило рухнуть мне на голову, а земле — разверзнуться и сбросить меня в адские глубины, но ничто так не потрясло бы мою душу, как признание рыцаря Эда, единственного смертного, которому я решил доверять среди живых и который в одно мгновение обратился в самого нежеланного соперника.
— Как же это могло случиться, брат Эд?! — потеряв и вновь обретя дар речи, вымолвил я, уже готовый от отчаяния посыпать себе голову раскаленной золой.
— Усмешка Фортуны, мессир, — развел своими мощными руками рыцарь Эд. — Как и вся моя жизнь. Видели ли вы, мессир, ее прекрасные глаза, так и обжигающие сердце черным огнем?
— Видел, — стараясь ничем не выдать смятения, признался я.
— А острые брови, пронзающие сердце вернее всех ее кинжалов? — продолжал мучительно оправдываться комтур тамплиеров.
— Видел и брови, — признал я.
— А губы цвета спелого граната?
— Нет, — признал я и до боли позавидовал рыцарю Эду, хотя мог похвалиться перед ним тем, что, волею обстоятельств, мне оказалась ведома краса Дамы наших сердец куда более искусительная, чем губы. — Она умело скрывала свое лицо.
Конечно, я предпочел не хвалиться, ибо ожидал, что рыцарь Эд, забыв о всех обетах, в тот же миг разрубит меня своим мечом на две половинки.
— Ох, мессир! — раскрыл передо мной свою душу рыцарь Эд. — Можно считать, что я уже убит ассасинами.
— Она из ассасинов? — ничуть не удивился я.
— Если Рум и кишит какими-то ассасинами, то я знаю только одного настоящего, — грустно проговорил рыцарь Эд. — А именно Черную Молнию. Конечно, когда-нибудь она убьет меня.
— Но почему она так упорно охотится за вами, брат Эд? — спросил я с непристойным облегчением на душе.
— Случалось трижды, что волею, а отчасти неволею, становился я преградой между ней и правителем Рума, которому ассасины определили быть жертвой за грехи его предков. Один раз мы спасли жизнь султана, когда он охотился на волков в то время, как вели охоту за ним самим, и еще дважды при торжественных объездах провинций. Султан неизменно приглашал нас в арьергард своей свиты, и нам не полагалось отказываться. Подробности этих случаев не имеют особого значения. Суть в том, что ассасины не любят нас, а я, увы, влюблен в ассасина.
Комтур немного помолчал, а затем прибавил к своему чистосердечному признанию еще немного:
— И у меня чутье на ассасинов. В капеллу им хода нет. Но за стенами капеллы она когда-нибудь убьет меня. Непременно убьет.
— Но ведь и вы не безоружны, брат Эд, — скрепя сердце, заметил я, ведь все ассасины, кроме одного, тоже никак не могли рассчитывать на мою любовь.
— Разве у меня хватит сил поднять меч на свою Даму? — грустно улыбнулся рыцарь Эд.
Этим неразрешимым вопросом и закончилась наша беседа, ибо ночь уже охватила всю землю и подобралась вплотную к последней цитадели света, нашему костру.
Мы пожелали друг другу дожить с Божьей помощью до утра и чтобы духи пустыни побоялись тревожить наш сон, а затем разошлись по своим палаткам.
Тяжелая тоска, лежавшая у меня на сердце, сделалась еще тяжелее, когда я остался в одиночестве, под защитой шатра и стражников, коими стали сами доблестные рыцари, решившие охранять шатер по трое, трижды сменяя друг друга за время ночи. От той тоски не смогли освободить меня ни молитва, ни мягкая постель, о которой я давно мечтал.
Заснул я, однако, очень скоро и увидел во сне картину вовсе не грустную, а радостную и при том настолько невероятную, что я ни на миг не терял нити ясного рассудка и говорил себе: я сплю и вижу прекрасный сон.
Мне грезилось, что мы все трое идем по дороге на высокий холм, усеянный чудесными, благоухающими цветами. Посреди нас — Черная Молния, одетая в роскошное платье, не виданное мною дотоле в Румском царстве; я нахожусь от нее по левую руку, а рыцарь Эд де Морей — по правую. Мы радуемся ясному дню, восхитительной черноте волос нашей Дамы, украшенных драгоценной диадемой, ее златотканым одеждам, белым цветам, букет которых она с невинной робостью держит в руке. Она дарит нам улыбку, за которую пасть в бою куда почетней, нежели просто пасть на колени к ее ногам. И вот ее тонкая прелестная рука с букетом цветов так нестерпимо прельщает мой взор, что я не выдерживаю и наклоняюсь, чтобы запечатлеть на ней поцелуй самого верного раба. Я тянусь к руке той единственной Дамы, которую готов признать своей первой и последней повелительницей, но не успеваю коснуться губами прелестных пальцев, просыпаясь от какого-то резкого звона, будто бы за пределами моего сна сошлись два грозных меча и обменялись самым коротким из всех известных приветствий.
Оторвав голову от подушки, я заметил на ней мокрое пятно. Я позволил себе погрустить еще немного, потом сжал кулаки, взбодрился и, возблагодарив Всемогущего короткой молитвой, поднялся на ноги.
Какой-то необъяснимый шум, напоминавший скорее о веселом базаре, чем об угрюмой пустыне, назойливо доносился снаружи, и я, даже забыв протереть глаза, высунул голову из палатки.
Моему изумлению не было ни глубины, ни предела. Поначалу я подумал, что вновь оказался под властью волшебных чар, ибо не мог себе иначе объяснить, каким образом пустыня за одну ночь превратилась в шумный город. Я видел множество разноцветных шатров, загородивший собою безлюдные просторы. Я видел множество коней, верблюдов и мулов. Я видел горы разных вьюков. Перед моим взором суетились разные незнакомые люди, переговаривавшиеся на незнакомом языке и, в свою очередь, разглядывавшие меня самого с приветливыми улыбками. Все куда-то торопились и сновали то вправо, то влево с таким видом, будто делали то же самое на этом самом месте всю свою жизнь и только я один оказался в их обыкновенной сутолоке каким-то не пойми откуда взявшимся пришельцем.
Не заметь я приближавшегося ко мне рыцаря Эда де Морея, а затем — и его скромного шатра, затерявшегося в этой пестроте, то, верно, полез бы обратно в свою палатку, чтобы убедиться, не лежит ли там, досматривая свои мудрые сны или бормоча молитвы, знакомый мне дервиш, который наконец даст мне позволение поглазеть на туркменских акынджей.
— Караван из Малой Армении, — объяснил мне комтур после того, как мы обменялись весьма учтивыми приветствиями, справились о здоровье друг друга и даже порадовались, что обоим приснились не слишком мрачные сны. — Купцы. Направляются, как и мы, в Трапезунд. Им сказали, что на Восточной дороге свирепствуют разбойники, а на Западной хозяйничаем мы. Они выбрали из двух зол меньшее, и торопились нагнать нас, не пережидая ночи. В третью стражу они уже раскинули здесь шатры.
— Я спал, как никогда сладко, и ничего не слышал, — признался я. — Но так и не успел нагнать во сне того, к кому всей душой стремился. Что же будет теперь?
— Они пойдут с нами до Трапезунда, надеясь на нашу защиту, — ответил комтур и, заметив сомнение в моих глазах, добавил: — Мессир, они хорошо заплатили. И динарами, и флоринами. Признаюсь, после введения монгольского наместничества в Руме нам, рыцарям, не стоит пренебрегать такими пожертвованиями. Редкие ныне паломники вряд ли смогут прокормить такую конюшню, как наша.
— Памятуя о ваших собственных словах, брат Эд, — без особой тревоги проговорил я, вспомнив о дервише, оставшемся в палатке, — могу вообразить, что весь этот шумный стан соорудили для каких-то тайных целей или суфии, или демоны, или ассасины.
— Все может быть, — искренне рассмеялся рыцарь Эд. — Однако многих армянских купцов я хорошо знаю. Вардан — хозяин этого каравана. Я покажу его вам, мессир. Он сказал, что никто не присоединялся к ним по дороге от самой Киликии.
Успокоив этими словами меня и еще раз самого себя, комтур коротко поклонился и отошел по своим делам, предупредив, что завтрак подадут в самом скором времени.
Жак, подняв бадью из колодца, помог мне умыться и подал полотенце. Освежившись, я сразу нашел в себе силы радостно отвечать на приветствия и с простым любопытством разглядывать диковинный люд.
Я поглазел на их тюки, на виды их товаров — персидские ткани и красивую посуду, — насладился запахом пряностей и почесал загривок маленькому осленку с грустными, как, должно быть, у меня самого, глазами.
Жак и один из рыцарей, имя которого я запамятовал, предложили мне молчаливую охрану и следовали за мной по пятам. Жак при этом не снимал руки с огромного кинжала, заткнутого за пояс.
Отбиваясь от навязчивой мысли, что в моем шатре остался почивать старый дервиш, и потому не имея ни малейшего желания возвращаться туда, я бродил, ища себе места, и остановился у караванного костра.
Огонь завтракал кизяком и старыми воловьими костями, и утренний ветерок, потянувший мне прямо в лицо, принес не свежесть небес и просторов земли, а обдал тяжелым и удушливым дымом. Невольно я отступил на шаг в сторону.
— Господину нехорошо, — вдруг раздался позади меня приветливый женский голос, показавшийся мне знакомым. — Господину облегчить дыхание?
В тот же миг мелькнула рука, бросившая в огонь какую-то сухую веточку, сразу занявшуюся густым дымком.
Я оглянулся и увидел незнакомую девушку с лицом, сильно изъеденным оспой, и редкими рыжеватыми бровями. Она казалась болезненной и слабой, только ее черные глаза таили в себе непреодолимую силу воли и колдовских чар.
«Цыганка», — почему-то подумал я о ней.
Между тем, брошенная ею веточка шипела и потрескивала на нечистом огне, и меня всего окутал ее синеватый дымок, прелестный аромат которого напоминал о далеких благодатных долинах и о том самом холме, усеянном белыми райскими цветами.
Девушка что-то говорила мне, показывая на раскрытую ладонь, и я догадался, что она хочет погадать мне по линиям руки, в чем цыгане большие мастера. Я протянул ей свою ладонь, и она, взяв меня за руку и чертя по линиям ладони острым ногтем, стала отводить меня в сторону из густого дыма, в котором уже трудно было что-либо различить.
Вдруг я очутился на том самом холме из моего сонного блаженства, и догадался, что холм есть и наяву, просто ночью я его не заметил, а утром его загородили шатры купцов.
Вокруг росли белоснежные цветы, более нежные, чем перья голубиц, и благоухавшие так нежно, что, казалось, удары сердца мешают наслаждаться их ароматом.
Рука об руку со мной шла Дама моего сердца, облаченная в золотые одежды, и диадема сверкала аметистами и бриллиантами в ее чудных волосах, более густых и черных, чем смола драконового дерева.
Какие-то нежные, полные любви и покорности слова произносил я на каком-то подходящем только для такого случая языке.
— Блистательный принц и повелитель моего сердца, — столь же покорным голосом шептала она — Вот твой конь. Садись же на него и бери меня с собой в прекрасную страну, которой ты правишь, как самый справедливый король всех времен. Вези меня, мой возлюбленный, я принадлежу тебе навеки.
Я видел белого коня, покрытого пурпурной королевской попоной. Легко и гордо садился я на него и протягивал руки моей прекрасной повелительнице. Я сажал ее на коня перед собой и, вдыхая дивный аромат ее волос, брался за поводья.
Но помню, однако, что я еще долго искал руками поводья, пока она сама не догадалась подать их мне, и мы тронулись вниз, с холма, и конь поскакал и прыгнул с высокого обрыва прямо в бурную реку.
Потом я увидел рыцаря Эда де Морея. Он стоял над нами, держа над головой какой-то тяжелый предмет, и говорил:
— Зачем ты пришла за ним, Акиса? Зачем тебе нужен он, а не я?
— Убирайся прочь, франкский волк! — отвечала ему моя возлюбленная. — Иначе я успею перерезать ему горло.
Казалось, я уже слышал однажды весь этот учтивый разговор между красавицей и доблестным рыцарем, но, как ни силился, не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах такая беседа происходила.
К тому лее что-то очень мешало мне вспоминать, упираясь в шею, и, я, поведя головой, ощутил боль, от которой немного пришел в себя.
Что-то сжимало меня с боков, как клешнями, что-то держало меня за волосы, оттягивая голову назад, и, наконец, что-то третье давило мне в шею чуть выше кадыка.
Потом я снова увидел рыцаря Эда де Морея. Он держал меч в поднятых руках и, если бы опустил его, то острие пришлось бы мне точно между глаз, на переносицу.
— Прошу тебя, Акиса, — тихо повторил рыцарь Эд де Морей. — Отпусти его.
— Убирайся! — услыхал я звонкий голос, раздавшийся прямо над моим ухом, и лезвие кинжала еще сильнее впилось мне в горло.
Морок стал рассеиваться то ли от боли, то ли от того, что ветер подул в другую сторону и понес весь дым прочь от стана, и тогда я стал догадываться, что это Черная Молния держит меня мертвой хваткой, во-первых, сжав мои бока коленями, во-вторых, схватив одной рукой меня за волосы и, в третьих, другой рукой приставив к моему горлу кинжал.
Я ничуть не удивился таким новостям и ничуть не испугался, что, наверно, следует объяснить тем странным опьянением, а вовсе не храбростью влюбленного глупца.
Мне очень хотелось поцеловать ее руку, сжимавшую рукоять смертоносного кинжала. Ее прекрасные пальцы почти касались моей шеи, и стоило чуть-чуть потянуться, чтобы чудесный сон стал явью, хотя в этой яви и не найти было тех белых цветов и королевских одежд.
Но прояви я чуть большее упрямство, мои губы достигли бы вожделенной цели, несомненно отделившись вместе с головой от тела.
Еще мне припомнилась какая-то назойливая сетка, внутри которой болталась моя голова, до тех пор, пока ее не освободил кинжал Акисы Черной Молнии.
Я собрал все свои силы и кое-как сумел перенести через лезвие кинжала те слова, которые хотел сказать обоим:
— Акиса! Умоляю тебя, прелестная пери, — тут кинжал дрогнул на моей шее, и преграда как будто ослабла, — поступи так, как просит тебя этот доблестный воин. Мне так хочется, чтобы между нами троими на веки вечные установились мир и любовь.
На последнем слове кинжал забыл о всяком милосердии, и, помнится, я только бессильно захрипел вместо того, чтобы окончательно открыть ей свое сердце и признаться в своих сокровенных чувствах.
— Акиса! Вот мое последнее слово, — произнес другой голос, как будто принадлежавший рыцарю Эду, но, однако, вовсе не пригодный для обращения к Даме сердца или для чтения газелей, услаждающих слух красавицы. — Отпусти его, или же я убью тебя и его разом. Сегодня я убью тебя, и ты видишь, что я не пугаю понапрасну. Знай, что я не отдам его. Я сказал. Вот, жду до третьего вздоха.
И я увидел, как прекрасный букет цветов в воздетых к небу руках рыцаря Эда медленно опустился к моей голове и вновь поднялся в вышину.
Кинжал на один, едва уловимый миг отступил от моей плоти и ласково приник к ней опять.
— Где мой конь? — услышал я непреклонный голос красавицы. — Ты убил его.
— Акиса! Я отдам тебе своего Калибурна, — сказал рыцарь Эд не дрогнувшим голосом, зато сразу дрогнул в неуверенности кинжал, споривший теперь за честь пустить мою кровь с мощным мечом тамплиера, тем самым мечом, который и пригрезился мне в образе нежного букета.
— Бери Калибурна, Акиса, я не бросаю слов на ветер, — властно повторил рыцарь Эд. — И уходи. Сегодня не твой день.
— Пусть отойдут твои псы, — бесстрашно потребовала Черная Молния.
— Будет по-твоему, — согласился рыцарь Эд и повелел кому-то, кого я не мог видеть: — Братья, расступитесь. Дайте ей проход. А ты, Франсуа, не тяни тетиву — оборвется. — И вновь опустив глаза, рыцарь Эд любезно спросил красавицу: — Ты приготовилась, Акиса?
— Пусть подведут коня ближе, — без особой любезности сказала она в ответ.
— Подведи, Юсташ, — повелел рыцарь Эд и, вздохнув с великой грустью сказал своему коню: — Прощай, Калибурн, и прости меня. Могу лишь уверить тебя, что нового хозяина тебе будет носить куда легче, чем твое старое бревно. Прощай и не печалься. Не сомневаюсь, что мы увидимся еще не раз.
И вдруг я выпал из крепкого капкана. Кинжал отпустил мое горло, и какая-то сила пихнула меня в спину так крепко, что я повалился ничком.
Я услышал быстро удалявшийся скач коня и спокойный голос рыцаря Эда:
— Убери стрелу, Франсуа. Не будь глупцом.
Затем рыцарь Эд помог мне подняться на ноги.
— Как вы себя чувствуете, мессир? — осторожно спросил он.
— Прекрасно, — ответил я, и удивительно, что у меня хватило в тот миг разума осечься и не сказать большего: «Прекрасно, ведь я только что побывал в объятиях возлюбленной».
— Извините меня, мессир, — сокрушенно проговорил рыцарь Эд, — Во всем виноват я один. Вы были правы, когда предупреждали меня. Но, признаюсь, за свое легкомыслие я поплатился сполна.
Мне очень хотелось успокоить доблестного рыцаря, и я принялся расхваливать его великолепные одежды, в которых он стоял передо мной. Он был облачен в тот самый пурпурный бархат с меховой оторочкой по вороту и плечам, в котором он некогда поднимался на красивый холм, шествуя по правую руку от Дамы сердца.
Только я подумал, что рыцарь Эд, должно быть купил новую одежду у армянских купцов на те самые деньги, что они предложили ему за охрану каравана, как меня окатило с небес холодной водой, и я узрел, что рыцарь Эд стоит передо мной одетый, как и раньше, бедным рыцарем Храма.
— Франсуа, еще воды! — тревожным голосом повелел в сторону рыцарь Эд, протягивая мне увесистый кувшин. — Мессир, умоляю вас, постарайтесь выпить все до дна, даже если вам станет невмоготу.
Я принял из его рук кувшин, едва не уронив его. Рыцарь Эд сам приподнимал его за донышко, пока я исполнял великий подвиг.
Наконец вода заклокотала у меня в горле, и едва я успел оттолкнуть опорожненный кувшин и отвернуться от рыцаря Эда, как страшная судорога свела мое тело, и я стал извергать из себя потоки какой-то зеленой, зловонной дряни.
Помнится, я немного не допил кувшина, а вышло из меня никак не меньше целой бадьи.
Мне отерли лицо, заботливо отвели в шатер и уложили на мягкие тюфяки. Там, придя в себя и пострадав до самого вечера мучительной головной болью, я узнал, что же произошло у костра.
Черная Молния, искусно превратившись в уродину с помощью каких-то особенных мазей, пришла вместе с караваном. Вардан, хозяин каравана, честно признался, что по дороге через Рум встретил неких людей, которые показались ему добрыми христианами. Те люди умоляли его спасти жизнь беглой рабыни и тайно провезти ее в Трапезунд. За неимоверную плату в полтысячи золотых они взяли с него слово никому не раскрывать тайну беглянки. Те же учтивые незнакомцы посоветовали Вардану двинуться по более безопасной дороге. Так Черная Молния незаметно настигла караван. Дальнейшее оставалось делом терпения и сноровки. Она бросила в костер веточку пещерной омелы, дым которой одурманивает человека, если он проснулся не ранее, чем за тысячу вздохов до рокового, тысяча первого. Затем, видя, что чары делают свое дело, она стала делать свое и, притворившись невинной гадалкой, повела меня в сторону, к одинокому и, в отличие от других своих собратьев, оседланному коню. Полагаю, она сама и ведать не ведала, какие видения меня одолевают и что за «уродину» я сопровождаю на усеянную райскими цветами возвышенность.
Оруженосец Жак и рыцарь, следившие за моими передвижениями, почуяли неладное, но у красы зловещего племени ассасинов чутье было куда тоньше. В то время, когда я беззаботно улыбаясь, взгромождался в седло, она остановила ноги моих охранников страшными колючками и, сбросив долгие одеяния простой и покорной женщины, сама взвилась на коня.
Вернее всякой прочей защиты оказались, конечно же, глаза и руки рыцаря Эда де Морея. По праву не жалея наших жизней, он метнул копье от самого шатра, примерно с тридцати шагов, и угодил точно в холку ассасинского жеребца. Остальные рыцари, кроме раненого, успели окружить похитительницу и ее жертву, наслаждавшуюся блаженством любви.
— Вы им очень нужны, мессир, — сокрушался рыцарь Эд. — Но вы нужны им живым, и это на самую малость облегчает нашу судьбу. Я знаю, что она вернется, как только сумеет принять новую личину.
Похоже, что мы оба страшились и жаждали возвращения Черной Молнии, напоминая собой юных дев, ожидающих сватов из чужого грозного племени.
— Она вернется, — повторил рыцарь Эд как бы со вздохом облегчения. — Поэтому нам надо торопиться. Я отдам Вардану его плату за охрану. Теперь ему не поспеть за нами.
Сколько благородства увидел я в этом решении! Однако Вардан упредил нас своим подношением. Низко поклонившись мне и рыцарю Эду, он принес самые искренние извинения за случившееся. Рыцарь Эд даже успокаивал его, говоря, что хорошо понимает и принимает за должное честное слово купца, данное прохожим. Наконец, Вардан с самыми изысканными словами благодарности протянул рыцарю Эду кожаный кошелек с теми самыми деньгами, что он получил от ассасинов.
— Так или иначе, я не выполнил просьбы тех негодяев, — рассудил он. — Поэтому не имею права воспользоваться их платой. Если посмотреть на дело с другой стороны, то негодяи нанесли вред вам, а не мне, поэтому обязаны загладить свой грех справедливым откупом. Эти пятьсот динаров несомненно принадлежат вам.
Рыцарь Эд с улыбкой посмотрел на меня.
— Действительно, — кивнул я с самым чинным видом. — Они испортили мне завтрак, а что может быть дороже своевременной трапезы перед дальней и опасной дорогой?
Так, со смехом, мы обменялись с Варданом кошельками, вовсе не равными по весу, а затем, наскоро собравшись, поспешили в дорогу.
Без особых злоключений, если только не считать тарантула, которого мне пришлось выгонять из-под тюфяков и прочь из шатра на следующей стоянке, мы достигли гор, возвышавшихся за пределами Румского царства.
Нас встретил пограничный разъезд греков. Напыщенные всадники в медных шлемах с петушиными хохолками долго разглядывали нас, морщились и шмыгали носами. Комтур долго переговаривался с ними, показывал пайдзу и какой-то пергамент. Наконец оставшийся у нас от Вардана кошелек сравнялся по весу с тем, который мы оставили в его собственных руках, после чего всадники соизволили приветствовать нас гостеприимными улыбками.
— Мессир, дальше нам придется ехать вдвоем, — сказал мне рыцарь Эд. — Девять рыцарей представляют для их государства слишком могучую армию.
Комтур простился со своими братьями, попросив их честно присмотреть за караваном Вардана, и мы тронули коней.
На самом краю Рума, где росли нежные синие цветочки предгорий, я оглянулся и бросил последний взгляд на славное воинство и простиравшуюся за ними безжизненную долину.
СВИТОК ВТОРОЙ. ТРАПЕЗУНДСКАЯ ИМПЕРИЯ
Осень 1307 года
Сумрачные горы, поросшие темными лесами и кустарниками, высились перед нами. Казалось, будто бы воинство древних титанов в незапамятные времена выступило из этих суровых земель на покорение Божьего мира, но было поражено дланью Всевышнего, и кровь великанов застыла в их жилах, а плоть обратилась в гранитную твердь.
Серые клочья туманов медленно стекали в ущелья с их могучих плеч, с изъеденных ветрами и дождем шлемов и потускневших доспехов.
Трое воинов из разъезда взялись проводить нас по ущельям до крепости, называвшейся Кигана, в которой сидел наместник Трапезундского императора и откуда он правил этим неприветливым краем.
Мы долго продвигались по узким извилистым дорогам, и порой наши провожатые торопились вперед и на некоторое время скрывались за поворотом. Свои внезапные вылазки они объясняли тем, что необходимо обезвредить разные хитроумные ловушки, выставленные для непрошеных гостей из Рума и укрепить особыми штырями и подвязками некоторые мосты.
— Хитрые греки, — с улыбкой вздыхал Эд де Морей.
Переступая в опасных местах через безобидные остовы упавших сверху деревьев или объезжая ничем не примечательные валуны, мы не могли догадаться, где здесь способна таиться смерть. Только однажды, когда мы выразили вслух недоверие ко всем угрозам, греки похвалились своими выдумками и показали, как обычный и внушающий полное уважение мостик без всякой жалости сбрасывает своего очередного господина вместе с его свитой, когда идущий первым достигает другого конца моста. Разумеется, ловушка просыпалась только в том случае, если непрошеный гость следовал с юга на север, то есть двигался со стороны Рума.
— Греки — любители тихой и благополучной жизни, мессир, — сказал мне рыцарь Эд, заметив на моем лице мину презрения. — Древний, уставший народ. Вроде старика. Воинская доблесть им уже давно не по нраву. Едва ли не десять веков подряд их лучшими полководцами были кастраты из сообразительных евнухов дворца. Вот чем все и объясняется. Здесь же, на этих границах, их постоянно тревожат своими набегами туркмены. Греки считают, что христианину недостойно погибать в схватке с иноверцем, поэтому и почитают хитрость и увертливость едва ли не главными признаками сошедшей на них благодати. Так что не судите их слишком строго, мессир.
— Не осуждаю, — соврал я, — но невыносимо постоянно держать в уме всю тяжесть своих собственных капканов и думать, как бы не угодить в них самому.
— Уверяю вас, мессир, что последнее как раз и не доставляет для греков никакого труда, — с усмешкой отвечал мне комтур. — Это, как уверял меня однажды наместник, даже нравится им, обостряет мысли, подобно перцу, украшающему вкус и ускоряющему сварение желудка. Если кто из своих попадет в ловушку, то они скажут, что одним худым греком стало меньше, а значит, крепких рассудком и хитроумием осталось больше. Однако, мессир, признаюсь, что мне не жаль ни греков, ни туркмен, но я опасаюсь за своего Калибурна.
И он весьма многозначительно посмотрел на меня.
— Выходит, брат Эд, что за его всадника вы не опасаетесь, — сказал я, разумеется, желая задеть его чувства.
— Вам тем более нечего за него опасаться, мессир, — сухо ответил мне рыцарь Эд, отбив мой выпад, после чего некоторое время мы ехали молча.
— Простите меня, брат Эд, — наконец повинился я, справившись с гневом своего юного сердца, ведь в ту пору я действительно еще был юнцом, хотя, как и все юнцы, не, подозревал об этом. — Я подумал весьма дурно, брат Эд.
— Напротив, мессир, долг принести извинения за мной, а не за вами, — с радостью откликнулся рыцарь Эд, и даже конь его двинулся вперед веселее. — Простите меня, мессир. Я до сих пор считаю себя рыцарем Храма, но я уже — не рыцарь Храма, раз цитадель моего сердца сдалась без боя и на самых позорных условиях.
— Может, я по причине своего беспамятства и ошибаюсь, однако нахожу условия сдачи не только не позорными, но и весьма почетными, — уверил я рыцаря Эда, стараясь оправдать сдачу не столько той крепости, которой командовал он, сколько своей собственной. — И при том полагаю, что чутье, с коим не совладать хитроумию всех греков, вместе взятых, поможет загадочному всаднику спастись не только самому, но и сохранить жизнь вашему верному Калибурну.
Последние слова я произносил уже довольно осипшим голосом, ибо сырой и зябкий туман, какого я не встречал в Руме, сползал с горных вершин не только в ущелья, но — и в мое горло и даже во внутренности.
— Мессир, запахните грудь плащом, — заботливо проговорил рыцарь Эд. — Мы движемся как-никак на север. И я должен доставить вас до назначенного места живым и здоровым.
Как ни торопились мы вместе с нашими провожатыми, однако, лишь когда стало уже заметно темнеть, высоко впереди появилась первая цель нашего путешествия по дорогам Трапезунда.
Я присмотрелся вдаль сквозь туман, обещавший вот-вот превратиться в настоящие чернила, и различил на одном из окаменевших великанов грозный шлем предводителя древнего воинства.
— Кигана, — указав на него, произнес рыцарь Эд. — Скоро теплый ночлег, мессир. Вы увидели дворец великого кефала Льва Кавасита. Здесь столица Халдии, южной провинции Трапезунда. Мой старый знакомый, Лев Кавасит, правит этими горами уже двенадцать лет. Не сомневаюсь, что он устроит в нашу честь такой прием, на который не хватило бы средств даже у румского султана, упокой Бог его неверную душу.
— Прием уже начался с самых изысканных угощений, — развеселился я в предвкушении очага и горячего питья. — Их подавали одно за другим, но, слава Богу, проносили мимо.
Скакавшие впереди нас греки озарили сырой сумрак светом факелов, так что дальше мы двигались, окруженные облаком красноватого сияния, по-видимому ничем не отличаясь от духов здешних расщелин и пропастей.
Наконец, за очередным поворотом, узкая дорога как бы растеклась вширь, образовав ровную площадку перед отвесной стеной гранита.
Я догадался, что передо мной не скала, а цитадель Кигана только тогда, когда за решеткой крепостных ворот тоже замелькали огни. Затем раздались негромкие голоса, которые сразу заглушил тяжелый скрип и лязг цепей. Так врата с некоторым недовольством, но все же проявили гостеприимство, и из них навстречу нам двумя ровными рядами выступили факельщики в полном боевом снаряжении, в доспехах, а также с копьями и мечами.
Между ними, грузно прихрамывая, двигался человек, как мне показалось очень больших размеров. Подойдя к нему ближе, я заметил, что он облачен в очень широкие одеяния, которые рыцарь Эд назвал мне потом тогой римских цезарей.
Повелитель мрачной крепости и не менее мрачного края встречал нас, широко и радушно раскинув руки.
— О, несокрушимый Аякс, блистающий доблестью меча и золотом чести, великолепный друг мой Эд, краса франкского воинства! — густым и звонким голосом приветствовал Лев Кавасит предводителя румских тамплиеров, довольно сносно выговаривая франкские слова. — Несказанно рад видеть тебя в подвластных василевсу и мне землях!
Эд де Морей ответил ему на греческом и, как я узнал потом, сказал следующее:
— Здравствуй, Цезарь, всю жизнь идущий на смерть приветствует тебя!
Лев Кавасит поколебал окрестные скалы громовым хохотом, вторя своему древнему греческому богу Зевсу, и заключил рыцаря в учтивые объятия.
— Сколько лет мы не виделись с тобой, доблестный комтур, — вздохнул хозяин Киганы. — Ах, сколько лет! Лишь только я получил известие о том, что ты нагрянешь проездом в эти края, как взыграло мое сердце! Я сам охотился целую неделю и набил к нашей встрече самой отборной халдийской дичи. О, сам василевс предпочитает моих козлят тухлятине всяких низин. Сегодня будет праздник, какого давно чаяло мое уставшее сердце.
— Когда ты получил известие обо мне, дорогой Лев? — с изумлением переспросил рыцарь Эд.
— Неделю назад, — ответил великий кефал. — Тебя что-то удивляет?
— И с какой стороны света пришло оно? — задал еще один вопрос Эд де Морей.
— Прямо из Трапезунда, — был ответ. — С императорской печатью. Алые чернила. Без сомнения, писано в Большой консистории.
— Признаюсь, что удивлен, — не стал таиться комтур. — Обстоятельства позволяют мне предположить, что некто сидит на вершине самой высокой горы и наблюдает оттуда за каждым моим шагом.
Лев Кавасит бросил на меня короткий, внимательный взгляд и усмехнулся, явно пытаясь на время отогнать от себя всякие подозрения и загадки.
— Но ведь так оно и есть на самом деле, мой Ахиллес, — с несколько натянутой улыбкой проговорил он. — Поверь мне, старику. Я сижу в этом дупле, как сыч, и только изредка оглядываюсь по сторонам, однако и мне становится известным многое такое, что даже до дворца доходит через год или больше того. Но ведь и я не главный соглядатай в этом хитроумно устроенном мире, и сижу я, как видишь, не на самой высокой горе.
— Верно, — кивнул рыцарь Эд. — Но, говорят, богу Пану было известно в глухой чаще больше, чем его повелителям на Олимпе.
Лев Кавасит вновь захохотал, распугав огонь факелов и пустив обвалы по далеким ущельям, и широким жестом пригласил нас в ворота своего дома.
— Оставим эти важные разговоры для последней свечи, — сказал он. — А пока предадимся истинному наслаждению дружеской встречи. Поверь, славный мой друг Эд де Морей, этот день — больший подарок для меня, нежели перстень и поцелуй василевса. Я знаю из полученного письма, что ты сопровождаешь некого сановного посланника. Не этот ли скромный молодой человек с благородной осанкой и глазами, в коих я вижу неугасимое пламя доблести знатного рода, является таковым? Тогда нет тебе прощения за твою медлительность, комтур рыцарей Храма. Скорей представь меня ему.
Я вновь узнал о всех чинах и достоинствах наместника Халдии, а после того, как он учтиво и не роняя чести своего преклонного возраста опустил голову, услышал много нового и любопытного о себе самом. Оказалось, что я должен называться в этих краях неким Робером де Форе, выходцем из династии рыцарей Кипра.
— Робер — славное имя, — говорил наместник Халдии, близоруко присматриваясь ко мне и стараясь встать передо мной так, чтобы не загораживать собой света. — Ваши черты мне кажутся знакомыми, сир Робер. Однако здесь властвует ночь. Давайте же поторопимся туда, где для добрых друзей припасено много огня, тепла и вина. И какого вина, мой дорогой Патрокл! — воскликнул он, обратившись уже к рыцарю Эду. — Ведь я помню: твое любимое — апулийское, трехлетней выдержки. Верно?
— Святые исповедники! — с жаром воскликнул рыцарь Эд. — Ты все помнишь, Лев, царь зверей и гор!
— Я достал апулийское, для нашей встречи, — важно похвалился хозяин Киганы.
— У меня слезы подступают к горлу, — хрипло проговорил рыцарь Эд. — Если что и стоит ценить в этой жизни, так только старую дружбу.
Так, еще перед воротами горной цитадели отступил от нас зябкий и болезнетворный туман. Старые приятели, состязаясь в красноречии, еще долго препирались, кому первому следует ступить за порог, а потом, миновав крохотный дворик, двинулись вверх по крутой лестнице, хваля друг друга и не забывая о моих достоинствах, которых с каждой ступенью становилось все больше и больше, а моя родовитость как бы поднималась вместе со мной все выше и выше.
Наконец мы достигли двери, украшенной львиным оскалом. Настенный светильник почти оживлял зверя оливковым пламенем, так что глаза и клыки бронзового хищника грозно сверкали.
— Теперь, доблестные мои гости, вздохните поглубже, — хитро проговорил наместник Халдии, — ибо я не сомневаюсь, что сердца ваши надолго остановятся.
Он хлопнул в ладоши, и дверь стала сама, как по волшебству, раскрываться.
— Прошу вас, проходите первыми, — вкрадчиво добавил великий кефал, — ибо я не имею права загородить от вас хотя бы кусочек того, что вы сможете увидеть.
В то же мгновение из-за двери стали доноситься прелестные звуки струн, и навстречу потянулся аромат изысканных благовоний.
Как и полагается доблестным воинам, мы вошли в покои решительным шагом, а, войдя, замерли, как вкопанные, потеряв дар речи и дыхания, что и предсказывал любитель хитроумных ловушек грек Лев Кавасит. Окажись на нашем месте хоть султан Рума, и тот остолбенел бы, открыв в этой горной гробнице такую бездну роскоши и райской неги.
Помню, я даже испугался, не стал ли жертвой нового приступа наваждений, и схватил за руку брата Эда. Страх отступил, как только сам рыцарь Эд растерянно прошептал рядом со мной:
— Вот так наваждение, тысяча прокаженных дьяволов!
Перед нашими глазами раскрылись настоящие императорские покои. Кругом сверкали золотые блюда. Поражали взор диковинными узорами высокие вазы, привезенные не иначе, как из Индии и Китая. Тяжелые парчовые занавеси спускались с серебряных струн, натянутых у потолка, и, собранные в складки, обнажали неописуемой красоты мозаики, коими изобиловали как стены, так и потолки. На одной стороне мы видели дионисийские празднества и танцующих нимф, на другой — гордо вышагивавшего по лесной поляне единорога, над которым стаями порхали разноцветные птахи. Потолок же был усеян золотыми звездами, среди которых парили, неся свои длинные трубы, златокудрые ангелы. К той невиданной красоте надо добавить и пол, выложенный прекрасно отшлифованным серпентином, лаконийским зеленым мрамором, и несколько тонких колонн, что поддерживали свод и были выточены из розового камня. Удивителен был и небольшой водоем, помещенный в оправу из голубого порфира: в нем нежились и сверкали боками серебристые рыбки.
Но посреди всего этого великолепия нас ожидал стол, описывать который уже нет никакой возможности, ибо мне пришлось бы потратить понапрасну — ведь тех изысканных блюд уже не поставишь против своего желудка — весь пергамент и все имеющиеся у меня в запасе чернила. Скажу только, что больше всего мне запомнились печеные яйца горных куропаток, фаршированные кусочками форели, вымоченной в винном соусе.
Но и того показалось нашему искусителю недостаточно, ибо рядом со столом на небольшом возвышении восседали три довольно смазливые девы, одетые нимфами, и услаждали наш слух тихими звуками арф.
В восполнение всех радостей жизни здесь было попросту тепло и сухо. Мне казалось, что подземный жар поднимается снизу, проникая через мои ступни.
— Каково, мой доблестный Тезей? — раздался вкрадчивый голос грека за нашими плечами. — Ты был здесь последний раз восемь лет назад. Я заставил расцвести эти голые камни. Разве я не демиург?
В то мгновение я вдруг подумал о полных искусительной отравы садах Старца Горы и о плодах, что приносили те роскошные сады, о кровавых жертвах, зревших на их райских ветвях. Какая-то грозная тяжесть, подобная подземным драконам, зашевелилась в глубинах моей запретной памяти, и взгляды веселых дев показались мне полными смертельной отравы. Рыцарь Эд разом развеял налетевшие на меня страхи своим недоуменным вопросом, который я скорее ожидал бы услышать от купца Вардана, нежели от рыцаря Храма.
— Невероятное волшебство, достопочтенный кефал, но на какие средства?
— Во всем остальном я веду довольно умеренную жизнь, — признался наместник Халдии Лев Кавасит. — К тому же я свободен от городской суеты и волен не тратиться по мелочам. В горах немало людей, просящих моей защиты и не всегда неблагодарных. Всю жизнь я мечтал быть первым в своем маленьком Риме и нашел для него самое лучшее место, скрытое от завистливых глаз. Однако давно пора перейти от слов к делу. Стол накрыт, мои самые драгоценные гости. Посему, возблагодарив Господа за ниспосланную с небес манну, приступим к трапезе. И заметьте, друзья мои, что вокруг нет всяких вонючих жаровен. Я провел черепичные желоба под полом и подаю в них горячую воду от топок. Вы еще понежитесь, как дельфины, в моем водоеме.
Полученные при не менее благоприятных обстоятельствах уроки научили меня сдерживать варварские порывы желудка, и я заставил себя чинно прикасаться к блюдам и брать по маленьким кусочкам, тщательно их прожевывая и опасливо прислушиваясь к себе, не возникнет ли ощущения какого-то уж слишком беспечного блаженства.
— С трудом верится, что славный молодой человек происходит из простого рыцарского рода, — проговорил наместник, держа в руке сверкавшую жиром баранью ляжку. — Его жесты легко выдают в нем по меньшей мере владетельного герцога или, страшно подумать, принца крови. Что-то ты скрываешь от меня, мой Геркулес.
— Скрываю, — ничуть не смутившись, кивнул рыцарь Эд, налив в блюдо своего любимого апулийского и теперь макая в него кусочки форели.
— Тем лучше, — добродушно усмехнулся Лев Кавасит. — Тайна будет обострять наши чувства, как хорошее вино.
Потом наместник Халдии поглощал неимоверные количества «манны небесной» и с не меньшим удовольствием повествовал нам об интригах при императорском дворе Трапезунда, о юном василевсе Алексее Комнине, о его неопытности в государственных делах, восполняемых здравым рассудком и добрым сердцем. Он расписывал также достоинства его красавицы-супруги, дочери грузинского царя, затем перешел к ужасным козням, исходящим не от какого-нибудь повелителя неверных, а, можно сказать, из самых что ни на есть родственных земель, из Константинополя, от хитрого, как сирийский торговец, императора Андроника Палеолога.
— Увы, легко мне здесь тешить себя разными выдумками и устраивать всякие забавные ловушки, — вздыхал наместник, — которые кочевник-туркмен принимает за козни самого шайтана. Там же теперь развлекаются такими ловушками, в любую из которых я угодил бы сам, как желторотый птенец.
Так говорил великий кефал Халдии Лев Кавасит, все чаще поглядывая на меня и улыбаясь, когда я отпивал вино крохотными глоточками.
— Досточтимый сир Робер, — наконец обратился он ко мне напрямую, — позвольте мне быть искренним и раскрыть перед вами свои чувства.
— Почту за высокую честь, — ответил я, невольно переглянувшись с рыцарем Эдом, который сохранил совершенно невозмутимое выражение лица.
— Теперь я могу сказать определенно, кого вы мне напоминаете, сир, и будите во мне много дорогих мне воспоминаний, — продолжил Лев Кавасит. — Вашему провожатому на этих землях, славному рыцарю Эду, увы, не привелось встретиться с этим человеком. Судьба развела их всего на пару миль и годов.
— Мне кажется, я могу угадать, о ком ты поведешь речь, дорогой Лев, — сказал рыцарь Эд, уже заметно раскрасневшись от апулийского, которое он применял в самых разных видах: и как питье, и как подливу, и даже как воду для обмывания пальцев. — Не о том ли печальном рыцаре Милоне Безродном?
— Именно о нем, — подтвердил наместник. — Я опасаюсь, правда, что только одно его прозвище может как-то задеть честь нашего дорогого посланника.
— Пусть вас не беспокоит такая чепуха, достопочтенный хозяин, — сказал я к явному удовольствию наместника. — Рассказывайте. Мне крайне любопытно услышать любую весть о человеке, которого я как-то напоминаю своими чертами.
Здесь я ничуть не покривил душою.
— Минуло много лет, — задумчиво проговорил наместник. — Так что, пожалуй, рассказ займет и тебя, славный мой Гектор, поскольку тебе станет известно кое-что, о чем я раньше предпочитал молчать.
И предварив свою оказавшуюся, однако, довольно краткой историю, столь загадочным предисловием, наместник Халдии, допил до дна свой бокал из алого венецианского стекла.
РАССКАЗ ЛЬВА КАВАСИТА, ВЕЛИКОГО КЕФАЛА ХАЛДИИ
Увы, стану в своих же глазах бессовестным лгуном, если начну словами: «Давным-давно, во времена веселой и безмятежной юности». Что с тех пор минуло немало времени — то верно, но уже в те годы я был далеко не птенцом, похвалявшимся своими мокрыми перышками. Даже напротив: плешь, которая ныне захватила всю главную башню моей цитадели, уже тогда, не торопясь, приступила к осаде.
Короче говоря, в ту пору мне было уже сильно за тридцать, и жизнь побросала меня, как кошка мышку, по всему двору. Судьба то возносила меня к самому подножию императорского трона в Константинополе — ведь мне приходилось быть правой рукой великого логофета, то есть главнокомандующего войсками, — то отшвыривала в самые грязные углы, и благодарю Бога, что мне удалось избежать Нумер, страшной дворцовой темницы, в подземельях которой гнили заживо многие из сильных мира сего.
И вот, подвергшись изгнанию и радуясь, что удалось унести свою шкуру целой, я поскитался по миру и наконец очутился в Акре, последнем оплоте не только Ордена Храма, но и всего христианства на Святой Земле. Случилось это в году, как мне помнится, одна тысяча двести восемьдесят пятом от воплощения Господа нашего Иисуса Христа.
Тут Лев Кавасит перекрестился от правого плеча до левого, и я вспомнил, что он, как и все греки, происходит из схизматиков. Наместник, между тем, продолжил свой рассказ.
Надо еще заметить, что я в молодости учился в Коринфе, в той самой школе технитов, что сохранилась еще со времен Сократа. Теперь, увы, исчезла, подобно миражу, и она. Это означает, что я весьма недурно разбирался и, кажется, разбираюсь доныне в механике и постройке разнообразных машин.
Попав в Акру, я увидел, что там никуда не годятся механизмы открытия ворот, подачи пресной воды на башни и многое другое — все попросту обветшало. Тогда я предложил свои услуги комтуру тамплиеров Акры, за три месяца наладил все машины и стал пользоваться заслуженным почетом, трапезуя с комтуром и маршалом Ордена.
Признаться, уже в то время я был наслышан об ужасных оргиях и колдовстве, которым якобы тайно предаются предводители Ордена. Однако в Акре, живя бок о бок с главой рыцарского гарнизона, я не примечал никаких кощунств, хотя и верно то, что славные рыцари любили друг друга любовью, которая куда крепче братской. Впрочем, такая любовь помогала и спартанцам стоять в битвах насмерть.
Следом за мной появился в Акре и рыцарь Милон. Он тоже был далеко не молод. Мне тогда он показался попросту стариком. Хотя если его признать в ту пору стариком, то меня теперь следует считать прямо-таки Авраамом.
Он был весьма молчаливым тамплиером и отвергал едва ли не всякое общество. Единственный человек, которому он доверил всего одну драгоценную песчинку своей таинственной жизни, был ваш покорный слуга, да и то потому, что я по натуре беззлобен и люблю разбираться в человеческих сердцах, как и в механизмах. Он представлялся всем только по имени и по этой причине заработал себе прозвище Безродный.
Добавлю о его достоинствах еще немного. Рыцарь Милон был всегда очень учтив и предупредителен. Его учтивость соперничала с его огромной силой, которая и стала поводом к нашему близкому знакомству. Я создал новый механизм для поднятия больших камней на высоту стены, укреплением которой и занимался. Однажды с подъемного круга сорвались ремни, и груз был достаточно тяжел, чтобы переломать все главные рычаги моего механизма. Невольно я бросился спасать свое создание и, потеряв рассудок, схватился там, где меня как раз поджидала смерть. Я уперся ногами в стену, ожидая, что меня вот-вот сбросит вниз. Нужно было выбирать между механизмом и жизнью. По своей жадности я не хотел отдавать ни того, ни другого. Тут-то и подоспел на помощь рыцарь Милон: ему ничего не стоило заменить собой всю машину и вытянуть наверх глыбу гранита.
Этим он покорил меня, а другим своим талантом он покорил братьев-рыцарей, которые поначалу отнеслись к нему с большой настороженностью и неприязнью, как к непрошеному гостю. Меч в его руках мелькал, подобно крылу стрижа. Он знал столько невиданных ранее приемов и способов удара, что сначала один, потом другой, а потом уже все тамплиеры Акры стали упражняться с ним на оружейном дворе, отгоняя от всех щелей непосвященных, даже своих оруженосцев. Я видел плоды его ученья в том роковом девяносто первом году: каждый тамплиер уложил не менее двух десятков сарацин прежде, чем ослабеть от ран и потери крови.
Поначалу же, как вы заметили, он не пользовался любовью, и на то была также своя причина. Дело в том, что всех снедало любопытство, кто он и откуда взялся. Но он крепко хранил свою тайну, отвечая на все намеки и насмешки только мрачным, пугающим взором. И ладно бы одна тайна, но тайну усугубляло то, что комтур, которому он при встрече показал некий знак, долго беседовал с ним в присутствии маршала, а затем оба стали обращаться с рыцарем Милоном, как с человеком, по меньшей мере равного с ними звания.
Сразу подрублю под корень ваше любопытство: кто был в действительности рыцарь Милон и какую тайну скрывал он от мира, мне так и не удалось узнать, зато я стал хранителем другой его великой тайны, которая, к моей невольной гордости, осталась неведома как комтуру, так и маршалу Акры.
Итак, вздохните поглубже, ибо я не сомневаюсь, что ваши сердца на несколько мгновений перестанут биться, замерев от удивления.
В одну из ночей, коих осталось уже немного до печального дня, когда погибла славная Акра, я услыхал тихий стук в свою дверь. Спросив, что за гость явился ко мне в столь поздний или, даже наоборот, в столь ранний час, я изумился, различив голос рыцаря Милона, а когда открыл дверь, то просто остолбенел.
Рыцарь Милон стоял передо мной с бледным лицом, бережно и неловко держа на своих руках, привыкших к мечу, нечто, этим мощным рукам совершенно чуждое: крохотное человеческое создание, нагое, как лягушонок. Оно беспомощно шевелило ножками и ручками, чмокало, а я смотрел на него, не веря своим глазам и страшась тронуть его пальцем, дабы убедиться, что глаза не врут и передо мной не один из самых странных видов миража.
«Пресвятая Дева! — наконец обретя дар речи, прошептал я. — Что это?!»
«Мой ребенок», — просто ответил рыцарь Милон, и я вновь онемел, а заодно, казалось, оглох и ослеп.
«Лев, — обратился ко мне рыцарь Милон, сохраняя завидное самообладание, и, вероятно, ему пришлось повторить мое имя еще не один раз прежде, чем я нашел в себе силы воспринимать дальнейшие слова и события. — Лев, сейчас нет времени для объяснений. Только ты один можешь помочь мне и спасти это дитя. Я буду обязан тебе до скончания века. Мать ребенка тяжело заболела после родов и час назад скончалась. Только ты, Лев, сможешь вынести его из города, не привлекая ничьего любопытства. К тому же только тебе одному ведомы здесь все щели. Прошу тебя, как брата, сделай это немедля, иначе я не сумею уберечь дитя. Вынеси ребенка к Овечьему холму. Там дожидаются родственники матери. Они из неверных, так что ничему не удивляйся. Я не смогу тебе заплатить».
«Какая плата! — возмутился я. — Ты и так уже один раз спас мою жизнь».
Конечно же, я знал в Акре все щели, и, конечно же, мне было лестно участвовать в хоть каком-то таинственном заговоре, который, как мне представлялось, никак не должен был кончиться выкалыванием глаз и замуровыванием в стену, чего легко было добиться в Константинополе.
Тайна крепко жгла мне душу, но я тоже взял себя в руки и стал рыскать по комнате в поисках подходящего куска полотна. Однако рыцарь Милон покачал головой и сказал:
«Ничего не годится. Прошу тебя, Лев, подержи дитя на своих руках».
Я принял на руки это невиданное сокровище и, зерно, держал его не ловчее рыцаря Милона, ибо в моих руках побывало все, что угодно — золото, женщины, оскалы, машины и даже раковины царицы Савской, — но недельного младенца судьба отдавала в мои руки впервые.
Между тем, рыцарь Милон неторопливо снял со своих плеч священный белый плащ Ордена с алым тавром, свернул его вчетверо и протянул его так, что сверху можно было положить младенца.
Невольно я опустил ребенка на плащ и стал дожидаться, что будет дальше.
Рыцарь Милон бережно укутал его и протянул мне со словами:
«Неси так, Лев».
«Но ведь это твой плащ, Милон, — так и обомлел я. — Ведь ты станешь изгоем. И многие порадуются этому».
«Ничего не поделаешь, — твердо ответил рыцарь Милон. — Иначе они не поверят, что ты принес именно моего ребенка. Я как-нибудь выкручусь. В конце концов всему наступает конец».
«Но как звали мать? — теряясь в догадках, спросил я. — Вдруг они меня спросят».
«Гюйгуль, — едва слышно проговорил рыцарь Милон. — Просто рабыня Гюйгуль. Но это тайна, Лев».
«Знал бы ты, Милон, какое я ходячее кладбище тайн, — весело сказал я тамплиеру, пытаясь оживить его обреченный взгляд. — Одна лишняя гробница останется попросту незамеченной».
Не буду объяснять как — это все равно, что подробно рассказывать устройство механизма для двойного встречного сверления бревен, — но я выбрался из города незамеченным и достиг того самого Овечьего холма.
Признаться, конечная цель моей вылазки напугала меня больше, чем вся охрана Акры, вместе взятая. Я ожидал найти во мраке пару нищих стариков, с которыми придется для вежливости прослезиться, а обнаружил невесть откуда взявшийся — ибо еще вечером окрестности холма пустовали — варварский лагерь, где горели костры, точились клинки и возвышались шатры, какие бывают лишь у весьма знатных сарацин.
Я долго ходил от шатра к шатру, и, представьте себе, от меня отмахивались руками. Наконец какой-то сарацин с обнаженной саблей подошел ко мне и, пощупав край белой материи, повел за собой. Вскоре я оказался перед шатром, из которого высунулся какой-то старик. В шатре было так светло, будто там горело никак не меньше двух десятков огней. Внутрь меня не пустили.
Старик взглянул на меня, вышел наружу и, не говоря ни слова, по-хозяйски взял у меня с рук завернутого в плащ младенца. Очень хорошо помню, как он приподнял край материи и сказал удивленным голосом:
«Девочка?!»
Честно говоря, сам я даже не обратил внимание на главный знак отличия таинственного малыша и могу довериться теперь только тому слов старика, оброненному в ночи.
Потом старик еще раз тщательно, словно покупал шелка на базаре, ощупал материю и добавил:
«На все воля Всемогущего».
«Отец мудрости, — обратился я к нему с глубоким почтением, — а нельзя ли вернуть плащ отцу ребенка?»
Старик ничего не ответил, а только, уже уходя в шатер, кивнул моему неласковому проводнику, и тот, поигрывая саблей, указал мне рукой направление, чтобы я чего доброго не заблудился.
«Что это за люди?» — спросил я рыцаря Милона, который до моего возвращения не покидал моей комнаты, хотя по Уставу Ордена был обязан давно уж пребывать в своей келье, возбуждая дух молитвой.
«Не знаю», — невозмутимо ответил рыцарь Милон.
«Но ведь ты сам назвал всю эту разбойничью шайку родственниками!» — все сильнее недоумевал я, решив, однако, скрыть от рыцаря некоторые подробности моего путешествия.
«Так назвал их не я, а Али-Скворец», — уточнил рыцарь Милон, преумножив мои опасения тем, что страшная тайна известна еще одному лицу, и не кому-нибудь, а личному арабскому писцу комтура Акры.
«К чему тогда было посвящать в дело меня, лишнего человека, а не запустить через стену самого Скворца?» — спросил я.
«За Али следят прилежней, чем за любым из братьев, — ничуть не обижаясь, пояснил рыцарь Милон. — Али не выдаст меня. Джибавии не выдают тайн. Ему я доверяю почти так же, как тебе, Лев».
Тут за малую часть ночи я узнал столько нового и необыкновенного, что будто бы весь мир повернулся передо мной другой, запретной своей стороной, а звезды на небе поменялись местами и сложились в таинственное мерцание слов, гласящих, что все пределы грешной земли, видимые с вершины горы Арарат, где причалила галера нашего праотца Ноя, подвластны не царям и военачальникам, а нищим бродягам-дервишам. О них, разумеется, необходим особый рассказ, и, если молодой Цезарь того пожелает, я постараюсь удовлетворить его любопытство по окончании этой истории.
Тот самый писец Али, как искусный механик, и повернул в судьбе рыцаря главный ее рычаг, казалось бы, давно уж заржавевший. Борода рыцаря Милона серебром была куда богаче бороды нашего доблестного Агамемнона, и я все никак не мог вообразить, что суровые и потускневшие в боях доспехи могут скрывать столь чувствительное сердце.
Так вот однажды Али-Скворец подошел к рыцарю Милону и шепнул ему на ухо, что в крепости прислуживает молодая рабыня, происходящая из знатного бедуинского рода. Зная, что рыцарь Милон пользуется большей свободой поведения, нежели другие братья по Ордену, Али просил его присмотреть за девушкой, которую в скором времени обещали выкупить родственники, и стать как бы ее тайной защитой от опасностей, что могут подстерегать девушку-иноверку во вражеском лагере.
Рыцарь Милон имел некие основания уважать суфиев, а писец Али несомненно являлся таковым. Короче говоря, рыцарь Милон сказал ему, что готов на время взять под защиту честь полонянки, хоть и неверной. Каково же было его изумление, когда по истечении месяца учтивых забот, девушка осмелилась снять покрывало в присутствии иноверца, и он увидел, что черты ее прекрасны и сама она даже напоминает некую даму, которой некогда принадлежало сердце рыцаря Милона в пору его скитаний по Европе и пребывания в стенах Флоренции.
— Флоренции?! — воскликнул тут рыцарь Эд, перебив рассказ наместника. — Ведь мой отец провел часть своей жизни в Италии! И не где-нибудь, а именно в этом чудесном городе!
— Вот видишь, друг мой Персей, — развел руками Лев Кавасит. — Мир не только тесен, но и кружится, подобно водовороту увлекая предметы в узкую воронку. Могу только повторить еще раз, что твой доблестный отец Жиль де Морей недолюбливал Милона Безродного, хотя оба были людьми отлитыми из одного благородного сплава. Возможно, какие-то общие воспоминания мешали им сойтись накоротко вплоть до последнего дня великой Акры.
Затем наместник Халдии продолжил свой рассказ.
Некоторое время рыцарь Милон прилежно исполнял обещание, данное им Али. Спустя еще какой-то срок он стал исполнять обещание очень прилежно.
Как вы понимаете, служение прекрасной Даме происходило не на поле рыцарского турнира, где повелительнице своего сердца можно кланяться издалека, не подвергая себя ни угрожающей близости, ни опасному уединению. Здесь оно, это служение, расцветало в узких каморках ткацких служб, где легко дотянуться рукой до любой из четырех стен. Девушка почти не выходила из своей клетки по многим причинам, между прочим стесняясь и своего изъяна: она была глухонемой.
Не слышать от иноверки чужой сарацинской речи — это уже полпути до признания ее не слишком чужеродной по крови. Впрочем, это мое личное мнение и не более того.
Итак, пропасть между исповеданиями веры, а заодно и положениями среди людей, оказалась хоть и бездонной, однако — настолько узкой, что, споткнувшись на одном краю, ничего не стоило угодить всем телом прямо на противоположный.
В один из дней произошло нечто, чего рыцарь Милон не смог объяснить сколь-нибудь вразумительно. Он несколько раз повторил, что на него нашло затмение. Признаться, я сомневаюсь, что имел место некий заговор с применением приворотного зелья.
— Или же пещерной омелы, — теперь уже я сам невольно вставил слово, поскольку всякие упоминания о глухонемых невольницах теперь вызывали у меня чувство настороженности.
— Пещерной омелы? — переспросил наместник, вновь приглядываясь ко мне с нескрываемым любопытством. — В этом я разбираюсь плохо. Куда лучше — в человеческих глазах. Я видел глаза той рабыни и ее брови. Поверьте мне, доблестное светило Кипра, что Бог недаром лишил ее сладкого голоса. В противном случае Акра рухнула бы безо всякого сопротивления. Сочетание прекрасного голоса с невиданной красотой означало бы соединение огня с дьявольской смесью селитры и серы, вспыхивающей, как сотня молний.
Между тем, история рыцаря Милона Безродного была уже близка к завершению.
И вот на следующее утро после моей вылазки к сарацинам последовала расплата рыцаря Милона за утрату священного плаща. В полном соответствии с параграфом Устава, он был изгнан из Ордена.
Но надо заметить, что рыцарь Милон имел возможность без особого труда вернуть свое былое достоинство. Для этого было необходимо простоять три дня на коленях посреди оружейного двора, громогласно произнося слова раскаяния.
Учитывая возраст и заслуги рыцаря Милона перед Орденом, комтур Акры сократил епитимью до одного дня. Однако рыцарь Милон с присущей ему твердостью отверг всякие к себе поблажки и заявил перед лицом капитула, что грех его слишком велик и не может быть заглажен за один или даже за три дня, а к тому же сам он слишком стар, чтобы выстаивать на коленях перед братьями, которые годятся ему в сыновья. Засим он подал просьбу либо утвердить его окончательное изгнание из пределов, подвластных Ордену, либо оставить его на положении простого доната, то есть мирского человека, добровольно оказывающего различные услуги Ордену.
Капитул, оставшийся в недоумении, постановил второе. Комтур долго и настойчиво допытывался у рыцаря Милона, при каких-таких загадочных обстоятельствах у него, опытного рыцаря, хватило умения утратить свой плащ в мирное время на ровной площади, которую можно исходить за час, и я сам посоветовал рыцарю Милону признаться, что известный пьянчуга-грек совратил его с пути истинного и вся беда началась с одной тайной попойки. Чем отговорился рыцарь Милон, я так и не узнал, но гнев комтура так и не разразился молнией над моей плешивой головой.
С того дня рыцарь Милон стал ходить в черной, грубой одежде, как монах. Комтур, однако, запретил ему заниматься работами, предназначенными для простолюдинов, и даже — поднимать тяжести.
Милон Безродный продолжал упражнять воинов на оружейном дворе до того рокового утра, когда ваш покорный слуга очутился на греческом корабле, в спешке и панике отплывавшем от пристани Акры, а рыцари Жиль де Морей и Милон Безродный поднялись на высоту самой высокой доблести, чтобы со стен высокой башни обозреть грешный мир и полчища сарацин, что, как муравьи, облепили со всех сторон Акру и уже подтачивали основание последней христианской цитадели на Святой Земле.
— Да, отец достойно кончил свои дни, — глубоко вздохнув, проговорил рыцарь Эд де Морей, и я заметил, что в его глазах блестят слезы. — Я предпочел бы остаться с ними обоими на главной башне Акры, чем продолжать это бесконечное движение по лабиринту тайн и заговоров. Увы, судьба распоряжается так, что и поныне приходится доверять пению скворцов. Ты очень удивил меня, Лев. Я ничего не знал ни о том, что этот Милон Безродный мог знать моего отца еще с Флоренции, ни тем более об этом странном ребенке. История Милона встревожила мое сердце, ибо весьма напоминает историю моего отца и, возможно, даже бросает свет на его собственные тайны, которые он таил от меня. В этом сходстве я различаю некий знак свыше.
— Свыше ли? — выразил Лев Кавасит некое сомнение, не понятное поначалу ни мне, ни рыцарю Эду. — Возможно, сходен механизм искушений, но чьей рукой он собран, этот механизм, надо бы проверить. Только как проверишь?
— Имя того престарелого родственника, который принял ребенка, осталось безвестным? — подал я голос.
— Как ни странно, я его запомнил, — хитро улыбнувшись, сказал наместник. — Этот же вопрос я задал в ту ночь рыцарю Милону, а тот накануне — Али Скворцу, и рыцарь Милон сказал мне, что старика называют Хасан Добрая Ночь, а на это я только и ответил Милону, что ночь действительно выдалась доброй.
Мы переглянулись с рыцарем Эдом, и по его выражению я определил, что дервиш по прозвищу Добрая Ночь ему не известен так же, как и тот суфий, который был моим проводником в Конью.
— Любезный повелитель Халдии, — обратился я к наместнику, — как мне стало понятно из вашего рассказа, мои черты и повадки напоминают вам того таинственного рыцаря Милона Безродного, которого знали вы и отец достойного комтура Эда.
— Именно так, мой драгоценный гость Робер, — подтвердил наместник, — и я подумал, не являетесь ли вы его родственником, а если так, то не узнаем ли мы наконец его высокородное происхождение.
Самым краем взора я заметил некую тревожную перемену в рыцаре Эде и, присмотревшись к нему с большим тщанием, внезапно разгадал тайный смысл происходящего за этой роскошной трапезой, и только лишь — первый тайный смысл, за которым, как за первой подкладкой купеческого кафтана, могли найтись и другие, стоящие подороже.
Итак, будь я чист в своем прошлом, достаточно наивен и достаточно высокороден, то несомненно должен был бы вспылить, ведь грек настойчиво намекал на мою возможную родственную связь с человеком, по природе, возможно, доблестным и великодушным, но все же носившим прозвище Безродный. Проявляя неописуемое гостеприимство, грек открыто, на виду у комтура, который был здесь залогом моей чести, ставил передо мной настоящий волчий капкан, словно желая проверить, что я за зверь, и заодно показать мою шкуру рыцарю Эду поближе. Наместник знал нечто весьма значимое, чего пока не знали мы оба.
— Увы, не имею источника, чтобы погасить огонь вашего вполне справедливого любопытства, великий кефал, — честно глядя ему в глаза, сказал я. — Обстоятельства моей судьбы еще более запутаны. Не то, что каких-либо родственников, но даже родного отца мне не пришлось увидеть ни разу в жизни.
— Вот как, достославный рыцарь! — сочувственно воскликнул наместник, при этом, однако же, вздохнув с явным облегчением. — У нас, собравшихся у этого камелька, весьма сходные судьбы. Вот еще одно странное совпадение.
— Так вы уверены, великий кефал, что я не мог оказаться тем самым ребенком, который был передан на руки сарацинам и дервишу Хасану по прозвищу Добрая Ночь? — совсем облегчил я наместнику его трудную охоту.
Тот переглянулся с комтуром, и я, к своему вящему спокойствию, увидел, что в глазах обоих засиял теплый огонь.
— Простите, мой юный Аполлон, старого, хитрого грека, за все его уловки, — широко улыбаясь, сказал наместник. — Теперь я вижу, что вас тревожат те же загадки и недомолвки судьбы. В том то и дело, что я очень хорошо помню, как старик произнес это слово: «Девочка». По своему же возрасту вы как раз подходите на место того младенца.
В это мгновение послышался звон колокольчика. Лицо наместника приняло суровое и властное выражение, он приподнял руку, и в покои быстрыми, но почти неслышными шагами вошел воин. Этот воин наклонился к уху своего господина и прошептал несколько слов. Наместник нахмурился и передал тайную весть нам:
— Недалеко от границы Рума убиты трое моих людей. Они даже не успели достать мечи из ножен. Убийц никто не видел.
— Какого вида раны? — задал я вопрос, явно опередив комтура.
Наместник спросил воина, а тот стал объяснять достаточно подробно, но по движению его рук мы с рыцарем Эдом безошибочно определили, что за звезды попадали на греков с темных небес.
— Похоже, Калибурн торопится к своему хозяину, — заметил я.
— Ассасины, — коротко сказал комтур наместнику, приоткрывшему рот от удивления. — Возможно, мы привлекаем их не меньше, чем Большую консисторию Дворца.
— Вот как, — твердым голосом произнес повелитель Халдии и, шевельнув пальцем, отправил вестника обратно, в холодный и опасный мир, расстилавшийся за стенами этого средоточия изобилия и тепла. — Значит, час настал. Ремни натянулись, и колеса заскрипели. В таком случае продолжим нашу трапезу и насладимся ею назло всем духам тьмы. Посмотрим, как ваши ассасины обучены счету, и спросим их потом, сколько капканов они насчитали.
— Твое слово верно, дорогой Лев, — поддержал наместника Эд де Морей, не поведя бровью. — Их черед трудиться, а наш черед отдыхать. Я вижу, что теперь наступает моя очередь коротко поведать свою собственную историю, которая пока неизвестна доблестному Роберу. Многое уже известно нам обоим, дорогой Лев, но кое-какие подробности, полагаю, не дадут скучать и тебе.
ВТОРОЙ РАССКАЗ ЭДА ДЕ МОРЕЯ, РЫЦАРЯ ОРДЕНА СОЛОМОНОВА ХРАМА И КОМТУРА КОНИЙСКОЙ КАПЕЛЛЫ
Сущая правда, готов снова поклясться, что я родился на земле русов, то есть так далеко на севере, что едва ли не в самой никем не виданной Гиперборее.
Моего отца звали Жиль де Морей, и он был рыцарем из тех, которые «с полными ножнами, но с пустыми кошельками». Военное дело было для него не развлечением или способом показать всему миру свои достоинства, а единственным лекарством от голода.
Его жизнь тоже начиналась самым странным образом и на землях, хоть и более теплых, но зато оставшихся для него вовсе не известными.
Своего отца, а моего деда, он не помнил. Мать и, значит, моя бабка, носила красивое имя Иоланда. Она-то и скрывала от маленького Жиля все сведения, касавшиеся жизни и деяний родителя, а только говорила, что он очень смелый и сильный воин и ушел в поход, завоевывать очень далекую и богатую страну. Возможно, если бы Жиль де Морей достиг совершеннолетия на глазах у матери, то он в конце концов смог бы выпытать у нее, откуда тянутся жилы нашего родового линьяжа. Однако судьба распорядилась так, что мать поцеловала его последний раз на Пасху, когда ему не хватало месяца до полных девяти годов, и с тех пор он ее больше не видел.
Первыми его воспоминаниями оставались картины безжизненной пустыни и обжигающих, как угли, камней под немилосердным солнцем. Во всяком случае, так он мне рассказывал, при этом всегда щурясь и облизывая губы, словно его губы еще с тех самых пор пересохли от зноя. Неизвестно откуда, но только прочь от какой-то беды, и неизвестно куда везла Иоланда своего сына, сопровождаемая тремя или четырьмя слугами. Дорога была очень долгой, и отец помнил, что Иоланда часто прикладывала к его губам серебряный крестик. Вероятно, он спас их жизни, но не избавил от злоключений.
Однажды их крохотный караван был окружен сарацинами. Они схватили под уздцы коней, повернули повозку в сторону от дороги и помчали так быстро, что повозка трещала и подскакивала на неровностях, отчего отец не один раз прикусил язык. Иоланда прижимала его к себе и обливала слезами.
Хуже, однако, не стало. В памяти отца остались просторные шатры, прохлада родников и какие-то замечательные сладости, от которых пальцы слипались так, что приходилось весь день напролет облизывать их языком. Приходили по двое воины в белых одеждах и с очень широкими саблями на поясах. Отцу дали подержать такую саблю, и он не смог оторвать ее конец от земли. Воины же громко смеялись и пребольно щелкали его пальцами по затылку. Они надолго уводили мать Жиля. Она потом возвращалась грустная, и Жиль этих часов не любил, потому что мать привлекала его к себе и так подолгу целовала его и гладила по голове, что становилось невмоготу.
Такая жизнь продолжалась довольно долгое время, пока вдруг за покровами шатра не начался очень громкий шум. Отец слышал истошные крики, звон оружия и беготню. Потом вдруг знакомые воины ввалились в шатер и рухнули на ковры. У обоих в спинах торчали кинжалы с золотыми рукоятками. Иоланда дико вскрикнула и закрыла собой сына, а он все пытался вырваться из ее рук, чтобы посмотреть, что же будет дальше.
А дальше было вот что. В шатер вошли какие-то люди, тоже сарацины, со злыми и страшными лицами, однако ими предводительствовал ветхий годами старичок с белой бородой и веселыми глазами. Первым делом он подмигнул Жилю и пропел петухом. Потом он приложил руку к сердцу, вежливо поклонился Иоланде и пригласил их выйти из шатра. Они вышли и больше никогда в него не заходили.
Наружи, как рассказывал отец не без усмешки, битва уже подходила к концу. Одни сарацины продолжали убивать других сарацинов, и мертвых, а потому уже не опасных для христиан, валялось кругом видимо-невидимо. Шатры были подожжены и ярко горели, а потом дым, поднимавшийся над этим местом, еще целый день был виден с дороги.
Иоланду и ее сына снова погрузили в крытую повозку, по признанию отца более роскошную, чем они имели вначале, и вновь, как я сказал, началась скучная и безжизненная дорога, длившаяся несчетные дни и прерывавшаяся на бессчетные ночи.
Однажды поутру мой отец Жиль увидел, что коричневая земля вот-вот кончится и начнется очень красивая, голубая и ровная. Понятно, что он увидел море. На голубой стороне стояла новая повозка, у которой еще не было колес, и выяснилось вскоре, что их не нужно вовсе. На повозке развевалось огромное белое знамя с алым крестом посредине. Жиль узнал потом, что оно такое огромное для того, чтобы ловить и не пускать ветер, который будет толкать его вперед вместе с повозкой.
На берегу стояли люди в других одеждах и другого вида. Сарацины долго переговаривались с ними, и новые люди не понравились Жилю, потому что присматривались к нему и матери очень сердито. Жилю вовсе не хотелось, чтобы они забрали их на свою повозку, которая должна была поплыть по воде, но, увы, судьба вовсе не собиралась исполнять желания моего отца.
Иоланду и ее сына погрузили на корабль, принадлежавший тамплиерам, он отплыл от берега, и сарацины вскоре сделались вдали не больше муравьев. Франки очень всполошились, а мой будущий отец вовсе не удивился, когда с берега донесся петушиный крик.
— Должно быть, этого дервиша звали не иначе как Хасан Доброе-Утро, — не сдержавишись, вставил я, и мы все трое посмеялись, а громче всех, подняв панику среди серебристых рыбешек, хохотал наместник Лев Кавасит.
Но то, как говорится, было только начало и день первый. Корабль плыл по морю, Иоланда как всегда целовала своего сына, а он как всегда норовил куда-нибудь побежать и куда-нибудь сунуть свой нос: то помочь кормчему, которому без Жиля было трудно управляться с рулем, то проверить, хорошо ли натянут парус.
Вдруг Жиль приметил вдалеке темную мушку и без опаски спросил у сумрачных, бородатых мужей, что за диковинка движется навстречу. Бородатые мужи, однако, сами задали Жилю вопрос: что он там разглядел своими острыми глазенками. Жиль присмотрелся и рассказал мужам, что видит такой же корабль, только парус у него не белый, а черный, и крест посреди не красный, а белый. Мужи, обманув моего отца, ничего ему не объяснили, а только очень всполошились. Они приказывали сворачивать то в одну, то в другую сторону, но встречный корабль оказался точно привязанным к кораблю тамплиеров невидимой нитью.
Наконец, видя, что встреча неизбежна, начальник корабля прогнал Иоланду и ее сына в узкую каморку, что располагалась на корме, а сам стал надевать свою кольчугу, блестевшую, как рыбья чешуя.
Вскоре корабли поравнялись бортами. Отец рассказывал, что раздался глухой удар, от которого их обоих швырнуло от одной стенки до другой, а вся палуба задрожала, и спустя еще мгновение до слуха донеслось то же самое, что было слышно, когда они сидели в сарацинском шатре и сами дрожали от страха: яростные крики, звон мечей и стоны умирающих.
На этот раз Жилю удалось вырваться из рук матери. Он приник к самой широкой щелке между досками и увидел, что встречный корабль привез много воинов, раза в два больше, чем было на их собственном, и все они теперь перебираются через борта к ним и лезут в драку, потому что воины в белых плащах вовсе не хотят принимать их на свой корабль.
На незваных гостях колыхались черные плащи с белыми крестами, а больше они ничем не отличались от франков и кричали на одном с ними языке. Копья и мечи тамплиеров поражали их, и кое-кто из них падал на свой корабль, а кое-кто валился в воду, но их все равно было очень много. Они стали теснить белых рыцарей, и вот уже тамплиеры стали падать на своем корабле и валиться с бортов в море.
Один из черных ударил мечом в дверь каморки, распахнул ее и, увидев перепуганную насмерть Иоланду, сделал весьма учтивый поклон.
«Моя госпожа, вам бояться нечего, — проговорил он. — Как только дело кончим, примем вас, как королеву. Придержите юного рыцаря, чтоб не попал под неверный удар».
Между тем, одни христианские титаны продолжали убивать других христианских титанов, и мертвых, а потому более не опасных для сарацин, уже валялось на корабле видимо-невидимо.
Наконец черные совсем одолели белых, покидали все их тела в море и выстроились в два ряда перед каморкой, где мать сидела, обняв свое единственное дитя, и громко взывала к Господу о милосердии.
Тот же рыцарь вновь приоткрыл дверь каморки, и все воины сразу припали на одно колено, а их предводитель, сотворив новый поклон, сказал:
«Простите нас, госпожа, за доставленное вам беспокойство».
Так мой отец вместе с матерью оказался во власти рыцарей Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, которые всегда враждовали с тамплиерами.
Перипетии последующих десяти лет сейчас малозначимы для нас, да к тому же, еще менее поддаются объяснению. Скажу только, что отец оказался в конце концов пажом при дворе у Морейского князя, который и дал ему прозвище скорее в насмешку, нежели для возвышения дворянского достоинства. Так что хоть мы с отцом и прозываемся Мореями, но, разумеется, не имеем ни малейшего права даже на один круглый камешек с берегов острова, который в древности именовался Пелопонесом.
Однажды Иоланда покинула Морейский двор, оставив сына одного. В более поздние годы, когда вместе с жаждой подвигов стала пробиваться и первая мужская поросль на лице Жиля, влюбленные в него дамы шептали ему на ухо в укромных закоулках Морейского дворца, что его мать была увезена в далекую и прекрасную Флоренцию, где была выдана замуж за весьма знатного человека.
В семнадцать лет отец отличался крепостью и ростом среди своих сверстников. Наконец настал день, когда он погрузился в теплую воду большой серебряной купели, потом вытерся белоснежными простынями и впервые надел кольчугу и шлем. Сам Морейский князь дал ему священный подзатыльник и, как вспоминал отец, весьма и весьма увесистый, от коего отец взлетел в седло и метко поразил копьем чучело, пробив его соломенную тушу насквозь. Удар очень понравился ландмейстеру северного Ливонского Ордена, гостившему в Морее, и он долго спорил с комтуром иоаннитов, а по завершении турнира с чучелом подозвал Жиля к себе.
«Мы договорились с доблестным комтуром, — сказал ливонец моему родителю. — Ты волен выбирать. Я предлагаю тебе крестовый поход на схизматиков на далеком севере, ибо это святое дело наилучшим образом закалит твое юношеское сердце. Комтур же предлагает тебе службу в теплых морях, не особо на первых порах опасную. Если ты сделаешь верный выбор, то все же будешь обязан оплатить свою благоприятную судьбу одним обязательством, а именно: по окончании похода отслужить верой и правдой Ордену Святого Иоанна не менее трех лет».
Отец сделал свой выбор, ничуть не медля и ничуть не колеблясь. Он рассказывал, как во время ночного бдения под оружием, стоя на коленях перед алтарем в пустом храме, он слишком часто отвлекался от молитв, воображая, как лихо скачет, подобно великому Зигфриду, герою германской древности, по холмам, вечно покрытым снегом и льдами.
Наутро, по обедне, священник вознес молитву к Господу, прося Его благословить Своею Всемогущею десницей меч, который слуга Его по имени Жиль имеет желание принять. Сам Морейский князь коснулся оружием плеч моего отца, и так он стал рыцарем, жизнь которого уже принадлежала двум Орденам, если не считать пока неудачных притязаний третьего.
В году одна тысяча двести сорок первом от Рождества Христова мой отец вошел на землю русов в рядах ливонского войска.
Весной следующего года русский князь Александр встретил рыцарей на льду большого озера и разбил их наголову, хитростью заставив столкнуться на полном скаку с заснеженными скалами берега.
Признаюсь, некоторую часть рассказа рыцаря Эда я от удивления пропустил мимо ушей. В моей памяти вставали до самых небес покрытые снегами горы, и я никак не мог вообразить все величие картины невиданного сражения, в котором воинство рыцарей-великанов обломало свои копья об громоздившиеся в недоступных высотах хребты и вершины.
Между тем, Эд де Морей продолжал историю своего отца.
Итак отец оказался среди взятых в плен. Русский князь так поразил его своим умом и великодушием, что он дал клятву верно служить князю в течение семи лет, и тот, приняв клятву, дал отцу место в своем войске.
В ту пору русы очень страдали от нашествий монгольских язычников. Один из монголов, кажется, сборщик дани, польстился на красивую русскую девушку и схватил ее прямо на улице.
Все были напуганы и поначалу пытались вразумить номада, страшась даже приблизиться к нему, такой ужас навели на всю страну эти степные варвары.
Совершенно случайно — но случайно ли? — мимо проезжал отец. Девушка сразу запала ему в сердце, а большего терять ему было нечего. Вступившись за нее, он сразился с монголом и проткнул его насмерть. Из-за этого дела у князя Александра было много хлопот с завоевателями, однако, как рассказывала мне моя мать, князь потом всегда улыбался, когда смотрел на отца. Он сам, то есть князь Александр, вызвался быть сватом, так что согласия будущего тестя, одного из малых княжеских вассалов, не пришлось долго ждать, хотя отец в той земле и считался для всех иноверцем.
Имя моей матери было Мария.
Есть у меня также брат, и, надеюсь, он все еще жив и здоров. Вообразите, он почти на двадцать лет старше меня. В нашей семье он был первенцем. Роды были тяжелы, и мать дала обет, что если разрешится благополучно, то посвятит ребенка Богу. Молитва была услышана, и, надо сказать, мой брат Иоанн с самого детства имел влечение к духовной жизни. Семнадцати лет он был пострижен в монахи под именем святого воина Георгия и, вероятно, еще ныне подвизается Богу где-то среди великих снегов и великих болот. Хоть он в нашем понимании и схизматик, но мне кажется, что на моей судьбе сказывается благотворная сила его молитв.
Обстоятельства сложились так, что семь обетованных лет службы утроились, а отец все еще оставался на земле русов. Впрочем, он всегда вспоминал то время как лучшую часть своей жизни.
Он сопровождал князя Александра во всех его походах. Но однажды, возвращаясь домой из столицы монгольских ханов, князь заболел и в дороге умер. Отец еще некоторое время держался среди приближенных князя и покинул русские земли через год после того, как родился я, Эд де Морей. Незадолго до этого стал возрастать слух, будто бы отец отравил князя в пути в угоду ливонцам. Хотя защитников отца оказалось больше, чем злых языков, он посчитал честь главным своим богатством. Моя мать рассказывала, что целое войско, еле держась в седлах после застольных проводов, провожало нас до самой границы.
Во Франции моему отцу пришлось искать источник средств, а руки его умели хорошо делать только одно дело: держать меч и щит.
Он подался к иоаннитам, которые уже давно забыли о нем. В Орден его по причинам, о которых можно догадываться, не приняли, но пообещали поддержать семью за некую особую службу, о смысле которой я узнал только в тот самый день, когда прощался с отцом в Акре, и он, видимо, чувствовал, что мы расстаемся уже до Царства Вечного.
Отец вступил в крестоносный отряд, который затем влился в ряды войска монгол-несториан, наступавшего на одну из столиц сарацин, город Дамаск. Мать рассказывала, что один из потомков Чингис-хана спас отца в бою от гибели. Вот каков урок Провидения!
Можно было ожидать, что дух отца наконец остынет и он потянется к тихому семейному камельку, ведь он нес на плечах тяжесть жизни удивительно долгой для храброго воина, он повидал на своем веку междоусобную вражду как христиан, так и неверных, становился жертвой злых наветов. Ничуть не бывало! И в пятьдесят лет он любил пустить коня во весь опор, потрясая окрестности боевым кличем, и покрутить копье ловчее любого рыцаря из молодой сотни. Борода его седела, а черные кудри, каких и не найдешь среди франков, легко отражали осаду прожитых лет. Помню, как грозно горели его глаза, когда он вернулся из того похода, привезя золотых юсуфи и динаров столько, что хватило бы на жизнь и его внукам. Оттуда, с Востока, он привез также столько тайн и откровений, что, когда настал мой срок принимать наследство, у меня голова целый месяц шла кругом, и я даже несколько дней пролежал в постели, обуреваемый видениями. То, что узнал мой отец, и то, чему он посвятил остаток жизни, свилось в нить и моей собственной судьбы.
Мы жили в Париже. Отец то исчезал снова, то появлялся, обнимая нас с матерью так крепко, что у обоих перехватывало дыхание, а потом неделю кряду болели все ребра.
В год, когда мне исполнилось пятнадцать лет от роду, моя добрая мать умерла от скоротечной горячки, а еще год спустя отец получил известие о том, что во Флоренции находится при смерти его собственная мать, а моя бабка. Как я понимаю, долгожительство по отцовской линии у нас в крови. Не знаю, по какой причине он не смог взять меня с собой во Флоренцию, хотя мне было очень любопытно взглянуть на свою таинственную бабку Иоланду, о которой осталась легенда, будто она была какой-то принцессой, некогда увезенной в плен сарацинами.
Отец пристроил меня служить в замке одного из знатных дворян, уважавших его доблесть. Отец сказал мне, что сам начинал с этого и в свое время мог похвалиться куда менее пышным линьяжем, чем я. Шлепнув меня по затылку, он уехал, а вернулся только через полтора года, и, надо признаться, что на этот раз я впервые увидел его хмурым и нелюдимым. Отец не раскрыл причин своей меланхолии, и я тогда подумал, что, может быть, на смертном одре Иоланды выяснилось о нашем линьяже нечто такое, чем и вовсе хвалиться не стоит.
Потом он исчез снова, но перед отъездом положил передо мной на стол большой кошелек с деньгами и долго смотрел мне в глаза, не говоря ни слова.
Наконец он сказал, что, вернувшись, хочет увидеть своего сына человеком не только смелым, но образованным и рассудительным, превзошедшим своего отца в разумении тайн видимого мира. Так, вскоре после того, как он вновь скрылся за холмами и лесами, я стал студентом, чтобы, по словам отца, «пробраться в самую зеницу великого зла не только с мечом, но и ключом от потайных дверей».
Не могу признать, что из меня вышел прилежный студент, купивший себе стекла для глаз по десять золотых за штуку. Книгам я предпочитал хорошую выпивку, а о всяких тайнах, которыми бредил отец, вспоминал, как о любопытной сказке. Я любил ходить по оружейным лавкам, и, если бы не обещание, данное отцу, то спустил бы разом свое содержание на один добрый клинок. Впрочем, кое-какие знания мне все же пригодились.
Через два года отец вернулся и крепкой рукой стащил меня со школярской скамьи, чему я и сам был рад несказанно.
«Теперь пора делать дело, — объявил он мне. — Мы поедем в Акру и вступим в Орден Рыцарей Храма».
Святые исповедники!
Твердыни Заморской земли, Акра, доблестные рыцари, принявшие Крест — все это было так же далеко от меня, как и те удивительные места, в которых пропадал отец и откуда он возвращался, пропитанный необыкновенными запахами. Да, все это было так далеко, что казалось сном. И вдруг этот сон разом опрокинулся в явь!
Вновь целую неделю я бредил какими-то грезами и не смыкал глаза по ночам, а вернее спал с открытыми глазами на ходу, как одержимый лунной болезнью.
Одно меня беспокоило: Орден Рыцарей Храма. В Университете я наслышался о нем всякого, и теперь терялся, чего же страшиться больше — ангельского целомудрия или же возможного долга целовать высокое начальство в задницы или в места, куда более дремучие.
Отец говорил: не страшись ничего, ибо есть цель, которая все простит и очистит. Действительно, пришлось пройти и претерпеть многое: срам и доблесть.
О, Акра! Великая история! Наш славный хозяин знает эту историю лучше меня. Мне же очень не хочется, чтобы вся наша славная трапеза утонула в моем рассказе, как и ночь нашей встречи, достойной пера любого королевского хрониста. С другой же стороны, не достойно оставлять тем, далеко не худшим годам моей жизни всего одну короткую страницу. Поэтому с вашего позволения, досточтимый Робер, я оставлю эту историю до заката следующего дня, дабы она помогла нам скоротать время очередного привала.
Затаив дыхание, слушали рассказ рыцаря Эда де Морея мы оба, хотя наместник еще недавно казался мне человеком всеведущим.
— Достопочтенный сын Феба, — проговорил он, вновь возвратившись взором к роскошному столу и теперь выбирая, за какой бы еще кусочек взяться. — Сегодня ты оказал мне честь своим посещением, чтобы удивить по меньшей мере дважды. Признаюсь, многое, особенно из того, что касалось юных лет твоего отца, мне открылось впервые. Зато последний год его жизни мне известен лучше, чем тебе. И скажу, что если в пятьдесят он выглядел на тридцать, то на самом исходе седьмого десятка он казался куда бодрее сорокалетних стариков. Таким он и остался навсегда в моей памяти: седобородым богом, грозно возвышающимся в поднебесье. Они оба были красавцами на той башне, твой отец и Милон, который был лет на двадцать помоложе твоего отца. Сарацины задирали головы, цокали языками и торопились наверх, а оттуда уже сыпались вниз, как спелые яблоки.
Когда слуга вновь наполнил мой бокал, я набрался смелости и предложил выпить за честь славного рода, к которому принадлежал рыцарь Эд де Морей, дабы род его не пресекался до скончания веков и все будущие потомки являли бы собой примеры доблести и воинского искусства, причем о последнем да будет свидетельствовать долголетие, подобное долголетию царя Мельхиседека.
Рыцарь Эд был несомненно польщен, однако посмотрел на меня, то ли с некоторым смущением, то ли с недовольством. Я понимал, что своей застольной речью задел один из главных обетов рыцарей Храма. Наместник же рассмеялся и захлопал в ладоши.
— Ах, какой меткий стрелок наш несравненный Робер! — воскликнул он. — За его слова я готов немедля выехать и скакать всю ночь по горам, дабы доставить к утру новую бочку апулийского. Брат мой Эд, если твоему роду суждено продолжиться по воле священного возлияния, я залью вином весь водоем и погружусь в него, подобно бегемоту.
— Брат мой Лев, — коротко усмехнулся рыцарь Эд и также коротко выразился: — Года не те, да и плащ не позволяет.
— Какие года?! — искренне ужаснулся Лев Кавасит, и глаза его округлились. — В тебе же, мой Геракл, такой сплав кровей, что даже если ты будешь лежать на смертном одре при последнем издыхании, все равно твой соловей еще сможет спеть такие песни, на которые отовсюду слетятся и самые привередливые соловьихи! Неужто у тебя до сих пор нет на примете достойнейшей из достойных?
Тут у меня кусок застрял в горле, а рыцарь Эд с явным смущением отвечал:
— Лев, если и есть такая, то она вовсе не годится для того дела, о котором ты думаешь. Прошу тебя: не становись бегемотом. Бесполезные и опасные старания.
— Не путай меня, дорогой Парис, — набычился наместник Халдии. — Если есть, то посылай меня сватом. Уверяю тебя, лучшего свата не найдешь даже в Индии. А если нет, то нынче же вылезу из этой проклятой норы и клянусь, что отыщу тебе самую смазливую и невинную птаху там, где прикажешь: хоть в Трапезунде, хоть во Флоренции, хоть в Париже. А что касается ваших уставов, то в Писании, кроме устава Моисеева, я что-то ничего иного не припомню. К тому же сказано: не зарывай талант в землю, а семя, которым одарил Творец и тебя, и твоего отца, разве не талант?
Подороже всякого золота, так и знай, и попробуй мне чем-нибудь возразить.
— Сватом посылать тебя, дорогой Лев, теперь уж, как видно, недалеко, — пересилив смущение, отвечал рыцарь Эд в тон своему старому товарищу, — да только делать этого не стоит.
— Все эти ваши загадки, — сердито пробормотал наместник. — Мы, греки, старый народ. Пусть хитрый, зато рассудительный. Все эти ваши игры в прекрасных Дам и драконов кончились у нас еще за тысячу лет до пришествия Христова. О, рыцари! Тело вы отдаете в бою за Христа, а сердце оставляете Даме. И не оправдывайтесь тем, что служите Пресвятой Деве. Все это только робкое покрытие греха. Я вот что скажу: гораздо вернее было бы поступать наоборот, если не можете отдать Богу всего себя разом. Из-за этой путаницы и начались все ваши беды с сарацинами.
— Мудрый змий! — покачал головой рыцарь Эд де Морей.
— Ты мне так и не сказал, что ты собираешься делать и примешь ли мои услуги, — не оставил своих злостных намерений хитрый грек. — Или так и будешь поливать слезами до старости батистовый платочек своей ненаглядной?
«Если бы то был платочек!» — подумал я.
— Если бы то был простой платочек! — усмехнулся рыцарь Эд.
— А что же она бросила тебе с балкона, когда ты на турнире в ее честь повергал наземь противников? — любопытствовал наместник.
— Если я когда-нибудь сумею поймать этот предмет из дамской шкатулки и останусь в живых, то я обязательно покажу его тебе, дорогой Лев, — сказал рыцарь Эд. — И прошу тебя, давай оставим этот разговор до лучших времен.
— Все тайны, тайны, — недовольно вздохнул наместник. — Я слишком стар, чтобы ожидать лучших времен.
Наш разговор, отдалившись от всяких опасных и двусмысленных образов продолжался еще около часа, а потом как бы сам собой наступил черед отдохновения.
Прежде, чем развести нас по опочивальням, наместник доверительно посмотрел мне в глаза и сказал:
— Нашему воинственному Нарциссу я такое предлагать не смею, зная его нрав. К тому же если захочет, то сам возьмет. А вам, мой дорогой гость, я по праву хозяина не смею не предложить. Если вы тоже храните обет верности, то обязаны простить меня. Короче говоря, если желаете обновить свои силы перед дальней дорогой, то любая из этих прекрасных нимф к вашим услугам.
Я весь покрылся потом еще за мгновение до того, как мой взгляд разом объял всех трех арфисток, потупившихся с самой искусительной стыдливостью.
Жар наполнил мои чресла, но я собрал в сердце всю силу своей воли и учтиво отказался, рассыпавшись в благодарностях.
Наместник улыбнулся и не менее учтиво наклонил голову, показав мне свою благородную плешь.
Если посреди Коньи, утопавшей в садах и базарах, полных всякой снеди, капелла Ордена являла собой остров сурового воздержания, то греческая крепость Кигана, окруженная голыми скалами и мрачным безлюдьем, казалась противовесом, брошенным на другой конец северной дороги. Предоставленная мне постель была такой мягкой, простыни так тонки, и с такой изысканной нежностью ласкал дыхание аромат благовоний, что легче было встать и простоять всю ночь на одной ноге, чем отгонять прочь самые искусительные мечты и помыслы. Как ни старался я превозмочь себя, только молитва моя была слишком слаба, и всякое терпение сгорало дотла в жару молодого тела, загасить который могла в ту ночь разве одна лишь горбатая с косой, если бы в Книге судеб был ей на то приказ.
Я переваливался с одного бока на другой, комкал простыни и маялся, и стоило только закрыть глаза, как сразу появлялись прекрасные нимфы. Они кружились передо мной, теряя свои одежды и ленты. Потом оставалась только одна, перебиравшая струны арфы. Арфа в ее руках превращалась в огромную звезду с острыми, как сабли, лучами. Эта звезда вырывалась из рук нимфы и начинала вертеться перед моими глазами, норовя рассечь меня сразу на несколько частей.
Открыв глаза в очередной раз, я увидел перед собой настоящую нимфу, как раз ту, что показалась мне среди трех арфисток самой миловидной. Она сидела поодаль на небольшом тюфячке и как только увидела, что я смотрю на нее, вспорхнула и неслышными шагами подошла к моей постели. Я не двинулся и не проронил ни единого слова. Тогда она осторожно присела на самый краешек. Так птаха, уже привыкшая кормиться из рук, прыжок за прыжком подбирается к зернам, насыпанным на ладони. Я затаил дыхание, и тогда она, запустив руку под простыню, нежно схватила соловья, который уже вытянул шейку и был готов вот-вот запеть.
— Чего желает господин? — коверкая слова, прошептала нимфа на франкском наречии.
Тут я ожил и честно сдался искушению на самых почетных условиях. Зато не успела догореть свечка, как самые греховные помыслы и видения оставили меня в покое.
Вновь открыв глаза — на этот раз оттого, что меня теребили за локоть, — я увидел прямо над собой рыцаря Эда, державшего в руке масляную лампу.
Нимфа вовсе не застыдилась его, а только сладко зевнула и повернулась от огня на другой бок.
— Мессир! — прошептал рыцарь Эд. — Черед новой дороги. Медлить никак нельзя.
Не проспав, кажется, и часа, я вскочил и почувствовал прилив удивительной бодрости, за что не постыдился поцеловать нимфу в оттопыренное ушко и пообещать в него множество всяких подарков на обратном пути.
За дверями искусительной кельи меня ожидали и рыцарь Эд, и наместник. Последний пожелал мне доброго утра и справился, все ли меня устроило и достаточно ли мягка была постель.
— Я прекрасно провел ночь, — признался я, рассыпаясь в благодарностях. — Сдается мне, что первый раз за нынешний год меня не одолевали страшные сны.
Рыцарь Эд собственноручно разбудил и своего нынешнего оруженосца Франсуа, ведь, напомню вам, раненый Жак остался в пределах Рума. Как оказалось, Франсуа утешила в эту ночь сестренка моей соблазнительницы.
Несмотря на спокойствие, видимую неторопливость и даже шутки, дух некой опасной погони довлел тем утром.
Наместник повел нас в глубины крепости по узкой лестнице, и я насчитал не меньше полтысячи ступенек, решив, что теперь, после всех искушений и соблазнов, наступила пора посетить преисподнюю. Когда лестница кончилась, начался тайный ход, просверленный в скалах. Наше тяжелое дыхание отдавалось со всех сторон эхом, наводя на мысли о грешниках, заточенных в мрачных пустотах Тартара. Наконец нас подхватила новая лестница и, вознеся на доступную ей высоту, поставила на небольшую площадку, окруженную отвесными стенами. Там нас ожидали три жеребца, вовсе не похожие на тех, которые довезли нас накануне до ворот Киганы. Над нами клубился густой туман, пропитанный слабой желтизною наступавшего дня.
— Здесь есть неприметная тропа, — проговорил наместник, отдуваясь после тяжелого подземного перехода. — Не робейте. Кони обучены. Бросьте поводья, и они сами выйдут на дорогу. Там наткнетесь еще на развилку: держитесь двугорбой горы.
Затем наместник Халдии Лев Кавасит посмотрел в замутненную высь и протянул руки к рыцарю Эду.
— Прощай, брат Эд, — тихо произнес он, и я заметил, как дрогнул его голос.
— Прощай, брат Лев, благодарю тебя за все твои благодеяния, — также дрогнувшим голосом ответил комтур, и титаны обнялись.
— Эта мгла не мешает твоему отцу видеть нас с небес, — проговорил наместник. — Он-то ведает, что хоть мы здесь, внизу, не знаем всего, зато обучены верности, которая восполняет любую неосведомленность.
Не менее трогательно простившись со мной, наместник вновь обратился к рыцарю Эду и произнес слова, которые явно намекали на ту самую погоню, призрак которой никак не мог добиться от нас учтивого обращения:
— Они воображают, будто весь мир можно перевернуть с помощью золота и угроз. Что ж, мы приготовили им приятную неожиданность. Теперь пусть попробуют сунуть ко мне свой нос, я им устрою вторую Акру. Я встречу их достойно, помня о примере твоего отца.
Мы поднялись в седла и последний раз оглянулись на гостеприимного хозяина мрачной страны.
— Не беспокойся, Эд, — громко сказал он, улыбаясь, и взмахнул руками, словно разгоняя клубы тумана. — Я позабочусь о том, чтобы достойнейшая из достойных не попала на тот званый пир. Я отправлю в ад только избранных. А вас да хранит Господь наш Иисус Христос на этой грешной земле.
Волшебные кони греческого бога Гелиоса вынесли нас из тумана прямо под живительные лучи дневного светила. Безо всякой передышки мы покрыли целый переход и, наскоро отдохнув, снова пустились вскачь. Только на закате меня догнали вести о том, что же происходило в крепости, пока пели горные соловьи.
Рыцарь Эд рассказывал обо всем спокойным голосом, с теплой улыбкой вспоминая о престарелом патриции.
Оказалось, что великий кефал Халдии Лев Кавасит получил из Трапезунда два послания, а не одно. О первом мы были наслышаны. Во втором же таилась смерть рыцаря Эда. Рукою одного из ближайших сановников василевса, а именно трапезундского севастократора, было начертано повеление покончить с провожатым юного посланника как с человеком, знающим то, что по завершении его миссии более не положено знать. Сановник императора не сомневался, что Льву Каваситу удастся устроить трогательное прощание посланника с франком из Ордена Храма, после чего пропажа тамплиера не вызовет у посланника никаких вопросов.
Лев Кавасит, сидя в своем горном дупле, поразмыслил и решил исполнять свою собственную волю. Именно ею объяснялись словесные ловушки, которые он расставлял передо мной во время нашей трапезы. Наконец он убедился, что сам неведомый посланник достаточно наивен и несведущ в замыслах власть и облака предержащих.
Отправив меня, как Старец Горы — своего юного ученика, в райский уголок, где водятся прекрасные гурии, наместник затеял с рыцарем Эдом военный совет, и, потолковав, они пришли к заключению, что замыслившие убийство все же произошли из рода смертных людей, а не демонов, и вполне способны не знать всего или, вернее, знать не все: к примеру, того, что Жиль де Морей почитается наместником Халдии наравне со святым воином Георгием и древним героем Ахиллесом, и это почитание распространяется также на его законного сына, Эда де Морея.
Наместник советовал рыцарю Эду вернуться в Конью по тайной, мало кому ведомой тропе, но комтур наотрез отказался, желая довершить свою миссию до конца. По его словам, наместник даже обрадовался такому повороту.
«Прекрасно! — сказал он. — Мы поделим опасность поровну. Башня, что стояла на защите Акры, часто снится мне в последнее время».
Пока мы наслаждались приятным разговором и роскошной трапезой, много разных событий происходило под покровом тьмы. Во-первых, исполняя волю главы ассасинов, подбиралась к цитадели Черная Молния. Во-вторых, лучшие воины наместника с небывалым упорством охотились за одной из шаек, грабивших селения и караваны, и двоих разбойников удалось поймать как раз на рассвете. Наместник раскрыл свой замысел, обещав выдать труп одного из негодяев за умерщвленного комтура и тем самым ненадолго отвести глаза соглядатаев.
— Мудрый Лев предсказывает, что человек, который должен принять вас, мессир, на «Морфее», возможно, подчиняется тому же самому приказанию, — добавил рыцарь Эд. — Я допускаю, что старый змий прав.
— То есть человек, исполняющий вместе с вами одну и ту же миссию, может стать вашим убийцей, брат Эд, вы это хотите сказать? — отказываясь что-либо понимать, развел я руками.
— Почему бы и нет? — смиренно вздохнул ком-тур. — Тот, кто вас встретит, мессир, может быть по своей природе неплохим человек, и даже хорошим, честно исполняющим свой долг и разделяющим вместе со мною одну и ту же мечту об очищении Храма. Но здесь, на земле, каждый из нас остается лишь малым звеном в цепи одного великого замысла, и надо принимать без ропота то, что должно случиться.
— Великий механик убедил вас, брат Эд, что весь мир — не более, чем огромная машина для поднятия тяжестей, — сказал я, противясь всей душою той безжизненной и немилосердной мудрости.
Комтур ничего не ответил мне, а только уперся взглядом в какой-то невзрачный камень, лежавший подле нас.
— Так может, и сама затея очищения — не более, чем искусная ловушка для простаков с добрыми сердцами? — хладнокровно предположил я. — И поставлена как раз для тех, кто жаждет хоть самого малого очищения духа. Всем по отдельности грезится, что они делают хорошее дело, а если всю мозаику сложить, то получится косматая рожа, смеющаяся над всеми нами.
— Кощунствуете, мессир, — бросил комтур, однако без величественного гнева.
— Я сам себе кажусь стариком, — признался я, — мудрым змием, который уже утомлен коловращением веков. Но скажите, брат Эд, выходит, что ошибиться — не грех? Если дело чудится тебе богоугодным и ты отдаешь ему свои силы и свое сердце, а потом вдруг окажется, что тебе просто-напросто заморочил голову тот, кого лучше не поминать, то что же тогда — Бог само собой простит?
— Уже поздно говорить об этом, — поморщился комтур. — Ибо сказано: не убий.
Мы помолчали, греясь на солнышке и любуясь небольшими темными бабочками, что перепархивали с одного блеклого цветка наступившей осени на другой.
— Брат Эд, почему вы назвали меня Робером, даже не предупредив заранее? — спросил я, когда мы вновь собрались в дорогу.
— Эта тайна не объясняется никак, — усмехнулся рыцарь Эд. — В спешке и неразберихе я просто не догадался договориться с вами о том, как мне представить вас наместнику. Имя Робер первым пришло мне на ум. Что же касается Кипра, то я знал, что наместник побывал за свою долгую жизнь во многих странах, но пристать к берегам Кипра ему так и не привелось. Поэтому если где и можно было спрятаться, то только на Кипре.
— Даю вам клятву, брат Эд, что я разберусь во всех рычагах этой проклятой машины, — с непоколебимой решимостью пообещал я комтуру, ибо почувствовал в те мгновения прилив неудержимых сил и ярости. — Я узнаю, чьи руки вертят все эти колеса. А если механика не будет даваться моему разумению, как наместнику Льву, тогда я разломаю весь механизм на мелкие щепки.
— Всему свое время, — без всякого одобрения добавил свое слово комтур и, ударив жеребца под ребра, пустил его вскачь.
Впереди нас ожидал еще один невысокий перевал, и, когда мы поднялись на его гладкую горбинку, у меня захватило дух. Внизу передо мной колыхалось опрокинутое на землю небо. Мелкая рябь неторопливо двигалась по нему, и ветер подносил нам оттуда холодный, но казавшийся родным, запах легкой и блаженной пустоты.
— Море, — с наслаждением произнес я заветное слово, и оно потревожило до самого дна сумрак моей запретной памяти, который тут же отозвался ожиданием новых опасностей. — Мне кажется, что я уже плавал по морю. Мне кажется, что я уже приблизился к своей родине.
— Будем считать ваши предчувствия, мессир, за хорошую примету, — предложил рыцарь Эд, и, когда мы немного спустились и обогнули один из скалистых выступов, он вытянул руку и указал в сторону нагромождения огромных камней. — Сейчас вы увидите Трапезунд.
Город, расположенный на самом берегу, в горной котловине, и окруженный густыми купами темно-зеленых деревьев, открылся нашим взорам, поблескивая золотыми вершинами христианских храмов.
Еще около получаса мы, уже не торопясь и внимательно осматривая окрестности, приближались к его грозным крепостным стенам. Солнце опускалось вместе с нами, готовясь оставить верхнее небо и погрузиться в нижнее, более густое и синее.
Вскоре через стены разлился мерный звон церковных колоколов и наполнил собой все расщелины и пустоты. Длинная процессия черных и золотых одежд потянулась от городских ворот в сторону монастырских построек, почти не приметных среди садов и ухоженных возвышенностей.
— Звонят к вечерней службе, — сказал комтур. — Насколько мне известно, завтра празднуют память какого-то святого, особо почитаемого именно здесь, в столице Империи. В такой час чужестранцам лучше не привлекать к себе особого внимания, поэтому я предлагаю отложить осмотр города, а сразу направиться к пристани и разыскать «Морфея».
— Еще не поздно отказаться от излишних опасностей, брат Эд, — осмелился я в последний раз напомнить комтуру о подозрениях, высказанных наместником Халдии. — Уверяю вас, что я способен отличить корабль от телеги.
— Больше не говорите об этом, мессир, — отрезал рыцарь Эд. — Свое дело я доведу до конца. К тому же мне очень хочется взглянуть на своего преемника. Я обязан дать ему хотя бы возможность честно начать свое. А там посмотрим, что будет.
— Можно сказать, что я всем вам, по сути дела, не нужен, — вновь дал я волю своему змеиному суемудрию. — У вас своя игра, дела чести и справедливости, а я просто мячик, который бросают друг другу через натянутую веревку.
Рыцарь Эд страшно посмотрел на меня, и мне пришлось вжать голову в плечи.
— Больше слова не скажу, — пообещал я.
Когда мы достигли лавочного ряда, расположенного за городскими стенами в непосредственной близости от пристани, комтур заговорил со мной с прежней братской приветливостью:
— Еще в одном я согласился с наместником. Он считал, что следует, не скупясь, накормить семью хорошего портного и выставить вас, мессир, на пристань богатым и благополучным греком. Такой обман, по его мысли, может внести некоторую сумятицу в ряды возможных врагов и даст нам несколько мгновений для того, чтобы верно оценить обстановку.
Должен прибавить к словам рыцаря Эда, что деньги, выпорхнувшие из наших рук на румской границе, вернулись, подобно ручным голубям, в Кигане да еще привели за собой новую стаю. На деньги, решительно предложенные нам великим кефалом, мы теперь сами могли купить себе подходящий корабль вместе с командой гребцов, матросов и охранников. Наместник посоветовал комтуру найти лавку некого Никиты Сирианина. Мы без особого труда разыскали такую, и вскоре, портной Никита Сирианин, подшив рукава и штанины и подогнав еще кое-что по моей мерке, выпустил наружу не иначе как сынка самого севастократора. Я весь так и светился великолепной парчой тоги-далматики и роскошным плащом, на котором сцепились в беспощадном единоборстве леопард и матерый вепрь.
Тихий и ясный вечер уже вступил в свое недолговечное владение горами, городом и морем. По пристани неторопливо прогуливались знатные торговцы, окидывая хозяйским взором запираемые амбары и клети и при этом морща лбы, чтобы вернее подсчитать в уме свои дневные барыши. Тут я видел и сирийцев, и греков, и генуэзцев. Подвыпившие матросы громко поругивались на самых разнообразных наречиях, и можно было подумать, что строительство Вавилонской башни заброшено совсем неподалеку.
Оставив лошадей и Франсуа у одной из таверн, мы направили наши стопы вдоль набережной.
Разумеется, мне приходилось принимать поклоны, и даже самые напыщенные негоцианты, двигавшиеся навстречу, подобно боевым слонам Ганнибала, — и те, как приметил все примечающий от ожидания опасности комтур, оглядывались мне вслед и недоуменно почесывали свои густые бороды.
Внезапно рыцарь Эд склонил голову к моему плечу и горячо прошептал:
— Мессир! Взгляните на щит, прикрепленный к носу того корабля. — И он сдержанным жестом указал мне, куда следует смотреть.
Я увидел золотую лилию, украшавшую серебряное поле небольшого щита. Парус на корабле был убран, и, кроме двух охранников, лениво покачивавших длинными пиками, я никого из людей не приметил.
— Герб Флоренции, — пояснил рыцарь Эд и затем продолжал руководить моим взором. — Хозяева, как я вижу, стоят на берегу. Вон они, мессир. Похоже, что флорентийцы.
Двое, по виду средних лет, стояли лицом ко мне, а третьего, с кем они вели оживленную, но негромкую беседу, я видел со спины. Все трое были одеты в короткие, сверкавшие на закате золотым шитьем одежды из тонкого алого сукна, в бирюзовые плащи с разбросанными по ним золотистыми лилиями, а головы их были покрыты темно-лиловыми шапками, по бокам которых свисали на грудь шелковые ленточки.
— Приготовьтесь, мессир, — прошептал рыцарь Эд, и я невольно приложил руку к длинному кинжалу, висевшему у меня на поясе и прикрытому складками моих широких греческих материй.
— Следите за своими руками, мессир, — укротил мой пыл рыцарь Эд. — Еще не случилось ничего плохого. Не намекайте на угрозу. Для начала мы просто прогуляемся мимо них.
И мы непринужденно двинулись вдоль берега, старательно наигрывая немую песню праздного времяпрепровождения.
Я заметил, что неплохо понимаю многие слова, долетавшие до моего слуха со стороны флорентийцев. Правда, я сразу засомневался, что смогу без труда заговорить на их языке. Конечно, я поделился своими наблюдениями с комтуром.
— О чем они говорят? — живо полюбопытствовал рыцарь Эд.
Пока мы приближались к ним, я уловил несколько слов о выгодном обмене флоринов, о каком-то ростовщике Цадоке и о вине Вазелонского монастыря, без которого лучше не возвращаться. Но, как только мы сами сделались предметом наблюдения, всякий разговор стих, и мне оставалось только беспомощно переглянуться с рыцарем Эдом.
— Теперь отступать некуда, — шепнул рыцарь Эд, остановился и, с важным видом обозрев всю пристань, обратил свой взгляд на знатных господ из Италии.
Он начал с самых учтивых приветствий и пожеланий на франкском языке, присовокупив обращение «синьоры». Двое смотрели на нас во все глаза, а третий, по-видимому самый знатный и гордый, повернулся к нам только тогда, когда комтур завершил свое приветствие.
Этот третий, оказавшийся безбородым и самым молодым из всех, раскрыл рот и, ничего не сказав, выпучил на меня глаза.
— Святые исповедники! — с не меньшей растерянностью пробормотал и рыцарь Эд.
— Что случилось? — спросил я его, едва успев вспомнить, что надо говорить, как условленно, на довольно ломаном франкском.
— Святые исповедники! — изумленно развел руками комтур. — Да ведь вы схожи, как родные братья!
Невольно я пригляделся к этому молодому чужеземцу, поскольку мне до сих пор не представлялась возможность запомнить свое собственное лицо,
Я путешествовал по его чертам, как искатель самородков по неизведанной земле. Он занимался тем же самым, поэтому нам обоим легко было на некоторое время оставить пристойную для такой встречи учтивость и стоять друг перед другом в молчании. Мой взгляд охватил в целом его довольно узкое лицо, отметил высокий и ровный лоб, а также строгий излом красивых черных бровей, потом двинулся вниз по хребту прямого носа, задержавшись на немного выделявшейся плоской горбинке, запечатлел небольшой рот и губы, которые, как мне показалось, должны были быть все же тоньше и моих. Еще я запомнил его глаза, карие и блестящие, однако испускавшие взгляд холодный и недоброжелательный. Они были посажены достаточно глубоко, и эту черту усиливала выпуклость скул. Замечу также, что он имел гладкие черные волосы, опускавшиеся из-под шапки до плеч.
— Тибальдо! Тибальдо! — весело заговорили, его единоплеменники, оправившись от изумления. — Разузнай скорее! Вдруг среди греков отыщется у тебя богатой родни больше, чем во Флоренции. Хорошее дело! Не грех нырнуть в крещальную купель еще раз.
Рыцарь Эд представил меня сыном крупного торговца из Керасунта, второго по величине города греческой Империи, а себя самого честно выдал за франкского рыцаря-тамплиера, водящего дружбу с богатым наследником и иноверцем. По взгляду флорентийца можно было сказать, что он поверил скорее в первое, чем во второе.
Эд де Морей добавил также, что его приятель разыскивает корабль, направляющийся в Италию, для того, чтобы в самое ближайшее время достичь Европы и выбрать там кое-какие товары по своему вкусу.
Молодой флорентиец назвался Тибальдо Сентильей и, с гордой небрежностью кивнув в сторону корабля, сказал, что не кто иной как он сам является владельцем этой торговой галеры и готов оказать нам услуги, как только дождется еще одного человека, с которым уже имеет подобный уговор.
Тогда рыцарь Эд сделал незаметный, но вполне учтивый знак рукой, приглашавший флорентийца двинуться нам навстречу еще на пару шагов, дабы отойти от остальных итальянцев для беседы с глазу на глаз.
Мои богатые одежды делали свое дело, и флорентиец приблизился к нам без особых колебаний.
— Какую цену предложит досточтимый синьор Сентилья? — спросил рыцарь Эд.
Флорентиец назвал некую сумму, от которой рыцарь Эд поморщился, как истинный скряга.
— Я слышал, на «Морфее» берут дешевле за проезд, — хмуро пробормотал он.
— Кто это вам сказал? — возмутился Сентилья.
— Торговец кожами Юстин, — дал ответ комтур.
— Не знаю о нем ничего, — усмехнулся флорентиец и презрительно сплюнул в сторону, — кроме того, что он любитель приврать. Вот «Морфей», а вот я, его владелец.
Тут я вытянул перед ним левую руку, отвернул в сторону края греческих одеяний, пригодных для того, чтобы спрятать под ними все, что угодно, хоть двуручный меч вместе со щитом, и показал флорентийцу тайный знак на маленьких ножнах.
— А что вы можете сказать, синьор Сентилья, о владельце этого предмета? — тихо спросил я его, уже чисто выговаривая слова на франкском языке.
Флорентиец содрогнулся и побледнел.
— Мессер! Я рад приветствовать вас, — взволновано проговорил он, используя именно итальянское обращение: «мессер». — Я готов служить вам. Прошу вас, давайте сохраним на короткое время те же самые роли. Это просто необходимо.
Потом он бросил на рыцаря Эда короткий и острый взгляд, который мне совсем не понравился и навел на мысль, что в горах Халдии мы удостоились встречи с самым великим провидцем нашего времени.
Итак, как мне показалось, флорентиец побледнел еще сильнее, а рыцарь Эд сохранил невозмутимое выражение и даже добродушно улыбнулся.
— А где вы остановились, досточтимые синьоры? — спросил Тибальдо Сентилья.
— Пока что на том самом месте, где мы с вами разговариваем, уважаемый синьор Сентилья, — ответил рыцарь Эд явно в приподнятом настроении, которому я пока не находил причины.
— Очень хорошо! — еще более радостно проговорил флорентиец, укрепив меня в своих подозрениях. — Корабль будет готов отплыть наутро. А я уже сейчас готов предложить вам довольно сносное местечко, где можно скоротать ночь. Мы даже можем не заходить в город, чтобы вовсе не иметь дело с ужасными поборами. Эти несносные греки напридумывали такие подати и сборы, какие и евреям в головы не приходили. Здесь неподалеку есть очень приличный постоялый двор. Жаркое не подгорает. Крысы не видал ни одной. И кстати, отхожее место поливают смесью мела со щелоком. Я вам скажу, там не зазорно остановиться и владетельному князю. Соглашайтесь, синьоры.
— Мы с удовольствием примем ваше предложение, — сказал рыцарь Эд, словно бы назло мне избегая моего взгляда, в котором предупреждение об опасности пылало, должно быть ярче всякого греческого огня.
Пока мы поднимались в сторону приличной, но таившей невесть какие ловушки, гостиницы, мой нежданный «братец» болтал без умолку. Пока наши желудки терпели голод, наши мозги успели пересытиться всевозможными сведениями о каких-то фокейских квасцах и красотках из генуэзского квартала, о том, как различать по качеству ворс на коврах из Атталии, и о том, где можно взять подешевле ладанную камедь.
Воспользовавшись узкой лестницей, я потянул комтура назад и шепнул ему:
— Брат Эд, дело сделано. Самое время вам исчезать из вида.
— Мессир, — шепнул он в ответ. — Прошу вас, не думайте, что только вы один горите желанием заглянуть во внутренности механизма. Да, я сделал свое дело, а потому и жизнь мне более не дорога. Считайте так. К тому же мои последние дни наполнены до краев. Никогда я еще не чувствовал себя таким бодрым и жизнерадостным. Представьте себе, что, подобно Одиссею, я оказался между Сциллой и Харибдой. В горах меня несомненно отыщет Акиса. И помните мои слова: разве я смогу обнажить клинок. Здесь же еще остается возможность сунуть его в капкан вместо своей ноги. Наконец мне не терпится проверить предсказания нашего Дельфийского оракула. Если они окажутся верными, я на обратном пути воздам ему достойную хвалу.
Я понял, что уговорить истинного рыцаря обойти опасное место мне никак не удастся, да и вправду нет никакой необходимости настаивать на своем. Я лишь поклялся про себя, что приложу все свои силы, чтобы оказать ему помощь в трудный час, и, не исполнив долга, не ступить ногой на корабль.
Пропустив мимо ушей тюки с черным иракским мылом и ирландской саржой, я выступил на шаг вперед флорентийца и спросил его, что слышно из Франции.
— Что слышно? — переспросил он. — Да ничего особенного. Король встряхивает Святой Престол и не без успеха: с него уже сыпется позолота. Я плавал по делам в Александрию. Возможно, что-то упустил. А вы ждете каких-то известий из Франции, мессер ?
— Жду, — коротко ответил я, оставив флорентийца в некотором недоумении.
Постоялый двор действительно оказался весьма пристойным местом для ночлега, хотя, конечно, проигрывал в сравнении с крепостью, затерянной в безлюдных горах Империи. Свежее белье и горячее кушанье как будто дожидались нашего прихода.
В отличие от рыцаря Эда, спокойно смотревшего прямо перед собой, я озирался по сторонам, явно роняя свое достоинство, однако ничего не мог с собой поделать и примечал всякий уголок, всякую бочку, где может притаиться убийца, присматривался ко всем окошкам, которые можно было использовать в качестве лазейки для маневра или бегства, додумывался, где могут быть расположены потайные дверцы, ведущие на задний двор.
Еще у самых дверей комтур что-то коротко шепнул на ухо Франсуа, и тот исчез. Затея комтура хотя и осталась непонятной, однако все же убедила меня в том, что рыцарь Эд не готовит себе участь жертвенной овцы.
Когда мы расположились за столом, то, несмотря ни на что, завели с флорентийцем веселую беседу. Ей весьма способствовал вид умело поджаренной баранины, которую мы запивали легким греческим вином. Разумеется, мой бокал прикоснулся к губам только вслед за бокалом флорентийца, что, я полагаю, не скрылось от него, раз в его глазах блеснули холодные огоньки.
— Наше сходство все же не дает мне покоя, — сказал я. — Вы, я думаю, тоже не считаете его простым совпадением.
— Истинно так, мессер, — с гордостью проговорил флорентиец. — Если между нами нет родственной связи, значит, существует связь высшая, духовная. Это еще раз убеждает меня в том, что я причастен к великой миссии.
— И все же любопытно было бы узнать о вашем происхождении, досточтимый Тибальдо, — настойчиво заметил я. — Может быть, мы все-таки найдем общие нити.
Взгляд флорентийца потух, а губы, поджавшись, стали еще тоньше.
— Увы, я не могу похвалиться своим родом, — признался он, — поскольку своего отца не знаю совсем.
— Вот мы почти уже родственники, — со смехом заявил я. — Со мной случилась та же самая история.
Флорентиец посмотрел на меня с некоторой тревогой и, вновь бросив короткий взгляд на рыцаря Эда, добавил, что зато может не стыдиться своей матери, которая прожила благочестивую жизнь во Флоренции и, вдовствуя, находилась под покровительством известного купеческого рода Ланфранко.
— Простите мою назойливость, а не оказывалась ли ваша достопочтенная матушка во времена своей молодости пленницей каких-нибудь султанов? — перейдя все границы приличия, спросил я, считая, однако, что в качестве посланника таинственных сил имею право на любые дознания.
Именно в таком духе и воспринял мое любопытство Тибальдо Сентилья, раз уж не вспылил, а только потупился.
— Ничего подобного не рассказывала мне ни она, ни люди из дома Ланфранко, которым я обязан своим нынешним положением, — смущенно проговорил он.
Больших усилий стоило мне сдержать вопрос о том, не была ли благочестивая матушка Тибальдо Сентильи глухонемой красавицей.
Между тем, флорентиец посмотрел на рыцаря Эда так, будто вознамерился одним честным взглядом наверстать упущенное и заслужить его братское доверие.
— Могу добавить только то, что ношу в своей памяти родовое предание, которое способно вызвать ваше любопытство, — проговорил он почти шепотом. — Я слышал, будто бы толика крови, текущей в моих жилах, досталась мне от некого знатного рыцаря, который был как франком, так и тамплиером.
— Действительно, предание не только любопытно, но и загадочно, — согласился комтур, — особенно если учесть обет безбрачия, который тамплиеры принимают так же, как и монахи.
Флорентиец не обиделся, а только пожал плечами.
— Я не настаиваю на его правдивости, — без боя отступил он. — Более того, сомневаюсь не менее вашего. Имя этого предка, напоминающего мне мираж в пустыне, не возбуждает в моем сердце никаких чувств. Я не обнаружил его в анналах славных деяний и подвигов прошлых времен.
— Зато наше любопытство теперь возбуждено вдвойне, — проявил учтивость рыцарь Эд. — Каково же оно, это имя, откройте нам.
— Гуго, — сказал флорентиец. — Гуго де Ту. Наступила очередь рыцаря Эда бледнеть, превращаясь на несколько мгновений в каменное изваяние. Вероятно, и сам я не сумел скрыть совершенной растерянности, поскольку Тибальдо Сентилья удостоил нас обоих поровну таким взглядом, в котором подозрительность быстро обратилась в лукавство.
— Вам же, досточтимые синьоры, — недоверчиво проговорил он, — это имя как будто известно. Или же я ошибаюсь?
— Не ошибаетесь, синьор Сентилья, — решительно ответил рыцарь Эд, оправившись от неожиданного наскока. — Совпадение то или знак свыше, утверждать не берусь, но без утайки скажу, что ваш легендарный предок был одним из самых благородных и доблестных рыцарей, кои мне известны.
— Вот как! — воскликнул флорентиец со вздохом, полным радости и облегчения. — Верно, знак свыше. Наконец-то я смогу узнать достоверную историю его жизни. Не соблаговолите ли, доблестный комтур, поведать ее мне, ведь уже завтра нам, по всей видимости, придется расстаться, если не до Второго Пришествия, то несомненно на годы.
— Почитаю за долг исполнить ваше желание, синьор Сентилья, — сказал рыцарь Эд, однако по его голосу я определил, что для исполнения такого долга комтуру придется объехать какую-то высокую гору. — Рассказ займет достаточно времени, и потому я хотел бы перед тем ненадолго отлучиться и взглянуть, как там Франсуа устроил наших коней. Он, знаете ли, еще не опытен в этом деле.
Я смотрел на рыцаря Эда во все глаза, но он, как бы намеренно отводя свой взгляд в сторону от меня, неторопливо поднялся, затем повернулся, показав мне спину, и стал спускаться вниз по деревянной лестнице, громко и, я бы сказал, повелительно, скрипя ступенями.
Спохватившись вновь, я так и впился глазами в другого собеседника, оставшегося на месте прямо напротив меня. Мне показалось, что черты флорентийца еще сильнее заострились, а во взгляде появился хищный блеск.
— Что же, — вздохнул Сентилья, — приятно ожидать мгновения, когда тайное станет явным.
Я с улыбкой согласился, чувствуя, что все мои мускулы невольно напряглись, точно для опасного прыжка через глубокую пропасть.
— Пока доблестный рыцарь отсутствует, я предлагаю вам, мессер, совершить возлияние в честь наших предков, как известных, так и оставшихся покрытыми тьмою времен, — изрек флорентиец таким плавным голосом, будто произносил по памяти поэтические строки.
Он оторвал пузатый кувшин от стола и, придерживая одной рукой его вместительную округлость, другой рукой стал клонить его горлышко к моей глиняной кружке.
В тот же миг, когда виноградная кровь полилась в кружку, призрак огромного крыла, охвативший стену и потолок, мелькнул за спиной флорентийца, и что-то, уже за моей спиной, с легким шуршанием устремилось вниз.
Я вздрогнул, ибо черное крыло несомненно выдало человека, с ловкостью опытного охотника метнувшегося вслед за комтуром.
— Что с вами, мессер? — хладнокровно полюбопытствовал флорентиец, проявляя особую учтивость в наполнении моей кружки тонкой и медленной струйкой вина.
— Ничего особенного, синьор Сентилья, — едва не позевывая, ответил я, готовый сорваться, как стрела с натянутой до плеча тетивы. — Сущая мелочь. Коротко говоря, вдруг приспичило. Хочу воспользоваться вашим советом и посетить редкостное по своей чистоте и убранству отхожее место этого дворца гостеприимства. Не соизволите ли указать мне путь в это достопримечательное заведение?
— С радостью, мессер, — кивнул флорентиец, ничуть не дрогнувшими руками завершая свое важное дело. — Я немедленно провожу вас туда.
— Не стоит трудов, — сказал я, морщась, как бы от уже неудержимой потребности. — Просто наставьте на путь истинный.
— И все же позвольте оказать вам, любезность, мессер, — коротко улыбнувшись, уперся на своем Сентилья и, поставив кувшин на стол, легко и живо вскочил с места.
Я заторопился вперед него, немного горбясь и для видимости прижимая руку к животу. На этот раз я мог позволить себе поозираться вокруг вдоволь. Я еще раз запечатлел в памяти все ходы и пустоты, а затем юркнул в темную клетушку, предназначенную для дел, которые на животе, а не на уме.
Первым движением рук я набросил крючок, а потом до боли в глазах пригляделся к отверстию в досках, дабы не провалиться в ад раньше флорентийца.
Второе отверстие, а именно окошко, которое вело, если не в рай, то по крайней мере на просторы грешной земли, оказалось не шире адского хода и годилось разве что для кошки.
Мое отчаяние оказалось, однако, преждевременным: прямо над окном я нащупал грубую доску, которая, немного поколебавшись, осталась в моих руках.
Я поставил ее к стенке и стал громко кряхтеть, освобождаясь от греческой роскоши.
— Готов подержать вашу одежду, мессер, — тихо посочувствовал мне снаружи Сентилья.
Я уверил его, что человеку, всю жизнь ходившему по нужде в патрицианской тоге, никакой помощи не требуется, и вышвырнул комок парчи наружу. Ни единого звука не донеслось в ответ, и это убедило меня в том, что засады или просто какого-нибудь зеваки по ту сторону стены нет.
Остальное оказалось делом навыка, явно приобретенного в неких особо опасных отхожих местах, о которых моя память пока умалчивала столь же упорно, сколь и о том, где я научился всего по пяти звездочкам, видимым в окошке, определять, на какую сторону света придется высовывать голову или же зад.
Выскочив в ночную тьму, я сначала прислушался, потом перебежал за угол, потом живо перемахнул еще через одну стену и оказался во дворе гостиницы, как раз между конюшней и дверью, что вела в таверну и жилые помещения.
Главной целью я ставил себе не столько защитить комтура от врагов — за себя-то он мог постоять, — сколько поторопить его, предупреждая о явно сгущавшейся опасности.
Вжавшись спиной в стену и озираясь, как вор, я стал готовить новую перебежку для того мгновения, когда только увижу рыцаря Эда или его возможного убийцу.
Наконец в дверях конюшни показался некто, кого я по очертаниям тела и по походке определил как комтура. Я не стал его окликать, тихо наблюдая за его перемещением от конюшни до дверей таверны. Комтур шел очень медленно, словно делая вид, что отправляется опрокинуть в себя последний кувшин, содержимое которого уж верно свалит его с ног до самого утра.
Всеми своими повадками жертва добилась того, что охотник оставил осмотрительность, на которую был способен. Невзрачная тень отделилась от одного из столбов сеновала и, став еще ниже, двинулась вслед за комтуром. Куда было этой пигалице меряться силами с грозным великаном, шествовавшим сквозь сумрак ночи! Но как раз видимой немощностью та тень и была опасна.
Я заметил тонкую руку, поднимавшуюся над головой призрака, и в то же мгновение превратился в сокола, камнем бьющего с высоты полевую мышь.
В два стремительных прыжка я настиг убийцу, налетел на его плечи, одной рукой обхватил за шею, другой вцепился в кулак, сжимавший смертоносный кинжал, и, наконец, опрокидывая злодея на левый бок, вдавил с размаху ему в пах пятку левой ноги.
Только когда мы оба рухнули на землю и убийца издал глухой стон, я заметил, как радостно забилось мое сердце от того, что на этот раз в мои руки попалась вовсе не Черная Молния, а ведь еще мгновение назад у меня даже в мыслях не было, что засаду на постоялом дворе могла устроить именно она, а вовсе не флорентиец.
Убийца не столько пытался вырваться сам, сколько норовил вывернуть руку и ужалить меня жаждущим крови острием.
Отсвет из таверны сверкнул на золотистом и чуть скошенном книзу лезвии, и вдруг моя память, молчаливая, как старая могила, шепнула мне, что из кулака негодяя торчит настоящий ассасинский кинжал священной мести, а именно — Зуб Кобры, то есть двойной кинжал, меньшее лезвие которого входит в рукоятку большего, как в ножны.
Собрав в один вздох все свои силы, я рывком перевернул негодяя лицом в землю, уперся коленом в локоть несущей смерть руки, схватил за рукоятку малый Зуб и, легко вынув его, привычным и совершенно невольным движением воткнул в плоть, в то самое место, где кость ключицы, по которой заскользило лезвие, сама направила жало в глубокое сплетение жил, в которых таится одно из средоточий жизни.
Тело подо мной затрепетало, разрываясь с душою, только что желавшей горького изгнания чужой души, и замерло.
— Брат Эд! — крикнул я, срывая голос от яростного шепота. — Все открылось! Уходите!
Темный великан, ничего не говоря мне в ответ, что я объяснил естественной в тот миг необходимостью полной тишины, быстрыми шагами двинулся к конюшне, зашел в нее и тут же стал выводить коня.
Меня тем временем ожидало новое испытание меткости. Дверь таверны распахнулась, и свет еще на один миг разоблачил мрачную фигуру, покрытую широким балахоном. Подобно демону смерти бесшумно заскользила она по двору напрямик к конюшне.
Из скрюченных пальцев мертвеца я вырвал большой Зуб Кобры, пригодный для броска лучше малого, и кинжал тут же устремился к новой жертве, хищно засвистев полостью и оставив далеко позади мое благоразумие, слишком поздно подсказавшее мне, что перебегающего к конюшне человека может вести цель вовсе не злодейская.
Кинжал, более не подчинявшийся моей воле, угодил именно туда, куда и должен был угодить — в хребет между лопаток. Незнакомец содрогнулся, замерев на месте, , и хрипло застонал. Он, однако, не повалился на землю, а, с трудом повернувшись, неверными, шаткими шагами двинулся обратно, к дверям таверны.
Сразу два желания толкнули меня с места и бегом повели к нему: я торопился скорее узнать, что еще за хищник попался мне на этой ночной охоте, а заодно воспрепятствовать ему и не пустить в таверну, полную всякого народа.
Я пересек его путь, схватил за правую руку и концом малого Зуба несильно ткнул в бок, чтобы в случае схватки на кинжалах сразу докончить кровавое дело.
Капюшон свалился с его головы, повиснув сзади на ассасинском жале, и в то же мгновение дверь таверны приоткрылась, пропуская во тьму луч света, который едва ли мог рассеять мировой мрак, зато озарил лицо моей жертвы.
У меня подкосились колени, а сердце едва не выскочило из горла наружу! Передо мной из последних сил держался на ногах не кто иной как сам Тибальдо Сентилья! Рот его был приоткрыт, и с губы свисал темный сгусток слюны.
Он, уже смутно воспринимая происходящее, повел головой из стороны в сторону и, заметив меня рядом с собой, остановил на мне гаснущий взор.
— А это ты, брат, — с трудом выдавил он из себя слова, которые поразили меня до глубины души, подобно кинжалу не стальному, но духовному. — Что-то сильно жжет там, сзади. Посмотри.
Еще на несколько мгновений помедлил я с ответом, и более ответ не потребовался. Силы оставили флорентийца, и он стал валиться наземь. Выронив кинжал, я подхватил Сентилью и уложил на бок. Дыхание его стало шумным и частым, что свидетельствовало о близком конце.
Укладывая его руки, я вдруг обнаружил свое оправдание: он все еще крепко сжимал тонкий и длинный стилет, вещь, не слишком потребную для прогулки в конюшню.
Едва я подумал про конюшню, как двери ее распахнулись, и наружу, сильно пригнувшись, выехал всадник, которого я, разумеется, принял за рыцаря Эда. Прямо во дворе он пришпорил коня, и тот, громко застучав по камням подковами, поскакал прочь.
Сразу вслед за тем широко распахнулись двери гостиницы, и свет хлынул во двор, тут же выдав меня дюжинам глаз. Постояльцы и, должно быть, хозяева взбудораженной толпой протискивались в двери, мешая друг другу и ругаясь. Я услышал крик на итальянском:
— Воры! Уводят коней!
Оставаться здесь хотя бы еще на один вздох казалось теперь непозволительным безрассудством.
— Прости, брат! — коротко шепнул я флорентийцу, даже не задумываясь, почему называю истинного убийцу так же, как назвал меня он, и, вскочив на ноги, полетел в темноту, вслед за конем.
— Убийцы! Убийцы! Хватайте убийц! — догнал меня еще один истошный крик, прибавивший мне сил и рвения.
Я припустил, не разбирая никаких дорожек, куда глаза глядят, хотя и глаза не могли мне подсказать никакого пути посреди черной трапезундской ночи.
Надо признать, что исподнее, которое носят греки, гораздо более пригодно для ночного бегства по камням и колючим кустам, нежели узкие европейские одежды. Я порядочно исцарапался, цепляясь за шипы и ветки, и кое-где прорвал штаны и тунику насквозь, но, однако, вовсе не страдал от пота или тесноты в самых заветных местах тела.
Преодолев изрядное расстояние, я решил перевести дух и оглядеться по сторонам.
Увиденное трезвым взором — а к тому времени я уже совсем протрезвел, — вовсе не обрадовало: следом за мной двигался широким полукольцом многочисленный рой огромных светляков. То была ночная охота с факелами. Крики «Убийцы! Хватайте убийц! Собирайтесь все, мы ловим убийц!» доносились со стороны постоялого двора, и от моря и, наконец, как мне почудилось, отовсюду. Эти крики как бы зажигали своими звуками все новые и новые факелы. Действительно, уже и со стороны моря текло в мою сторону, рассыпаясь ярким ожерельем, скопление огней.
Я еще раз огляделся и понял, что, несмотря на ночь и кажущуюся легкость спасения, дела мои совсем плохи. Видно, что местные жители уже имели опыт подобной охоты и знали, что преступник, конечно же, будет стремиться прочь от города, и потому вернее всего — загнать его к подножию крутых скал, которые возвышались как раз в той стороне, где жгучие светляки еще не затевали своей мстительной пляски. Там, у этих скал, преступнику оставалось либо переломать себе кости на остром крошеве у самого подножия, либо сорваться с высоты — ибо сама ночь несомненно заставит беглеца сделать одно неверное движение, — либо сдаться на гнев или милость преследователей.
«Вот бы узнать, что бы сделала на моем месте Черная Молния?», — подумал я и вовсе не кстати вспомнил ее прекрасные тонкие пальцы и даже поймал себя на том, что тянусь губами во тьму.
В это время меня подхватил, словно таинственный теплый поток небесной силы, мерный колокольный звон, доносившейся из горного мрака, и вскоре я увидел еще одну череду огней, очень ярких и величественных. Подобно золотой реке, освещая торжественную и неторопливую процессию, те огни плыли от гор в сторону городских стен. Суета же тех огоньков, что служили моим преследователям, показалась мне теперь несуразной сутолокой мелких природных духов в сравнении с величавым шествием ангелов.
Я догадался, что вижу ту же самую процессию, которую мы заметили еще с рыцарем Эдом, когда спускались к столице с гор, и теперь эта процессия направлялась от монастыря обратно к городским воротам.
И тут мне пришло в голову, что самой хитроумной уловкой будет затеряться прямо в этой процессии и вместе с ней проникнуть в город, откуда уж наутро поискать какой-нибудь более подходящий выход из беды.
«Да, — утвердил я свою мысль. — Они будут искать меня где угодно, только не в городе».
Так, набравшись бодрости и решимости, я помчался навстречу ангельским огням.
Шустрым зверьком я дважды пересекал широкую и ровную дорогу, по которой шествие двигалось к городу, пока не подобрал себе между камней подходящее местечко, где и притаился в ожидании.
Окруженная золотым ореолом, что пронизывал и радостно оживлял ночной сумрак, деревья и камни не менее, чем на двадцать шагов по сторонам от дороги, приближалась ко мне та процессия, и сердце мое билось все чаще при виде этого необыкновенно красивого зрелища. Многоголосый хор, певший незнакомые мне божественные гимны, казалось, вздымался к звездным небесам и все сильнее заглушал растекавшийся по округе колокольный звон.
Впереди процессии ровным и неторопливым шагом двигался отряд могучих воинов в сверкавших золотом доспехах и шлемах, и высокие их копья поблескивали наконечниками, выкованными из того же драгоценного металла. Копья плотно окружали еще более высокое древко с хоругвью, на которой был запечатлен лик Иисуса Христа. Та хоругвь осеняла самую сердцевину отряда: там, словно в священной чаше с алым вином, светился императорский пурпур. Молодой цезарь Трапезунда вместе со своей супругой двигались к городу пешком, ступая по грешной земле, как простые смертные.
Вслед за отрядом императорского телохранения, облаченные в золото и серебро, ступали тяжелым шагом иерархи Церкви и Дворца. Они прошествовали надо мной, подобно сонму архангелов. А за ними потянулась долгая вереница монахов-черноризцев, своими огнями разгонявших мрак ночной, а пением — мрак душевный. В отличие от воинов и всевидящих иерархов, взоры монахов были устремлены в глубины духа, и потому я смело позволил себе приподнять над камнями голову и оглядеться.
Зловещие огни моих преследователей все так же трепетали и колебались в глубинах непросветленной материи, однако, хотя и приблизились с двух сторон, к императорской процессии, но не ближе, чем на полусотню шагов, словно то были лесные духи, встревоженные пением священных гимнов и псалмов.
Наконец миновала и армия воинов духовной брани, за которыми уже нестройной толпой потянулись земледельцы и городской люд, ремесленники, торговцы, женщины. Где-то среди них мне и нужно было найти себе новое место. Я напряг мускулы, готовый юркнуть в эту толпу, как мышь. Вдруг увидел я среди них дюжину дев, ступавших с понуро опущенными головами, и не поверил своим глазам, явно различив в их числе тех самых веселых нимф, что услаждали наши земные чувства в горной цитадели наместника Халдии. Впрочем, не было времени объяснять себе их появление: в конце концов наместник мог отправить их на быстрых конях в столицу еще раньше нас, ведь им не нужно было прятаться и сновать по подземным лабиринтам.
Отгоняя от себя всякое недоумение, я заметил короткую вереницу слепцов и решил, что личина слепого подойдет мне лучше всех всего. Через несколько мгновений я уже ступал по открытой для всех любопытных взоров дороге, положив руку на плечо одному из несчастных и закинув голову к небесам, на которых более не имел права видеть ни одного небесного бриллианта.
Посреди ночи врата Трапезунда покорно открылись перед повелителем и его верноподданными, а когда чинно и неторопливо затворились за нашими спинами, я подумал со злорадством, что, пожалуй, слишком много слепцов осталось коротать ночь, размахивая бесполезными факелами в глубинах хаоса.
Теперь необходимо было найти себе новую норку. Я с бессовестной наглостью озирался по сторонам, но пока видел вокруг только глухие стены.
Внезапно одна из женских фигур отделилась от процессии и, пройдя в сторону несколько шагов, с подозрительной быстротой шмыгнула в какой-то темный угол или проход. Я хотел было последовать за ней, но все же побоялся попасть впросак, не зная здешних нравов.
Между тем, головная часть процессии уже вышла на широкую площадь перед величественным храмом, так ярко озаренным со всех сторон факелами и свечами, что даже плоские купола сияли, подобно показавшемуся из-за края земли солнцу.
Я с нетерпением ожидал, пока подтянется на то просторное место и хвост шествия: там уж, на площади, я несомненно отыскал бы себе подходящее для ночлега место или провел бы ночь среди народа, праздновавшего неведомое мне небесное торжество.
Не успел я так подумать и даже порадоваться второму способу времяпрепровождения, как впереди, у самых врат храма, вдруг раздались крики, началась какая-то сумятица, и копья стражников закачались, как тростники на сильном и порывистом ветру. Вся процессия разом смешалась, теряя гармонию чинов и сословий.
Воспользовавшись неразберихой, я стал пробираться вперед и вдруг увидел картину, заставившую меня превратиться в соляной столб, вроде дочери Лота, которая вопреки предупреждению свыше оглянулась на гибнущие от гнева Божьего города, Содом и Гоморру. Четверо великанов-стражников волокли куда-то хрупкую девушку, ту самую, что юркнула из процессии в темный переулок. Покрывало упало с ее головы, и я узнал в девушке Акису по прозвищу Черная Молния! Увы, то была моя Акиса!
— Что же это такое? — невольно пробормотал я.
— Убийца! — раздался за моей спиной чей-то голос. — Ее подослали убить нашего славного василевса. Это жало направлено из Константинополя или из Рума. Но, хвала Провидению, все обошлось.
«Акиса! — отчаянно воззвал я в мыслях. — Зачем тебе еще этот василевс?! Умоляю, скажи!»
Но я уже не имел времени для раздумий, так же — как и места для спокойного ночлега. Взглядом ночного хищника я выбрал себе подходящую жертву среди монахов и, подскочив к ней, горячо зашептал, срывая со своего пояса кошелек:
— Святой человек! Спаси грешного! Мне нужна прямо здесь твоя ряса. Вот тебе пятьдесят золотых, на которые ты сможет прокормить сотню нищих, а если откажешься, то сделаешь меня еще грешнее. — И я показал ему малый Зуб Кобры.
Приняв новую личину, я проскользнул дальше и, достигнув едва ли не седьмого неба, остановил свой выбор на том придворном «ангеле», что показался мне важнее и величественнее остальных. Еще одного мгновения хватило мне, чтобы приникнуть к его золотым ризам и благоухавшему сирийскими ароматами телу, а затем немедля уколоть его в бок воплощением тайного убийства, скрытом в просторном монашеском рукаве.
— Стой тихо! — шепнул я. — Иначе умрешь. Я — ассасин, и моя жизнь теперь не дороже твоей. Говори тихо: кто ты?
— Севастократор, — дрожащим шепотом ответил придворный.
— Так это ты приказывал убить комтура тамплиеров? — на миг обрадовался я удивительному совпадению.
— Не я, а — мне, — ответил сановник.
— Кто?
— Я получил хартию с печатью василевса.
«Что же, мне теперь заступать на место Акисы?!» — в другой миг растерялся я, однако собрался с мыслями и решил все делать по порядку.
— Куда ее понесли? — осведомился я.
— В темницу, — был ответ.
— Казнят? И когда?
— Завтра поутру. Сегодня праздник.
— Бери двух охранников и двигайся к темнице. Немедля.
Так, вплотную друг к другу мы покинули площадь и в сопровождении двух воинов достигли мрачных казематов. Вися на острие ассасинского кинжала, как рыба на крючке, севастократор раскрыл все затворы именем повелителя Трапезунда, и Акиса предстала передо мной.
— Ты свободна. Беги, — радостно сказал я ей, уже готовый умереть на том самом месте, отрекшись от своей великой миссии. — О себе я позабочусь.
— Я не оставлю тебя никогда, — твердо прошептала она, и мое сердце вспыхнуло любовью ярче всех факелов Трапезунда, соединенных в один сноп.
Так же держа на острие сановника, я вышел с Акисой из темницы и повелел греку:
— Пусть охранники отойдут на сотню шагов.
Пока воины исполняли приказ, прошедший через двое уст, вражеских и своих, Акиса скинула женские одеяния и осталась в своих обычных, мужских.
Я столкнул сановника с ног, и мы помчались по темным лабиринтам Трапезунда. За нашими спинами зашумела погоня, и факелы преследователей множились на каждом повороте.
И вдруг перед нами выросла глухая и непреодолимая стена. Лихорадочно оглядевшись, я осознал, что мы угодили в тупик и окружены со всех остальных сторон. Вся ночь оказалась одной хитроумной ловушкой, и деться было уж некуда.
Грозные воины подступили к нам плотным строем и почти приткнули остриями копий к стене.
— Акиса! Любовь моя! — сказал я, прощаясь с жизнью. — Сокровище моего сердца и свет моей души!
Я смело взял ее за руку и прикоснулся к ее тонким пальцам губами.
— Отдай мне кинжал, — ласково проговорила она, а когда я повиновался, так же нежно добавила: — Если ты попадешься им живым, они утром ослепят тебя и будут долго мучить. Я же умею прикасаться с сердцу безо всякой боли. Позволь, любимый, спасти тебя от позора, как и ты спас меня. Я приду за тобой следом. Я не заставлю тебя долго ждать, любимый. Скажи только слово.
— Твоя рука, возлюбленная моя, уже коснулась моего сердца, — вдохновенно ответил я. — Пусть же моя кровь, как и душа, принадлежит тебе, а не врагу.
И не успел я вознести последнюю молитву, как нежная рука Акисы вонзила кинжал мне под левый сосок. Не боль, а сладостный жар коснулся моего сердца, а все огни слились перед моими глазами в неудержимый вихрь и повлекли меня в темную высь небес.
СВИТОК ТРЕТИЙ. ТОСКАНСКОЕ МАРКГРАФСТВО И ФЛОРЕНЦИЯ
Конец осени 1307 года — начало 1309 года
Вновь оказавшись несчастной черепахой, уготованной для супа, я, однако, не стал сразу открывать глаз и таращиться на что попало, ибо и так уж был богат всякими лживыми видениями и снами. Поначалу я остался смирно лежать на спине, даже радуясь мраку, ничем более не морочившему мне голову. Зато я невольно доверился ушам.
Кто-то неторопливо прохаживался рядом со мной, поскрипывая досками пола, который, как мне показалось, мерно раскачивался из стороны в сторону.
Потом до меня донеслось бормотанье, из коего я разобрал несколько знакомых итальянских слов, в основном ругательств. Эти-то слова и подействовали на меня вроде заклинаний, оживляющих труп, и я позволил себе осторожно приоткрыть один глаз, как помнится, левый.
Вновь мое воскрешение было озарено неким светилом, в котором на этот раз я сразу признал не что иное как обычную масляную лампу.
Лампа, не колеблясь, выдала мне человека, осветив, правда, его спину, но зато указав, что он не высок и не страшен, одет итальянцем и держит на поясе довольно длинный кинжал с витой рукояткой.
Напрягшись всем телом, я устроил проверку всем моим мускулам и нашел свое войско в полной готовности исполнить любое приказание. Что-то мешало мне на шее. Продолжая присматривать одним глазом за итальянцем, я пощупал помеху пальцами и обнаружил самый настоящий ошейник с крепкой цепочкой, тянувшейся к ближайшей стене.
Останься я вспыльчивым юнцом, ярость несомненно овладела бы мной и, конечно, ухудшила бы мою судьбу. Но теперь-то я уж был ученым зверем и хладнокровно положил свою руку на прежнее место.
Похвалюсь, что даже сумел сдержать удивление, когда итальянец повернулся ко мне боком, и лампа, светившая, можно сказать, на мою пользу, окончательно предала своего господина. Им оказался Тибальдо Сентилья, живой и невредимый!
«Трубы архангела не слыхать, а мертвецы уже восстали», — подумал я.
Мои досужие размышления о том, на каком же часу моего знакомства с флорентийцем и по какой причине явь опять превратилась в сон, были прерваны уже вполне благоразумным порывом узнать все сразу. Тем более подходящий случай как раз подвернулся: флорентиец опрометчиво подступил ко мне левым боком, так что до кинжала оказалось рукой подать.
Спустя мгновение ноги изменили ему, и он оказался подо мной, придавленным к полу, а я — на нем. Еще одним предателем оказался флорентийский кинжал, острие которого тут же выдавило первую капельку крови в ямочке за ухом своего бывшего хозяина.
— Лежи тихо и останешься живым, — успокоил я флорентийца и немного подождал, пока выровняется его дыхание.
— Теперь говори, — приказал я ему, — но сил на крик не трать, потому что вопросов будет много. Кто приказал тебе убить тамплиера, моего провожатого?
Ошеломленный, сбитый с ног и с толку, флорентиец выкладывал явно все, что ему было известно.
— Фульк де Вилларэ, — с хрипом пролепетал мой злосчастный двойник.
— Кто такой? — свирепо полюбопытствовал я.
— Великий магистр рыцарей-иоаннитов, — пробормотал Сентилья; он был удивлен тем, что это влиятельное лицо мне незнакомо.
— А кто отдал приказ этому Фульку, будь он неладен? — рассердившись, сказал я, вовсе не думая получить ответ от такой мелкой сошки, каким, по моему разумению, оставался во всем этом уму не постижимом заговоре заносчивый молодой щеголь из торгового сословия.
Я полагал, что ответ вообще невозможен, и великий магистр могущественного Ордена, издавна враждебного тамплиерам, должен оказаться первым и главным звеном во всей смертельной цепи. Однако щеголь знал слишком много, а мой наскок на него был слишком внезапен, отчего я и получил ответ, от которого пол под нами закачался еще сильнее.
— Король Франции, — вот каков был ответ!
— Король Франции?! Филипп?! — выдал я свое удивление, переведя дух. — Откуда ты знаешь?
— Поверьте мне, мессер. Я знаю. Только не убивайте меня, — простонал он, и я заметил, что от удивления едва невзначай не оперся на кинжал, уже готовый приколоть все знания флорентийца ко внутренней поверхности его черепа.
Что за веселый праздник тайн и заговоров творился на свете! Казалось, все короли, султаны, магистры и купцы знали о посланце высших сил, направлявшемся с Востока на Запад, чтобы спасти Орден Храма от окончательного крушения, так же — как и о его провожатом, рыцаре Эде де Морее, которого почему-то обязательно следовало умертвить по исполнении его миссии.
— Где он? — продолжал я наседать на флорентийца.
— Кто? — испуганно выдохнул тот.
— Комтур тамплиеров.
— Не знаю, — страдальческим голосом ответил Сентилья. — Он удалился, мессер, когда мы шли с вами к таверне. Я послал людей проследить за ним. Он убил двух из них. У меня было мало времени. Потом появился какой-то человек и сказал, что он послан наместником Халдии и готов помочь. Он сказал, что комтура уже настигла стрела, и я могу отправиться на халдийскую дорогу, чтобы засвидетельствовать его смерть. В доказательство он предъявил мне плащ тамплиера с пятнами крови. Но я уже не мог оставить вас, мессер.
— Теперь помолчи, — повелел я и сам стал раскидывать мозгами.
Я уже знал немало и, главное, мог почти не сомневаться в том, что комтур жив, или, по крайней мере, — в том, что рука флорентийца, направленная рукой магистра, а та — рукой короля Франции, не достала славного комтура. Что ж, Сентилье нельзя было отказать в чутье, ведь соблазн взглянуть на мертвого рыцаря должен был быть велик.
— А теперь признайся мне, дружок, — попросил я флорентийца ласковым голосом, — каким таким зельем тебе удалось усыпить меня, ведь я тоже в этих делах не дурак.
— Это не зелье, — простонал флорентиец, поскольку острие кинжала никак не могло размягчиться, а сила моих рук и ног, сковавших врага, подобно клешням, все не убывала.
— Что же это было? — полюбопытствовал я.
— Слово, — услышал я в ответ.
— Слово?! — изумился я вновь и, тут же похолодев от ужаса, зашипел на самого опасного из всех возможных собеседников: — Молчи!
Мог ли он, выйдя из растерянности, одним легким выдохом вновь погрузить меня в забытье? Гадать затрудняюсь. Возможно, то слово, как и жало пчелы, было пригодно только для одного, первого, укуса. Возможно, меня спасло другое жало — стальное, которое прикололо к доскам всю волю моего нового «провожатого», а заодно — и его смышленость.
Стараясь не выдать своего собственного замешательства, я повелел Сентилье нацарапать перстнем то колдовское слово на полу. Он долго кряхтел, скребя дорогим камнем по доске, и наконец я, невольно щурясь и отворачиваясь подальше в сторону, сложил увечные буквы в единый смысл. Получилось на франкском: «ЗАТМЕНИЕ».
Закрыв глаза и крепче сжав рукоятку кинжала, я повторил вслух:
— ЗАТМЕНИЕ.
Остальные чувства донесли мне, что флорентиец, воняя от страха едким потом и хрипло дыша, остался подо мной, кинжал не покинул моей крепкой руки, а собачье рабство не отпустило моей шеи. Последнее я принял за самый верный признак того, что мир не опрокинулся в бездны худшего обмана.
— Других слов нет? — осмелев, спросил я, да и что еще оставалось мне делать, как только не осмелеть.
— Мне передали только это одно, — признался флорентиец. — Перед тем, как мы вошли в таверну, я указал вам на небо. Вы спросили: «Что там такое?». Я ответил, что скоро Луна закроет первую звезду в Змееносце и это ЗАТМЕНИЕ — хорошая примета для плавания.
— И что же со мной должно было случиться? — спросил я, уже понимая, что далеко не все вышло по замыслу злых мудрецов.
— Сначала, мессер, вы должны были следовать за мной, потом надолго заснуть, что и произошло. А потом, как мне сказали, вы должны были смиренно принимать все обстоятельства и приказы и довольствоваться пищей, которую вам предложат.
— Получилось не все, — заметил я.
— Да, мессер, — подтвердил Тибальдо Сентилья.
— В том-то вся загвоздка, — продолжил я нашу беседу, стараясь говорить уже веселей и тем предлагая флорентийцу свою дружбу и участие.
Никакого объяснения тому, почему же «получилось не все», я, как и мой двойник, не находил, но догадался лишь поблагодарить в мыслях Черную Молнию, и вправду спасшую меня во сне от поругания. Если бы еще поверить ее слову так же — как и тому спасительному удару ассасинского кинжала! Тому самому слову, что сверкнуло на острие, вернувшем меня в столь же необъяснимую и полную ловушек явь! «Любимый», — так ведь и сказала Акиса. Может, стоило остаться там, у стен Трапезунда, отдав свое тело врагам, а душу — возлюбленной, и вовсе не становиться теперь жалким победителем, посаженным на собачью цепь?
Кинжал дрогнул в моей руке, и флорентиец вздохнул так, будто уже начал сочувствовать моим несчастьям.
— Мессер, — тихо проговорил он. — Я допускаю, что нас обоих используют в недобром деле. Я допускаю, что от каждого из нас скрывают часть истины, и таковое сокрытие также оказывается опасным для нас обоих. Вас я не знал и обязан был поступать так, как мне повелели. Выбора у меня не было. А если и был, то лишь между жизнью и смертью, что подразумевалось само собой и не требовало от моих хозяев каких-либо явных угроз.
— Догадываюсь, — сказал я, вполне доверяя такому течению событий, — и даже, признаюсь вам, сижу и ломаю голову над одной загадкой: чем же вы, синьор Сентилья, отличаетесь от комтура, то есть от моего предыдущего проводника. Почему бы и вам не сгинуть с лица земли, как только ваша миссия будет исполнена и меня, как священную овцу, примет на руки главный жрец. Что вы можете сказать на это?
— Ничего не могу сказать, мессер, — с какой-то удивительной бесчувственностью ответил Сентилья.
— Так кому вы должны передать меня? — спросил я.
— Тот человек мне неизвестен, — по-видимому, честно ответил флорентиец. — Он должен подойди ко мне на пристани в Пизе и произнести те же самые слова, которые вы слышали от меня во дворе таверны.
— Тут-то вы и заснете, в отличие от меня, на веки вечные, — со злорадной усмешкой предупредил я Сентилью.
— Мессер! — взмолился он. — Раз обстоятельства повернулись совершенно неожиданным образом, я готов рассказать вам все, что знаю, однако, поверьте мне, нынешнее положение дел вовсе не располагает к откровенному разговору и достаточно пространным признаниям.
С таким подходом к делу я не мог не согласиться, так же как и не мог усидеть верхом на своем учтивом собеседнике до самого Страшного Суда.
— Вижу, что мы уже почти стали союзниками: слепцу и глухому вернее держаться друг друга, — рассудил я, придав, однако, своему голосу весьма свирепый тон. — Я задам последний вопрос перед тем, как от слов мы перейдем к делу, а потом от дела — опять к словам. Скажите, синьор Сентилья, для чего, по вашим предположениям, я понадобился королю Франции?
— Мне неведомо, кем вы являетесь в действительности, мессер, — осторожно проговорил Сентилья, — но мне было сказано на ухо, что вы готовы стать самым важным свидетелем в деле обвинения рыцарей Храма во многих смертных грехах.
— В каких именно? — не сдержав слова, задал я еще один вопрос.
«Удивляться тут нечему, — решительно предупредил я самого себя. — Вполне возможно, что еще некой силой уготована мне и такая миссия. Несмотря на то, что я сижу на цепи, мне предоставлен богатый выбор подвигов».
— В том, что на те огромные средства, которыми они обладают, они хотят собрать самую сильную армию, свергнуть всех законных правителей христианского мира и отдать всю власть в руки евреев-ростовщиков, — поведал Сентилья, косясь на острие кинжала, которое я в награду за признания немного отвел в сторону. — Затем — в богохульстве и колдовстве. Наконец — в мужеложстве.
— Вы что-нибудь слышали о Великом Мстителе? — бесчестно продолжал я терзать флорентийца своим допросом.
— Мессер! — вновь взмолился Сентилья и тем воплем пробудил мою совесть.
— Ладно, отложим до завтрака или обеда, смотря по тому, который теперь час, — решил я. — Но прежде, чем мы разомкнем дружеские объятия, я вынужден дать вам, синьор Сентилья, несколько не менее дружеских наставлений. Во-первых, кинжал останется у меня. Во-вторых, вы немедля приведете кузнеца, который снимет меня с этой позорной цепи за ваш счет. Наконец я готов без всяких оговорок и условий сесть вместе с вами на ваш корабль, но…
— Мессер! — прямо-таки горестно вздохнул Сентилья. — Мы же давно плывем!
Как это я сразу не догадался, что пол не может покачиваться безо всякой естественной или чудесной на то причины?!
— Неужели давно? — с неловкой усмешкой проговорил я, стараясь скрыть замешательство.
— Третий день, — опасливо ответил флорентиец, не зная, к добру ли это в сей час или к худу.
— Тем лучше, — утешил я его, внезапно найдя выгоду в новом положении. — Мы будем плыть, как звери в ковчеге, без всяких ссор и взаимных подозрений, проводя время в приятных и полезных беседах. Но я предупреждаю вас, синьор Сентилья, если вы задумаете применить против меня силу, у меня найдется сноровки пустить ко дну весь ваш барыш со всеми вашими потрохами. Уверяю вас, что свою жизнь я ценю меньше, чем вы цените перо с вашего берета. Я — ассасин. Вам известно, что это означает?
— Мессер, это уже четвертый вопрос сверх вашего обещания, — доблестно отвечал флорентиец.
Не произнося более ни слова, я оттолкнулся от пола ногами и отскочил в угол, как настоящий цепной пес, готовый к новому броску на опасного и сильного врага. Железные звенья забряцали, напоминая о моем позоре.
— За одно это, я должен бы вас приколоть, досточтимый синьор, — злобно процедил я, встряхнув рукой тесный ошейник.
Флорентиец с трудом приподнялся с пола, немного постонал, потрогал царапину за ухом и наконец обратил на меня затуманенный взор.
— Приношу извинения, мессир, — без неприязни сказал он и развел руками. — Как мне велели, так я и делал. Разумеется, я не имею права убить вас по дороге в Италию. Для вас же в подобном деле нет, как полагаю, никакого запрета. Пусть же это обстоятельство останется залогом вашего доверия ко мне. Что же касается событий, которые должны произойти во Флоренции, то у нас еще будет достаточно времени подумать о них как вместе, так и порознь.
Вскоре я вышел из помещения в кормовой надстройке почти свободным человеком и мог обозреть всю широту морского простора и темные возвышенности берегов, вдоль которых мы плыли.
— Клянусь вам, синьор Сентилья, — сказал я флорентийцу, вглядывавшемуся в береговую даль с каким-то подозрением, — что я не стану прыгать за борт, в надежде достичь земной тверди быстрее ковчега. Мне известно, что видимые пределы земли столь же зыбки и ненадежны, как и эти волны под нами.
Тибальдо Сентилья улыбнулся мне в ответ, и впервые в его глазах я приметил след душевной теплоты.
Я встретил среди обитателей «ковчега» и тех двух пожилых торговцев, которые первыми увидели нас с рыцарем Эдом на пристани в Трапезунде. Ни один из них не выказал ни малейшего удивления, увидев меня в добром здравии и в самых добрых отношениях с Сентильей, из чего я извлек вывод, что они всего лишь невольно покрывают своими купеческими хлопотами тайную миссию молодого и, вероятно, не слишком опытного в торговых делах компаньона.
Не удивились они и тогда, когда я предстал перед ними таким же флорентийским щеголем да к тому же с кинжалом Сентильи на своем поясе. Вероятно, наше «братское» сходство легко объясняло окружающим любые изменения наружности или взаимного проявления чувств.
Я так и сказал флорентийцу:
— Нас явно принимают за братьев, и мой первый вопрос по истечении срока обета будет касаться вашего происхождения, синьор Сентилья. Если же такой разговор неудобен для вас по какой-то причине, упредите меня теперь.
— Отчего же? — покачал головой Сентилья. — Я, как и вы, не могу считать наше сходство простым совпадением. Если между нами нет прямой родственной связи, значит, несомненно крепка связь высшая, духовная. Эта догадка убеждает меня в том, что я оказался причастен к великой миссии.
Пора мне было привыкнуть к своим вещим снам, хотя бы и вызванным некой злой волей, однако я не переставал удивляться странным прозрениям, посещавшим меня даже тогда, когда в немилостивой яви меня опрокидывали на спину, как беспомощную черепаху, или сажали, как побитого пса, на цепь.
— Что я делал и говорил в таверне, у ворот Трапезунда, — спросил я флорентийца, — после того, как вы произнесли тайное слово?
— Ничего не говорили и не делали, мессер, — пожав плечами, ответил Сентилья. — Вы сразу захотели спать. Я отвел вас в приличную комнату, где постель была уже застелена, вы пожелали спокойной ночи мне и комтуру, потом мы еще выпили с комтуром вина, а рано утром я проводил вас на корабль.
— В таком случае, — сказал я ему, пристально глядя прямо в глаза, — мы обязательно найдем общие нити. Нет ничего постыдного в том, что вам трудно похвалиться своим родом, раз уж не известно, кто был вашим отцом. Мы почти уже родственники, поскольку со мной случилась та же самая история.
Сентилья раскрыл рот и сделался на несколько пядей ниже, поскольку у него разом подкосились колени.
— Мессер, это настоящее колдовство! — пробормотал он, немного переведя дух и осенив себя крестным знамением.
— А разве это ваше ЗАТМЕНИЕ не есть настоящее колдовское словечко? — заметил я. — Вот увидите, нас сожгут на костре обоих.
После этого разговора флорентиец стал еще более покладист, и вечером, когда осенний мрак опустился на воды, мы устроились в маленькой и уютной каморке, устланной небольшими коврами. В этот раз, наяву, мы сели друг к другу гораздо ближе, чем то случилось однажды во сне, за столом трапезундской таверны.
Здесь, при свете покачивавшейся из стороны в сторону лампы, Сентилья рассказал мне историю, которая привела его к нашему не совсем обычному среди простых смертных знакомству.
РАССКАЗ ТИБАЛЬДО СЕНТИЛЬИ, ТРАКТАТОРА ФЛОРЕНТИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ЛАНФРАНКО
Хотя, мессер, я действительно не в силах похвалиться древностью своего рода и, более того, имею некоторые основания начинать свою славную родословную прямо с самого себя, однако предания, определившие мою судьбу, имеют не менее, чем вековую давность. Они довольно любопытны, эти предания.
Вам должно быть известно, мессер, что в пору своего наивысшего расцвета на Святой Земле Орден бедных рыцарей Храма сделался самой богатой и надежной банковской компанией во всем христианском мире. Еще два века тому назад Орден похвалялся девизом, который не отказались бы принять и самые знатные торговцы Европы. Тот девиз гласил: «Орден не продает, Орден только покупает».
Более того, по сути дела не подчиняясь никакой власти и, в первую очередь, презирая власть Святого Престола, Орден без зазрения совести обходил анафему, грозившую тем христианам, кто осмеливался открыть ростовщическое дело. Орден ссужал баснословные суммы не только известным торговцам, но даже многим монархам, которые предпочитали брать золото в долг все же у крещеных братьев, а не у евреев.
Надо признать, что хранилища золота, устроенные в подземельях неприступных крепостей, были и вправду куда надежней сундуков любой королевской казны, девственности которой всегда грозили всякие династические перевороты. Орден был свободен от кровных уз и загадок наследования, чем и привлекал к себе взоры многих знатных и состоятельных людей не только в христианской Европе, но и на землях султанов и падишахов.
Действительно, мессер, многие знатные сарацины, визири и даже эмиры, предчувствуя опалу со стороны своих непостоянных сердцем и завистливых повелителей или же предвидя дворцовые смуты, предпочитали упрятать свои сокровища в надежное место. Таким надежным местом и представлялись им закрома Ордена. Тогда, тайно договорившись с капитулом, предусмотрительные визири переправляли свое золото из одного места в другое. Надо признать, что тамплиеры, если и были грешны в чем-то ином, но зато показали всему миру прямую выгоду одной Божеской добродетели. Я имею в виду честное ведение дел, которое и дало им барыш больший, нежели торговля сукнами или рабами. За сто лет Орден не обманул и не ограбил ни одного вкладчика, и всякий сарацин мог в любой день получить свои деньги обратно, уплатив только небольшую мзду за охрану его казны.
Говорят, один лишь великий Саладин, ценивший только дела чести и доблести и сам всю свою жизнь оставлявший всего пару медных монет в поясном кошельке, не понимал обоюдной пользы от положения дел на Святой Земле, и с него-то начались беды христиан Иерусалимского королевства.
Он изгнал христиан из Палестины, и, верно, многие высокородные сановники из самых разных государств Востока могли оказаться банкротами, если бы не сумели вовремя остановить своего героя. Мудрейшие из мудрых собрались в Египте и убедили султана, что воинов Соломонова Храма ни в коем случае нельзя выпроваживать из Палестины всех до одного, иначе, как уверили султана, возникнут непреодолимые трудности на путях пересылки жалования важным доносчикам, находившимся при европейских дворах и снабжавших сарацин сведениями о замыслах христианских монархов.
Таким образом еще на целый век осталась на самом краю Святой Земли неприступная цитадель Акра, которую султаны, если бы у них появилось на то сильное желание, без особого труда могли бы выкинуть в море, как пригоршню камней. Но тогда вместе с камнями в воду посыпались бы россыпи золотых слитков, принадлежавших наимудрейшим слугам Аллаха.
Таков, так сказать, подземный фундамент моей истории, мессер, и за этим наступает черед возведения стен.
Однажды, лет восемьдесят или немногим более тому назад, один важный сановник египетского султана, прозревая в скором времени некие опасности для своего благополучия, решил воспользоваться самым надежным в ту пору банком на Востоке, который именовался Акрой, и посредством тайной переписки договорился с самим Великим Магистром о вкладе. Той сделке могли бы позавидовать и некоторые монархи Европы, ибо, как утверждают, сумма вклада равнялась не менее чем двумстам пятидесяти тысячам лир. Скажу, что на такие деньги вполне можно было снарядить новый крестовый поход, если не из Европы, то, прошу покорнейше простить за кощунство, в саму Европу.
Тот богатый сарацин был хорошо осведомлен о банковских делах Ордена, однако был достаточно осторожен, поскольку сумма вклада значительно превышала прочие и могла, по его мысли, как бы перелиться через край самой надежной и стойкой совести. Короче говоря, сарацин решил поддержать надежность своего вклада дополнительными гарантиями. В ту пору в Египте пребывала некая высокородная пленница-христианка. По преданию ее похитили пираты и продали неверным. Приближенный султана получил сведения, что тамплиеры горят желанием освободить ее из плена за любые деньги, поскольку родственники похищенной имеют большой вес при франкском дворе. В замыслы сарацина входило с наименьшими потерями выпутаться из придворных интриг, завершить кое-какие дела и, мирно распрощавшись с султаном, переселиться в Сирию. На все это он намеревался потратить год, самое большее — два, и тот же срок он назначал своему вкладу. Так вот, для верности дела он перекупил пленницу и сообщил тамплиерам, что готов отдать ее по истечении срока в качестве уплаты взноса за сбережение своих сокровищ. В ту пору Священной Римской Империей правил некий просвещенный монарх, свободно говоривший на шести языках, бывший сведущ в астрономии, алгебре и разнообразных искусствах. Ко всем своим качествам он добавил богохульство, поразительное в глазах даже самых закоренелых безбожников. Отлученный от Церкви Христовой, он всю свою жизнь воевал и бранился со Святым Престолом, а заодно при самых необъяснимых обстоятельствах на несколько лет вернул Иерусалим в пределы христианского мира. О нем говорили разное. Возможно, вы осведомлены, мессер?
В ответ я многозначительно покачал головой.
— Тогда, мессер, — с некой опаской проговорил Тибальдо Сентилья, — вам будет любопытно узнать мнение осведомленных людей. Многие считали и считают поныне, что повелитель наихристианнейшего государства являлся тайным последователем Старца Горы, то есть — ассасином.
При этих словах Тибальдо Сентилья замолк и пристально посмотрел мне в глаза. Мне ничего не оставалось делать, как только сказать ему:
— Не беспокойтесь, синьор Сентилья, я не настолько ассасин, чтобы считать себя таковым до мозга костей. Я, знаете ли, ассасин не по природе, а по обстоятельствам и менее всего хочу прослыть богохульником, подобно упомянутому вами монарху.
Вздохнув с явным облегчением, флорентиец продолжил свой рассказ.
Весь легион личных телохранителей у того монарха состоял только из сарацин.
Знающие люди утверждали, что Иерусалим был просто-напросто подарен ему влиятельными ассасинами, которые к тому времени проникли в дворцы султанов и падишахов и утвердились на важных местах.
Однако позвольте, мессер, вернуться к обстоятельствам, непосредственно касающимся моей особы.
Господь не позволил вероотступнику захватить Рим и низложить папу. На борьбу со Святым Престолом этот коронованный ассасин не жалел средств, и, достаточно поиздержавшись, он обратил свой взор к сокровищам Ордена. В самом Ордене ассасины, как известно, тоже имели немалое влияние, и по этой причине, а также, возможно, по многим иным, император добился от тамплиеров крупной ссуды для ведения своих военных дел с Римом. Не трудно предположить, что взятие Иерусалима входило в договор о ссуде, хотя на глазах всего мира тамплиеры и монарх разыгрывали открытую ссору между собой.
В сумму, предоставленную императору, был включен и вклад египетского сановника, которого, разумеется, оставили в неведении. Оставшиеся неизвестными условия договора с монархом, на этот раз, по-видимому, действительно перетянули все имевшиеся на весах Ордена гири честности. Впрочем, вполне возможно, что тамплиеры вовсе не отказывались от мысли вернуть деньги владельцу, ведь, подмочив свою репутацию, они в дальнейшем рисковали понести еще большие убытки. Но как тогда объяснить их замысел поскорее выкрасть знатную пленницу у египетского сановника?
Так или иначе, над золотом, пересыпавшемся из Египта в подвалы Акры, завертелся адский вихрь. Пленница пережила еще одно похищение, но и то оказалось не последним. В заговор вмешались иоанниты, которые тоже имели своих соглядатаев, как среди тамплиеров, так и при дворе императора. Иоанниты устроили свою засаду, и пленница оказалась в их руках.
Между тем, с египетским сановником случилось какое-то несчастье, о котором не осталось никакого ясного упоминания. То ли опала султана обрушилась на него прежде, чем он успел покинуть двор, то ли он внезапно сошел с ума, и теперь можно только гадать, что повредило его разум: потеря пленницы и внезапное осознание того, что именно он оказался первой жертвой вексельного обмана, или же отравленное зелье, которым, как говорят, его опоили ассасины за плату, которая могла быть отдана им из рук любых упомянутых мною лиц: хоть императора, хоть тамплиеров, хоть иоаннитов. Мессер, ведь для вас, наверно, так же не является тайной то, что по заказу иоаннитов прирожденные убийцы совершили несколько хорошо оплаченных ими покушений.
Короче говоря, богатый сарацин исчез, а часть его денег использовал в Европе император-ассасин в своей войне против главы Церкви Христовой. Затем, как утверждают, большую часть займа он вернул в Акру, что случилось незадолго до его смерти, последовавшей в году одна тысяча двести пятидесятом от Воплощения.
Пользуясь своими связями, иоанниты добились от французского короля опалы того знатного семейства, к которому принадлежала пленница, а саму ее поселили во Флоренции, купив ей двухэтажный каменный дом, а также обеспечив ее пенсией, прислугой и опекой со стороны богатого торгового дома Ланфранко. Как вы думаете, мессер, для чего все это было учинено?
Вы правы, догадаться нелегко, если не знать о том, что знатная парижанка была похищена вместе со своим сыном. А как вы думаете, мессер, от кого она имела этого отпрыска? Верно, мессер. И, как рассказывают, того богатого сарацина она всегда вспоминала с душевной теплотой, утверждая даже, что не встречала на христианских землях нобиля, более красивого лицом и столь обходительного, каким был тот неверный. Впрочем, возможно, что я бесстыдно повторяю сплетни соседей, которым роскошная обстановка дома чужестранки и покровительство сильных мира сего не давали покоя.
Теперь вы понимаете, мессер, каким делом о наследстве тут запахло?! Ведь сто пятьдесят тысяч золотом посреди улицы не валяются!
Волосом мальчишка был черен, многими чертами напоминал сарацина и болтал по-арабски не хуже, чем на языках, освященных истинной верой.
Имея свои виды, иоанниты устроили его в Греции, при дворе морейского князя, однако и тамплиеры не дремали. Убийство наследника было им в ту пору невыгодно, или они попросту опасались прямых обвинений со стороны иоаннитов и французского двора. Тогда они раскинули сети более тонкого замысла и приложили усилия к тому, чтобы наследник как-то незаметно исчез за пределами христианского мира. Тот замысел им удался вполне: со временем они добились, чтобы наследник, став рыцарем, был направлен в опасное предприятие против русских схизматиков далеко на севере, где он, можно сказать, и потерялся на целых двадцать пять лет с лишком.
Тут, мессер, нам придется еще раз отступить от пределов Европы и отступить далеко, но, уверяю вас, ненадолго.
Тамплиеры понимали, что, несмотря на кажущуюся неприступность и все самые тайные и крепкие договоры между сарацинской и христианской знатью, Акра все же останется вожделенным плодом для многих охотников вторгаться без спроса в чужие сады. Вскоре после падения Иерусалима они вошли в не менее тайные сношения с Румом и получили от султана согласие на постройку новой цитадели Ордена в горах Тавра, на границе с Малой Арменией. Туда-то, на край земли, Орден и намеревался переправить большую часть своего золотого запаса. Крепость должна была подняться в стороне от военных путей, в тихом, что называется, месте. Ее положение очень устраивало не только сарацин всех земель, но также и армянских торговцев, также державших свои вклады в орденском банке.
Крепость была возведена и получила, как мне известно, арабское название: Рас Альхаг.
И вот однажды во Флоренции появился некий франкский торговец, весьма состоятельный и, заметьте к тому же, весьма приятной и благородной наружности. Он направлялся в Париж, побывав, по его словам, в Персии и Руме и закупив там, кроме пряностей и камеди, большое количество особой тонкой шерсти, именовавшейся «слюна ангелов». Неверные и по сию пору не умеют обрабатывать такую шерсть, предпочитая возвращать ее себе за большие деньги в виде анжуйских или флорентийских сукон неописуемой легкости и прочности. «Слюна ангелов» всегда ценилась в Европе на вес чистого золота, и, разумеется, как только франк проговорился о своем товаре, он сразу оказался в окружении целой толпы самых почтенных мужей Флоренции, суливших ему разное, но желавших одно: того, чтобы шерсть так и не достигла пределов Французского королевства.
Побывав во многих домах и поборов все искушения, франк наконец-таки не устоял перед жареной форелью в белом винном соусе, который умели готовить только в семействе Ланфранко. Заметьте, странную игру слов, мессер.
Целый месяц он пользовался гостеприимством радушного семейства, и, когда иоанниты спохватились, было уже поздно: драгоценная парижанка, вдоволь нарадовавшаяся обществу своего единоплеменника, в один прекрасный день исчезла, как будто провалилась под пол своего роскошного дома вместе с франкским торговцем. Можно было подумать, что лукавый гость оттуда и явился, то есть из преисподней, чтобы утащить туда христианку, согрешившую с неверным.
Можете представить, каков был ужас иоаннитов, стерегших птичку в золотой клетке, когда они дознались, что залетный воробей, протиснувшийся между прутьев, не только безнаказанно улепетнул, умело прихватив с собой редкостную птаху, но и был вовсе не тем, кто не будь помянут, а того хуже — переодетым и выдавшим себя за торговца тамплиером. Этот тайный искуситель был послан во Флоренцию из Рума, куда и вернулся после того, как в буквальном смысле претворил в жизнь свой замысел, поскольку парижанка от него зачала.
Мессер, я признаюсь вам, что многое в этой истории остается для меня неизвестным и непонятным. От меня скрыты обстоятельства, при которых тамплиеру удалось соблазнить пленницу иоаннитов. Я не знаю, куда делся ее ребенок. Я могу только предположить, что, ребенок должен был превратиться в повод к усилению вражды между тамплиерами и иоаннитами. Зато я хорошо знаю, что прихожусь той парижанке родным внуком.
Удивлены, мессер?
Тогда слушайте дальше.
Замечу также, что не будь она моей родной бабкой, а ее сарацинский отпрыск не кем иным как моим родным отцом, то, уверяю вас, я так бы и не попал в эту историю, и не качался бы сейчас вместе с вами в этом корыте посреди холодного моря.
Вот я и проговорился, мессер, хотя и старался держать разгадку за спиной до самого конца.
Итак, тайная война между иоаннитами и тамплиерами за сарацинское золото растянулась на долгие годы.
После того невиданного похищения иоанниты приложили великие усилия к тому, чтобы разыскать живым сына парижанки, и, вообразите себе, им удалось это сделать: они напали на его след в русских землях. Оказавшись в плену после неудачного похода, он, однако, хорошо устроился при дворе местного князя и даже обзавелся там семьей.
Мессер, я вижу недоверие в ваших глазах. Хорошо понимаю вас. Взяться за поиски какого-то рыцаря, сгинувшего с христианских земель пред тем за двадцать лет, и найти его в добром здравии — не слишком правдивая басня. Я тоже храню такое сомнение, но храню его в самом глубоком тайнике своего сердца, так сказать в моей собственной Акре. Возможно, мой отец был вовсе не сыном знатной парижанки, а неким подставным лицом, которого мои вездесущие ангелы-хранители, иоанниты, подобрали среди каких-нибудь незаконнорожденных полукровок. Ведь многие франкские дворяне Кипра, как известно, оставляют своих отпрысков, родившихся от восточных красавиц-рабынь, в своем услужении, зная, что из них непременно вырастут очень крепкие воины. Этих юношей очень ценят и в рыцарских Орденах, куда их принимают с большой охотой. Если моя догадка верна, то пергамент с моей родословной можно безо всякой жалости отдать уличным мальчишкам, чтобы они свернули его трубочкой и через нее плевались друг в друга рябиной и бузиной.
И вот сын парижанки, полусарацин-полуфранк и к тому же доблестный рыцарь, появился в Париже вместе со своей супругой, которой он обзавелся в русских землях.
Пестовавшие его теперь с удвоенным усердием, иоанниты понимали, что им все же вряд ли удастся завладеть сокровищами, не сокрушив Ордена Соломонова Храма. Множество донесений о пороках, свирепствовавших в стенах тамплиерских цитаделей, было передано в королевский дворец, однако монархи Франции долгое время не решались вступить с Орденом в открытую борьбу, отчасти потому что сами оказывались по уши в долгах перед Орденом, отчасти опасаясь его мощи и доблестного прошлого. И только нынешний король Франции Филипп… впрочем, мессер, позвольте сказать о нем позже.
Видя, что промедление затягивается и желая укрепить свои права в будущем, иоанниты обратили свое внимание на почтенный возраст наследника сарацинских сокровищ и на его гордый характер, который в конце концов мог привести к непредсказуемым последствиям.
После смерти первой супруги моего отца они для большей крепости наследных прав остановили свой выбор на той из родственниц парижанки, которая отличалась пригожестью и манерами, а именно — на ее двоюродной племяннице — и затем, уладив все трудности с церковным освящением задуманного ими союза, они сосватали моему отцу эту новую парижанку, что, как легко рассчитать безо всяких мер и разновесов, оказалась моей родной матушкой.
— Позвольте, синьор Сентилья, — не выдержав, перебил я флорентийца. — Мы можем выбросить все разновесы, но не вольны обойтись без меры времени. По этой мере выходит, что в год вашего рождения ваш доблестный отец должен был считаться уже весьма и весьма пожилым человеком.
— Верно, — с довольной улыбкой кивнул Сентилья. — Ему пошел в ту пору седьмой десяток, но, как рассказывают, он был очень крепкого сложенья и выглядел на все сорок.
Тут уж невольно кивнул я, поскольку во всей неправдоподобной истории флорентийца мог отметить и подтвердить только эту примету.
— Поэтому я тешу себя надеждой, — добавил Сентилья, — что и сам сумею дотянуть в добром здравии до почтенного возраста.
— Пусть Богу это будет угодно, — еще раз кивнул я, а флорентиец продолжил свой рассказ.
Жизнь моих родителей, увы, не заладилась, и вскоре после моего рождения отец куда-то исчез. Возможно, что и тут приложили руку тамплиеры, но гадать не стану.
Вполне вероятно, что тамплиеры сумели бы упрятать все свои богатства в Руме, однако в положение дел на Востоке вмешались монгольские орды, разрушившие не только множество крепостей, но и все дальние замыслы рыцарей Храма, поскольку банковское дело было совсем неведомо монгольским варварам.
Крепость Рас Альхаг оказалась теперь на довольно опасном месте, и от нее пришлось отказаться.
Между тем, сама Акра стала сердцем и мозгом всей торговли между франками и сарацинами. К тому же в ней стало появляться все больше греческих и армянских купцов, так что процветанию тамплиерских дел не было видно конца. Тогда, разуверившись в поддержке французского двора, иоанниты решили ускорить события.
Год одна тысяча двести девяностый от Рождества Христова, как и год последовавший за ним, оказался очень плодородным. Тысячи сарацинских купцов дневали и ночевали на рынках Акры.
В это время на севере Италии было собрано наемное воинство для нового Крестового похода на неверных. Надо признать, что благородных людей найти среди них было нелегко, зато, как на подбор, сошлись забияки самого первого десятка.
Не устраивая никаких шумных торжеств и процессий и, разумеется, обойдясь без святых проповедников, иоанниты посадили наемников на корабли и отправили к берегам Палестины.
Новые крестоносцы высадились в порту Акры и, проголодавшись, двинулись на рынки города. Когда тамплиеры, опрометчиво пустившие гостей в свои стены, спохватились, веселая Пляска Смерти уже вошла в полный разгар. Где только что возвышались горы арбузов и дынь, взгромоздились горы сарацинских голов. Сами рыцари Храма обнажили мечи против своих христианских братьев, прибывших для освобождения Святой Земли, однако тех оказалось слишком много, и они слишком быстро и умело распространились по всем углам и закоулкам Акры.
Египетский султан был вне себя от гнева и прислушался к голосам тех сановников и торговцев, которые не могли похвалиться богатыми вкладами в банк тамплиеров. Он поднял войско и осадил Акру, которая оказалась лишена всякой поддержки из Европы. Так пала последняя цитадель Иерусалимского королевства, и тамплиерам ничего не оставалось, как только перевезти свою казну во Францию. Только это и нужно было иоаннитам.
Они усилили свой натиск на тамплиеров со всех сторон, стараясь хотя бы в этом деле, а именно — пресечении богоотступнической деятельности рыцарей Храма, объединить замыслы враждовавших владык земли и неба, то есть короля Франции и папы. Однако и после сокрушения, так сказать, первого круга обороны осада главной башни Ордена продолжалась еще более десяти лет.
За это время наследник сарацинского золота вырос под неусыпной опекой того же семейства Ланфранко и надежной охраной братьев-иоаннитов. Я полагаю, наученные опытом, они вполне расчетливо отказались от намерения обратить меня в рыцари, а дали возможность главе компании Ланфранко привить мне повадки умелого торговца. Об этом я ничуть не сожалею. Теперь я уже не последнее лицо в этой славной компании и являюсь старшим трактатором, то есть деятелем, который, хотя и не вкладывает своих средств, но зато имеет право на заключение всех основных сделок компании в иных государствах и получает определенный процент с дохода.
И вот настал год, когда осторожный король наконец убедился, что иоаннитами предоставлена в его распоряжение мощная армия тайных исполнителей его воли, действительно способных в одну ночь настичь и арестовать тамплиеров, каждого по отдельности или всех разом.
Незадолго до этой знаменательной ночи я и был послан в Трапезунд, где, по словам моих покровителей, настал черед открытого появления главного свидетеля богомерзких поступков рыцарей, обратившихся от Бога к князю мира сего, попиравших Святой Крест и, наконец, замышлявших насильно обратить весь христианский мир к идолопоклонству.
Полный недомолвок и несуразностей рассказ флорентийца приблизил меня к истине только на два маленьких шага. Во-первых, я убедился в том, что все сведения о своем линьяже он получил только от своих покровителей из Иерусалимского Ордена Святого Иоанна. Во-вторых, у меня возникло сильное подозрение, что и сам Иоаннитский Орден — далеко не главное колесо на этой мельнице, а сарацинское золото — далеко не вся вода, которая этим колесом движет. Очень странной показалась мне эта тактика проволочек длиною в целое поколение. Судьба же сарацинского отпрыска, опекавшегося иоаннитами даже на необозримых просторах Скифии, показалась мне столь неправдоподобной, что я не поверил бы ни единому слову Сентильи, если бы не держал в своей памяти эту же историю, рассказанную иным, куда более надежным лицом.
Едва Тибальдо Сентилья закрыл рот, как я набросился на него с вопросами.
— Синьор Сентилья, ведь это верно, что иоанниты берегли вас до сего дня, как зеницу ока? — первым делом заметил я.
— Несомненно, — подтвердил флорентиец.
— Ведь вы наследник неисчислимых богатств Египта, и Орден Иоанна намерен ими попользоваться в обмен на некоторое участие в вашей судьбе от самого вашего рождения на свет?
— Думаю, что так, — сказал Сентилья уже с некоторой настороженностью.
— Однако, зная, что свидетель, коего следует доставить на суд, — продолжал я, — вовсе не является ручной белкой и его даже необходимо поначалу околдовать неким заветным словом — видимо, для того, чтобы он вел себя смирно, — они отправляют именно вас в Трапезунд для исполнения этого не слишком безопасного дела да еще дают вам поручение убить провожатого. Не кажется ли вам, что ваши опекуны как бы не совсем последовательны в своих устремлениях?
— Я бы и сам мог задать вам дюжину-другую вопросов на этот предмет, — вдруг усмехнулся Сентилья, — однако мною и, как я теперь вижу, вами самими, движут такие могучие силы, о которых лучше не думать, чтобы, не дай Бог, они не приснились в страшном сне, показавшись в своем полном обличий. Уж если я родился, согласно какому-то расчету, то теперь могу лишь благодарить судьбу и Всевышнего, что прожил на земле уже почти четверть века, ни разу не испытав ни голода, ни холода.
Такие слова меня обрадовали, и я почувствовал к Сентилье, если не братское, то просто дружеское расположение.
— Ваш ум далеко превосходит потребности простого торговца, синьор Сентилья, — заметил я и, увидев на губах флорентийца довольную, хотя и вовсе не доброжелательную улыбку, продолжил свое дознание: — Вам что-нибудь известно о тамплиере, который доставил меня в Трапезунд и которого вам было поручено сразу по прибытии отправить к праотцам?
— Только то, что он тамплиер, — ответил Сентилья, — и что он взялся сопровождать свидетеля за определенную мзду, оставаясь, однако, не слишком надежным компаньоном в деле.
— Объяснение убийству простое и понятное, — только и развел я руками. — А что же вам известно обо мне?
— Только то, что вы, мессер, тоже являетесь тамплиером, — вновь не проявляя никаких чувств, ответил Сентилья, — и были допущены в тайный, внутренний круг Ордена, практикующий самое ужасное колдовство.
— Однако вовремя раскаялся, не так ли? — упредил я Сентилью.
— Верно, — кивнул он, прищурившись. — Так мне и сказали. Мне сказали также, что вы, мессер, скрывались в развалинах Рас Альхага среди ассасин. Они посвятили вас во многие тайны, которые можно воспринять только при курении дурманящих трав.
— А еще вам сказали, что заветное слово для власти надо мной выбрано ассасинами, — добавил я, ощутив холод, пробежавший по хребту.
— Это сказали мне вы, мессер, — довольный своей сообразительностью, ответил Сентилья. — Из чего я, как и вы, могу сделать заключение, что сами ассасины передали это слово иоаннитам.
— Мы с вами оба — весьма сообразительные люди, — только и пробормотал я, признав, что в этом разговоре все же не являюсь хозяином положения.
— Теперь я могу пожалеть о некой части своего невиданного наследства, которое причитается ассасинам, — сказал Сентилья и весело рассмеялся.
— Я же теперь почти не сомневаюсь, что, сойдя на пристань в Италии, вы при любых обстоятельствах останетесь живым и невредимым, — в несколько сокрушенных чувствах признал я и с этими словами снял с пояса кинжал флорентийца и протянул законному хозяину. — Возьмите, синьор Сентилья, и примите вместе с этим предметом мои извинения. Я только могу надеяться, что вы больше не посадите меня на собачью цепь, как того потребовали от вас ваши достопочтенные опекуны.
— Примите и вы мои извинения, мессер, — с искренней вежливостью ответил флорентиец. — Я вижу, вы вошли в мое положение. Ведь, по сути дела, мой ошейник крепче вашего, а цепь всего лишь немногим длиннее.
— Позвольте же мне осведомиться еще кое о чем, — попросил я.
— Разумеется, мессер, — с готовностью кивнул Сентилья, — ведь и мне самому удается извлечь из ваших вопросов довольно занятные сведения.
— Итак, синьор Сентилья, судя по вашему рассказу, всем этим великим заговором, а также судьбами всех известных нам людей движут только деньги, вернее — слишком большое их количество, — раскрыл я вековую загадку еще одним ключом, тем, что предложил мне трактатор процветающей торговой компании.
Некоторое время флорентиец молчал, а потом вздохнул с улыбкой и пустился в философские рассуждения:
— Странная и чудесная материя — золото. Оно может безо всякого движения лежать на одном месте, или же люди могут переносить его из одного сырого подвала в другой, и к тому же на нем не бывает начертано великих истин или же благой вести. Однако же оно пробуждает в нас самые глубокие чувства, напрягает все силы рассудка и вселяет в нас волю к жизни. И вот видите, мессер, даже нашего ума не хватает, чтобы проникнуть в человеческий замысел, который оно породило, в полном спокойствии лежа где-то под землей и, заметьте, совершенно ни о чем не рассуждая.
— Может быть, синьор Сентилья, оно все-таки испускает некие ядовитые испарения, сообщенные ему его исконным хозяином, — заметил я, изумленный столь мудрыми речами начинающего торговца.
Тибальдо Сентилья посмотрел на меня несколько рассеянно, пожал плечами и, чуть погодя, усмехнулся.
— Еще одна подробность вашей родословной вызывает мое далеко не праздное любопытство, — перевел я разговор с небес на землю, а, вернее, — из преисподней на поверхность моря, мерно качавшего корабль и стол, за которым мы сидели. — Ваш отец вернулся из русских земель с супругой, не так ли?
Флорентиец кивнул.
— У вашего отца были дети от первого брака? — продолжил я свои расспросы, подняв над наковальней уже сияющую жаром тайну.
— Ответить наверняка не могу, — сказал Сентилья. — Правда, я слышал, что до меня у отца был якобы уже взрослый сын, но он давно принял монашеский постриг и остался где-то в глухих лесах, завоеванных монголами.
— Синьор Сентилья, — решительно обратился я к нему, замечая, однако, что у меня самого сердце начинает взволнованно биться. — Повествуя о своей родословной, вы не назвали ни одного имени. Я вполне понимаю причину, побудившую вас соблюдать некоторые семейные тайны, ведь вы человек благородный. Однако мне кажется, что я имею возможность восполнить вашу родословную. У меня нет явных доказательств, но чтобы сразу не показаться лжецом или переносчиком пустых слухов, позвольте мне высказать несколько догадок относительно скрытых имен. Если хоть одно из названных мною окажется верным, то можно будет подозревать, что и затерянное имя — не пустой звук.
— Я слушаю вас, мессер, — сказал Сентилья, и губы его сжались.
— Простите, синьор Сентилья, — спохватился я, — а каково происхождение вашей фамилии?
— От девичьей фамилии моей матери, — не колеблясь, ответил флорентиец. — Правда, на франкском наречии ее фамилия звучит несколько иначе.
— В таком случае я почти не сомневаюсь, что вашу достопочтенную бабушку, пережившую множество удивительных похищений, звали Иоландой, — изрек я.
Лицо Сентильи окаменело. Он прищурился, потом вдруг поискал глазами что-то на столе и на полу и снова уперся в меня взглядом, словно в какого-то идола, отлитого из чистого золота, который вдруг свалился прямо перед ним с небес.
— Ваш сказочно богатый дедушка-сарацин носил имя Умар аль-Азри, не так ли? — продолжил я свое волшебное гаданье.
Если не солгал свет масляной лампы, то флорентиец побледнел.
— Что же касается коварного похитителя-тамплиера, то им мог быть ни кто иной как Гуго де Ту, сын первого хозяина замка Рас Альхаг.
Я ожидал, что Сентилья на этот раз схватится за голову и упадет на пол, но этого не случилось. Напротив, он даже пришел в себя, обрел уверенность и покраснел.
— Мессер, — кашлянув, произнес он твердым голосом, — или вы обладаете чудесным даром прорицания, или вы знаете гораздо больше, чем могу предположить я и, возможно — сам Великий Магистр иоаннитов.
— Синьор Сентилья! — радостно проговорил я. — Наше сходство не может быть случайным, раз вы, как и я, допускаете, что и за тамплиерами, и за иоаннитами, и даже за ассасинами стоит еще какая-то тайная сила, которая вертит колесами наших судеб!
Взгляд флорентийца потускнел, и он ответил сухо и недоброжелюбно:
— По чести говоря, мне на это наплевать. Чем больше я стану ломать себе голову, тем скорее сломаю себе шею. Два имени из трех вы назвали верно, мессер.
— Только два?! — изумился я.
— Именно так, честное слово благородного человека, — поклялся Сентилья. — Третье имя, может статься, также названо верно, однако оно мне неизвестно самому.
Я подумал, что поступлю опрометчиво, если столь же уверенно отгадаю вслух имя его отца.
— Смею ли попросить вас, синьор Сентилья, — проговорил я, испытывая кое-какие колебания, — назвать имя вашего отца.
— Увы, мессер, — развел руками Сентилья, скрывая, как мне показалось, вздох облегчения, — спросить-то вы можете, но ответить я не волен. Я дал клятву моим покровителям не открывать имени моего отца ни одному из смертных до того самого дня, когда святейший суд вынесет Ордену тамплиеров окончательный приговор.
— Благодарите Всевышнего, синьор трактатор, — гласом пророка изрек я, — что моему провожатому, тамплиеру из Рума, не суждено было пасть от вашей руки. Все же убивать брата — не самый легкий грех.
— Брата?! — содрогнувшись, повторил тайное слово Сентилья, но тут же проявил сдержанность достойного ученика почтенных торговцев Флоренции. — Вы сказали «брата», мессер? В это поверить очень трудно. Впрочем, я могу предположить, что у тамплиера, похитившего мою бабку, мог и даже, по замыслам Ордена, должен был появиться внук. — При этих словах взгляд флорентийца просветлел. — Тогда понятно, почему у иоаннитов возник замысел убить его, раз они узнали, что он при определенных условиях тоже может претендовать хотя бы на часть наследства. Однако… — Тут Сентилья замолк на несколько мгновений, и я мог наблюдать тяжелую работу мысли, подобно кирке рудокопа вывернувшей кусок почвы и наткнувшейся под камешком легкой разгадки на преогромную глыбу. — Однако что могло подвигнуть этого тамплиера, который был вашим провожатым, предать свой Орден? Может быть, иоанниты сумели обмануть его, пообещав долю богатства? Но зачем тогда, в самом деле, устраивать его убийство именно моими руками?
— Синьор Сентилья, — вторгся я в его напряженные размышления, — я имел в виду гораздо более близкого родственника. Я располагаю сведениями, что у вашего отца было в общей сумме трое сыновей. Один стал монахом в Скифии. Второй, которого вы, к моему удивлению, не знаете, долгое время жил в Париже, а впоследствии стал тамплиером. Третьего я имею честь лицезреть перед собой. Я могу назвать имя того, второго. Вот оно: Эд де Морей.
Сентилья снова побледнел, потом покраснел и, сжав кулаки, ударил ими по столу.
— Проклятье! — зарычал он, раздувая ноздри. — Я больше не хочу ничего знать! Я сделаю свое дело и буду торговать сукнами! Что бы там ни происходило на небесах или в преисподней, мне наплевать! Слышите, мессер? Наплевать! И я клянусь вам, что получу свое наследство, даже если объявится целый легион самозванцев, выдающих себя за моих братьев!
— Вы намекаете на наше братское сходство, синьор Сентилья? — заметил я, уже вполне мирясь с мыслью, что и сам могу оказаться сыном доблестного Жиля де Морея, а потому — и родным братом алчного Тибальдо Сентилья.
Всякое самообладание оставило рассудительного трактатора, и он выхватил кинжал, который совсем недавно я изволил ему вернуть.
— Полагаю, что ваши покровители останутся недовольны, если вы не довезете ценный товар в целости и сохранности, — безо всякого опасения наблюдая за сверкавшим острием кинжала, предположил я.
По счастью, разговор завершился без кровопролития, поскольку настроение флорентийца менялось быстрее, чем погода посреди осеннего моря.
Он замер и, рассмеявшись как ни в чем не бывало, бросил кинжал на стол.
— Что вы еще хотите от меня, мессер? — проговорил он затем, уже недобро скалясь. — Я и так наболтал лишнего, о чем теперь сильно жалею.
— Путь еще достаточно долог, — вполне миролюбиво ответил я. — Возможно, я сам еще что-нибудь вспомню и так же проболтаюсь. Последнее, что я хотел бы узнать сегодня, это — имя императора-ассасина. Единственное имя, о котором я не имею никаких догадок.
— Вы не дурачите меня, мессер? Вы действительно не знаете, кого я имел в виду? — вновь изменился в лице Сентилья: мое неведение опять придало ему чувство некоторого превосходства, и его взгляд сразу потеплел. — Мне нелегко поверить вам. Вы знаете по именам солдат и не знаете имени полководца.
— Моя память напоминает ваше богатое наследство, — сказал я. — Она лежит в чужом подвале, и я стремлюсь овладеть ею. Однако, судя по всему, есть и другие, весьма могущественные силы, готовые присвоить ее. Как же все-таки звали того императора?
— Фридрих Второй Штауфен, — чуть помедлив, ответил флорентиец.
Это имя не пробудило во мне никаких воспоминаний, но я несколько раз повторил его про себя на случай будущей встречи с каким-нибудь нынешним монархом-ассасином.
На том мы и разошлись с Тибальдо Сентильей в ту ночь, хотя «разойтись» означало отступить друг от друга всего на три шага. Великие воды готовы были поглотить всякого ассасина и всякого богатого наследника, не устраивая никаких хитроумных заговоров или ловушек.
Последующие дни путешествия были настолько однообразны, что я намерен вовсе отбросить их, не находя от того никакого ущерба для моего бытописания. По большей части мы с флорентийцем проводили время в молчании, поглядывая друг на друга то с подозрением, то с невольным доверием; последнее обычно случалось при сильном волнении на море. Мы оба были заняты напряженными размышлениями. Не берусь гадать, как собирался завершить свою тайную миссию Тибальдо Сентилья, сам же я раздумывал только о том, как бы улизнуть от всех — и от тамплиеров, и от иоаннитов, и от ассасин, — чтобы добраться до Великого Мстителя каким-то своим путем, ибо я уже давно предполагал, что именно тот таинственный Великий Мститель держит в руках ключ от моей памяти и шкатулку, в которой хранится мое имя. Замечу также, что священная реликвия, тот самый Удар Истины, все еще оставался на моем плече. Я так привык к этой ноше, что порой совсем забывал о ней, зато, когда замечал ее вновь, в моем сердце сразу вспыхивала надежда, что острие Истины когда-нибудь должно-таки ударить в сердце Тайны. К тому же было ясно, что, раз флорентиец не польстился на эту вещицу, значит, он тоже имел какие-то представление о моей тайной миссии, не завершавшейся простым свидетельством на суде.
Короче говоря, за днями схваток и погонь последовали долгие дни мучительной работы мысли, и только у берегов Италии у меня наконец вызрел вполне определенный замысел. Решению весьма способствовала свирепая качка, которая основательно прочистила мой желудок и мои мозги.
Прижавшись всем телом к борту галеры и бессильно свесив голову над грозной пучиной, я созерцал темные ямы и шумно вспучивавшиеся горбы и, выжимая из себя последние остатки желчи, гадал, обучен ли я плавать или нет и достаточно ли я облегчился теперь, чтобы поплыть по волнам безо всяких трудов, подобно щепке. Потом как бы из самого желудка поднялась мысль, что мучений было бы куда меньше, путешествуй я по морю на маленькой, не опрокидывавшейся с боку на бок дощечке. Тогда я понял, что вновь настало время для искушения судьбы, ибо, если мне удастся удрать, не откладывая побега до лучшей погоды, и остаться при том в живых, значит, Провидение действительно позволяет мне добраться до конца пути самому, безо всяких лукавых покровителей.
Я собрал все свои силы и двинулся по кораблю в поисках подходящей доски, стараясь не привлекать к себе внимания. Мои поиски продолжались долго, но увенчались успехом. За это время непогода даже немного поутихла, что я воспринял как добрую примету. Начальник матросов поглядел на тучи и, сказав, что святой Луций услышал наши молитвы, повелел держаться ближе к берегам, что я принял как еще один знак согласия небес с моими замыслами. С другой стороны, исчезнуть с корабля незамеченным становилось труднее.
И вот я, не колеблясь, решился на злодейство, правда, помолившись пред тем за здравие своего «братца»-двойника.
«Всемогущий Боже, — шептал я. — Прошу Тебя, сделай так, чтобы никто не утонул, не сгорел и не потерял своего имущества. Пусть все беды падут только на мою голову. Пусть за этот грех только я подвергнусь потом испытанию как водой, так и огнем».
Через некоторое время я притаился в своей каморке, обзаведясь доской, а также огнивом и кресалом, которые я украл у компаньонов Сентильи. Еще не меньше часа потребовалось мне, чтобы устроить в корабельных покоях зловещий камелек из обрывков шерсти и тростниковых подстилок. Спрятав под плащ доску, которой суждено было стать подобием спасительного ковчега, я выбрался на корму и огляделся по сторонам. Сгущались сумерки, тоже способствовавшие моему бегству, однако опасные тем, что могли скрыть от меня верное направление к берегу.
Как раз в те мгновения, когда я жадно приглядывался к смутным очертаниям земной тверди, снизу повалил дым, и раздались крики и проклятия. Все бросились к огнедышащему отверстию, и я решил, что дальше раздумывать нельзя.
Едва я сбросил с плеч отяжелевший от непогоды плащ и, отдав себя в руки Всемогущему, собственными руками крепко обхватил свою спасительную доску, как галера сильно накренилась, словно помогая мне сверзиться в пучину. Огромная волна двинулась прочь, обнажая передо мной бездны тартара, уже готовые принять нового грешника. Вздохнув в последний раз, я кинулся вниз, в темный хаос, пожирающий всякую волю и всякий замысел.
Тартар охватил меня нестерпимым холодом, и мои руки, вцепившиеся в жалкий ковчег, в одно мгновение окоченели. Признаюсь, что, захлебываясь соленой водой и теряя понятие о том, с какой стороны теперь ждать избавления, я успел не раз пожалеть о своем чересчур решительном поступке и уже был готов сунуть голову в любой собачий ошейник, только бы новый хозяин вызволил меня из бурной стихии. Для хаоса, в который я угодил, моя жизнь представляла ценность не большую, чем та щепка, за которую я держался.
Впрочем, вслед за храбростью меня вскоре также оставило и малодушие, уступив власть последнему чувству: тихой обреченности, незаконной сестре смирения.
Великая и безучастная сила поднимала меня на высокую гору, так что крики с галеры доносились до меня, как из глубин пропасти, и мне казалось, что я вот-вот сорвусь с черных небес прямо на корабль, а затем опускала в яму столь глубокую, что полностью стихали все звуки, даже могучий голос ветра, и мне начинало грезиться иное: будто бы я достиг самого дна и теперь всякое движение материи или же мысли должно, наконец, прекратиться.
Сколь долго продолжалось то ужасное путешествие между бездною и тьмой разряженной, словно я очутился при первом дне творения, определить невозможно, ибо и само время, как и в первый день творения, теперь отсутствовало.
Доска оказалась так мала, что трудно было сказать, кто кого удерживает на поверхности: она меня или же я ее.
Мне послышался голос Сентильи, кричавший вдалеке: «Где он?! Куда подевался этот каналья?!», — и за тем сразу холодная и тяжкая длань накрыла меня с головой и сдавила так, что я лишился разом всех чувств.
Однако, как мне показалось, спустя всего одно мгновение тьма и бездна вдруг свернулись в один маленький клубок, который уместился бы и на моей ладони, а, свернувшись так, провалились куда-то вглубь меня самого, в область моего средостения. Волны все еще поднимались и опускались, но и их я ощущал уже не вовне, а внутри своего тела, и у меня в сердце даже возникло смутное опасение, что крохотный корабль с несчастным Тибальдо Сентильей затерялся уже где-то в глубинах моего желудка и неизвестно, как же теперь оказать ему помощь, не извергая его из себя самым безжалостным и опасным способом.
И вот я поднял веки и увидел белый свет.
Правда, этот свет быстро потускнел и стал напоминать рассветный сумрак пасмурного дня, но для моей жизни его оказалось пока вполне достаточно. Потом я глубоко вздохнул и почувствовал сильную ломоту в груди, сменившуюся ознобом, который, в свою очередь, заставил меня пошевелить членами.
— Мессер очнулся! — раздался рядом со мной тихий голос, полный искренней радости, но ту радость я поначалу не заметил, поскольку ее захлестнул мой собственный страх.
То был хриплый мужской голос и слова он произносил на тосканском наречии. Это меня и ужаснуло: я додумался, что волны, вдоволь наигравшись моим телом, бросили-таки меня обратно на корабль, и теперь уж добра ожидать не придется.
Но, подобно ангелу, унес меня прочь со злосчастного корабля на твердую и благословенную землю, другой голос, принадлежавший заботливой и пожилой женщине. Я успокоился, ибо женщин на галере появиться не могло.
— Видишь, Пьетро, как его коробит, — так же тихо проговорил голос женщины.
«Пьетро, — повторил я про себя то имя. — Не сам ли апостол Симон Петр глядит на меня от врат небесного Царства? Выходит, я теперь в Чистилище?»
— Пора дать ему вина, — решил «ключарь райских врат». — И погорячей. Вино готово у тебя, Мария?
— Несу, несу, Пьетро, — был ответ, и вскоре огонь истинного блаженства растекся по моим жилам, и я не испытал никакого огорчения от того, что врата Рая остались для меня закрыты, а сам я очутился на грешной земле, на мягкой постели, в маленьком домике рыбака, таком домике, в каком, быть может, некогда жил и апостол Петр.
Только этот домик стоял на берегу не Галилейского, а Лигурийского моря, и ближайшими городами были не Капернаум или Вифсаида, а неугомонные Пиза и Ливорно.
Ожив вполне и оглядевшись по сторонам, я увидел в том доме два источника света: один — духовный, а другой — материальный. Простое деревянное Распятие висело прямо над моим изголовьем, слабо освещенное небольшим окошком, что было затянуто перепонкой из бычьего пузыря.
Возблагодарив Бога за Его милость, я затем, насколько позволяли мне силы, а позволяли они мне пока немногое, рассыпался в благодарностях перед своими спасителями.
— Что вы, мессер! — всплеснула руками благочестивая Мария. — Мы просто подобрали вас на берегу. Море обошлось с вами, как с любимцем, ведь волны уложили вашу милость в крохотный промежуток между двумя огромными камнями. Если бы вы угодили на них, вашу милость и хоронить было бы страшно. Ваш настоящий Спаситель живет вовсе не в этой бедной развалюхе, достопочтенный.
«Может быть, и собачий ошейник, и галера Сентильи, и разговоры про неисчислимые сокровища тамплиеров мне просто приснились, как и та трапезундская облава», — думал я, наслаждаясь теплым питьем и куском грубой лепешки.
Через три дня я уже смог подняться на ноги, а через неделю уже помогал Пьетро забрасывать сети.
Теперь я решил действовать так, как должен действовать стремящийся к исполнению своей миссии настоящий ассасин. Я обязал себя освоить язык в такой степени, чтобы не отличаться от местного жителя. А кроме того, я обязал себя заработать за это время своим честным трудом, как положено по Писанию, то есть в поте лица, не менее ста флоринов, что было делом весьма нелегким, ведь и за целый год даже весьма удачливый рыбак мог заработать немногим более половины такой суммы. И вот я решил трудиться, не покладая рук, чтобы в самом скором времени войти в славный город Флоренцию весьма почтенным и знающим себе истинную цену тосканцем.
В сущности, замысел мой был прост: именно я сам, по своей собственной воле, должен был найти следующего проводника, в обязанность которого входило переправить меня поближе к Великому Мстителю. Как мне казалось, такой способ путешествия предотвращал в будущем внезапные появления всяких цепей и ошейников.
Что из этого получилось, можно узнать из моего дальнейшего рассказа.
Продолжая помогать старому Пьетро в его промысле, я стал подбирать себе занятие поприбыльнее и в конце концов обнаружил в себе дар ухода за конями. Действительно, из меня получился славный конюх. Никто в округе не замечал быстрее меня, что лошадь вот-вот охромеет из-за скверно прибитой подковы, а жеребенку пора скорее промыть слюною глаз, укушенный сатанинской мушкой и готовый опасно загноиться. Животные тоже любили меня, и даже самые норовистые жеребцы, расколовшие не одну голову и сломавшие кое-кому не одно ребро, без всякого лишнего уговора подпускали меня к себе с любой стороны и позволяли поднимать копыта или расчесывать хвосты.
Меня зазывали наперебой во все конюшни. Уже к лету следующего года я скопил без малого двести золотых флоринов и положив в свой кошелек последний, двухсотый, решил, что урочный час настал.
Я навестил своих добрых спасителей, тепло попрощался с ними, оставил старикам еще тридцать флоринов и отправился в путь.
В ту пору было тепло, пели жаворонки, солнце светило все дни напролет, и, несмотря на то, что во Флоренции меня могли ожидать самые неблагоприятные вести, с приближением к городу меня все чаще охватывала радость, объяснимая разве что хорошей погодой. То вдруг внезапная тоска проникала в мою душу и казалась мне удивительно приятной, подобной аромату корицы или миндального цвета. Какой-то добрый дух подсказывал мне, что я уже когда-то бывал на этих дорогах, пролегавших среди благодатных полей и чудесных лесов, которыми не могли похвалиться прокаленные жарким солнцем плоскогорья и болота Рума.
Мне казались знакомыми проплывавшие мимо селения, меня грела издали теплая рябь черепичных крыш, окруженная густыми кронами плодовых деревьев. Строгие башни крепостей приветствовали меня со всех краев обозримых взором земель, а величественные базилики убеждали меня своим видом в конечной тщетности любых заговоров и безвредности любых сновидений. Каждый розовый куст, произраставший перед красивым домом, каждый цветок мальвы, каждый милевой камень казались мне какими-то добрыми предзнаменованиями, и я присматривался к окнам над розовыми кустами: а не в этом ли самом доме или, может, в соседнем появился я на свет Божий. Вот сколь искусительным оказалось мое новое путешествие.
Жители отвечали улыбками на мои приветствия. Меня радовали все: и дети, катавшие по дороге разноцветные шарики, и невозмутимые земледельцы, шествовавшие такой же неторопливой и тяжеловесной поступью, как и их коровы, и вереницы монахов, перебиравших пальцами снизки шариков, предназначенных уже не для детской игры, а для важного дела спасения собственных душ. Даже прокаженные, встречавшиеся по дороге, не пугали, а веселили меня своими трещотками.
Розовых кустов и красивых окон становилось все больше и больше, и наконец, объятая гомоном и звоном, песнями красавиц и криками нищих, открылась моему взору великая и благословенная Флоренция.
Глядя на черепичное море крыш, окруженное крутыми берегами крепостных стен, я мог, как пророк, без сомнения сказать одно: в этом городе я некогда был и здравствовал. Я, однако, решил не входить в стены города пока не соберу за его пределами как можно больше сведений о занимающих меня предметах.
Я подобрал себе сносный постоялый двор, оставил своего жеребца и справился о том, где тут можно прицениться к хорошим коням, еще не составившим мою собственность. Денег у меня было вовсе не достаточно для покупки табуна породистых животных, однако я пока решил выдавать себя за солидного покупателя, приехавшего по торговым делам из-под Ливорно. Назвался я Андреуччо ди Пьетро, лошадником.
По пути на рынок я решил, что пару-тройку ближайших дней я пооколачиваюсь среди торгового люда, понемногу выспрашивая о наиболее уважаемых владельцах коней и — вообще о всех солидных торговцах живущих в городе. Так я и поступил: придя на рынок, я важно приценивался к коням, расспрашивал торговцев о том и о сем и, признаюсь, по неопытности довольно часто раскрывал свой кошелек, в котором поблескивали мои честно заработанные флорины.
Пока я так торговался, ко мне несколько раз подходила какая-то старушка. Она подступала ко мне то с одной, то с другой стороны, заглядывала в лицо и вдруг, подойдя совсем близко, крепко обняла со словами:
— Андреуччо! Как же ты вырос!
Что мне оставалось, как не вытаращить на нее глаза и не разинуть рот от удивления.
— Достопочтенная сударыня, — пробормотал я, отступая и со всей учтивостью освобождаясь от ее объятий. — Опасаюсь, что вы приняли меня за кого-то другого.
— Разве ты не помнишь старую сиделку Пампинею, которая ходила за тобой целых полгода, когда ты, Андреуччо, был еще крохой и лазил ко мне на колени, как на высокую гору? — скороговоркой выпалила старушка, вновь надвигаясь на меня и протягивая ко мне руки.
— Увы, не имею чести помнить вас, сударыня, — пробормотал я, делая еще один шаг назад.
Первым мне пришло в голову, что старуха — мошенница и что она, разведав мое вымышленное имя у хозяина постоялого двора, норовит теперь выклянчить у меня денег за свои прошлые заслуги. Чтобы оправдать ее, я даже подумал, а не приняла ли она меня за Тибальдо Сентилью, живого или мертвого.
— Разве ты не Андреуччо ди Пьетро из Ливорно? — как бы удивилась старушка и опустила руки.
— Ну да, я тот самый и есть, — кивнул я головой.
— Что я говорила! — вновь всплеснула своими длинными руками старушка. — Иду я себе по дорожке мимо постоялого двора и вдруг вижу знакомое лицо. Я так и остолбенела. Гляжу: такой статный и благородный юноша. А хозяин-то гостиницы — мой добрый знакомец. Я бегу к нему, спрашиваю, а он и говорит: Андреуччо ди Пьетро из Ливорно, лошадник. Как я рада видеть тебя, Андреуччо! Где же ты пропадал?
Направление моих мыслей изменилось, и я с волнением подумал, а не признала ли она того самого ребенка, что некогда жил в этих краях, а потом вырос, отправился в далекую страну и был безжалостно окраден памятью.
Заметив приветливую, но все же недоверчивую улыбку на моих губах, старушка вдруг нахмурилась и проницательно посмотрев на меня, спросила:
— Неужто благородный юноша носил в детстве какое-нибудь другое имя?
— Вполне могло такое статься, — с еще большим трепетом ответил я, и недоверчивость должна была оставить место ожиданию чуда, что могло вот-вот случиться.
— Расскажи-ка поподробнее, славный юноша, — настойчиво попросила старуха.
Тут я перевел дух и рассудил про себя, что такая встреча может таить не только радости возвращения на родную землю, но и неведомые мне пока опасности, ведь, покинув меня здесь, на рыночной площади, словоохотливая старушка наверняка пойдет рассказывать о чудесной встрече всякому иному встречному и поперечному, так что слух может в конце концов дойти и до ушей тех зловещих синьоров, которым я и был обязан всеми своими злоключениями.
И вот я стал плести сказку про остров Кипр, про пиратов и про всякие похищения, которые мне пришлось перенести вместе с моей бедной матушкой.
— Верно! Верно! Так оно все и было! — кивала старушка. — Я нянчила тебя до того самого дня, когда вы с матушкой отправились в то злополучное путешествие. Ах, если бы я знала, что с вами должно произойти, как бы я молилась Пресвятой Деве, дабы Она избавила вас от стольких несчастий! Немудрено, дорогой Андреуччо, что ты совсем не помнишь меня. Я могу теперь только возблагодарить Бога, что ты сам остался жив и здоров и даже добился своим трудом известного достатка.
С этими словами старушка пустила слезу и снова накинулась на меня, как сокол на свою жертву. Руки ее оказались сильными и жесткими, словно когти остроклювого хищника.
Теперь я почти не сомневался, что старушка порядочная мошенница и хитрюга. Однако крохотный росток сомнения все же не увядал в моей душе, питаясь вот какой подземной влагой: мне вдруг пришло на ум, что сказки, коими я морочил головы многим добрым людям, могут и в самом деле оказаться совсем не сказками. Вдруг все, что я выдумывал наугад, я попросту, не ведая того, выуживал без спросу из темного колодца моей запретной памяти. Отчего же я не мог оказаться в детстве на острове Кипр, если я потом безо всякого на то желания очутился посреди безлюдных ущелий Рума?
Видимо, почувствовав мои подозрения, старушка отстранилась и, пристально посмотрев мне в глаза, сказала со вздохом:
— Ладно же, достопочтенный синьор Андреуччо ди Пьетро, вижу, что я не обрадовала тебя, а только удивила. Что ж, переведи дух, пойди выпей чарку вина, и тогда, быть может, твоя память оживет вновь, как засохший розовый куст, и ты снова вспомнишь старую Пампинею, которая очень любила тебя. Мы еще увидимся, Андреуччо. Тут я бываю частенько.
При этих словах старуха с едва приметной опаской бросила взгляд куда-то в сторону.
Проницательности мне и самому не надо было занимать. Я, конечно же, уловил этот ее беглый взгляд и скосил глаза в ту же сторону. Там, в дюжине шагов, стояла молодая особа, лет, я полагаю, семнадцати или годом больше, очень пригожая собой и весьма небедно одетая. Небесная лазурь и ясный огонь вечерней зари живописно сочетались в ее платье. Белый убор из тонкого полотна плотно облегал прелестную головку, всем вокруг показывая ее совершенную форму.
Красавица делала вид, что разглядывает снизки бус и разноцветных шнурков на лотке у торговца, но, как только я прикоснулся к ней своим косым взглядом, сразу повернула головку и с не меньшей, чем у меня и старухи, опаской живо осмотрела лошадника Андреуччо с головы до ног. Признаюсь, что короткий взгляд ее умных глазок цвета морской волны, если и не сумел сразу проникнуть в казну моих намерений и подозрений, то успел испортить и поломать там многие замки и затворы.
Я тоже сделал вид, что вовсе не собираюсь любопытничать по ее поводу, а заодно убедил себя, что в таком переглядывании не может быть никакой загадки, ведь все девушки прекрасно чувствуют, когда на них смотрят молодые люди.
Старушка еще раз простилась со мной, попросив пару сольдов на молитвы о моем здравии и о упокоении души моей матушки. Я упросил ее довольствоваться пока моим здравием, и на том мы разошлись. Она заторопилась в сторону городских ворот, а я, бросив последний взгляд на миловидную девицу, рядом с которой уже оказался какой-то состоятельный и крепкий в плечах ухажер, вооруженный длинным клинком, неторопливо двинулся в сторону гостиницы, перебирая в уме все возможные объяснения только что происшедшему случаю.
Заперевшись в своей комнатушке и опорожнив две чарки вина, вместо одной, я так и не сумел вспомнить тех счастливых дней, когда лазил на колени к старой сиделке Пампинее, и не измыслил более никаких толкований случаю, кроме тех, что пришли мне в голову сразу, пока я стоял посреди рыночной площади. Самой худшей разгадкой могло быть только то, что мои незримые и всемогущие покровители снова без всякого труда выследили меня и теперь морочат мне голову, потихоньку завлекая в какие-то новые ловушки.
Под вечер, когда за маленьким окошком уже начало смеркаться, в мою дверь кто-то довольно учтиво постучал.
— Кто там? — спросил я, пожалев, что еще перед дорогой не приобрел себе приличного оружия, а по старой привычке обошелся хорошо заточенным ножом, упрятанным за пояс.
— Мессер! — донесся снаружи голос, который мог принадлежать разве что совсем юному отроку. — Вы дома?
Я осторожно приоткрыл дверь и действительно обнаружил на пороге мальчишку с весьма пройдошливым выражением глаз.
— Мессер! — повторил он, не отводя своего взгляда в сторону. — Если вы ничего не имеете против, одна здешняя знатная дама хотела бы с вами побеседовать.
— Вот как! — сделал я изумленный вид. — Против я ничего иметь не могу. А где проживает эта знатная дама?
— Неподалеку отсюда, — ответил мальчишка. — В городе.
«Что ж, — подумал я, — они, если бы захотели, поставили бы капкан и у самых дверей. Делать нечего. Видно, час пришел. Посмотрим, что выйдет».
— Не будет ли угодно вам, мессер, последовать за мною, — сказал мальчишка и отступил от дверей. — Она ждет вас у себя.
— А отчего бы ей не прийти сюда? — полюбопытствовал я.
— Мессер, — нагло усмехнулся мальчишка. — Сразу видно, что вы приехали из глухих краев, пусть и богатых. У вас там не ведают, что знатным дамам выходить в этот час из дома никак не полагается.
Я и сам собирался отправиться в город, но — только на следующий день. События, однако, подгоняли меня.
— Иди, а я за тобой, — велел я мальчишке и, дождавшись, пока он спустится и выйдет из дома наружу, покинул свою комнату, а затем, решив ничего не говорить хозяину, вышел с постоялого двора и, озираясь по сторонам, неторопливо направился вслед за своим новым провожатым, который был явно посвящен в рыцари самого таинственного и скрытого от всех людских глаз Ордена.
С затаенным дыханием приближался я к порогу благословенной Флоренции.
— Смотри-ка, Джанни, с какими важными синьорами ты водишь знакомство! — крикнули моему провожатому городские стражи, почему-то не взявшие с меня ни одного флорина, динара, марки или юсуфи.
И вот я оказался посреди узкой улочки, между высокими, сумрачными и неприветливыми в этот поздний час стенами, под низко нависавшими над головой арками и торговыми гербами. Здесь было гораздо темней, чем на открытом месте, и шаги гулко звенели в этих прямых ущельях, словно бы пробитых крепкими кирками сквозь гранитные скалы.
И, однако же, те сумрачные ущелья вдруг показались мне самыми приятными на свете местами. Редкие огоньки в оконных щелях и отверстиях виделись мне теперь поистине ангельскими звездочками. Столь же редки были попадавшиеся навстречу прохожие, с которыми было нелегко разойтись в проулках и приходилось протискиваться грудь в грудь, предварительно выдохнув из себя весь уличный эфир.
Зато мое сердце замирало от восхищения, когда мы оказывались посреди площадей. А перед восьмым чудом света, собором Санта Мария дель Фиоре, я попросил моего проводника задержаться и украдкой смахнул слезу. Теперь я мог поклясться, что родился на свет где-то поблизости, осененный тенью этих священных стен.
Наконец мы углубились в какую-то улицу с не известным мне названием и беспрепятственно вошли в двери одного из домов. Мальчишка повел меня вверх по лестнице, слабо озаренной светом масляного огонька, что трепетал в изящной лодочке, прикрепленной к стене.
Наверху стояла в ожидании дама, которую я поначалу толком не разглядел.
— А вот и ваш Андреуччо, госпожа, — радостно проговорил мальчишка и внезапно исчез, то ли в какой-то щели, то ли за незаметной дверцей.
Мне ничего не оставалось, как только подниматься дальше, и, когда я достиг предпоследней ступеньки, я вдруг узнал в ожидавшей меня таинственной даме ту самую юную и пригожую особу, которую приметил днем на рыночной площади.
«Терпи, смотри», — повелел я самому себе и — как раз вовремя: сверкая не только прелестными глазками, но и слезами, покатившимися по ее щекам, юная особа протянула ко мне руки, а затем, сделав шаг навстречу, нежно обняла меня и поцеловала в лоб.
— Добро пожаловать, мой Андреуччо! — прошептала она прерывавшимся от волнения голосом.
Все же я был немного озадачен такими нежными ласками и только сумел вымолвить:
— И я очень рад видеть вас, сударыня.
Крепко взяв мою руку, она повела меня по каким-то сумрачным комнатам, потом, ни говоря ни слова, затащила в спальню, благоухавшую померанцами и жасмином, и наконец усадила на изящную скамеечку.
Так же сохраняя молчание, я неторопливо огляделся по сторонам и увидел пышное ложе под пологом, а в стороне от него — множество платьев, развешанных на различных крестовинах.
Юная особа обхватила мои пальцы своими маленькими ручками, удивительно теплыми и мягкими, и поведала такую историю.
РАССКАЗ ФЬЯММЕТТЫ
Дорогой Андреуччо, ты, конечно же удивлен таким неожиданным приглашением, так же — как и моими нежными ласками и слезами. Возможно, ты даже успел подумать обо мне что-нибудь плохое, но я понимаю, что в такой вечер твои мысли и намерения никак нельзя считать оскорбительными для молодой женщины, которая ведет себя столь странным образом.
Теперь, Андреуччо, ты удивишься еще сильнее, когда узнаешь, что рядом с тобой сидит твоя сестра по имени Фьямметта.
Если ты ничего не знаешь, то я тебе сейчас все расскажу. После того, как тебя вместе с твоей благочестивой матушкой похитили с острова Кипр те ужасные пираты, твой отец долго скитался, не в силах убежать и скрыться от своего собственного горя. Потом он вступил в Орден Соломонова Храма и с какими-то целями был послан из Франции в Тоскану, куда через много лет волею Провидения попал и ты, мой дорогой брат.
На одном из зеленых холмов Тосканы стоял тогда красивый замок, принадлежавший моим предкам. Увы, он давно уж срыт до самого основания презренными горожанами, а весь наш род испытал насильное переселение в эти грязные трущобы, где народ копошится, подобно червям или муравьям.
При этих словах из глаз Фьямметты выкатилось еще несколько крупных слез, на этот раз горестных, а не счастливых. Промокнув их маленьким кружевным платочком, она продолжила свой рассказ.
Представь себе, Андреуччо, что древний и славный род был приписан к цеху аптекарей! Но теперь беде не поможешь, и приходится довольствоваться тем, что есть.
Но в ту благословенную пору, о которой я веду речь, замок моих предков величественно возвышался над долинами и селениями, и жили в нем мой дед, моя бабка и моя мать. В то лето, когда твой отец, ставший доблестным тамплиером, проезжал по дороге мимо замка, ей исполнилось семнадцать лет, и ее родители, мои дед с бабкой, уже раздумывали, какой бы знатный юноша сгодился бы ей в женихи, а им в зятья.
Непогода застала рыцаря-тамплиера в дороге, он повернул к гостеприимному замку и за вечерней трапезой столкнулся лицом к лицу с моей матушкой, первейшей красавицей Тосканы. И вот, мой милый Андреуччо, в их сердцах разгорелось пламя такой сильной любви, что никакие рыцарские обеты и никакие опасения уже не могли ту любовь погасить.
Добавлю к этому, дорогой брат, что незадолго до своего отправления в Тоскану, твой отец получил прискорбное известие о том, что пиратский корабль, на который вы попали против своей воли, был потоплен ужасной бурей где-то у берегов Рума.
Разумеется, твой отец поначалу старался бороться с захватившей его в плен страстью теми способами, которые ему, как рыцарю, были доступны. Моя матушка стала для твоего отца Прекрасной Дамой, и в ее честь он совершил множество славных подвигов. На многих турнирах видели боевую пику твоего отца, украшенную у самого острия лазоревой вуалью, подаренной моей матушкой. И, осененный этим знаменем, твой отец ни разу не потерпел поражения.
Однако земная любовь постепенно пересилила любовь духовную, и тогда рыцарские обеты, данные твоим отцом, стали непреодолимым препятствием для соединения двух сердец. Даже если бы твоему отцу удалось выйти из Ордена, не потеряв своего достоинства, то и в этом случае мой дед не выдал бы свою дочь за чужестранца, не имевшего за душой сколь-нибудь приличного имущества да к тому же отказавшегося ради женитьбы от монашеского служения Христу.
Что было делать моим родителям, если жертва, на которую толкали их люди и обстоятельства, оказалась для них непосильна? Тогда наш с тобой отец замыслил побег на Кипр, где у него еще оставался небольшой дом и добрые отношения с королем Гуго Кипрским, на чью помощь наш отец и положился.
Первой частью замысла была намеренная потеря священного плаща, что грозило твоему отцу позорным изгнанием из Ордена. Это дело было тяжелым для сердца, но легким для рук. Впрочем, отец нашел способ несколько смягчить свой грех пред небесами: он не стал честно терять плаща, а только припрятал его в надежном месте. Затем, подвергнувшись остракизму, он не счел нужным каяться и проситься обратно в Орден, а сменил одежды и занялся устройством побега. Вторая часть замысла ему также удалась, зато третья таила в себе сокрушительное несчастье.
У пристани в Пизе в ту пору часто стояли корабли иоаннитов, поскольку враждебные тамплиерам иоанниты имели обыкновение брать большие ссуды у флорентийских торговцев. Рыцари Иоанна с радостью дали обещание беглому тамплиеру переправить его с молодой супругой на Кипр. Однако, узнав перед тем, что на корабле находится тайный груз, состоящий из золотых слитков, тамплиеры совершили нападение на корабль. Оказавшись невольным участником схватки, отец доблестно сражался против своих бывших братьев, был ранен и увезен ими неизвестно куда, а моя мать осталась одна и в неописуемом горе. В конце концов ей удалось добраться до своего дома. Родители не отказались принять ее, но поначалу были намерены отдать свою дочь в монахини. Однако и этот замысел не удался, поскольку вскоре все признаки греха стали обозримы, а в положенный срок на свет появилась я, несчастная Фьямметта. С моего-то рождения и начались все самые горькие беды нашего семейства, окончившиеся падением родового замка.
Тут она снова обняла меня и, плача то ли от горя, то ли от радости, поцеловала в лоб.
— Год назад Господь смилостивился надо мной и немного облегчил положение, послав мне мужа из всеми уважаемого цеха богатых суконщиков, — добавила Фьямметта к своему рассказу. — Он, признаюсь, недурен собой, крепок в плечах и достаточно знатен по здешним меркам. Однако, прошу тебя, дорогой Андреуччо, поверить моим словам, что гораздо большую радость я испытала от встречи с тобой, нежели от своего замужества. Старушку, которая в давние времена была сиделкой в вашем доме на Кипре, я хорошо знаю. Еще вчера она сказала мне, что заметила на рынке молодого человека, черты которого весьма напомнили ей черты нашего отца, каким он был в молодости. А сегодня она явственно признала тебя, чему я и была счастливой свидетельницей, хотя и не смогла кинуться к тебе на шею по причине многолюдства.
Я выслушал прелюбопытную историю Фьямметты, ни на одном слове не споткнувшейся и не поперхнувшейся, сохраняя в своей душе достаточное спокойствие. Разумеется, я мог бы посчитать все услышанное за чистой воды небылицу, а пригожую рассказчицу — за городскую плутовку, затеявшую сыграть со мной какую-то недобрую шутку. Так бы я и посчитал, если бы сам находился в совершенно ясной памяти относительно моих детских и отроческих лет и, повторяю, не мучился бы подозрением, что все мои выдумки имеют под собой правдивую основу. А кроме того, как это ни могло показаться странным, Фьямметта упоминала кое-какие вещи, весьма похожие на те, о которых я сам узнал ранее наяву или во сне из уст людей, внушавших мне гораздо больше доверия.
— Сударыня! — обратился я к ней. — Встретить в чужом городе сестру, о существовании которой не знаешь, да еще такую пригожую, как вы — это для меня тем более приятная неожиданность, похожая на чудо. Вы любому высокопоставленному лицу сделали бы честь своим знакомством, а не то что мне, мелкому торговцу, хотя бы и происходящему из знатного рода.
— Ах, Андреуччо! — воскликнула Фьямметта. — Я так счастлива встретить тебя. Ведь, кроме родственных чувств к тебе, меня несказанно радует подтверждение того, что мой отец действительно происходит из знатного рода, хотя бы и увядшего, подобно тому роду, к коему я принадлежу по материнской линии.
— А где же ваш супруг, сударыня? — осмелился спросить я, уже начиная беспокоиться, что нахожусь наедине с замужней дамой в поздний час да еще не где-нибудь, а в ее собственной спальне.
— О, не зови меня сударыней, братец! — всплеснула руками Фьямметта. — Мой муж дважды в неделю по вечерам пирует с друзьями в ближайшей таверне. Таковы здешние нравы. Он вернется под утро и, уверяю, будет также очень рад тебе, поскольку очень гордится родством с семьей нобилей, пусть и униженных.
Между тем, в окошке уже совсем стемнело, и я вновь выразил словами неловкость по поводу своего затянувшегося пребывания наедине с замужней дамой в отсутствие ее мужа.
— Фьямметта, я полюбил тебя так, как подобает любить родную сестру, — сказал я, — однако сегодня мне все же пора возвратиться в гостиницу.
— Какой ужас! — с напускным гневом воскликнула моя вновь обретенная сестренка. — Ты меня вовсе не любишь — это ясно. Куда тебе теперь идти, Андреуччо? Погляди-ка: на улице тьма непроглядная. Да тут не ваше тихое селение, пойди сейчас по улице — так запросто останешься не только без кошелька, но и без головы. Оставайся-ка на ужин. Конечно, жаль что моего супруга нет дома, и я окажусь для тебя не слишком веселой компанией. Ну да я уж постараюсь тебя ублажить, мой дорогой брат.
И перечислив все доводы в пользу моего ночлега в ее доме, с которыми можно было вполне согласиться, Фьямметта повела меня в другую комнату, большую и хорошо освещенную. В той комнате стоял роскошно накрытый стол, сразу соблазнивший меня всякими вкусными штуками.
Сестренка угощала меня широкими открытыми пирогами с печеными кусочками мяса, луком и расплавленным сыром, — потом сладкими дынями и душистым красным вином.
Наш разговор затянулся далеко за полночь, и надо сказать, Фьямметта оказалась очень милой и живой собеседницей, так что я даже начал благодарить судьбу, что разделяю эту трапезу с ней одной и можно обойтись без ее крепкого в плечах муженька из цеха достопочтенных суконщиков.
Время от времени меня все-таки тревожили мысли о том, какое место может быть отведено ей в великом заговоре, охватившем весь поднебесный мир, однако, глядя в ее прекрасные глаза цвета морской волны и обмирая от блеска ее белых и ровных зубок, я всякий раз пытался обвинить себя в излишней мнительности. То ли от распространения винных паров, то ли от того, что за стеной растопили печь, в комнате становилось все жарче и жарче, и вот Фьямметта, как бы уже принимая меня за одного из своих домашних, сняла с головы барбетт, и по ее плечам рассыпались светлые, как выбеленный лен, волосы, от красоты которых я совсем обомлел, а мое сердце на несколько мгновений запамятовало, для какого дела оно помещено Создателем в моей груди.
Было отчего горько пожалеть, что первая красавица Флоренции, обнимавшая меня и целовавшая в лоб, оказалась сразу и сестрой мне, и супругой какого-то самодовольного суконщика.
Впрочем, в наших кровных связях я продолжал сильно сомневаться, предчувствуя какой-то подвох и прозревая, что главные события, связанные с моим удивительным знакомством, еще не начались.
«Кто же она такая, и зачем я потребовался ей? — заставлял я самого себя быть настороже. — Может быть, я подобно Одиссею, попал на остров волшебницы Цирцеи, которая не прочь превратить меня в туполобого кабанчика».
«Впрочем, — начинал я затем успокаивать себя, — если тут мышеловка, то я уже очутился в ней и даже обглодал всю приманку. Теперь метаться не стоит, а, напротив, следует прикинуться дохленьким, чтобы дверцу приоткрыли, а уж там дай Бог ноги».
Я потихоньку расспрашивал Фьямметту о городских новостях, справлялся, не было ли слышно о каких-нибудь несчастьях, случившихся за прошлый и этот год как на земле, так и на море, но не выудил из нее никаких полезных для себя сведений. Наконец я спросил ее напрямую, известно ли ей что-нибудь о доме Ланфранко.
— Кому не известны эти богачи, нажившиеся на темных делах с какими-то сарацинами и иоаннитами, — скривив свои розовые губки, презрительно ответила Фьямметта.
— Может быть, и о трактаторе Тибальдо Сентилье ты тоже можешь сказать несколько добрых слов? — спросил я.
Холодная маска гнева появилась на лице Фьямметты, и я спохватился, не сболтнул ли чего лишнего.
— Неужто ты, братец, водишь дружбу с этим заносчивым приживалой? — сведя брови, злобно ответила она вопросом на вопрос.
— Как сказать, сестренка. Однажды в одном тихом местечке нас приняли за единоутробных братьев, — нашелся я. — Ведь если ты припомнишь его хорошенько, то несомненно найдешь между нами кое-какое сходство. Так вот, ему почему-то очень не захотелось иметь близких родственников в тех далеких краях, где нас свел случай. Что же, он теперь жив и здоров?
Убедившись, что никакие добрые узы не связывают меня с трактатором, Фьямметта сменила гнев на милость и передернула плечиками.
— Этот выскочка и ко мне приставал, сожги его антонов огонь! — сообщила она своему братцу. — Как же! Ходит тут разодетый в пух и прах. Живехонек как ни в чем не бывало.
Сколько сил мне пришлось приложить тогда, чтобы скрыть от Фьямметты вздох облегчения.
Наконец мы оба утомились, и хозяйка предложила мне расположиться до утра в одной из комнат, а в услужение оставила мне того самого мальчишку-провожатого, необходимого для того, чтобы вовремя показать подвыпившему гостю в какую сторону торопиться, когда приспичит.
И надо признаться, что приспичило мне довольно скоро.
Однако перед тем мы успели пожелать друг другу спокойной ночи и, обменявшись братскими поцелуями, неспеша разошлись.
Жарища, стоявшая в доме, так и осталась для меня необъяснимым чудом. Я добрался до постели, но стоило мне остаться без штанов, в одной сорочке, как тут вдруг и приспичило, да так живо, что потребовалась известная доблесть, чтобы «поспешить впереди своего желудка».
Я скорее позвал мальчишку, а он, появившись с похвальной быстротой, ткнул пальцем в маленькую дверцу, располагавшуюся в углу комнаты.
Приоткрыв ту дверцу, я вступил в такой неописуемый мрак, будто только здесь этот мрак и сохранился с тех самых пор, когда еще только начиналось сотворение мира. Я сделал туда пару шагов, потом, придерживаясь за стену, сделал еще пару и, честно говоря, немного растерялся, недоумевая, где же заветное седалище. Трубить к отступлению я, однако, уже никак не мог и, подумав, что при еще одном коротком шаге, вряд ли проскочу мимо цели, храбро ступил вперед.
Тут-то и хрустнула позади меня слабо прикрепленная доска. Я, едва успев сообразить, что опасность вовсе не позади, а прямо подо мной, рухнул вместе с доской в Тартар и спустя половинку мгновения оказался по грудь в теплой жиже, смягчившей мое падение, зато объявшей меня столь же неописуемым позорищем, сколь и страшной вонью. Увы, я очутился в море самого что ни на есть настоящего дерьма, и только штиль спасал меня от ужаса оказаться накрытым с головой. Священная реликвия, Удар Истины, тоже не избежала печальной участи.
Поначалу я не знал, как поступить. Кричать о помощи казалось мне окончательным позором, однако, сдерживая дыхание и оглядываясь по сторонам, я не нашел никакого средства спастись, если буду блюсти обет молчания.
Тогда я позвал мальчишку: сначала почти шепотом, потом в голос и наконец — во всю глотку. Ответом на все три призыва было мне такое безмолвие, которое сразу навеяло мысль, что я действительно провалился в адскую бездну и черед вечному наказанию все же наступил.
И вдруг справа над собой я увидел ясную звездочку, светившую с недоступных небес. Поначалу я не поверил своим глазам и невольно протянул к ней руку. Моя рука нащупала стенку и край отверстия, через которое на меня снизошел путеводный свет. Поводив рукой по краю, я установил, что отверстие достаточно широко, чтобы вызволить меня из беды.
«Вот теперь я совсем не откажусь, чтобы все это, пусть даже вместе с моей смазливой сестренкой, оказалось страшным сном и не более того», — рассудил я, прежде чем подтянуться на обеих руках и вывалиться наружу, в какой-то узкий проулок.
Подозрение о том, что я оказался жертвой чудовищного заговора у меня, разумеется, усилились. Однако набравшись смелости, я едва не наощупь обошел дом и как ни в чем не бывало постучал в дверь. Вновь на три моих призыва — тихий, погромче и такой, каким мог бы выражать свои законные требования подвыпивший хозяин дома и от коего могло бы проснуться полгорода — я не получил никакого ответа.
Тут-то я и вправду удостоверился, что, едва достигнув цели своего путешествия, стал жертвой заговора, только можно сказать — совершенно отдельного и почти невинного по сравнению с тем, для сокрушения которого требовался Удар Истины и величественное передвижение войск. Меня просто-напросто облапошили, позарившись на мои жалкие полтораста флоринов!
Куда-то мне все же надо было деваться: не бродить же по городу воплощением нечистот, и я невольно стукнул в дверь еще раз. Тогда высоко наверху приоткрылась створка окна, и из него высунулась одна из служанок хозяйки, принявшая весьма заспанный вид.
— Кто там еще? — недовольно пробормотала она.
— Разве не узнаешь?! — воскликнул я, обрадованный хоть каким-то звуком. — Я — Андреуччо, брат госпожи Фьямметты.
— Что за Андреуччо?! — выпучив на меня глаза, крикнула служанка. — Ты, братец, лишнего хватил. Поди выспись, а потом ищи себе сестер где-нибудь в другом месте.
— Послушай, милая, — ласково обратился я к ней, сдерживая в себе бешенство. — Я не такой дурачок, как может показаться. Давай сговоримся. Брось мне одежду, а я тебе завтра принесу флорин. Клянусь головой. Брось — и мы в расчете.
Служанка, давясь хохотом, ответила:
— Да ты спятил, милый.
И окошко захлопнулось.
Тут уж я не вытерпел и, нащупав под ногами увесистый камень, запустил его в окошко. Звонко ударившись об створку, камень отскочил в сторону и угодил в окно напротив, до того улица была узка. Спустя мгновение в том невинно наказанном окне и в двух соседних появились разгневанные шумом хозяйки и залаяли на меня сверху, будя весь город. Словно только того и ожидая, то есть всеобщего народного осуждения, из-за ближайшего угла, держа над собой факелы, которые покачивались из стороны в сторону, выступил немногочисленный отряд храбрецов, так же изрядно покачивавшихся. Они приблизились ко мне и, вероятно, заключили бы в дружеские объятия, однако вынуждены были остановиться и даже отступить на два шага, ошеломленные боевым духом, исходившим от меня.
— Это что еще за образина?! — зарычал на меня их предводитель, сверкавший богатым позументом. — Ты, что ли, тут нагадил у меня перед домом?!
Я догадался, что имею честь лицезреть муженька моей благочестивой сестренки, то есть — своего доблестного шурина-суконщика.
Пожалуй, я затеял бы с ними со всеми разговор по-родственному, однако все они, числом в полдюжины, достали приличные клинки, и я подумал, что лезть в драку в таком виде все же не следует: страдая посреди узкой улицы от собственного аромата и рези в желудке, я мог бы допустить оплошность и в самом деле поплатиться не только кошельком, но и своими кишками, а чего бы я добился в случае чудесной победы, как не появления городской стражи, а вслед за ней и целого войска?
Не отвечая ни слова, я повернулся к пьянчугам спиной и под злобное улюлюканье помчался куда глаза глядели, а вернее — куда меня повел лабиринт проулков.
Теперь уж было не до излияний чувств и не до наслаждения красотами прелестной Флоренции. Вонючей крысой сновал я по переулкам и темным углам, избегая любых встреч и стараясь поскорей найти какой-нибудь водоем. Собор Санта Мария дель Фиоре мне удалось, по моему расчету, обогнуть не менее, чем за два квартала, дабы не осквернять священных стен одним только своим видом. Наградой за мои мытарства оказалась река, пересекавшая город, и я кинулся в нее, не разбирая дна под ногами.
В сравнении с бушующим хаосом холодного моря, то было теплое молоко. Право, я устыдился, оскверняя эту нежную жидкость, в которой потом, при свете солнца, я видал и дохлых собак, и кое-что похуже.
Короче говоря, я прополоскался, как мог, стараясь не поднимать шума и волн, от которых река могла выйти из берегов и затопить чудесный город. Почувствовав некоторое облегчение на сердце и в носу, я заметил, что теперь никак не смогу жить без облегчения в других полостях, прилегающих к этим органам снизу. И вот, кляня на чем свет стоит смазливую злодейку, я отыскал подходящее местечко, оказавшееся как раз под Старым мостом и там облегчился, озираясь по сторонам. Там же мне пришлось, затаив по двум причинам дыхание, дожидаться, пока по мосту не прошествует в торжественном сиянии факелов городская стража. Затем я нашел необходимым еще раз окунуться в воду, дабы отбить остатки зловонного духа, а уж после того омовения я вновь почувствовал себя честным и почтенным путешественником, вполне достойным приличного ночлега.
Я двинулся вдоль берега, подыскивая среди кустов и бугорков местечко поуютней. Наконец одна выемка приглянулась мне, если так можно сказать о месте, выбранном в темноте наощупь. Я раздвинул ветки и заполз туда, стараясь поместиться как можно удобней. Какой-то плоский и холодный камень был явно недоволен моим вторжением. Мне он показался не слишком тяжелым, и я попытался отвалить его в сторону. Но только я сдвинул его, как почва под моими коленями провалилась. Я схватился руками за края дерна перед собою, но тщетно: вместе с дерном, клочьями травы, комьями земли и плоской глыбой я покатился вниз, в еще какую-то чертову дыру, которыми так преизобиловала та первая ночь, проведенная мной во Флоренции.
По чистой случайности или волею свыше, я достиг дна вместе с камнем, однако по отдельности, иначе тот бы несомненно расплющил мне голову или переломил хребет. Ощупав стены и приглядевшись к небесам или тому нечто, что их заменяло, я подумал, что есть чему ужаснуться: скорее всего мне довелось вновь очутиться на дне заброшенного колодца, откуда без посторонней помощи не выбраться и лучше не прикладывать к тому до утра никаких стараний, дабы не оказаться погребенным под рухнувшими стенами.
Предложенный судьбою ночлег мне совсем не понравился, но делать было нечего. Я кое-как устроился на боку и вытянул ноги, полагая, что упрусь ступнями в стенку. Однако, ноги мои вытянулись в пустоту, показавшуюся мне необъяснимой. Я проверил, откуда такая пустота взялась, и обнаружил довольно широкое отверстие, которое вело куда-то в сторону и, главное, не вниз, а даже немного вверх. Уподобившись ящерице, я пролез в него, и вскоре оказался в такой темноте, в которой дышать стало гораздо легче. Здесь даже как будто дул тонкий ветерок, напитанный ароматом благовоний.
Я поводил кругом себя руками, потом осторожно поднялся на ноги и, походив туда-сюда, остановился в своих мыслях на том, что нахожусь в довольно обширной пещере, устланной мраморными плитами и, следовательно, — не в пещере, а в неком помещении, вероятно, заброшенном.
Едва возникла мысль, что место покинуто Богом и людьми и я смогу до самого утра еще спокойно поразмышлять о том, с какой стороны света мне теперь лучше всего двигаться во главе своего войска на завоевание Персии, как сверху раздалось железное бряцанье, а затем — ужасный скрежет.
Я прижался спиною к стенке, до боли всматриваясь в темноту. Слабый отсвет озарил пределы помещения, и я, воспользовавшись им, быстро огляделся. Шлифованный мрамор и гранит убедили меня в рукотворности этой довольно просторной пещеры, а отсутствие всяких окон и предметов домашнего уюта — в том, что предназначена пещера скорее всего не для жилья. Раздумывать дальше было некогда: нужно было скорее найти закуток, где можно притаиться, потому что дверь, натужно скрипя и стеная от боли в заржавевших петлях-суставах, приоткрывалась все шире и уже была готова исполнить свое предназначение и впустить тех господ, что нарушили ее покой.
Никаких спасительных закоулков и щелок не нашлось. В глубине стояло несколько каменных коробов, и крышка одного из них была немного сдвинута, достаточно, чтобы худощавому вору, вроде меня, проскользнуть внутрь. Отбросив все опасения, я бросился к тому ящику и, подтянувшись на руках, живо юркнул в него.
Из этого самого ящика как раз и исходил приторный аромат благовоний. С трудом переведя дух и кое-как устроившись в уголке среди каких-то тяжелых брусков и мешочков, я подумал, что, верно, тут кто-то содержит склад пряностей и всякого прочего добра.
Между тем, дверь, справившись наконец со своими обязанностями, затихла в ожидании новых повелений, и на каменной лестнице, что вела на неглубокое дно помещения, раздались опасливые шаги.
— Святая кочерга! — донесся голос не менее скрипучий, чем заржавевшая дверь.
— Будьте осторожны, мессер, не оступитесь, — последовал за ним другой голос, тихий и подобострастный.
— Вот я и говорю: клянусь кишками святого Иакова, — снова заскрежетал первый, — тут скорее шею себе сломишь, чем обогатишься, как Крез. Да неужто здесь они припрятали свои денежки? Что-то не верится.
— Здесь, мессер, здесь! — с жаром зашептал второй, и каменные стены передали мне тот шепот так отчетливо, будто говоривший склонился прямо над моим ухом. — Я подслушал приора, а он отвечал не кому-нибудь, а самому маршалу Ордена. Они обо всем дознались. Уверяю вас, здесь теперь лежат те самые сокровища тамплиеров, что они вывозили из Акры. Я все знаю!
— Много ты знаешь, хитрый крот, — пробормотал первый.
— Знаю-знаю! — с гордостью подтвердил второй. — С тех пор, как во Франции их всех похватали, остальные только и хлопочут, где бы припрятать денежки, чтоб не достались королю и иоаннитам. Но и «черненькие» тоже не дураки, мессер. Я верно рассчитал, к кому поступать в услужение. Главное: не отрывать ухо от щели. Все уши так и отсохли, мессер, но судьба наградила меня за терпение. Золото здесь, мессер! «Беленькие» припрятали его и хотят увезти в Тунис или еще куда-то, а «черненькие» прознали и теперь готовят засаду. Как бы там ни было, а наше дело протиснуться в промежуток между ними, набить карманы доверху и улизнуть.
Все эти удивительные речи велись, пока грабители неторопливо спускались с лестницы. Одолев спуск, оба остановились и несколько мгновений молчали.
— Много у тебя карманов, — вновь пробормотал второй. — Так где твое золотишко?
— Да здесь! — радостно воскликнул первый. — Во всех этих гробах! Крышки тяжеленные, скажу я вам, пуп надорвать! Крышку-то одну я вчера сдвинул. С ней возиться легче — «беленькие» ее сами приподнимали и в гроб-то своего сенешаля положили. Да не успел я удочку забросить, спугнули меня.
— Какого сенешаля? — хмуро полюбопытствовал первый.
— А того с бородой вроде ослиного хвоста, который третьего дня помер, — ответил первый. — «Беленькие» набальзамировали его честь по чести и сюда положили. Хотят тоже увезти куда-то.
От ужаса у меня волосы на голове поднялись, когда я догадался, что сижу в гробнице, да при том в обществе приятно благоухающего трупа. Узнал я также и то, что мой зад покоится на золотых слитках, принадлежащих «беленьким», то есть тамплиерам, и слитки эти вожделеют заграбастать «черненькие», то есть иоанниты. Однако из того, о чем я столь необыкновенным образом осведомился, менее всего взволновало мое сердце то богатство, на которое я без спроса уселся.
Вместе с трупом затаив от тревоги дыхание, я прислушивался к шагам неизвестных грабителей. Конечно же, они направлялись именно к нашей гробнице, а не к какой-нибудь другой!
Их было всего двое, но сколько подобных им оставалось наверху, я знать не знал, и к тому же кровавая схватка менее всего остального вязалась с моими благородными замыслами.
Не дойдя до гробницы всего пары шагов, мародеры вдруг замерли на месте.
— Вы что-то чувствуете, мессер? — слегка задрожавшим голосом вопросил второй.
«Хотя бы еще одно мертвое тело тут прибавится, — подумал я, съеживаясь в комок, — и тогда их станет поровну. Теперь этого никак не миновать».
— Покойничка-то слабо надушили, — шмыгая носом, со зловещей усмешкой проговорил первый, главный знаток дела.
— Значит, и вы чувствуете запах, мессер? — робея еще сильней, снова спросил первый.
— Вонища, как у черта под хвостом! — со ржавым скрежетом, обозначавшим смех, подтвердил первый. — Вот я и говорю: не падалью здесь разит, а просто дерьмом каким-то. Не ты ли вчера тут от страха обделался?
— Не я, мессер, — пролепетал первый, — клянусь мощами нашего блаженного Пия.
— Значит, сам мертвяк в штаны наложил, — снова заскрежетал первый. — Испугался, видать, что мы оберем его.
— Заступник Пий, сохрани нас! — прошептал второй, вероятно, дрожа, все сильнее.
— Так полезай давай, чего болтать, — строго повелел первый. — Проверь, чего там с ним стряслось.
— Страх берет, мессер, — признался второй.
— Полезай, говорю, — еще грубее повелел первый. — Глядишь, не укусит. А обделает, так тебе не впервой. Давай сюда лампу.
Свет над моей головой качнулся из стороны в сторону, и я услышал боязливое кряхтенье, раздавшееся у самого края каменного гроба. Потом я увидел пальцы бедного вора, несмело обхватившие край, а спустя еще несколько мгновений, вслед за стонами и натужным пусканьем ветров, прямо мне на голову свесилась голая нога, обутая в монастырскую сандалию.
Только такую приманку я и ожидал. Пальцами, нарочно охлажденными об золотые слитки, я обхватил толстую и вкусную голень и впился в нее зубами. Чудовищный крик потряс скорбные своды, и я, не отпусти добычу вовремя, несомненно вылетел бы вместе с ней наружу, как плотва, ухватившая крючок. Крик, прерывавшийся только судорожными вздохами, смешался с грохотом, звоном и проклятьями и, увлекая проклятья за собой, покатился прочь от гроба.
— Стой! Стой, ублюдок! — хрипло вопил первый.
— Укусил! Ай, укусил! — визжал, как поросенок, второй, вероятно, уже взбегая по лестнице. — Вот! Вот же, мессер! Вот!
— Псы святые! — растерянно воскликнул первый, не веря своим глазам.
И весь шум был тут же покрыт нестерпимым скрежетом двери, и вслед за этим скрежетом сразу воцарилась настоящая могильная тишина.
Я мышкой выскочил из гроба и подхватил с пола фитилек, плававший в масле рядом с брошенной лампой и уже готовый погаснуть. Быстро приладив его на место и оставив лампу на полу, я принялся вытаскивать слитки и мешочки из той самой кладовки, явно принадлежавшей Харону, перевозчику усопших душ. Конечно, я старался не потревожить бренного тела, отдыхавшего пред тем, как претерпеть еще какое-то нелегкое путешествие по просторам грешной земли.
Вряд ли я имел в своем распоряжении более получаса, по истечении коего здесь, оправившись от испуга, могло объявиться воинство, сооруженное для битвы с легионом духов. Я перетаскал в колодец золота столько, на сколько хватило жадности, а потом, не давая себе передышки, я принялся изо всех сил швырять слитки и мешочки наверх. Только чудом моя голова осталась цела, когда раз и другой слитки, не долетев до цели, валились обратно. Как у меня хватило сил и сноровки выбраться самому, упираясь ногами и руками в противоположные стены колодца, я теперь и ума не приложу. Видно, только по молодости бывает, что вылезешь от страха и нетерпения из своей собственной шкуры или прыгнешь выше темечка.
Зато, выбравшись, я едва не замертво повалился на землю и целый час, не меньше, захлебывался живительным эфиром и все никак не мог насытиться. Нестерпимо ломило все мои конечности, нестерпимо горела моя кожа, и я все тщетно пытался приподнять свое тело, как-нибудь перенести его всего-то на три шага до реки и остудить в ласковых водах, а заодно снова как следует прополоскаться, раз дух выгребной ямы не хотел оставлять меня.
Когда я пришел в себя и, сев, огляделся по сторонам, то сообразил, что, выражаясь мудрыми словами трактатора Тибальдо Сентильи, мне удалось переместить с одного места на другое такое количество желтого металла, которого хватило бы на крестовый поход в Индию или даже дальше, в страну потамов и деревьев, растущих корнями вверх. Однако мой новый замысел, только что родившийся здесь, на берегу реки Арно, оказался куда скромнее.
Только первый шаг в его осуществлении был весьма нелегок: надлежало пробраться по городу в самом непристойном виде, затем в таком же виде — то есть в одной сорочке — невозмутимо зайти в лавку портного и там на целый золотой флорин попросить себе подходящие штаны. Описать не опишешь, каких мне это стоило трудов и какого позора. Важен, однако, только итог: еще до восхода солнца я оказался в приличных штанах, и в них-то я вернулся к своему тайнику, устроенному неподалеку от заброшенного колодца. Для новых покупок я, разумеется, выбрал другого портного и к полудню превратился в настоящего нобиля.
Стараясь не привлекать к себе лишних взоров, я пересек город и, выйдя из дальних ворот, обошел стены, а затем подступил к гостинице, где хозяин уже полагал, что мне ночью перерезали горло. Он очень удивился, когда я предстал перед ним в богатом наряде. Я заплатил ему впятеро — за жилье и за молчание, попросил сходить на рынок и, не считая денег, купить мне самого породистого жеребца, какой там отыщется, лучше всего — арабской породы.
Затем я двинулся к кузнецу, у которого заказал пару кинжалов такой формы, какую я сам ему начертил. Кузнец приподнял брови, подозрительно посмотрел на меня и кивнул головой. Получив его согласие на ковку кинжалов, к коим имел слабость, я предложил ему сделать мне еще полдюжины шестилучевых звезд. Теперь кузнец покачал головой, но триста флоринов покрыли его удивление и всякие домыслы.
Из кузницы мой путь лежал в лавку ювелира, оттуда — к резчику по слоновой кости, а от резчика — к сапожнику и затем — вновь к портному.
Когда я вернулся за своим заказом к кузнецу, то первым делом подержал на ладони одну из железных звезд и, стараясь не особо целиться, кинул в деревянный столб, стоявший сбоку от меня, шагах в десяти. Оценив бросок, я подумал, что у нас с Черной Молнией мог быть один и тот же учитель. Сам кузнец только хмыкнул и, вытерев руки, сказал:
— Я-то рассудил так, мессер, что вы развесите их над дверью под Рождество.
— Очень надеюсь, что так и случится, — ответил я рассудительному кузнецу.
На следующий день, едва солнце успело подняться над крепостными стенами и скатами черепичных крыш Флоренции, как перед дверьми одного из домов объявился грозный сарацинский всадник в белых одеждах и черном тюрбане, конец которого скрывал его лицо до самых глаз. Сам он восседал на великолепном белом жеребце, а сопровождали его два настоящих ифрита в черных одеждах и белых тюрбанах. Те бехадуры возвышались позади своего господина на жеребцах гнедой масти.
Служанки только выглянули из окон дома и, отшатнувшись, тут же позахлопывали створки. Всадник и его конь были терпеливы и дождались, пока на пороге появится хозяин дома, муженек одной флорентийской лисички, которая назвалась Фьямметтой.
— Чем обязан в столь ранний час? — вопросил хозяин дома с приличной такому случаю учтивостью, задирая голову и с опаской переводя взгляд с одного африта на другого.
Знатный всадник спустился с коня и, совершив учтивый поклон, представился сыном магрибского эмира.
— Мое имя Абд аль-Мамбардам, — важно проговорил пришелец, с некоторым трудом выговаривая слова тосканского наречия. — Мой славный родитель, да снизойдет на его душу благословение Аллаха, находясь уже при смерти и под охраной Асраила, повелел мне по погребении немедля отправиться в сей счастливый город, великолепие коего превосходит Вавилон и Ниневию, да будет ласковое солнце нежить и лелеять его своими лучами и ныне и во веки веков. «В сем городе, — поведал мне мой покойный отец, — проживает одна знатная и прекрасная собой особа, отец которой некогда спас меня от верной смерти. Долг мой поныне не оплачен, и вот я посылаю ей часть моего необъятного наследства в виде скромной платы за подвиг ее доблестного родителя. Ты, сын мой, обязан сам отправиться с этим даром в земли неверных и, не взирая ни на какие трудности или оскорбления, проявлять повсюду учтивость и благородство, присущие твоему древнему роду, и собственноручно передать два ларца с сокровищами той молодой особе, живущей во Флоренции на такой-то улице, в доме с гербом, изображающем трех овечек».
Те овечки, действительно, паслись над дверями дома, где пряталась проказница Фьямметта.
Как только всадник передал предсмертное повеление своего отца, магрибского эмира, два ифрита одновременно развернули парчовые свертки, и хозяин дома узрел в их огромных ручищах два увесистых ларца: один из слоновой кости, украшенный крупными рубинами, ценою никак не меньше восьмисот флоринов, а второй — немудреный, из простого дерева и безо всяких украшений, стоящий, если оценивать всерьез, не больше десяти сольдов.
Несмотря на такую разницу, глаза хозяина разбежались в разные стороны. Он разинул рот и кое-какое время стоял таким болваном, будто его бычьим пузырем хлопнули по лбу.
— Я очень рад принять в своем доме столь знатных и уважаемых гостей, — наконец пробормотал он, хрипя и сипя от растерянности. — Однако у моего отца была не только сестра, но и дочь.
— Что-то не очень понятно, — признался сарацин.
— Прошу извинить меня, — спохватился хозяин дома, — от неожиданности я все перепутал. Я хотел сказать, что у моего отца была не только дочь, но был и сын, которого вы и лицезреете перед собой. Странно, что ваш почтенный отец, да упокоит Господь его душу, знал только о дочери.
Тут сарацин немного удивился в свою очередь, однако подумал, что прелестная особа, коей предназначены дары Магриба, вполне имеет право иметь не только мужа, но и родного брата.
— Эта подробность никак не может отразиться на размере наследства, — успокоил сарацин новоявленного брата прелестной особы.
Тот, несколько оправившись от изумления и явно повеселев от такой «манны небесной», пригласил сарацина в свой дом, проявляя при этом настоящие чудеса учтивости. Сарацин принял приглашение, а безмолвные ифриты понесли следом на ним тяжелые ларцы.
Прелестная Фьямметта показалась сарацину прямо-таки ангельским воплощением, и при иных обстоятельствах он, вероятно, сокрушив своим мечом целую христианскую армию, вставшую на защиту ее чести, похитил бы белокурую красавицу в свой оазис, затерянный в песках Туниса. Однако здесь сарацин поклонился прелестнице, которая теперь стояла перед ним посреди комнаты ни жива, ни мертва от удивления и страха перед заморскими великанами.
На своем магрибском наречии сарацин коротко повелел своим громадным слугам поставить ларцы на стол и, дождавшись, пока слуги удаляться из дома, взял один из них, самый дорогой, на руки и протянул Фьямметте.
— О восхитительная роза севера, дарующая смертным благоухание вышнего и нижнего миров! — обратился сарацин к Фьямметте. — Некогда, в довольно далекие времена, твой доблестный отец, да благословит Всемогущий его имя во веки веков, был гостем моего славного родителя, да почиет на его душе благоволение Аллаха. И вот во время охоты твой отец, доблестный рыцарь Храма, спас моего отца от когтей свирепого льва.
Тут сарацин стал замечать, как несказанно расширяются очаровательные глаза цвета морской воды и открывается прелестный ротик. Краем взора сарацин приметил и то, что брата красавицы вновь охватил приступ остолбенения.
— И вот мой отец, — поспешил завершить свою речь сын магрибского эмира Абд аль-Мамбардам, — посылает тебе, царица севера, огромный алмаз, впоследствии обнаруженный в желудке поверженного хищника. Этот драгоценный камень по праву принадлежит тебе, незаходящая звезда зенита.
Теперь красавице ничего не оставалось, как только поднять крышку роскошного ларца.
Пронзительно вскрикнув, она отшатнулась, будто из ларца на нее выскочила ядовитая гадюка. Змея, разумеется, не выскочила, но вонища, испускаемая огромным алмазом, сразу охватила половину дома.
Быстро поставив ларец на стол, рядом с другим, сарацин сдернул с лица конец тюрбана, и красавица обнаружила перед собой вершителя праведной мести.
— Это он! — истошно вскричала она и бросилась от меня прочь, к лестнице, что вела в верхние покои, уже хорошо мне знакомые.
Теперь вновь настал черед учтивой беседы с братом красавицы, однако на этот раз мы занялись рассуждениями на другие темы.
Яростно зарычав, он бросился на, меня, подобно тому баснословному льву из тунисской пустыни. Выхватив свои кинжалы, я поймал в их перекрестие длинный клинок, готовый рассечь мою голову, и, вывернувшись вбок, ударил грубияна ногой в пах, отчего тот захрипел и сразу свернулся на полу безобидным клубочком.
Не успел я приставить меч к стулу и сломать его ударом ноги пополам, как из разных углов комнаты повыпрыгнули мускулистые здоровяки, то ли слуги хозяина, то ли его сообщники. Один, крепкий толстяк, наступал с топором, а двое других норовили метать в меня увесистые рогатины да при этом еще накрыть сетью, возрождая тем самым славные обычаи гладиаторских сражений на аренах величественного Рима.
Двумя железными звездочками я остановил рыбаков, проколов им руки, поднявшие на меня рогатины, а от топора успел увернуться, подставив вместо себя на казнь резной стул, который тут же и оказался расчлененным надвое. Запрыгнув толстяку в тыл, я легонько надрезал ему плечо и, уже без труда завернув ему за спину раненую руку, сунул его головой прямо в ларец с сокровищем пустыни. Упитанность тела не позволила вояке отскочить от богатства с той же легкостью, с какой отпорхнула от наследства прелестная Фьямметта, и я успел изо всей силы хлопнуть толстяка тяжелой крышкой ларца прямо по макушке. Вдохнув последний раз львиный аромат, он сверзился под стол и остался там готовой к разделке тушей.
Нанятые мной ифриты обязаны были, тем временем, невозмутимо восседать на своих адских жеребцах, пропуская мимо ушей звон оружия и всякие крики, доносившиеся из дома. Их предназначением было до поры никого не выпускать и никого не впускать в этот дом, что был отмечен среди прочих милостью магрибского эмира.
Утихомирив своих противников, я бросился на лестницу, однако братец, ужаснувшись участи своей сестренки, нашел в себе силы и с боевым кличем «Зарежу свинью!» кинулся за мной вдогонку, прихватив с пола обломок своего меча. На верхней площадке лестницы между нами состоялся поединок, в итоге которого я получил почти смертельное ранение в левый мизинец, а мой враг, пропустив удар рукояткой кинжала в лоб, кувырком покатился вниз, по счастью, не переломав по дороге ни своих костей, ни балясин, поддерживавших перила.
Еще одну рану, самую опасную, я получил там, где менее всего ожидал получить.
Без труда отыскав комнату мошенницы, я толкнулся в дверь, но та оказалась заперта. Недолго думая, я отступил на шаг и, подпрыгнув, ударил в дверь обеими ногами, так что «бедняжка» сразу сорвалась и с петель, и с железного крючка. Без всякой опаски я вступил в комнату, как вступал в Индию Александр-Завоеватель, и в первый миг не придал значения слабому шороху, донесшемуся откуда-то сбоку. Что тут могло случиться, если великая армия была уже повержена и осталась лежать на поле брани?
Но не тут-то было! Чутье злодея-ассасина спасло громовержца Александра. Я невольно дернулся в сторону, и лезвие венецианской даги только скользнуло по моему левому плечу, порвав рукав и чуть повредив мышцу. Выбив оружие из коварной руки и крепко схватив злодейку, я оторвал ее от пола и швырнул на постель.
Признаюсь, этот удар, нацеленный в спину, и боль в плече разъярили меня и пробудили во мне самые низменные страсти. Сразу приняв Фьямметту не только за мошенницу и воровку, но и за девицу легкого повеления, я вознамерился довершить свою месть последней победой, то есть самым наглым насилием.
Но едва я приблизился к ней на один шаг, как у нее в руке появилась длинная и острая шпилька, конец которой она немедля приставила к своей прелестной шее, как раз в то самое место, где бьется одна из главных жил человеческой жизни.
Ее светлые волосы оказались так живописно разбросаны на подушках, лицо так обольстительно раскраснелось, а глаза пылали такой страстной решимостью, что я замер на месте, чувствуя, как холодеет спина и по хребту бегут мурашки. С ужасом, который вполне могу назвать приятным, я глядел на Фьямметту, постигая, это со всем пылом сердца влюблен уже в двух женщин, черненькую и беленькую. Обе уже покушались на мою жизнь как наяву, так и во сне, а одна даже успела окунуть меня в нечистоты и теперь была готова поплатиться за свою выходку собственной жизнью и красотой.
— Только один шаг, негодяй, и ты насладишься окровавленным трупом, если тебе это будет угодно, — прошипела Фьямметта, обливая меня яростным взором.
— Уже пробовал, — ласково улыбаясь, ответил я, — и никакого удовольствия не нашел.
— Фу! — скривилась Фьямметта. — Грязное отродье!
— Какая же ты дурочка, «сестренка»! — не выдержав, воскликнул я и стал расхаживать по комнате, стараясь обуздать внезапно нахлынувший гнев, однако не переступая ногами запретного предела. — Хоть и хитрая, а дурочка! Я послан к тебе самим Провидением, а ты, даже не расспросив гостя толком, обманула меня, обобрала до нитки да еще прополоскала в нечистотах. А личико-то, гляжу, как у ангела! Разве Господь отпустит тебе такие злодеяния? А теперь ты еще разлеглась тут и приняла вид невинной мученицы! Да ведь этот обман еще хуже первого!
Тут с лестницы донеслись звуки какого-то неясного движения, и я поспешил перейти к сути дела.
— Слушай меня! — грозно повелел я, уже замечая, что огонь бешенства гаснет в глазах очаровательной Фьямметты, а ее ресницы начинают трепетать от растерянности. — Я, Андреуччо ди Пьетро, вовсе никакой не лошадник, а скрывающий свое истинное имя нобиль, приехал во Флоренцию, обуреваемый местью к трактатору Тибальдо Сентилье. Я разыскивал людей, готовых сообщить мне о месте его жительства и кое-каких подробностях его жизни. За такие сведения и за последующую помощь я был готов заплатить не менее тысячи флоринов. И вот, казалось, сама судьба свела меня с особой, не питающей к Сентилье добрых чувств, однако эта особа по своей глупости и нетерпеливости едва не разрушила мои замыслы, едва не пресекла путь справедливой мести и наконец довольствовалась за свою дурость жалкой сотней и старыми, облезлыми штанами.
Последние слова я выпаливал скороговоркой, искоса глядя на дверь, поскольку тяжелый скрип досок и глухое рычанье поднялись уже до самого верха.
— А теперь, «сестренка», можешь перерезать себе горло. Припрячь свою красивую, но дурную головку в сундук, чтобы она больше не позволяла тебе обманывать честных людей, — успел прибавить я и только бросил на постель, под руку Фьямметте, один из двух своих кинжалов, как на пороге появился ее главный защитник.
Изрядно помятый, охромевший, с опухшим лицом и глазами, залитыми кровью, что сочилась со лба, он не показался мне слишком опасным. Однако он выказал себя воякой, не сдающимся до последнего вздоха. Рогатина, на которую он до самой двери опирался, как калека на посох, теперь закачалась в его руках и, слеповато порыскав, все же смогла нацелиться острием в мою сторону.
— Стой, Гвидо! — пронзительно вскрикнула Фьямметта и, стремглав соскочив с постели, в мгновение ока повисла на мощной руке, поднявшей оружие. — Стой, говорю тебе! Он не тот, не тот!
Гвидо, оказалось, едва стоял на ногах, и от наскока, пусть столь же легкого, каков наскок воробья, этот силач покачнулся, и оба очень потешно повалились на пол.
— Вот что скажу я вам, достопочтенные хозяева, — обратился я к этому веселому семейству, сумевшему наконец одолеть страшную рогатину, рвавшуюся из их рук на волю. — Не люблю повторять сказанные слова дважды. Поэтому вы обсудите тут без меня по-семейному мое предложение, а я покуда посижу там внизу и подожду, на чем вы порешите.
С видом не растраченного ни на один сольд достоинства я неторопливо спустился с лестницы, искоса поглядывая вокруг. Поверженное воинство уже исчезло, но, пока я сходил со ступеней, двое нижних дверей чуть заметно вздрогнули, выдав опасливых соглядатаев. Оба ларца оставались на столе с закрытыми крышками, и то ли я уже претерпелся к вони, то ли вонь успела слегка повыветриться.
Я не побрезговал снять собственными руками тот сверкавший рубинами ларец со столешницы и отнести его в дальний угол. Затем подвинул к столу один из уцелевших в сражении стульев и, усевшись на него, как султан на собственный трон, погрузился в размышления по поводу всех успевших произойти событий.
И вот, с какой стороны ни брался я судить о них, все выходило, что, хотя крепость и сдалась, а победа все равно осталась за осажденными, вернее за одной осажденной. И, верно, совсем бы пал я духом, кабы не нарушил мое уединение доблестный Гвидо. Он с неменьшим достоинством спустился из верхних покоев, затем, подвинув ближе ко мне последний из уцелевших стульев, тяжело уселся на него и смиренно склонил предо мной голову.
— Мессер! — обратился он ко мне очень тихим голосом, вероятно, не столько стыдясь, сколько не желая быть услышанным прислугой, просунувшей свои острые ушки во всевозможные щели. — Позвольте мне теперь честно повиниться перед вами.
— Разумеется, сударь, — поддерживая его не более громким голосом, ответил я. — Мне самому не терпится положить конец нашей бестолковой вражде.
— Мессер! — воодушевленный моей поддержкой, сказал Гвидо, поднимая голову. — Во всей этой гнусной истории виноват один только я. Почти все, что рассказывала Фьямметта о нашей семье, — истинная правда. Мы действительно происходим из древнего рода тосканских нобилей, чей могучий замок высился поблизости от Флоренции, как бы споря с ней своим величием. Эта близость и сгубила наш дом. Вам ведь известно, какую ненависть питают горожане к независимым и гордым нобилям. Дай волю этим муравьям, вечно копошащимся в своих лавках, так они тучей облепят все замки Европы и, смею вас уверить, сотрут их с лица земли, а всех нобилей пропишут в своих вонючих книжках, словно в насмешку, какими-нибудь аптекарями или, того хуже, чулочниками. Так, по правде говоря, и случилось с нашим родителем и нами. Наш отец, не перенеся позора, вскоре скончался, а нам, его отпрыскам, ничего не оставалось, как только прозябать в городе. Здесь мы на свою беду сошлись с людьми из дома Ланфранко и с этим негодяем Сентильей, который стал домогаться руки моей сестры, желая набраться побольше родовитости. Известно вам то или нет, да только сам он скорее всего из грязных бастардов. Так вот, этот Сентилья, зная толк во всяких денежных и прочих еврейских хитростях, в конце концов нагрел нас на приличную сумму. Долг велик, а он утвердил такой срок выплаты, что нам теперь никак не миновать суда и ямы. Неделю назад я с горя крепко подвыпил и, прозрев свою судьбу, ужаснулся до самой глубины души. Тут-то и попутал меня нечистый. Я подговорил свою сестру устраивать ловушку для богатеньких простофиль из захолустья, тех, кто кичатся на рынке своими доходами. Простите, мессер, именно за такого мы и приняли вас.
— Именно такого я из себя и разыгрывал, — весело подтвердил я, — так что благодарю вас за добрую оценку моих жонглерских способностей. Знаю также одного хитрого грека, большого мастера по всяким ловушкам. Вот кто похвалил бы вас как истинный знаток этого дела.
Дальше мы беседовали почти в голос и самым мирным, даже приятельским образом. Вероятно, дух примирения воскурился, подобно фимиаму, раз уж райские двери наверху тоже стали тихонько поскрипывать и глаз одного из ангелочков тайком воззрился на нас из какой-то небесной щелки.
— То, что случилось на первой же охоте, мессер, — продолжал свою повинную речь Гвидо, — явно случилось по воле Провидения. Иначе никаким способом такое чудесное совпадение не объяснишь. Я получил жестокий, но поучительный урок. Я глубоко раскаиваюсь перед Богом и перед вами, мессер. Теперь, согласно вашей воле, я готов пойти к исповеди, а затем оказать вам в вашем деле посильную помощь безо всякой мзды. Ничего не говорите, мессер! В схватке с Сентильей я буду на вашей стороне и не возьму из ваших рук ни единого сольда!
Меня очень тронуло это внезапно проснувшееся благородство, и я спросил Гвидо:
— Каков размер вашего долга Сентилье?
— Ни много ни мало тысяча флоринов, — сразу пав духом, пробормотал Гвидо.
— В этой невзрачной шкатулке, — указал я на деревянный ларец, черед которого наконец настал, — как раз тысяча, если только ваши доблестные защитники не прихватили с собой монету-другую в ваше отсутствие. Я добавлю к тысяче еще четыре раза по тысяче, и вы будете обязаны принять их все. Молчите, Гвидо, и выполняйте мой приказ! Это плата не за вашу помощь, на которую я продолжаю рассчитывать, а за то, что, устроив на меня ловушку, вы невзначай уберегли меня от другой ловушки, куда более опасной.
— О, Небеса! — пролепетал Гвидо и, хлопнув себя по раненому лбу, наверное, не почувствовал боли.
Мне показалось, что сверху раздались всхлипывания, кои быстро затихли. Гвидо растерянно возвел очи горе, а потом прямо-таки сполз со стула и оказался предо мной коленопреклоненным, точно рыцарь перед своим королем. Я кинулся поднимать его тяжелое и неповоротливое от полученных побоев тело, а он, тем временем, клялся мне в верности и прочил себя в самые ближние вассалы.
— Я клянусь вам, мессер, что положу жизнь за вашу честь! — изливал свои чувства этот добрый парень. — И я докажу вам истинность моих слов.
— Не сомневаюсь, — отвечал я Гвидо, радуясь тому, что, видать, и вправду обрел наконец себе верного приятеля. — Только ответьте мне начистоту. Мнится мне, что тут досталось всем, но только — не муженьку вашей прелестной сестрички. Куда же подевался этот храбрец?
При этих моих словах Гвидо расплылся в улыбке.
— Мессер! — весело развел он руки. — Уж этот чудак и вовсе не представляет для вас никакой опасности. Мы с ним, как бы вам сказать, единосущны и нераздельны.
И он захохотал, одновременно поохивая и постанывая и хватаясь то за один бок, то за другой. Признаться, такой несусветной ереси, заслуживавшей отдельной исповеди и покаяния, я и сам несказанно обрадовался.
— Вот как! Так, значит, я наподдал собственной тени, приняв ее за еще одного гневного рыцаря Прекрасной Дамы, — поддержал я шутку Гвидо.
— Мессер, теперь как раз приходит черед Дамы, — с хитринкой проговорил Гвидо, растирая слезы и еще не высохшие потеки крови. — Очень прошу вас, сделайте милость, подите к ней сами, а то она теперь очень стесняется. Если вы не простите ее, то девица сегодня же сляжет, а назавтра испустит дух. Уж поверьте мне, так оно и случится.
Итак я получил себе верного вассала, однако собственные кости и мышцы вдруг изменили мне. Не столь крепкими, как раньше, шагами я поднялся по лестнице, а когда, затаив дыхание, ступил в заветную комнату, то и вовсе запнулся за едва приметный порог.
Фьямметта сидела на постели, не шевелясь и закрыв лицо руками.
— Это вы, мессер? — тихо спросила она, не отрывая ладоней от глаз
— Я, — ответил «мессер» с тяжким вздохом.
— Прошу вас, не смотрите на меня, — прошептала она еще тише, — а то совсем сгорю от стыда.
— Не бойтесь пожара, сударыня, — ответил я ей, немного осмелев. — Я постараюсь погасить пламя.
Она опустила руки, и я увидел, что глаза ее полны слез, самых искренних и настоящих.
— Я очень-очень дурно поступила с вами, мессер, — проговорила она, давясь рыданиями. — Простите меня. Я пойду к исповеди и попрошу у священника самую суровую епитимью.
— Поберегите свой цветущий вид, сударыня, — сказал я. — И не забывайте, что я первый, кто должен попросить у вас прощения за свою гнусную выходку. Мой грех хуже вашего. Я теперь богат, а позволил себе поддаться искушению лукавого и пойти на такую подлую и унизительную для вашей чести месть. Простите меня, сударыня!
И я припал перед ней на колено.
— О, как вы благородны, мессер! — простонала красавица и едва не повалилась без чувств на подушки. — Поверьте, мы с братом заслужили именно такой мести. Нас нужно было проучить как раз таким образом. Так вы больше не сердитесь на меня, мессер?
— Буря давно прошла, сударыня, — вздохнул я, любуясь ее устыдившейся грехов красотой.
Фьямметта же, посмотрев на меня из-под ресниц, вдруг опять разрыдалась.
— Я же говорю вам, сударыня, что буря давно миновала, — подойдя к ней и с трепетом взяв ее теплую руку, настойчиво повторил сын магрибского эмира. — Мы с вашим доблестным Гвидо уже едва не побратались до гробовой крышки.
Слезы брызнули из глаз красавицы еще сильней, и я потерял всякое понятие, как же мне унять этот потоп, еще не успев погасить вселенское пламя ее стыда.
— Как же мне вас успокоить, сударыня? — так простодушно и спросил я.
Фьямметта отняла у меня свою руку и, глядя в сторону, горестно вздохнула.
— Вы такой благородный человек, мессер, каких я никогда в своей жизни и не встречала, — проговорила она, крепясь и никак не желая оборачиваться. — Вот если бы такой благородный человек, как вы, взял бы меня в жены, то я бы всю жизнь была ему верна, как Бавкида своему Филемону… А отчего это у вас, мессер, такой странный взгляд? — тут же изумилась она, как только вновь обратила ко мне свое прелестное личико. Вид мой и вправду мог показаться не только странным, но и, прямо говоря, придурковатым. Даже родившись заново на дне пустого колодца, я оказался не столь растерян, как теперь, в эти мгновения.
— Разве я вам не нравлюсь, мессер? — довершала свой победоносный поход Фьямметта. — Разве не хороша собой?
— Столь прелестных собою дев, как вы, сударыня, я и не встречал в своей жизни, — пролепетал наконец бывший сарацин.
— Что я говорю! — кокетливо прищурилась Фьямметта, и слезы ее стали быстро высыхать, вроде росы под жаркими лучами солнца. — Да, мессер, приданым я похвалиться не смею. Зато моим приданым станет моя преданность вашей милости и моя любовь. К тому же в моих жилах течет благородная кровь древнего рода Буондельвенто, и по этой части не сомневаюсь, что я вам ровня.
— Может статься, напротив, как раз я и окажусь той ложкой худородной кислятины, что испортит древнее и славное вино, — переведя дух, открылся я этой чаровнице.
— Вот и чудесно! — всплеснула руками Фьямметта. — Тогда мы и вовсе квиты. За чем же стало дело, мессер?
Я молчал, потупив взор.
— Может быть, ваше сердце уже несвободно?! — услышал я задрожавший от гнева и муки голосок. — Может быть, вы уже дали обещание какой-нибудь красотке?!
Я продолжал молчать, не в силах выдавить из себя ни слова.
— Тогда я не знаю, что сделаю! — подняла новую бурю Фьямметта. — Я готова убить ее!
Тут я поднял глаза и увидел, что рука Фьямметты сжимает забытый мною кинжал, вынырнувший из складок покрывала или платья красавицы.
— О, прелесть моя! — взмолился я. — Все, что угодно, только не это!
Вид занесенных над жертвой кинжалов был для меня уже слишком привычен и слишком невыносим.
— Фьямметта! — решительно обратился я к ней, ибо блеск острия сразу привел меня в чувство. — Прошу поверить мне на слово: кроме одного обещания, данного человеку, который спас меня ценой своей жизни, более никаких обещаний я никому не давал. Но, «сестренка», тебе — а я осмеливаюсь называть вас, сударыня, на «ты» — тебе пока ничего толком не известно о моей запутанной жизни, и я пока вынужден умолчать о ней. Знай же, что в любой день и час я могу оказаться нищим и отверженным. Что ты будешь делать тогда?
— Деньги можно отнять — это мне уже известно, — твердым голосом отвечала мне Фьямметта, больше не отводя глаз. — Зато никто и никогда не сможет отнять у девушки любви и верности, если только она сама не захочет расстаться со своей честью. А вы, мессер… О, Пресвятая Дева! Что же я такое говорю! — воскликнула она, и снова закрыла руками лицо.
— Тогда честью прошу вас, сударыня, — взмолился я к ней, осторожно потянув к себе ее руку и притрагиваясь к нежной руке губами, — ничего не требуйте от меня сейчас. Дайте мне год, ровно один год, который мне необходим на восстановление своих законных прав в этом несправедливом мире. Я обещаю через год дать вам единственный и бесповоротный ответ. А пока позвольте мне только носить на своем головном уборе любимые цвета вашей милости.
— Если же вы не Андреуччо ди Пьетро и не сарацин Абд аль-Мамбардам, то каково же ваше настоящее имя? — торжественно спросила Фьямметта. — Я обязана знать имя, дабы посвятить вас в рыцари Голубой Незабудки.
— Этого-то законного сокровища я и лишен, сударыня, — ответил я, облившись холодным потом. — У меня отнято имя, и я теперь не знаю его.
— Как же такое может быть?! — испуганно воскликнула Фьямметта.
— Представьте себе, случается, — вздохнул я. — Рассказывать долго, и многое по сей день мне непонятно самому. Скажу коротко: у меня была отнята память, а вместе с ней — и мое имя.
— Вот как, — задумчиво проговорила Фьямметта, склонив головку набок. — Что ж из того? Ведь главное, чтобы помнили о вас, мессер. А доброе имя дается вовсе не по рождению, а по поступкам.
Сердце мое едва не разорвалось от таких слов. Твердый комок застрял у меня в горле, и теперь уж я сам отвел взгляд, боясь показать деве навернувшиеся на мои глаза слезы, в которых поплыла вся комната, чудесно заискрившаяся лучами утреннего солнца.
— В таком случае, мессер, — нежно проговорила Фьямметта, — покуда вы будете являться всего лишь рыцарем Голубой Незабудки, позвольте мне самой окрестить вас.
— Окажите милость, сударыня, — всей душой пожелал я.
— С этого дня вы нарекаетесь именем Джорджио во имя Любви и Чести, — вновь задрожавшим от волнения голоском прорекла Фьямметта.
— Джорджио?! — изумился я. — Но почему, сударыня?
— Не знаю, — пожала плечиками Фьямметта. — Просто мне всю жизнь нравится это имя. Порой мне грезилось, что когда-нибудь у меня родится мальчик, которому будет суждено стать великим героем, и я должна непременно дать ему имя Джорджио в честь того святого рыцаря, который победил страшного дракона. Вам известно о таком, мессер?
— Разумеется, — пробормотал я, примеряя к себе первое из имен, которым я мог теперь пользоваться самым честным и благородным образом.
Так всего в трехдневный срок худородный лошадник Андреуччо ди Пьетро превратился в сына магрибского эмира по имени Абд аль-Мамбардам, а из того, легкой рукой красавицы опущенный в выгребную купельку, был живо переправлен в Джорджио ди Фьямме.
Не прошло и половины часа, как взору изумленного Гвидо Буондельвенто представилась важная парочка, спускавшаяся из верхних покоев в торжественном молчании и рука об руку. Лица у обоих были слегка бледны, а глаза, кажется, так и остались на мокром месте.
Гвидо, разинув рот, переводил взгляд с одного на другого и, наконец перекрестившись, шумно вздохнул.
— Ну, слава Тебе, Иисусе Христе, кажется, все устроилось, — довольно проговорил он, с великим трудом отрываясь от стула. — Теперь самая пора отобедать. Пожалуйте, мессер, в дальнюю комнату, а то тут вонь еще такая, что служанок с ног сшибает.
За той семейной трапезой я и поделился с Фьямметтой и ее братом своими замыслами относительно Тибальдо Сентильи, а вернее сказать — показал им только видимую сторону этих замыслов. Я объяснил своим новым друзьям, что главная моя цель — оказаться бок о бок с Сентильей, причем таким образом, чтобы никто из посторонних этой встречи особо не приметил и чтобы сам Сентилья, во-первых, до последнего мгновения не уяснил, кто же очутился рядом с ним, а, во-вторых, не смог бы поднять шума или задать от меня деру. Мне необходимо было тихо, без перебранки и, тем более, потасовки, внезапно шепнуть ему на ухо кое-какие важные сведения, которые могли превратить его из коварного волка в сущего агнца. Так я сказал Гвидо и Фьямметте.
— Простите, мессер, меня все гложет любопытство, — проговорил брат Фьямметты, прожевывая кусок ветчины. — Не родственная ли у вас усобица? Вот когда вы сощуритесь или лоб опустите, так из вас лезет такое сходство с Сентильей, что оторопь берет. Верно, сестричка?
— И ничего подобного, — хмыкнула Фьямметта. — Я вовсе не замечаю никакого сходства. Разве только нос немного похож да и только.
— Вы не ошиблись, Гвидо, — осторожно ответил я, искоса поглядывая на его сестру, но она при этих словах только поджала губки. — Кое-какие родственные связи между мной и Тибальдо Сентильей имеются. Каждый из нас пытался отвязаться от другого, мы дергали веревочки в разные стороны, а потому перепутали их еще хуже. Вот теперь я и ищу случая, чтобы взяться за это дело с умом и спокойно, не торопясь, распутать все узлы.
— Дали бы вы ему, мессер, по мозгам, как мне, — не шутя предложил Гвидо, — так он, пока кувыркался бы, сам бы и распутался.
— Гвидо! — окротила своего братца Фьямметта. — Ты же видишь, что мессер Джорджио хочет все решить по чести, а тебе бы только по мозгам. Лучше помолчи и подумай, какой тут подход к такому трудному делу можно придумать.
— Есть у меня на примете десяток головорезов, — опять взялся за свое братец Гвидо. — Конечно, можно было бы разогнать всех шавок Сентильи, а его самого прижать без особого шума в одном тихом местечке. Да только потом придется облагодетельствовать всех цеховых приоров да и самого народного капитана.
— Гвидо! — не на шутку рассердилась Фьямметта и стукнула ложкой по столу. — Мало тебе будет голых стен в каземате, так ты еще и чужой карман опустошить не прочь. Молчи, бараньи твои мозги! Сколько ни бей по ним, все мало толку!
Весело было смотреть, как здоровяк Гвидо опасливо отодвигается от прелестного ангелочка, свирепо нахмурившего острые бровки.
— Мессер! Вы не подумайте, что мой братец совсем глуп, — заметив мою ухмылку, немедля бросилась на защиту своего родича Фьямметта. — Это он только перед вами теперь своей храбростью похваляется. А тут не храбрость нужна, а разумение, — посмотрев на брата, добавила она. И, постучав себя кулачком по лбу, снова обратилась ко мне. — Мессер, умоляю вас, не оставляйте надежду. Мы на что-нибудь сгодимся, вот увидите. Я уже кое-что придумала. Ведь всего через три дня будет праздник Золотого Осла, а Сентилья на этом веселье всегда прикидывается каким-нибудь простолюдином, затерявшимся в толпе. У Ланфранко есть наперсница, которая недолюбливает Сентилью и готова передать мне о нем любые сведения и сплетни. Я непременно разузнаю, каким дурачком Сентилья собирается показать себя на этот раз, слепцом или выпивошкой, и тут-то мы сумеем присоседиться к нему, составив ему самую подходящую компанию.
— А что такое праздник Золотого Осла? — полюбопытствовал я.
— О, так вы не знаете, мессер?! — удивленно воскликнула Фьямметта.
— Или не знаю, или не помню, — заметил я.
— Праздник Золотого Осла — это когда по городским улицам ведут «святого» осла, — пояснила Фьямметта, — и заводят его даже в Дворец Народа и в собор Санта Мария дель Фиоре, и там служат по такому поводу очень смешную мессу, а тем временем в городе все переворачивается с ног на голову и все веселятся. Папой избирают какого-нибудь кривого башмачника, верховным судьей — горбатую жену пригородного коновала, ведь верховный судья, подеста, может избираться только из иностранцев, а городскими приорами до полуночи считают шесть самых откормленных свиней, которых облачают в золотые попоны. А все истинные отцы и старшины города наряжаются в этот день в лохмотья и служат посмешищем для простого люда. Никакого благородства, мессер, вы в этот день во всей Флоренции не отыщите, но бывает очень весело, если только все не подерутся.
До конца трапезы бойкая пташка Фьямметта уже не могла усидеть спокойно. Она то и дело терла пальцами виски, восклицала: «О! Вот еще хорошая мысль!» или «Надо поторапливаться!», — и наконец, схватив с блюда самое красное яблочко, куда-то упорхнула из дома.
— Ну, раз сестренка заварила кашу, теперь забурлит, держись подальше, — смеясь, предупредил Гвидо и оказался прав.
Не прошло и часа, как Фьямметта вернулась страшно довольная своей разведкой в стане врага.
— Я все выведала! — воскликнула она прямо с порога. — И как вы думаете, кем разоденется Сентилья на этот раз?
— Прокаженным, что ли? — усмехнулся Гвидо. — Чтоб его скрючило и покоробило.
Фьямметта схватила со стола самый большой нож и, взяв его двумя руками, наподобие меча, грозно набычилась и пробурчала смешным баском:
— Тамплиером!
— Тамплиером?! — поразился я. — Но почему тамплиером? Ведь вы же сами сказали, что до сих пор он наряжался простолюдином?
— Что ж непонятного? — хмыкнула Фьямметта. — Ведь французский король их всех поймал и посадил в застенок. Так?
Мы с Гвидо молча кивнули.
— Этих самых рыцарей обвинили во всех смертных грехах. В богохульстве, в ростовщичестве и даже в мужеложстве. Так? Значит, их всех будут судить, и ждет их самое ужасное наказание. Верно?
— Возможно, — вздохнул я и еще раз тяжело вздохнул, потому что мое сердце было внезапно охвачено нестерпимой тоской.
— Вот и у нас на празднике будут судить тамплиеров, и придется им, бедненьким, — тут Фьямметта тоже вздохнула, только с притворной грустью, — свиней на себе возить, а может, и на горячие сковородки садиться.
— Очень странное совпадение, — пробормотал я.
— Какое совпадение? — полюбопытствовала Фьямметта.
— Да мне тоже приходится порой выказывать себя тамплиером, — уклончиво ответил я, вновь обуреваемый какими-то смутными опасениями и призраками. — Позвольте спросить вас, сударыня.
— Ах, не называйте меня «сударыней», мессер, — всплеснула ручками Фьямметта. — Лучше — по имени и даже на «ты», ведь как-никак я ваша «сестренка».
— Однако, имея в виду мое нынешнее имя, я мог бы почитать вас и за родную матушку, — стараясь казаться веселым, ответил я. — Так вот, милая Фьямметта, в былое и не лучшее для нас с вами время, вы рассказывали мне небылицу про нашего вымышленного отца, якобы ставшего рыцарем Ордена Храма. Скажите, вы это только выдумывали, что называется, от ближайшей башмачной лавки, или же передавали, кое-что переврав, историю, уже вам известную?
— Ничего я не перевирала, — передернула плечиками Фьямметта. — Старушка выпытала у вас изрядную часть вашей собственной небылицы, которую вы припасли на случай всяких расспросов. А все остальное я как есть выдумывала на ходу, глядя на вас, мессер, и прикидывая в уме, что бы такое могло подействовать на человека такого вида, какой в тот день имели вы.
— Простите, дорогая Фьямметта, но именно это обстоятельство и изумляет меня до глубины души, — признался бывший лошадник, — поскольку я теперь смело могу признать вас и за провидицу Сивиллу. Ведь в некоторые подробности моей, по-видимому, действительной жизни вы попали, как хороший стрелок — в яблоко. Может быть, вы все-таки слышали от наперсницы из дома Ланфранко что-нибудь подобное о жизни самого Сентильи, потом забыли, а увидев меня, внешне похожего на Сентилью, невольно вспомнили.
— Ничем вы не были похожи на этого прохвоста и тогда, когда притворялись лошадником, — проговорила Фьямметта, обиженно надув губки.
— Ну, раз сестренка стоит на своем, значит, так оно и есть, — сказал Гвидо, заметив сильную тревогу на моем лице и решившись развеять собиравшуюся над нами темную тучу каких-то не понятных ни ему, ни его сестре опасений.
— Это, действительно, не так уж и важно, — отступил я, однако смутные предчувствия того, что некто неотрывно наблюдает за мной и теперь, продолжая устраивать самые необъяснимые обстоятельства по своему умыслу, вовсе не отступили от меня самого.
Брат и сестра смотрели на меня с участливой опаской.
— Все же я не могу понять, для чего Сентилье каждый раз корчить из себя гонимого, придурковатого или осужденного, — повернул я дело немного в сторону. — Ведь он человек, не привыкший ронять своего достоинства, самолюбивый и заносчивый.
— Но и хитрый, заметьте, мессер, — сразу подал голос Гвидо Буондельвенто. — Хитрюга, каких поискать. Многие во Флоренции точат на него зуб. Так вот, два раза в году, на праздник Золотого Осла и на праздник дураков, что народ, школяры и клирики устраивают под Рождество, этот пройдоха и позволяет всем поиздеваться над собой и даже, простите, мессер, измазать нечистотами. Так-то кое-какие грешки ему и спускают. Вчера еще готовы были насадить его на вертел, а сегодня уж толкуют: «Не такой он уж и дурной малый. Вон как его в грязи выволокли, а он и не пикнул». Прямо-таки святым смиренником этот прохвост ходит потом по улицам, сожги его антонов огонь!
Тут пришло мне в голову спросить Гвидо:
— А что он, денежные дела нечисто ведет?
— Не то, чтобы уж совсем нечисто, — вдруг замялся Гвидо, — а только уж больно хитро. Вроде и обмана нет, а глядишь, уже обобрал человека донага, как коза лавровый куст. Очень он дело запутывает, а когда в кости возьмется играть, тут уж ему везет, как самому дьяволу.
— Да хватит тебе поминать дома нечистого! — рассердилась Фьямметта. — И что вы все заладили про этого Сентилью, будь он неладен. Пора бы и получше найти себе занятие. Вот слушайте меня, дурного вам, синьоры, не посоветую. Тамплиеров нам сам Бог послал.
— Ну, теперь ты скажешь! — разразился смехом Гвидо. — Уж кто их послал, так о том ты сама не хочешь говорить.
— Да не про то речь! — отмахнулась от него Фьямметта. — Скрыть, кто ты есть на самом деле и кто тебя послал, под обличьем тамплиера как раз проще простого. Нашьем вам плащи, наделаем из сеток под шлемы катай, чтобы только одни глаза и остались, а уж шлемы я вам сооружу, как горшки, все обхохочутся, да и сам черт вас не узнает.
— Вот, сестренка, ты и сама на язык грешна, — уже хохотал Гвидо.
— Ах, оставь, братец, не до твоих шуток, — снова отмахнулась Фьямметта от своего брата, как от назойливой и очень большой мухи. — У меня как раз завалялись куски старой свиной кожи и немного бумазеи. Шлемы из этого выйдут — не отличишь от настоящих. А потом нахлобучим их на ваши дурные головы… ой, простите, мессер! Короче говоря, Сентилье при всей его хитрости не разобрать, кто окажется около него, даже если вы, мессер, усядетесь ему на плечи.
И тут наследница древнего и славного рода тосканских нобилей Фьямметта Буондельвенто показала, на что она способна. Работа закипела и впрямь, словно в крепости, осажденной легионом врагов. Собственными ручками Фьямметта кроила священные плащи и пришивала к ним гнутые подобия орденских тавров. Две служанки день и ночь под ее присмотром сооружали из свиной кожи и бумазеи великолепные маршальские и комтурские парадные шлемы, а слуги, все еще испуганно сторонившиеся меня, строгали из досок деревянные мечи. Двое суток никто не сомкнул глаз, а к тому часу, когда наконец весь этот новоявленный цех флорентийских оружейников повалился в изнеможении, всяких лат, плащей и оружия хватало уже едва не на дюжину самых доблестных и самых широких в плечах тамплиеров.
Накануне праздника Золотого Осла мне пришлось еще потрудиться самому, изображая из себя пока не тамплиера, а некого незримого и бесплотного духа, способного, однако, выполнить работу тяглового жеребца. Почти никем не замеченным мне удалось-таки перетащить от реки к дому Буондельвенто два тяжеленных кожаных мешка.
— Что это? — изумился Гвидо, волоча неподъемный груз по полу.
Последних сил мне хватило только на то, чтобы доползти до стены и, привалившись к ней спиною, произнести всего лишь одно слово:
— Золото.
Чуть растянув горловину одного из мешков, Гвидо заглянул внутрь, и у него подогнулись колени, так что он вместе со мной оказался на полу у стены.
— Святое Провидение! — прошептал он. — Да что же с этим делать?!
— Там золота тысяч на сто пятьдесят, — ответил я ему, переведя дух. — Кое-что потребуется мне завтра, а остальное я хотел бы оставить под ваш присмотр, может на полгода, а может и на год. До тех пор, пока не устрою все свои дела. А потом мы с тобой, Гвидо, на эти деньги построим собор и красивый домик твоей сестренке.
— Собор? — пробормотал Гвидо, смешно ворочая глазами. — Да ведь не на один собор, а на целую Вавилонскую башню хватит. Такие деньги! Чтобы столько разом, я и в жизни своей не видал и могу поклясться, что и не всякий король видел. Где их хранить-то, скажите на милость? Ведь тут не банк.
— А спусти туда, куда уже один раз спускала меня твоя сестренка, — посоветовал я. — Там этим денежкам самое место.
Гвидо вытаращился на меня, и я мог понаблюдать за медленной метаморфозой самого совершенного недоумения в самую совершенную озаренность.
— Неужто прямо в дерьмо?! — расплываясь в бескрайней ухмылке, уточнил он.
— А куда еще? — развел я руками.
Стены и пол затряслись от громового хохота Гвидо, но этот хохот сразу оборвался, как только братца Фьямметты осенила другая мысль, довольно тревожная.
— А что если украдут? — нахмурился он. — Или, к примеру, не приведи Бог, меня и Фьямметту зарежут? Или же Чуму Господь нашлет? Или пожар?
— Дерьмо, как мне известно, горит плохо, тем более жидкое, — рассудил я. — Потоп тоже не повредит. А уж если и вправду, не приведи Бог, что случится, то, главное, чтобы вы вдвоем остались живы, а золото пусть тогда провалится в преисподнюю, откуда оно и взялось.
Гвидо, отшатнувшись от меня, испуганно перекрестился, и я понял, что перегнул палку.
— Не бойся, друг мой, не то, чтобы я достал его прямо из Тартара, — пришлось успокаивать хозяина дома. — И колдовства тут никакого нет. Просто у меня есть веские причины, чтобы не слишком дорожить этим богатством. Пропадет — так не слишком огорчусь, хотя и подосадую. Пока не завершится мое путешествие, я хочу оставить деньги в добрых руках, — тут я сам не удержался и закатился смехом, — и в добром дерьме.
Гвидо ничуть не обиделся. Напротив, вскочив на ноги, он вытянулся столбом и приложил руку к сердцу.
— Клянусь вам, мессер, ни одна монета не прилипнет к моим пальцам, и я прикончу любого вора, который полезет туда. — Тут Гвидо, сломавшись пополам, ухватился за живот, и вновь бухнулся на пол рядом со мной.
Мы с Гвидо еще накануне веселого праздника отсмеялись так, что до утра у обоих ломило челюсти и ныли ребра. Моим бедным ребрам пришлось вытерпеть еще много худших бед, но об этом речь пойдет дальше.
И вот наконец наступил «священный» день разудалого уличного богохульства.
Не успела завершиться обедня, как вновь по всему городу зазвонили колокола, только теперь звучали куда громче, веселей и даже игривей, нежели раньше, когда созывали граждан вольной Флоренции на поклонение их всемилостивому Творцу, Коему они обязаны были и нынешним бытием и грядущим вечным блаженством. Преисподняя, впрочем, порой тоже казалась свободному народу Флоренции местом не самого скучного времяпрепровождения.
Когда мы, — Фьямметта, ее братец, шестеро или семеро его верных приятелей, ваш покорный слуга и два его наемных ифрита, честно служивших за флорин в день, — соблюдая предосторожность, покинули дом, ближайшие улицы были уже пусты и безмолвны. Все жители уже дышали одним разгоряченным в волнении телом, растянувшимся вдоль улицы Добрых Слуг Господних до самого собора Санта Мария дель Фиоре. Неутихающий гул, пока еще покоряемый колокольным звоном, доносился откуда-то из-за крыш.
Гвидо повел нас некими тайными путями, и, протиснувшись через десяток сумрачных, зябких и дурно пахнущих проулков и двориков, мы внезапно оказались прямо в гуще толпы, уже разогретой весельем и потоками солнечного света.
Гвидо, имевший вид важного участника шествия, не слишком учтиво обходился со встречными и пробивал нам дорогу, работая локтями и даже своим деревянным мечом.
— Смотрите! Смотрите! — услышал я чей-то шепот. — Да ведь это как раз они и есть, тамплиеры!
— А кто этот вот, с ящиком? — столь же тихо вопросил другой голос, за моим левым плечом. — Уж не сам ли Сентилья?
И в тот же миг мой зад стяжал пару увесистых пинков, от которых и тяжелый ящик, висевший у меня на шее, содрогнулся и глухо загремел содержимым
— Что ты! — воскликнул первый. — Сентилья будет на виду. Самим Великим Магистром этих богоотступников.
— Смотрите! Смотрите! — уже во всю мощь завопил целый хор голосов. — Идут! Идут!
Тут оглушительно зазвучали цимбалы, дудки и барабаны, разом одолев все колокольные звоны, и подавшаяся вперед толпа так крепко стиснула нас и выдохнула такое горячее облако, что бедным тамплиерам под грозными, нахлобученными до самых подбородков шлемами, дышать стало и вовсе невмоготу.
Между тем со стороны площади Благовещения неторопливо приближалось величественное шествие, которое я мог разглядеть только сквозь щелку забрала да притом из-за плеча Гвидо.
Во главе многочисленной процессии двигался крепкий белолобый ослик в роскошном пурпурном чепраке. На его макушку была надета маленькая блестящая корона, а уши у него были выкрашены в золотистый цвет. Верхом на ослике восседал новоявленный Папа, как оказалось, и вправду кривой лудильщик с улицы под названием Гнилая Труба. Он ехал, блистая белоснежными одеждами и золотым позументом, а на голове у него возвышалась неимоверных размеров тиара, более похожая на шутовской колпак, разрисованная лилиями и свиными рожами и увенчивавшаяся багровым фаллосом, что нагло упирался в самые небеса. В одной руке Папа держал кадуцей, оканчивавшийся завитком из кровяной колбасы. Осла вели под уздцы два высоченных и плечистых клирика, уже изрядно подвыпившие, отчего «священное» животное, к несказанному удовольствию толпы, кланялось то вправо, то влево, а сам Папа раскачивался из стороны в сторону, как поплавок. Судя по молниям, вышитым у клириков на груди, и по матерчатым крыльям, растянутым на деревянных рейках и болтавшимся у них за спинами, вроде простыней на просушке, эти великаны должны были изображать из себя архангелов. Управляясь с покорным ослом, кажется, не слишком понимавшим своей великой миссии, они вдобавок размахивали увесистыми кадильницами, устроенными из ночных ваз, так и норовя угодить ими в лоб попадавшимся по пути зевакам. Из кадильниц валил густой серый дым, обоняя который, толпа с ревом раздавалась в стороны и давила слабых и замешкавшихся, страшно при этом ругаясь и отмахиваясь от благовонного аромата руками и фартуками.
Когда Папа и архангелы поравнялись с нами, мы выставили локти и, ощетинившись оружием, поклялись не сойти со своего места. Кадильный дым сначала охватил глаза и носы соседей, и они завопили, как умалишенные, однако, когда тот фимиам, забрался и под наши шлемы, мы сами зарычали, подобно стае разъяренных берберийских львов, и все, кроме одного меня, обнажили головы и принялись разгонять зловонный эфир, поскольку ладаном в кадильницах служило не что иное, как высушенное свиное кало. Я же напряг всю свою ассасинскую волю и решил претерпеть до конца.
Вслед за Папой двигалась череда «епископов» с привязанными к головам копчеными свиными ушками. Эти преосвященные явно были набраны из самых отъявленных разбойников. Корча мерзкие рожи, они распевали «Отче наш» на мелодию то одной похабной песенки, то другой, и зрители, особенно женщины, бойко подхватывали самые непристойные припевчики. За «епископами» шествовали бродяги в разноцветных лохмотьях, приплясывавшие то на одной, то на другой ноге и вопившие совершенно несусветную чушь, вообще не переводимую ни на какой позволенный Богом язык. За этими «пророками» тяжелой поступью двигалась череда то глухо стонавших, то подхрюкивавших толстяков, которые волокли на своих плечах длиннющий крест, сбитый и связанный из жердей. К тому кресту были подвязаны бочки, колбасы и целые окорока. Когда нас миновал сонм мучеников обжорства, появилась вереница скромных девиц, скрывавших темными покрывалами свои лица. На их поясах прямо посреди животов болтались огромные замки, приходившиеся как раз против срамных мест. Эти «девственницы» издавали душераздирающие рыдания, то и дело прерывавшиеся скабрезным хихиканьем и сладострастными стонами. Наконец, вслед за ворами, убийцами, всякими лихоимцами прошли карлики, у коих горбатые и длинные носы были сделаны в виде мужских членов, оканчивавшихся пятачками из флоринов, и таким образом эти коротышки изображали собой евреев-ростовщиков. А уж за ними появились и наши «братья»-рыцари во главе с Великим Магистром, на шлеме которого торчали козлиные рога, пожалуй, превышавшие и папскую тиару.
Как только рога поравнялись с нами, Гвидо, не говоря ни слова, тихонько пихнул меня локтем.
— Знаю, Гвидо! — шепнул я, вплотную прижавшись своим шлемом к его собственному, чтобы было слышно. — Пора настала?
В подтверждение братец Фьямметты, которая пока что пряталась за нашими спинами, стукнул своим неуклюжим маршальским горшком по моему комтурскому, и мы, всем отрядом покинув толпу, живо пристроились к разряду «грешников» Соломонова Храма.
Стесненные своими собственными шлемами и доспехами, люди Сентильи так и не смогли толком уяснить, что еще за весельчаки поддержали их собственное начинание. Между тем, к нашей же пользе, процессия шествовала неторопливо, и Гвидо, сдерживая, впрочем, свою обычную бесцеремонность, принялся продвигаться вперед, к Сентилье, оттесняя его дружков, уже порядком осоловевших от жары и фимиама. Обхватив обеими руками тяжелый ящик, привязанный цепью к моей шее, я не отставал от него ни на шаг и даже не стеснялся наступать на пятки.
Толпа приветствовала нас свистом, веселыми ругательствами, хулившими Небеса и всех святых, и гнилыми овощами. Тухлое яйцо, брошенное чьей-то верной рукой, угодило Великому Магистру прямо в рог, и жидкая слизь повисла на нем и стала болтаться, вызывая еще более бурные раскаты хохота и ругательств.
Когда хвост ослиной процессии, который собственно и составляли грешные «тамплиеры», достиг собора Санта Мария дель Фиоре, Великого Магистра поддерживали с боков уже только самые доблестные и трезвые «братья»-рыцари, а в затылок ему дышали два магрибских ифрита, наряженные христианскими воинами. Огромные и неуклюжие латы Магистра и его рогатый шлем величиной с бочку и впрямь позволяли мне усесться предводителю «тамплиеров» на плечи без боязни оказаться замеченным.
Начиная от бесноватых «пророков» вереницу грешников в собор не впустили, поскольку собор уже был полон более достойными и высокородными богохульниками.
Папа зычным голосом повелел всему сброду нечестивцев пасть на колени и каяться в своих грехах, распевая «Сядь, красотка, мне на…» и при том не сбиваясь с мотива «Приидите, верные».
Великий Магистр покорно бухнулся ниц, и мы бухнулись вместе с ним: Гвидо — по правую, а я — по левую его руку. Подвыпившая свита Сентильи пыталась что-то запеть, не снимая шлемов, и это обстоятельство тоже оказалось нам на руку.
Я решил более не мешкать и, с облегчением обнажив голову, обратился к Сентилье на франкском наречии:
— Мессир, я очень рад сообщить вам, что мне удалось-таки успеть к началу священного суда над нечестивцами Соломонова Храма.
Надо признать, что Сентилья умел сохранять самообладание при внезапных происшествиях и фокусах судьбы. Рогатый шлем медленно повернулся в мою сторону, и я услышал удивленный, но сдержанный голос трактатора:
— Так это вы, мессер, черт меня совсем побери?!
Оставаясь на коленях, он выпрямился и, оглядевшись, уяснил, что военная обстановка вдруг изменилась вовсе не в его пользу. Судя по виду Магистра, особо сильное впечатление произвели на него мои ифриты, возвышавшиеся позади нас наподобие двух скал.
Повинуясь порядку праздника, Тибальдо Сентилья вновь склонил рога к гладким камням площади и проговорил:
— Я не знаю, что вы за человек, мессер. Вы сами разорвали «кольцо змеи», сами нарушили миссию, и что же вы теперь хотите от меня?
— Я не сидел сложа руки, — был мой ответ, — и, между делом, занимался вашими наследными правами. Теперь я принес кое-что, принадлежащее вам.
И с этими словами я снял со своей шеи уже измучившую меня цепь и подвинул Великому Магистру деревянный ящик, на котором крупными буквами было выведено на латыни:
СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ
— И только-то всего?! — злорадно ухмыльнулся Сентилья. — Что-то ящичек маловат оказался.
— Зато самые главные долги, — заметил я. — Как раз по первой и второй заповедям. Загляните, мессир Магистр, в его утробу. Уверяю вас, не пожалеете.
И я указал пальцем на крышечку, что, отодвинутая в сторону, могла обнажить тайну содержимого.
Великий Магистр, чуть отстранившись, протянул руку к хранилищу смертных грехов и, весьма небрежным жестом отдернув крышку, почти немедля и уже весьма деловито задвинул ее назад.
— Золото, черт меня совсем побери! — с явным волнением сообщил он мне то, что я и сам прекрасно знал.
— Видите, мессир, а вы-то привередничали, — в свою очередь усмехнулся я. — Часть этих грехов составляет мой собственный долг за нанесенные вам по дороге во Флоренцию убытки. Остальное, включая и другой ящичек, побольше этого, составляет существенную часть вашего наследства. Короче говоря, здесь грехи, оцененные в пятнадцать тысяч флоринов, а еще шестьдесят тысяч ожидают окончания суда.
— Черт меня побери! — пробормотал Сентилья. — Я вас совсем не понимаю, мессер! Первый раз в жизни я ничего не понимаю. Что вы от меня хотите?
— Несколько не трудных по исполнению услуг, — сказал я, видя, что Сентилья уже совершенно готов перейти от веселья и шуток к серьезному делу. — Я вполне доверяю вам, поскольку слышал от знающего человека, что денежные дела вы ведете честно, хотя и чересчур запутанно.
— Кто это вас просветил на мой счет? — полюбопытствовал Сентилья.
— Гвидо Буондельвенто, — ответил я. На это Великий Магистр только хмыкнул и покачал рогами.
— Он тут, неподалеку, — добавил я.
— Всему, что вы скажете, мессер, можно смело верить, — с достоинством проговорил Великий Магистр. — Только я не посоветовал бы вам брать себе в услужение этого необузданного болвана. Его никто не понуждал залезать в долги по пьяному делу. Для подтверждения своих слов я готов раскрыть для вас Секретную книгу компании Большого Стола Ланфранко.
Все мои жилы вытянулись в струны от этих речей, но то ли Гвидо в своем шлеме так и не расслышал любезных предупреждений Магистра, то ли сам Магистр крупно ошибся на счет Гвидо, видя в нем только необузданного болвана и пьяницу.
— Этого вовсе не требуется, — остановил я его рассуждения на опасную тему. — Я тоже доверяю вам, хотя обстоятельства не всегда тому способствуют. Честное ведение дел — лучший способ обмануть клиента, не правда ли?
Тибальдо Сентилья помолчал, а затем, неторопливо сняв с головы шлем, посмотрел на меня. Его лицо, обрамленное шерстяной «кольчугой» подшлемника, было багрово и блестело от пота. Сняв еще перчатку и проведя рукой по лицу, он напряженно улыбнулся и сказал, как и раньше, на тосканском наречии:
— Говорите, мессер, что вам надо.
Я же продолжал вести разговор на франкском:
— Я хотел бы знать, мессир Магистр, кто и каким образом должен был доставить меня во Францию.
В глазах Магистра загорелись зловещие огоньки, и я сразу догадался, что у него есть, чем удивить меня.
— К моему прискорбию, мессер, вы немного опоздали, — с кривой улыбкой на губах проговорил Сентилья. — Они не дождались вас, а потому вполне здраво заключили, что добраться до берега вам так и не удалось.
— И что же? — нетерпеливо спросил я, потому что Сентилья тут лукаво умолк.
— Они послали вместо вас другого человека, — роковым голосом сообщил он.
Больших усилий стоило мне сдержать смятение. Кто мог быть другим? Неужели может найтись на свете еще один Удар Истины?
— Кого? — переведя дух, задал я новый вопрос.
— А вот в эту тайну они не сочли нужным посвящать меня, — проговорил Сентилья, более, однако, не выказывая надо мной превосходства. — Но все же, мессер, у меня осталась возможность добиться хотя бы части прибыли. Мне известно, что человек, заменивший вас, был отправлен во Францию с каким-то другим провожатым или даже вовсе без такового. Тот, на чьем попечении были вы, остался на месте, то есть во Флоренции.
— Вы сможете показать мне его? — вздохнул я с некоторым облегчением.
— Разумеется, да, — твердо сказал Сентилья, и вновь очень скверная улыбка зазмеилась по его губам. — Буду честен с вами, мессер, это дело не представляется трудным.
— Пусть так, — согласился я, — зато другая услуга потребует от вас больше стараний. Речь пойдет о Фьямметте Буондельвенто.
Теперь на несколько мгновений оторопел сам Великий Магистр, однако и он, как и должно опытному воину, быстро оправился от удара.
— У вас острый глаз и весьма благородный вкус, мессер, — ухмыляясь, признал он.
— Я рад, мессир, что вы поддерживаете мой выбор, — безо всякой усмешки сказал я. — Таким образом услуга не будет вам слишком в тягость. По всей видимости, мне придется на довольно длительный срок покинуть Флоренцию. Мне очень не хотелось бы, чтобы с Фьямметтой Буондельвенто за время моего отсутствия случились бы какие-то неприятности по чьей угодно вине.
— А главное, по вине ее братца, — уже почти беззлобно ухмыльнулся Сентилья. — Вы желаете, чтобы я присмотрел за ней?
— Именно так, мессир Великий Магистр, — кивнул я, вполне довольный выражением лица Сентильи. — Но — чтобы с умом и как бы издали, вроде рыцаря Прекрасной Дамы. Надеюсь, вы меня понимаете?
— Еще бы не понять! — важно похвалился собой Сентилья. — Будьте спокойны, мессер, с такой великой миссией я отлично справлюсь. И клянусь, что пальцем к ней не прикоснусь. Довольно с меня, что едва без глаз не остался. Эту свирепую кошечку я теперь рад приберечь для вас, мессер, в самой изящной клетке. Тем более, что векселя, подписанные Гвидо, как я понимаю, вами же и будут теперь выкуплены.
«Так вот что хотел получить Сентилья от Фьямметты в уплату за долги братца!» — догадался я, но сдержал бешенство и спокойно предупредил его:
— Гвидо уплатит за себя сам.
— Вот как! — приподнял брови Сентилья. — Совсем благородное дело.
— Если вплоть до моего возвращения Фьямметте Буондельвенто не придется изведать всяких бед и невзгод, за исключением бедствий, над которыми мы не властны, то вы, мессир Магистр, получите от меня еще десять тысяч золотом, — чуть не скрипя зубами, пообещал я.
— Вы думаете обо мне слишком плохо, мессер, — проговорил Сентилья, внезапно омрачившись, и даже отвернулся от меня в сторону, конечно, сразу же наткнувшись взглядом на коленопреклоненного Гвидо, который своего шлема не снимал и потому остался неузнанным.
— Осталось только вызнать, кто же такие они, — обратился я к затылку Магистра, вовсе не опасаясь при этом за свое достоинство, — и что им в действительности от нас обоих нужно.
— О, мессер! — немедля повернувшись ко мне, вздохнул Сентилья, будучи, как ни странно, столь же хитер, сколь и быстро отходчив от приступов злости; впрочем, странного тут мало: такова вообще существенная черта флорентийского характера. — Уж если такой необычайный человек, как вы, и то рискует разбить себе голову об эту загадку, то я и вовсе, крепко ударившись об нее, останусь одним мокрым местом. Иногда мне кажется, что все дело затеяли иоанниты, глядя на денежки Храма и облизываясь, как коты. А иногда мне приходит в голову, что за кустами притаились настоящие тамплиеры.
— Настоящие? — удивился я.
— Не знаю, как их назвать, — пожал плечами Великий Магистр. — Многие слышали о каком-то «внутреннем круге» особо посвященных. Может быть, они сами и подставили королю Франции и Папе вроде приманки весь этот Соломонов Храм со всеми его рыцарями и первосвященниками. Но что за ловушку они готовят всему миру, я ума не приложу. И, честно признаюсь вам, додумывать, а тем более дознаваться у меня нет ни малейшего желания. Я так полагаю: чем больше тайна или чем больше окажется по размерам эта ловушка, тем меньше вреда лично для меня, для моих доходов и для моей благословенной Флоренции. В конце концов, после изгнания из Рая Адам с Евой оказались на грешной земле, которую тоже можно считать мышеловкой, но ведь согласитесь, мессер, эта мышеловка оказалась достаточно вместительной, чтобы не биться в отчаянии об ее решетки. И вот, что хочу еще вам сказать…
Но в это самое мгновение над толпой вновь прокатился Юпитеров глас шутовского Папы. Кривой лудильщик, завершив «ослиную мессу», торжественно покинул храм и повелел всем грешникам подняться на ноги и следовать далее по тропам покаяния.
Великий Магистр поспешил снова нахлобучить на голову свой рогатый шлем, однако я удержал его за руку.
— Мессир, вы совсем забыли о своих грехах, даже не успев получить отпущения, — напомнил я ему и указал на ящик. — Берите скорее, а то они достанутся кому-нибудь другому, «и будет то зло еще хуже первого».
Бросив на меня взгляд, как мне показалось не означавший ничего определенного, Сентилья накинул себе на шею цепную петлю, а затем, поместив на место магистерский шлем, попытался подняться на ноги со всем грузом «смертных грехов». Надо сказать, у меня самого колени онемели от долгого стояния на камнях, а уж Великий Магистр тамплиеров под тяжестью грехов Ордена и своих собственных вовсе застонал. Нам с Гвидо пришлось помочь ему обрести равновесие.
— Ну и денек, черт меня совсем побери! — хрипло пробормотал Тибальдо Сентилья, обхватив руками ящик и с трудом двигая ногами.
Празднество, между тем, переместилось от собора Санта Мария дель Фиоре к фасаду Дворца Народа, где обычно собирался приорат Флоренции и вершились важные судебные дела.
Здесь, прямо перед дверьми палаццо, из бревен, хвороста и дерна был сооружен огромный вертеп, изображавший ад, что уже был населен его законными, рогатыми и хвостатыми обитателями, которые пронзительно визжали и улюлюкали, мохнатыми лапищами маня к себе приближавшихся жертв. На вершине вертепа был установлен престол в виде ночной вазы с высокой спинкой. Шутовской Папа полез по лестнице наверх, притворяясь при этом, что вот-вот оступится и рухнет вниз, то ли на руки зрителей, то ли прямо в лапы чертей. Оказавшись у цели, Папа задрал по пояс свои священные одежды и, предъявив всему народу кривые и волосатые ноги, ничем не отличавшиеся от членов обитателей преисподней, под восторженный рев толпы уселся голым задом на свой престол. Еще больше восторга вызвало поднятие на вершину вертепа смиренного осла, которого, перепутав веревки, случайно перевернули вниз головой.
Наконец, как только Папу и осла окружили «епископы», дважды валившиеся с горы вместе с лестницей и начавшие было потасовку с чертями, судилище над грешниками началось.
Сначала святейший судия грозно повелел явиться пред ним полоумных пророков. Те сразу притихли, а их главарь, предстательствовавший за всю свою братию, смиренно сложил руки на груди и закатил глаза.
— О, Ваше Смутейшество! — возгласил он, подражая ослиному реву. — Мы-то и вовсе не грешили в сей бренной жизни, а, напротив, сами призывали весь народ к покаянию за ужасный грех, коим каждый из смертных грешит по тысяче раз на всякий час.
— Врешь, негодяй болтливый, котях тебе в глотку! — весело рявкнул с вышины Папа. — Тысячу раз на всякий час и выругаться толком не сумеешь, и подол девке не задерешь — скрючит всего да перекосит еще до заутрени. Что за грех такой, а ну признавайся, ж… велеречивая!
— Так ведь сказано, Ваше Своднейшество, — подбоченившись, отвечал верховный пророк, — ничего, что входит внутрь, не оскверняет человека, а оскверняет только то, что выходит изнутри. Дескать, вдыхать — не грех, а выдыхать — сущий грех. Вот и учили мы по закону грешный народ только вдыхать и ничего после того не выдыхать.
— И до чего ж вы допроповедывались, архизадницы вы эдакие?! — еще грознее набычился ослиный Папа.
— А до того, Ваше Сидейшество, — отвечал архипророк, — что раздулись людишки, как бычьи пузыри, и такие ветры учинили пускать, что занесло нас теми ветрами до самого седьмого неба, и видали мы там сонмы ангелов, затыкавших носы и уши. И пообещали нам ангелы, что за такие дела выльют они в День Гнева на грешную землю самый великий котел ангельского помета.
— Ах, вы негодяи препердобные! — заорал Папа. — Значит, все, что наружу выходит — грех? Так значит, и помочиться доброму человеку нельзя без покаяния?! А ну подойдите ближе!
И только пророки робко подступили к подножию вертепа, как Папа поднялся со своего престола, а двое епископов задрали его одежды повыше. Важно ступив на самый край обрыва, Папа предъявил всему городу свое мужеское достоинство и под общее одобрение принялся окроплять незадачливых пророков.
— А теперь в ад их всех, в ад! — закричал он, истощившись на орошение. — Пускай просыхают в пекле!
И двое архангелов принялись заталкивать пророков вглубь вертепа, откуда уже тянулись к ним мохнатые лапища чертей. Кто-то из народа пытался отбить их у демонов для пущего веселья, и тут разыгралась небольшая потасовка, быстро погашенная новыми потоками дождя, пролитого сверху сразу всем воинством преосвященных.
За пророками пришел черед праведных толстяков.
— Мы смиренно постились, Ваше Съядейшество, — похвалялся их главный предстоятель.
— То-то видно по вам, что всех акрид в пустыне поизвели, кишки ваши бездонные! — покатился со смеху Папа. — Как же это вы страдали, ну-ка поведайте нам.
— Да уж подвизались сверх всякой силы, Ваше Сгрызейшество, — гордился праведный обжора. — В Страстную-то Пятницу не больше дюжины колбас, полдюжины окороков, да десятка трех фазанов, да винца-то всего бочек пяток перед завтраком-то и в рот не брали!
— Ах, хороши постнички, — громогласно рек Папа, перекрывая хохот толпы, — ах дозрели мученички — как раз пора на убой! — а потом и вовсе завопил во всю глотку, потрясая своим кадуцеем: — В пекло их всех, в пекло! — и так завопив, от ярости даже вцепился зубами в кадуцей, прямо в завиток кровяной колбасы.
Ни от архангелов, ни от толпы те отъявленные постники не дождались никакого милосердия: пинками и тумаками их затолкали в преисподнюю, а с креста, что они тащили на своих спинах, мигом пообрывали все съестное и растащили в разные стороны. Крест, поломанный в нескольких местах, спустили туда же, в преисподнюю, на дрова под котлы. Папа уже веселым тоном подбадривал ревностных исполнителей его воли:
— Так их, так их! Лупи по пузу! А вон того — по толстой заднице! Эй, вставьте ему туда фитиль — весь год на сале не погаснет! Бросай их на сковородку! Поглядим, как на своем жирке-то зарумянятся и затрещат! Ой, пальчики оближешь!
Дошел черед и до девственниц-смиренниц.
— Ваше Соитейшество, мы-то вовсе не грешили, и всегда и во все времена правило священное чтили! — оправдывались девы. — Как к обедне зазвонят, так лобок — на замок.
И держали проклятого зверя,
чтоб не выломал он двери,
коль хватало мочи,
аж до самой ночи.
— А всегда ли сил хватало? — допытывался Папа.
— Ах, порой недоставало, — горестно плакали девы.
Зверь и юрок и силен,
глядь — в окошко лезет он.
Или так уж поднапрет,
что запоры все прорвет.
Мы, конечно, не сдавались,
до конца оборонялись.
В погреб зверя мы сманили
И приманкой угостили.
Пусть он бьется там в застенке,
на горшках взбивая пенки.
— Ага, так вы даже с дьявольского искушения доход возымели! — тут же уличил их Папа. — Так лучше бы вы в поте лица хлеб свой стяжали, да почаще бы подол перед благородными людьми задирали, да денежки за то праведным бы монахам на пропитание отдавали. Тогда б и простились вам ваши грехи, а теперь вас в … заклюют петухи. В пекло их! — повелел ослиный Папа. — К жареным петухам!
Тут архангелов и вовсе оттеснили от вертепа. Здоровенные лавочники принялись хватать девственниц и, задирая им подолы на голову, потащили их, словно в мешках, из которых только торчали голые ноги, пухленькие попки и даже самые сокровенные золотники, прямо к зеву преисподней. Черти только того и ожидали и тут же вцепились девам во все мягкие места, не обращая никакого внимания на их пронзительные визги и площадную ругань.
Наконец, когда за длинные носы увели в ад и карликов-евреев, наступил черед суда над тамплиерами.
Мы подступили ближе к преисподней, и взошли на невысокий помост, отделивший грешную землю от первого круга преисподней.
Теперь я мог получше разглядеть ослиного Папу. Он оказался старичком, на вид очень добродушным, хотя и не без лукавства, так и сверкавшего в его единственном, но весьма зорком глазу. Посмотрев на меня, он почему-то очень благожелательно улыбнулся мне и хитро подмигнул. Мне ничего не оставалось, как только ответить ему самой приветливой улыбкой.
Тем временем, Великий Магистр подробно докладывал о всех благодеяниях, кои были совершены бедными рыцарями Соломонова Храма в Палестине. Он назвал в точных числах, сколько было зарезано сарацин, свиней и чересчур богатых паломников, дабы пропихнуть несчастных скопидомов по частям через игольное ушко в Царство Небесное, сколько грязных бедняков было потоплено в море, дабы не осквернять Святой Земли их вшивыми лохмотьями и дабы не перевелись из-за них в пустыне священные акриды, коими питались некогда все пророки и праведники. Затем Великий Магистр, пуская слезы умиления, поведал суду, с каким благоговением поклонялись братья-тамплиеры жертвенному козлу отпущения, который, конечно же приходится единокровным братом и Золотому Ослу, стоявшему теперь по правую руку от Папы.
— Все хорошо делали, и, говорят, даже девок не прижимали, — впервые признал заслуги подсудимых первосвященник вселенной. — Только мнится мне, что утаил этот рогатый кое-какой грешок. Слышал я, что любите вы ближнего своего, как самого себя и даже более, чем братской любовью. А предъявите-ка всему люду вашу праведную любовь, дабы показать пример всем прочим смертным, погрязшим в ненависти и злопомнении.
Великий Магистр несколько смутился, оборачиваясь то вправо, то влево.
— Так кто же из доблестных рыцарей, братьев Великого Магистра, покажет нам образец чистой любви? — настойчиво повторил Папа, уже явно теряя терпение. — Вот! — ткнул он своим перстом прямо в меня. — Вижу славного маршала. Какой ясный взор у этого доблестного тамплиера. Так и горят глаза любовью к ближнему своему! Пускай он покажет пример всем остальным грешникам.
Менее всего желал бы я обмениваться любовным поцелуем с своим «братцем»-Магистром.
— Я могу показать, Ваше Спьянейшество! — раздался вдруг прямо позади меня ясный отроческий голосок, который я не мог не узнать и потому, облившись холодным потом, даже присел от неожиданности.
— А вот пригожий отрок! — обрадовался Папа. — Сразу видно, из новоначальных в Ордене, а значит, и самый послушный. Покажи, сын мой, какова должна быть истинная братская любовь; благословляю тебя.
И не успел я опомниться, как у меня из-под руки выскочила где-то успевшая переодеться тамплиером Фьямметта. Ослепив меня взором, пылавшим нежностью и любовью, она повисла у меня на шее и так и впилась своими устами в мои уста. Вся площадь вокруг нас потонула в рукоплесканиях, подобных шуму взволнованных бурею морских волн. И что мне оставалось делать, как только не обхватить мою спасительную соломинку, не прижаться к ней всем телом и всей душою и не дожидаться со смирением, пока она донесет меня до берегов отдаленных и сказочных царств.
Мы оторвались друг от друга только тогда, когда едва не насмерть захлебнулись поцелуем и у обоих поплыли в глазах круги. Пошатнувшихся, нас поддержали с двух сторон мои верные магрибские ифриты.
— Вот это настоящая любовь к ближнему! — торжественно возвестил Папа. — Что же мне делать с этими бедными рыцарями? — в некоторой растерянности пробормотал он, видимо все же озадаченный находчивостью Фьямметты. — Может, в самом деле помиловать? Ведь в аду и так уже набито как сельдей в бочке. Того и гляди треснет пекло у меня под зад… то есть под святым престолом. Не помиловать ли мне этих двух «беленьких»?
— Помиловать! Помиловать! — взревела толпа.
— Так тому и быть! — рек Папа и трижды стукнул кадуцеем по ноге стоявшего рядом с ним епископа, отчего тот трижды завопил по-ослиному. — Отпускаю и всем бедным рыцарям грехи, и только Великому Магистру повелеваю пройти через Чистилище еще в сей земной жизни, дабы вознеслась его душа на Небеса в хитоне брачном, достойном ангельского отличия! Сие же знамение моей всемилостивой воли да будет запечатлено во веки веков! Ныне сойду я на землю, дабы сей возлюбленный, хоть и рогатый, однако тоже, подобно пророку Илии, сподобился бы узреть не передняя моя, но задняя. Опускайте, говорю вам, чурбаны неотесанные, чтоб вам всем херувимы на макушку наделали!
И епископы, суетясь и мешая друг другу, принялись обматывать ослиного Папу веревками, а потом — и спускать его вниз, с вершины адской горы.
— Довольно! — рявкнул Папа, повиснув в двух пядях над помостом. — А теперь ну-ка, серувимы мои верные, приобнажите пред лицом народа моего задняя моя!
И архангелы задрали папские одежды, так что открылась для всеобщего обозрения кургузая задница кривого лудильщика с улицы Гнилая Труба. Толпа вновь разразилась бурей ликования.
— А теперь, рогатенький, — ласково обратился Папа через плечо к Великому Магистру, — снимай свой горшок и ставь печать на святейшую буллу о своем помиловании, а то хуже будет.
Висевшая на моей руке Фьямметта прыснула от смеха.
— Что за смешки! — рявкнул Папа. — Кто тут кощунствует в великий час праведного суда?! Дождетесь у меня: всех вас своей заднею припечатаю так, что никакой Моисей и за сорок лет вас из дерьма не выведет!
— О, простите нас грешных, Ваше Всемогущее и гущее и гущее и совсем густое Сратейшество! — взмолилась Фьямметта, пав на колени.
— То-то же! — удовлетворился такой повинной Папа и вновь накинулся на Великого Магистра. — А ты что замешкал, рогатенький, или не желаешь заключать со мной вечный завет любви?
Сам Гвидо Буондельвенто смиренно услужил Великому Магистру, приняв из его рук рогатый шлем. Придерживая на груди ящик со «смертными грехами», Сентилья опустился на колени и на глазах всей Флоренции приложил уста к не слишком живописному заду кривого лудильщика. В тот же миг ослиный Папа так громко и мощно пустил ветры, что Великий Магистр, отшатнувшись, не удержался и под тяжестью ящика с «грехами» повалился на спину. Площадь превратилась в огнедышащий вулкан восторга, и вряд ли кто, кроме нас, прощенных тамплиеров, а также Сентильи и самих архангелов, услышал новое повеление Папы, предназначавшего Великого Магистра огненному очищению, дабы душа его предстала перед вратами рая уже освобожденной от всех земных изъянов и грехов.
Архангелы подхватили Великого Магистра подмышки, вздернули вверх и поволокли к столбу, воздвигнутому с правой стороны от вертепа. По всему было видно, что столб ожидал своей жертвы и кто-то из грешников так или иначе был обязан стать жертвой «священного» пламени. Возможно также, что ослиный Папа подразумевал Сентилью с самого начала.
Тот совсем не сопротивлялся, а только крепче прижимал к груди ящик со своими греховными накоплениями. В два счета прикрутили Великого Магистра Сентилью толстой веревкой к столбу, а потом обложили, видать нарочно высушенным к празднику свиным калом. Им, кстати, снабдили архангелов сами служители ада, протянувшие из преисподней своим небесным недругам целых два мешка сего славного благовония.
Уж если двух малых кадильниц хватило на то, чтобы пять тысяч человек кривились, зажимали носы и жались по стенам, то при виде двух мешков толпа и вовсе закачалась, как пшеничное поле под порывом сильного ветра. Великий же Магистр тамплиеров стоял, готовый мужественно претерпеть ужасную муку. То ли стойкость характера, то ли пятнадцать тысяч флоринов придавали ему несказанную силу духа, и, признаюсь, он даже заставил меня уважать столь достохвальную непоколебимость.
Тем временем, свиное кало начало прегнусно тлеть, а толпа — медленно и неуклонно расступаться от места казни.
— Пускай прокоптится! — кто-то зычно крикнул из толпы. — Ворон отпугивать сгодится!
Никакого движения эфира, если не считать дыхания народа, не происходило, и Великого Магистра скоро окутал удушливый смрад. Мне стало жаль беднягу, когда он, не выдержав-таки столь отвратительной пытки, задергался и наконец испустил из себя струю рвоты, угасившей небольшую часть жертвенного огня, а заодно обдавшей и ящичек с грехами.
Наблюдавшие за казнью епископы все так же держали ослиного Папу подвешенным на веревках прямо напротив адского зева, подобно сладкой приманке. Искушение племени падших духов продолжалось так долго, что в недрах преисподней среди чертей и осужденных грешников успел созреть опасный сговор.
Внезапно ослиный Папа подвергся оттуда мощному обстрелу из пращей, арбалетов и осадных «скорпионов», так что нам самим, стоявшим на помосте, пришлось уворачиваться от костей, яиц, остатков колбас и даже от свежих котяхов.
— Тяните, черти лысые! — заорал Папа своим епископам, но такое повеление могло быть без всяких оговорок воспринято и служителями преисподней, что и случилось.
Рыжие, мохнатые лапища подцепили Папу за ноги и потянули в вертеп. Епископы натужились, пытаясь вытащить попавшего в беду апостолика обратно, на седьмое небо. Тут в дело ринулись и архангелы и, ухватив Папу за руки, принялись оттаскивать его в сторону, так что теперь бедный лудильщик вполне мог оказаться разорванным на части. Он вопил, брыкался и в довершение своих попыток вырваться из когтей демонов дернул за одну из веревок с такой силой, что самый старательный спасатель наверху оступился и кубарем сверзился вниз, прямо на головы и крылья архангелов. Тут народ, невзирая на вонь жертвенного огня, неумолимо распространявшуюся вокруг, скопом полез на возвышение. Между приверженцами и спасателями Папы, с одной стороны, и теми, кто желал его низвержения в пропасти ада, с другой, закипела веселая и поначалу как будто не грозившая кровавым исходом потасовка.
Досталось тут кое-кому и из тамплиеров. Досталось бы и мне, но только Фьямметта крепко потянула меня за руку, и мы, низко пригибаясь и уворачиваясь от ударов и пролетавших со всех сторон предметов праздника, протиснулись сквозь напиравшие ряды воителей и спрыгнули с помоста.
Фьямметта увлекала меня все дальше от вертепа, от ныне зловонного средоточия великолепной Флоренции, и, только оказавшись у самого края площади, я последний раз обернулся. Рыжие и багровые черти уже вырвались из преисподней наружу, и битва между ангелами и силами тьмы была в разгаре. Епископы успели спуститься вниз и доблестно сражались на стороне сильно пообщипанных архангелов. Осужденные грешники, крепя свое осуждение, всеми силами поддерживали адских демонов. Папа то всплывал над битвой, то снова пропадал в глубине, словно какой-то заметный овощ в кипящем котле. Про Великого Магистра тамплиеров, уже поникшего, вероятно, без чувств и, столь же вероятно, крепко прокопченного до самого скончания века, как будто совсем забыли. Золотой Осел, также оставленный без присмотра, неподвижно стоял на вершине покачивавшегося вертепа и смотрел вниз, на людей, тупым и жалостливым взором.
— Пойдемте, мессер! Ну, пойдемте же! — все торопила меня Фьямметта и увлекала куда-то все дальше от кипения адского огня.
Мы перебежали через улочку ювелиров, что дивно сверкала висячими гербами, украшенными снизками поддельного жемчуга, стеклянными изумрудами и рубинами, потом пробрались под неким мизерным подобием триумфальной арки, под которой мог бы гордо проехать на собачке какой-нибудь карлик, и наконец очутились на прелестной зеленой полянке, ярко освещенной солнцем, уже начинавшим клониться с вершины небосвода. Та зеленая и чистенькая полянка лежала в оправе из высоких стен. Всего лишь одно маленькое окошко, да и то явно из какого-то нежилого помещения, открывалось на этот потаенный уголок Флоренции. Ни одного постороннего звука не долетало сюда, и праздничный смрад, на наше счастье, еще не дотянулся до этого крохотного кусочка рая.
Посреди чудесной той полянки, Фьямметта порывисто повернулась ко мне и с преданностью, невыразимой никакими словами, посмотрела мне в глаза. У меня перехватило дыхание, и сердце забилось куда отчаянней, чем от самого отчаянного бегства.
— Мессер! — прошептала она и, подавшись навстречу, робко прикоснулась виском к моей щеке. — Разве вам так уж трудно предъявить братскую любовь еще один раз и при том в уединении? Брат-тамплиер, примите меня теперь в свой Орден по полному уставу. Умоляю вас. Доблестный комтур, я стану вам самым верным оруженосцем.
— Фьямметта! Я люблю тебя! — вырвался наконец ответ у того, кто был окончательно побежден нежной страстью к флорентийской красавице.
— Тогда обнимите меня крепче, мессер! — порывисто вздохнув, повелела Фьямметта.
Я обнял ее и покрыл поцелуями ее лоб и ее глаза цвета спокойного и глубокого моря, освещенного полуденным солнцем.
— Крепче обнимайте, мессер! Крепче! — шептала Фьямметта. — Так крепко, чтобы я запомнила навсегда. Чтобы я запомнила во веки веков, что только по вашей воле я отныне и смогу дышать. Только по вашей воле. Отныне и во веки веков. Ну же, не бойтесь. У меня крепкие кости.
Ее кости и в самом деле оказались чересчур крепки, и моих сил, кажется, все никак не доставало на то, чтобы смирить дыхание Фьямметты и остаться в ее памяти во веки веков. Наконец, надорвавшись, я повалился на траву и увлек ее вместе с собой, теперь уж невольно прибавляя к своим силам и полный свой вес, не слишком-то уж значительный.
И вот моя красавица содрогнулась и испустила такой сдавленный хрип, что я, не на шутку испугавшись, сразу оставил ее в покое. Как наслаждается водой путник в пустыне, добравшийся до колодца, что уже давно снился ему в пути, и ободряется от каждого нового глотка, так и моя возлюбленная ловила губами эфир, изливавшийся на нас с сияющих голубых небес. Грудь ее вздымалась все ровнее и умиротворенней, а в затуманившихся глазах все яснее открывалась дивная морская глубина.
Позволив теперь и самому себе облегченный вздох, я немного подвинулся к Фьямметте, и стал тихонько прикасаться губами то к уголкам ее губ, то к прекрасной шее, то к ресницам, то к прядям волос, с ароматом которых не смогли бы и поныне, и во веки веков сравниться ни мак сорока провидцев, ни голубой кориандр.
Фьямметта, закрыв глаза, улыбалась мне, нежно разглаживая своими прохладными пальцами на моем лице все будущие морщины и рубцы. Так могло бы миновать и мимолетное «ныне», могли бы миновать и «веки веков». Но, увы, кое-какие невзгоды все еще ожидали нас впереди.
— Вот они где, прощеные! — раздался вдруг над нами громоподобный глас, уже хорошо нам известный, а здесь, в маленьком дворике, многократно усиленный теснотою высоких стен.
Мы с Фьямметтой вскочили на ноги и увидели ослиного Папу, стоявшего в устье единственного прохода на улицу. Некогда белоснежные и сверкавшие золотым шитьем папские одеяния были теперь все перемазаны где грязью, где нечистотами. Изрядно помятая, с оторванным в потасовке фаллосом, тиара сидела набекрень и была подвязана широкими тесемками, придававшими Папе особенно глупый вид. Колбасный завиток кадуцея, наверно уже давно покоился в его желудке. По бокам от Папы и за его спиной толпились епископы, видно уже успевшие отслужить не одну мессу Бахусу. Выражения лиц у преосвященных мне совсем не понравились, а больше всего мне не понравились посохи, которые подпирали все это пьяное воинство.
— Вот они где! — важно грозя нам пальцем, повторил ослиный Папа. — Мы-то их в раю обыскались, а они вот где! Опять на грешной земле! Что я велел им, верные мои слуги? — проговорил он, привлекая к себе епископов. — Идите и больше не грешите. Верно?
— Верно! — как шершни в дупле, загудели епископы.
— Выходит, они меня обманули? — досадливо покачал тиарой Папа.
— Обманули! — с удовольствием подтвердили епископы.
— Да еще и девка с ним, верно?
— Верно! — пел нестройный хор епископов.
— Значит, такой-то у этих бедных храмовников обет целомудрия! — продолжал ехидно досадовать ослиный Папа. — А мы-то им поверили. Мы-то их помиловали.
Я вспомнил о деревянных мечах, заточенных накануне, а также о том, как, несмотря на десятикратные просьбы Гвидо, обращенные ко мне, я отказался-таки повесить один из них себе на пояс, отговариваясь тем, что и деревянного ящика с грехами Магистра мне будет достаточно. Короче говоря, мне теперь тоже нашлось о чем подосадовать.
— Где бы теперь мог быть Гвидо? — невольно высказал я вслух свои мысли.
Заслоненная мною от неумолимо надвигавшегося на нас преосвященного воинства, Фьямметта, не теряя хладнокровия, тихо и тоже досадливо проговорила:
— Найдешь его! Может, уже напился.
Папа наступал, епископы заполняли маленький зеленый дворик, а мы, попятившись всего на пару шагов, уже уперлись лопатками в стену, явно требовавшую от меня прекратить отступление и показать неприятелям пример рыцарской доблести.
— Что это вы там бормочите? — полюбопытствал Папа, добродушный вид которого, по моему чутью уже явно не соответствовал его намерениям.
— Да вот шепчет мне сошедший с небес ангел, которого вы, Ваше Стервейшество, случайно приняли за уличную девку, — начал я свою апологию, — что на единственный день в году, как раз на праздник Золотого Осла, открывается в этом самом месте благословенной Флоренции Рай для тех, кто от всей души пожелает его увидеть. Вот и вы, Ваше Свирепейшество, невзначай заглянули в райский уголок, где может отыскаться место и для грешного тамплиера. А еще сказал мне ангел, что в доказательство сего чуда можем мы показать Вашему Свинейшеству удивительные превращения самых никчемных грехов в настоящие золотые флорины.
— Что-то не нравятся мне льстивые речи этого мошенника, — с неторопливой торжественностью проговорил Папа. — Неужто зря пострадал за вас, храмовников, ваш предводитель? И речи мне твои не нравятся, сын мой, и сам ты напоминаешь мне одного негодяя, которому не откупиться от ада никакими флоринами.
— Вот что, Твое Свихнейшество, — придав себе самый серьезный вид, сказал я, когда уже стали нас достигать винные пары «преосвященного» воинства. — Ангела мы отпускаем, и за это тебе и твоей веселой братии пятьсот флоринов на руки.
— Ни за что я тебя с ними одного не оставлю! — горячо прошептала Фьямметта.
Как бы пропустив мимо своих ушей и мимо своего сердца порыв ее чувств, я окончил свое предложение:
— А мы с тобой, Слизнейшество, если желаешь, еще останемся и поговорим.
И я принялся неторопливо снимать с плеч тамплиерский плащ, совсем неудобный в сражении с пьяными лудильщиками.
Тут Фьямметта, словно ястреб, вцепилась мне в руку.
— Отпусти! — рявкнул я на нее. — Прошу тебя, только не мешай!
Циклопий глаз Папы, вперившийся во Фьямметту, пылал вожделением. Посохи уже не подпирали епископов, а, оторвавшись от грешной земли, угрожающе покачивались в их руках. Медлить было нельзя.
— А вот мы сейчас проверим, откуда взялся такой ангелок, — проговорил Папа, придавая своему уже совсем хищному оскалу вид умильной улыбки. — Проверим, где у него там флорины припрятаны вместо грешков. Нам-то известно, что должно быть у ангелочков за пазухой и вот тут.
Не успел он похлопать себя по срамному месту, как я ринулся в бой. Вмиг перевернувшись через голову, и тем ошеломив воинство, я вырвал посох из рук ближайшего ко мне и, на мой взгляд, самого крепкого верзилы и так треснул его по носу, что грязная физиономия сразу украсилась роскошной красной розой.
Опомнившись, преосвященные принялись вовсю размахивать и своим оружием. Я отбивал их удары, плющил уши и крушил челюсти, но и мне самому тут доставалось изрядно — пока только по плечам и лопаткам, а голову еще удавалось сберечь.
Внезапно раздался пронзительный крик Фьямметты. Обернувшись, я узрел, что двум пьянчугам удалось-таки проникнуть мне в тыл. Остальные теснили меня в сторону, а те двое свалили Фьямметту у стены навзничь и, придавив ей руки коленями, уже с остервенением разрывали на ней одежду. Ослиный Папа трясся от нетерпения, прыгая около них и задирая свой подол выше пупа.
Собрав все силы, я растолкал нападавших и, очутившись рядом с лудильщиком, ударил его палкой снизу, прямо между ног. Он завизжал, как резаный поросенок и откатился куда-то в сторону, а я, тем временем, успел достать посохом затылок одного из насильников, а другого, ближнего, схватив за шиворот, использовал в виде боевого тарана: основательная брешь в стене нам с Фьямметтой очень бы теперь пригодилась.
В тот же миг, однако, достали и меня самого. Я получил оглушительный удар по темени, второй — в скулу, и, наконец, пришедший в себя верзила с алой розой вместо безобразного носа, успел добраться до меня, пока я отмахивался от темных кругов, вертевшихся в моих глазах. Вместо благодарности за исправление природного недостатка он схватил меня сзади и с такой силой шлепнул об стену, что мне показалось, будто уже по другую сторону стены, не пользуясь никакой брешью, вылетела на улицу моя душа.
Однако мое бренное тело все еще не желало сдаваться. Едва не размозженное, лишившееся всех чувств, оно еще смогло повернуться и ткнуть палкой верзилу, попав ему наугад прямо в кадык. Тут враги принялись бы за меня вновь и наконец доломали бы и истолкли все мои косточки, если бы внезапно не раздался всевластный и громоподобный глас, в сравнении с которым все повеления Папы действительно показались натужным криком осла против спокойного рыка в меру разгневанного берберийского льва.
— Всем стоять! — прогремел Юпитеров глас. — Именем закона и народа Флоренции, стоять всем на месте!
И такую власть возымел тот глас над всеми сражавшимися в райском дворике, что епископы остолбенели, а моя душа, без всякого труда проникнув обратно сквозь стены, живо соединилась с моим телом, дабы скорее удержать его на месте и в стоячем положении.
Прозрев в единый миг, я увидел в устье дворика удивительную фигуру в очень широком балахоне плакальщика и в капюшоне, скрывавшем все лицо, кроме мощного, выдававшегося вперед подбородка. Рядом с неизвестным стоял пожилой, довольно упитанный священник, боязливо поглядывавший то на оцепеневших драчунов, то на таившего свою личность пришельца.
Воспользовавшись спасительной заминкой, я схватил Фьямметту и вырвал ее, и вырвался сам из зловещего кольца «преосвященных». Теперь с одной стороны было четверо — мы с Фьямметтой и двое необычных пришельцев, а с другой — полдюжины целых и полдюжины раненых негодяев.
Ослиный Папа закряхтел, и двое епископов помогли ему подняться с четверенек.
— А это что еще за пугало?! — послышался его сиплый, однако все еще — надо отдать должное его актерским способностям — слащавый и как бы совершенно доброхотливый голосок. — Ну-ка, вытряхните из мешка этого горлопана. Хочу посмотреть, что еще за архангел свалился на наши головы.
Я крепко сжал в руках обломанный посох и был готов дать врагу последний отпор и умереть на этом оскверненном алтаре моей любви, но тут вдруг за нашими спинами послышались боевые кличи, раздался топот наступающей конницы, и во дворик ворвалось — правда, без коней — доблестное воинство тамплиеров во главе с маршалом Ордена Гвидо Буондельвенто.
Фьямметта вскрикнула от радости и захлопала в ладоши, а Гвидо принялся крушить всех деревянным мечом направо и налево, без разбора. Вероятно, кто-то, недавно заглянув сюда, успел оповестить Гвидо о том, что обижают его сестру и лупят самого комтура, и он, совершенно озверев от гнева, примчался жестоко наказать всех, кого застанет на месте преступления, кроме нас самих.
— Гвидо! Стой! Это свои! — услышал я звонкий голос Фьямметты, уже бросившейся на защиту наших спасителей. — Дурень! Протри глаза!
В моих же глазах снова поплыли темные круги, и я поспешил скорее опереться на обломок посоха. Священник и человек в балахоне подхватили меня под руки и повели прочь от отчаянного побоища, кипевшего на крохотной полянке нашего с Фьямметтой Эдема, откуда мы были столь немилосердно изгнаны — и вовсе не Всемогущим и Всеблагим, а самыми захудалыми бесенятами, осквернившими чудесное место. Вот когда я получил самое первое и самое твердое убеждение в том, что по своему желанию никакого рая на грешной земле не воздвигнешь.
Я помню, как меня выносили из темной подворотни на улицу и прежде, чем лишиться чувств, я еще шевелил ногами, пытаясь отряхнуть с них прах покинутого мною царства.
Меня вызвали к жизни слова, чеканно произносимые тем же гласом, что возымел власть над неудержимой стихией войны и насилия. Каждое слово падало в мою душу, словно капля воскрешающей влаги, хотя общий смысл тех слов, соединенных в строки, удалялся все дальше от обещания счастливой жизни.
«…Здесь страх не должен подавать совета.
Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда».
Столь невеселые посулы могли быть обращены и вовсе не ко мне, поскольку в те мгновения я и сам вполне бы сошел за томящуюся в муках тень, что давно утратила свет разума. В предыдущее, и трудно сказать, какое по счету, свое воскрешение я мог открыть глаза, но не хотел; теперь же хотел, но не мог: казалось, что тяжелая глина давит на мои веки.
«Если только обещают ад, значит, ад еще не здесь», — утешила меня тень моего рассудка, вызванная мною, тоже словно бы из подземной пропасти. Все мои чувства подсказывали мне, что ад, однако, неподалеку. Какие-то неприкаянные тени проносились передо мной. Кривые, оскаленные, окровавленные рожи пялились на меня. Вспыхивали, смешивались и гасли какие-то совершенно невероятные картины и события. Мощные волны подбрасывали объятый пламенем корабль, к мачте которого был привязан настоящий великан в рыцарских латах и белом плаще, а над ним среди туч мелькали всадники-тамплиеры, сражавшиеся с безобразным воинством. И от ударов рыцарей валились в море с облаков хвостатые бестии и тела в епископских одеяниях. Потом вдруг оказывалось, что море полно до самых туч не водой, а дерьмом, и я в нем болтаюсь по самую шею, вроде поплавка. И вот, задрав голову, я увидел стол, ломившийся от блюд, а у стола, на парчовом ложе, возлежал надо мной Лев Кавасит, который, наконец повернув голову и заметив меня, добродушно улыбнулся и протянул мне руку, чтобы вытащить меня из колыхавшихся нечистот.
Как раз в эти мгновения чеканный глас произносил такие слова:
«Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений,
И обернув ко мне спокойный лик,
Он ввел меня в таинственные сени.
Там вздохи, плач и исступленный крик,
Во тьме беззвездной были так велики…»
И вдруг рука Льва Кавасита превратилась в ужасную мохнатую лапищу, и та бесовская лапища вместо меня ухватила сразу за обе руки Фьямметту и потащила ее вовсе не к столу с яствами, а прямо в разверзстый зев адского вертепа.
Все никчемные богатства моей памяти я готов был тут же признать за фальшивый блеск бессмысленных сновидений, все, кроме одного дорогого мне лика. Все, что я помнил, безо всякого сожаления я был готов вернуть Морфею, кроме образа моей Фьямметты, кроме ее прекрасных глаз.
«…Что поначалу я в слезах поник,
— продолжал неведомый голос. -
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх…»
Я содрогнулся, увидев, как бедная Фьямметта исчезает в адской пропасти и невольно вскрикнул:
— Нет!
Теперь уже бескрайнее море боли охватило меня и подняло на самой высокой и гневной волне.
— Мессер, он уже очнулся, — послышался совсем рядом тихий и милосердный шепот.
— Надо дать ему воды, святой отец, — приглушенно, но при том и подобно рокочущему в отдалении грому, произнес в ответ тот самый глас, который спас меня уже, по всей видимости, дважды.
— Вот, мессер, я уже поставил, — снова послышался первый голос, и моего лба коснулась мягкая и теплая ладонь. — Сын мой, позвольте приподнять вам голову.
Последние слова были уже несомненно обращены ко мне, и я, с трудом разлепив веки, увидел перед собой мутное облако, вскоре принявшее определенные очертания. Надо мной стоял, склонившись, тот самый священник, который сопровождал загадочного человека при его опасной миссии на место побоища.
Глоток воды в один миг смыл с моей души власть тягостных сновидений.
— Как вы себя чувствуете? — ласково улыбаясь, спросил священник.
— Жив, слава Богу, — преодолевая боль в груди, ответил я. — Вашими молитвами, святой отец.
— Слава Богу! — искренне обрадовался священник и быстро перекрестился.
— Раз до сих пор кровь ртом не пошла, значит будете жить, доблестный юноша, — раздался за его спиной тот самый властный глас.
У священника на лице появилось растерянное выражение, и он невольно посторонился.
Теперь надо мной возвышался мой главный спаситель собственной персоной. Капюшон его траурного балахона был откинут на спину, и я смог наконец рассмотреть его благородные черты. На вид незнакомцу было лет сорок пять или даже пятьдесят. Линии его довольно узкого лица были очень резки и словно высечены из белого мрамора рукою самого искусного и уверенного в своем резце римского ваятеля, который вплоть до этой фигуры запечатлевал в камне только императоров и непобедимых полководцев. Высокий, с продольными неровностями лоб несомненно свидетельствовал о ранней старческой мудрости; сжатые, прямые губы и подобный тарану подбородок — о непоколебимой воле и, вероятно, известном деспотизме характера; выдающийся нос с горбиной — о последовательности устремлений, выходящей в упрямство. Взгляд его глубоко посаженных глаз был столь проникновенен, повелителен, но одновременно скорбен и полон такого искреннего сострадания, что как бы и усиливал, и, напротив, разом оправдывал все неумеренности грозного характера.
— Я рад приветствовать вас, доблестный воин! — чересчур торжественно, но при том безо всякой насмешки произнес незнакомец. — Надеюсь, вы уже готовы представиться, а потому я с удовольствием сделаю это первым. К вашим услугам, благородный юноша, не кто иной, как Данте Алигьери, гражданин благословенной Флоренции, который, подобно одному из пророков, был изгнан из нее за то, что, может быть, любил ее немного больше, чем правители, способные не к любви, а лишь к заключению брачного контракта, и желал ее процветания и благополучия немного больше, чем здешние торговцы, отдающие предпочтение лишь процветанию своих желудков и кошельков.
— Ах, мессер, мессер! — не выдержав, запричитал священник, качая головой. — Что же вы тут такого наговорили!
Не дав мессеру Алигьери продолжить свою речь, он подскочил к ложу, на котором я был распростерт, и, касаясь указательным пальцам своих губ, торопливо осведомил меня:
— Сын мой, не забывайте, что мессер спас вас от смерти, но ему самому грозит смерть в этом городе. Он находится в пожизненном изгнании по приговору суда, и никто не должен знать, что ему удалось на краткий срок проникнуть во Флоренцию.
— Следом за мной не узнает никто, клянусь честью, — пообещал я и поспешил спросить о главном. — Но где Фьямметта?
— Ваша Дама под надежной защитой, — очень убедительно ответил мне мессер Алигьери. — Полагаю, теперь она тщательно принаряжается, чтобы во всем блеске показаться своему спасителю. Вы так отважно сражались за нее с несметным числом врагов, что отказать вам в помощи было бы для меня бесчестьем перед самой Флоренцией.
— Услышав шум, я первым выглянул в маленькое окошко и увидел это ужасное нападение на вас, — тут же сообщил и о своей лепте мягкосердечный священник. — Ах, когда же наконец запретят эти отвратительные, празднества, эти языческие буйства! И вот скажу вам, сын мой, я прямо-таки хватал мессера за одежду, так боялся, что дело добром не кончится для всех нас. Но мессер, скажу я вам, двинулся на них, прямо как Давид на Голиафа. И все обошлось, хвала Провидению.
— Обошлось, если не считать, что юному Патроклу пустили кровь в трех местах на голове и сломали пару ребер, — совсем не шутя, тем же важным тоном уточнил мессер Алигьери. — Когда вы бились с этими дьяволами, доблестный рыцарь Роланд, мне вдруг представилось, что именно в таком положении, посреди тесного дворика, и мне самому некогда пришлось отстаивать честь моей прекрасной Флоренции. То был такой же неравный бой. Но каково же ваше имя, мой отважный друг?
— Мессер, называйте меня Джорджио, пока просто Джорджио, — ответил я. — Вы, мессер, открыли мне свое имя в положении весьма для вас опасном и тем обязываете меня говорить чистую правду. Правда в том, что мое исконное имя скрыто пока за семью печатями. Это долгая история, и у меня теперь нет сил поведать ее целиком, но я обещаю вам рассказать ее, как только приду в себя.
В распахнутое окошко, под которым я и был положен, донеслись вдруг отчаянные крики и отдаленный грохот. Священник опасливо выглянул наружу и перекрестился.
— Что там происходит? — спросил я.
— Ужасное побоище, — вздохнул священник. — После нынешнего омерзительного поклонения Ослу наш Всемилостивый Господь отвернулся от народа и лишил его разума. Вот народ теперь, обезумев, и занимается самобичеванием. Лудильщики и мясники объединились против суконщиков, но те оказались сильнее и загнали своих врагов в их квартал, за стены. Отсюда теперь можно видеть, как с квартальной башни мясников то и дело швыряют в осаждающих всякую рухлядь: сломанные бочки, колеса, корзины. А вон я вижу, — уже увлеченный своим дозором, рассказывал мне святой отец, — этих проклятых «архангелов», прости меня Господи. Им бросили сверху веревки, и они пытаются забраться по ним в ближайшее окно. Вот один сорвался! Боже мой, прямо головой об телегу!
Выходило, что все события и картины, какие я безо всякого сомнения мог бы записать в анналы причудливых сновидений, вызванных не чем иным, как демоническими чарами, запомнились мне в самой подлинной яви!
— Тамплиеров не видно? — полюбопытствовал я вдобавок.
— Какие теперь тамплиеры! — отмахнулся священник. — Там теперь один черт их разберет, прости меня Господи. Ага! Вот, наконец, и отряд городской стражи!
При этих словах священник спохватился и бросил опасливый взгляд на мессера Алигьери, но у того при упоминании о страже не дрогнула в лице ни одна жилка; святой отец тогда облегченно вздохнул и добавил:
— Ну, скоро потасовке конец.
Не успел он успокоиться, как за дверьми послышался шорох, будто начал скрестись какой-то зверек.
— Я же предупредил служанку, чтоб доносила! — сделав страшные глаза, прошептал священник.
Мессер Алигьери накинул на голову капюшон и быстро скрылся в каком-то потайном ходе или отделении комнаты.
Священник тихонько отодвинул засов, видно надеясь выглянуть в крохотную щелку, но дверь тут же распахнулась настежь, а он сам, прямо как мячик, отскочил в сторону.
Фьямметта, моя прекрасная Фьямметта, блистающая красотой и любовью, одетая, как в храм на венчание, невиданной райской птицей ворвалась в эту убогую комнатушку и озарила ее небесным сиянием!
От ослепительного сияния ее роскошных одежд и блеска ожерелья моим глазам стало больно. Слезы тут же увлажнили их, и Фьямметта объяснила мои слезы вовсе не собственной ослепительностью.
— О, мой милый, мой несравненный Джорджио! — горестно воскликнула она, бросилась к моему ложу и оцепенела в самой непростительной близи от поцелуя, так и не коснувшись меня губами: такой совершенной аллегорией боли выглядело мое распухшее от ударов лицо.
Фьямметта отстранилась и, закрыв свои глаза ладошками, прошептала:
— О, Боже, что же с тобой сделали эти изверги!
— Ему уже лучше, сударыня, — постарался утешить ее священник. — Он попил воды и даже поговорил с нами. Со мною то есть.
В таком же отчаянном порыве Фьямметта вдруг бросилась на колени перед ним и огласила тесное жилище настоящим воплем кающейся души.
— Я грешна, святой отец! Я так грешна! Я во всем виновата! Только я одна виновата, что он так пострадал, святой отец!
У меня не было сил, чтобы перекрыть своим голосом эти крики и донести до судии свое суждение по этому делу.
Священник невольно отодвигался от Фьямметты, а она схватила его за нижний край сутаны и принялась целовать ее и мочить слезами.
— Я каюсь, святой отец! Я каюсь! — восклицала она. — Я сама соблазняла его, он ни в чем не виноват! Это я, переодевшись в мужское платье, целовала его в губы, как своего любовника, при всем народе. Я завлекла его в этот уединенный двор, ибо мое сердце пылало от вожделения! Я каюсь в своих грехах, святой отец! Каюсь во всем, только не каюсь в своей любви к нему! Я не могу каяться в любви, святой отец, даже если за нее мне будут грозить самым глубоким дном Тартара и самыми страшными муками в огне.
— Зачем же каяться в любви, сударыня? — ласково, однако же с некоторой оторопью, отвечал ей священник. — Господь благословляет истинную любовь и законный брак.
— Я обещаю вам, святой отец, больше никогда не прижиматься к нему с желанием и буду целовать только в лоб до того самого дня, когда он, если того захочет, поведет меня под брачный венец, — твердым голосом произнесла Фьямметта, повергнув меня в великое смущение. — Я раскаиваюсь в своих грехах, святой отец. Умоляю вас, отпустите мне скорее мои грехи. Они так и давят мне на сердце.
— Сударыня, здесь не слишком подходящее место для священного таинства, — без упрека проговорил священник. — Приходите назавтра ко мне в храм.
Фьямметта разразилась неудержимыми рыданиями, а, едва уняв потоки слез, обессилено прошептала:
— Святой отец, я чувствую, что ему тяжелее от моих непрощенных грехов. А вдруг ему станет хуже! А вдруг он совсем умрет! Я ни на миг не переживу его смерти! Сжальтесь надо мною, святой отец, умоляю вас!
— Ваш возлюбленный не умрет, сударыня, — раздался вдруг голос мессера Алигьери. — Поверьте моему слову, Смерть еще не скоро отыщет его имя в своем списке.
Оба — и Фьямметта, и священник — вздрогнули и направили свои взоры в сторону потайного хода, откуда уже выступил, подобно грозному посланцу небес, наш великодушный спаситель.
— Ох, мессер, мессер! — вновь испуганно и сердито забормотал священник. — Что же вы такое делаете?!
Фьямметта, раскрыв свой прелестный ротик, неподвижно смотрела на пришельца и вдруг встрепенулась:
— Мессер Алигьери! — ошеломленно сказала она. — Так ведь вас же…
Тут она запнулась и, ахнув еще раз, закрыла лицо руками.
— Как я рад, сударыня, что вы запомнили меня, еще будучи несмышленым ребенком, — улыбаясь, проговорил мессер Алигьери. — Вот сейчас святой отец обязательно скажет вам, что меня здесь вовсе нет, что вам показалось, а если и показалось, то лучше вам будет никого в такие грезы не посвящать, а то, неровен час, вас обвинят в колдовстве.
— Мессер Алигьери, я очень рада видеть вас, — быстро справившись с собой, сказала Фьямметта с большой учтивостью и весьма изящно поклонилась таинственному гостю.
— Вот видите, святой отец, — развел руками мессер Алигьери. — А вы боялись. Ко всему прочему, прошу вас, не стойте тут, подобно каменному доминиканцу, и в самом деле отпустите несчастной не такие уж и великие, если рассудить по чести, грехи. Господь видит всех нас сверху, и не думаю, чтобы Он наслаждался теперь муками неутоленного раскаяния прекрасной госпожи Буондельвенто, ведь в ее сердце нет лицемерия.
Священник сначала немного покряхтел и повздыхал, а потом все-таки произнес над смиренно преклонившей колени Фьямметтой священные слова разрешительной молитвы.
Фьямметта поцеловала святому отцу руку, тут же бросилась целовать руки мессеру Алигьери, и, едва тот успел отнять их и спрятать за спиной, как она уже оказалась передо мной, озаряя меня своим взглядом, так и сиявшим от счастья.
— Посмотрите, посмотрите скорей! — воскликнула она. — Ему уже лучше!
И она наклонилась надо мной, и очень трепетно, очень невинно коснулась губами моего лба.
Мне действительно было уже лучше, уже гораздо лучше. Но не успел я и слова сказать моей прелестной, очистившейся от всех прошлых грехов Фьямметте, как раздался условный стук в дверь, и священник торопливо прислонив ухо к щели, узнал от своей служанки, что перед домом стоит Тибальдо Сентилья и требует, чтобы его пустили к больному. Все взоры обратились ко мне.
— Я готов узнать, чего он хочет, но только по позволению мессера Алигьери, — сказал я.
— У людей Ланфранко лучше не вызывать подозрений, — рассудил мессер Данте Алигьери. — Я укроюсь и обещаю вам, святой отец, не показывать своего чересчур большого носа. А вы, мой доблестный друг, можете принять этого, как я вижу не слишком желанного гостя.
Священник встал в стороне, загораживая своим тучным телом тайный проход, а Фьямметта, напустив на себя весьма холодный и величественный вид, воссела у моего изголовья.
Спустя несколько мгновений с лестницы донеслись неторопливые шаги, дверь открылась, и в комнату вошел сам трактатор Большого Стола Ланфранко, бывший «Великий Магистр» Ордена тамплиеров Тибальдо Сентилья.
Он был разодет так, будто шествовал прямо на королевский прием. Роскошный порпуэн ярко алого цвета, сверкавший золотыми лилиями и простеганный золотыми же нитями, так и вздувался у него на груди. Тяжелая цепь не менее, чем за полтысячи флоринов, охватывала его шею. Орлиное перо отважно торчало из его берета; на поясе был подвешен меч, мерцавший узорчатым эфесом; обтягивавшие его стройные ноги штаны, что были скроены из самого тонкого, лоснившегося сукна, светились такой непогрешимой белизной, будто и весь Сентилья произрастал из самородка наиболее чистой и совершенной материи, оставшейся от первых дней творения мира.
Не успел он сделать и шага, как с его стороны накатилась на меня такая сокрушительная волна благовоний, что я едва не лишился чувств. Судя по тому, как гневно засопела Фьямметта, ей тоже пришлось туго. Казалось, что Сентилья весь, с головы до ног, натерся амброй, а заодно прокоптился на дровах из сандалового дерева.
— Я рад приветствовать вас, мессер, — обратился он ко мне и подступил ближе.
С двух шагов сквозь чад благовоний пробился и другой запашок, от прошлого копчения. Фьямметта сердито шуршала своим платьем и хмыкала, отвернувшись к окну.
— Соболезную по поводу ваших ран, — продолжил Сентилья свою речь самым невозмутимым тоном, — и надеюсь, что по Божьей милости, вы скоро выздоровеете.
Я учтиво поблагодарил бывшего «Великого Магистра».
— Я также рад приветствовать вас, сударыня, — не менее учтиво обратился Сентилья к Фьямметте Буондельвенто, — и прошу принять мои уверения в полном к вам почтении.
Взглянув на меня, Фьямметта ответила своему давнему недругу тоже вполне вежливым образом.
— Уведомляю вас, сударыня, что ваш брат арестован, — неторопливо проговорил Сентилья и, понаслаждавшись смятением девушки, добавил весьма покровительственным тоном: — Однако я с нетерпением ожидаю завтрашней аудиенции у верховного судьи. Покончив с делами дома Ланфранко, я замолвлю словечко о вашем брате. В последнее время судья проявляет ко мне некоторую благосклонность, и я надеюсь, что вся эта история обойдется вашему брату в не слишком обременительный штраф.
С этими словами Сентилья фамильярно подмигнул мне, и я даже был не прочь подмигнуть ему, но огромная опухоль на моем глазу не поддавалась такому фокусу.
— Благодарю вас, мессер, — снова обратился он ко мне. — Я ваш должник. Вам удалось-таки вышибить последний глаз этому негодяю.
— Как «вышибить»?! — так и встрепенулся я, и был вновь повержен на ложе нестерпимой болью, охватившей все мое тело.
— Как так «вышибить»?! — вторила мне Фьямметта. — Джорджио только и стукнул его как следует туда, куда надо было, а глаза совсем не выбивал. Этот старик еще прекрасно видел нас, когда мы уходили со двора.
При упоминании о моем новом имени Сентилья удивленно приподнял брови и пристально посмотрел на меня, однако, не найдя на моем крепко побитом лице никакого определенного ответа, пожал плечами.
— Так или иначе, он остался теперь без глаза, как циклоп, ослепленный Одиссеем, — сказал он, — и ко всему прочему засажен в тюрьму за насилие.
Признаюсь, что мы с Фьямметтой тут горестно вздохнули, пожалев о несчастной участи этого, хоть и зловредного, но все же довольно остроумного балагура.
— Прежде, чем удалиться, я желал бы взбодрить ваш дух, мессер, добрым известием, — добавил Сентилья, поглядывая то на меня, то на Фьямметту с недоумением. — За минувший час я уже успел переговорить с некоторыми из посвященных в дело людей, и, как только вы оправитесь от ран, я смогу без промедления привести вас к занимающему ваши мысли человеку. К сожалению, мессер, обстоятельства сложились так, что явиться к вам и представиться самолично он никак не может.
— Кто к кому явится первым, не имеет никакого значения, — поспешно проговорил я в изрядном волнении, а потому вновь был вынужден отражать приступы телесной боли. — Во-первых, важна полная конфиденциальность. Во-вторых, необходимо, чтобы этот человек сумел доставить меня во Францию на должное место, установленное согласно первоначальному замыслу. Таким образом, мне самому ничего не остается как только полностью довериться вам, синьор Сентилья, и тому лицу, о котором вы сообщаете. Впрочем, условие вам известно: в том случае, если я буду избавлен от ловушек, вы и тот человек получите весьма солидное вознаграждение.
Пока я говорил, Сентилья стоял надо мной, так и вперившись в меня хитрым и очень проницательным взглядом. Дважды — при упоминании о пути во Францию и о вознаграждении — на губах его появлялась тонкая и многозначительная улыбка. Я давно знал, что, задумав отправиться во Флоренцию к Сентилье, начинаю всерьез искушать судьбу, а потому при виде такой улыбки нарочно отогнал от себя всякие подозрения.
— Первое обеспечено, даю вам слово чести, — ответил Сентилья. — Второе, как я полагаю, теперь тоже не составит труда.
Замечу, что Фьямметта, услышав про «слово чести» очень презрительно фыркнула, ничуть, впрочем, не поколебав бесстрастия Тибальдо Сентильи. Она с большой тревогой прислушивалась к нашему непонятному для нее и таившему какие-то опасные тайны разговору, а услышав про Францию, побледнела и не смогла сдержать порывистых вздохов.
— Не беспокойтесь, мессер, — твердо сказал Сентилья как бы даже назло Фьямметте. — Остаток дня я потрачу на то, чтобы уладить дела окончательно.
— Благодарю вас, синьор Сентилья, — сказал я.
— Если вам, мессер, потребуется какая-либо помощь, я всегда к вашим услугам, — проявил Сентилья преизбыток любезности, бросая снисходительные взгляды на Фьямметту. — В моих силах предоставить вам жилище, гораздо более способствующее выздоровлению.
Фьямметта взвилась бы ястребом, если бы я, подвигнувшись на неимоверное усилие, не сжал ее руку. Когда Сентилья удалился, она еще долго сидела в безмолвном оцепенении и наконец проговорила, не скрывая душевных мук:
— Франция. И зачем только нужна эта глупая Франция?!
— Увы, нужна, — так и не угасил я огорчения моей красавицы. — Пока еще, милая Фьямметта, я прикован к ней цепью, как гребец к галере. Только галера очень большая, а цепь очень длинна. Сначала мне нужно добраться до другого конца цепи. Там, по моим расчетам, найдутся молот и железный клин.
— Но ведь Сентилья твой враг, ты сам говорил! — все трепетала и от тревоги, и от недовольства моя Фьямметта.
— Месть уже свершилась, — сказал я моему ангелу. — К тому же такие люди, как Сентилья, имеют склонность покорно подчиняться силе и власти, которую не могут поколебать. Ты видела, какие поклоны отвешивал этот спесивец?
— Да, — вовремя и веско подтвердил мои слова повелительный голос мессера Алигьери, теперь вновь присоединившегося к нашему обществу. — Чтобы люди из дома Ланфранко проявляли столь похвальную учтивость, нужно быть весьма значительным лицом в этом городе. Честно признаюсь, меня самого теперь одолевает робость, столько намеков на какие-то великие тайны мне пришлось невольно услышать из-за двери.
— Я обещаю вам ночь необычайной истории, — обязался я перед теми людьми, которые внезапно стали для меня самыми близкими на свете.
Поначалу я действительно был плох, и тайный совет решил оставить меня на время в доме священника, дабы не тревожить лишний раз ни моего воистину бренного тела тягостным переездом, ни любопытства весьма остроглазых флорентийцев.
Благодаря не прерывавшимся ни на миг хлопотам и заботам Фьямметты, готовившей мне лечебное питье, тысячу раз менявшей всякие живительные припарки и компрессы и — вдобавок к искусному врачеванию — осыпавшей мне лоб тысячами поцелуев, я уже на третий день смог самостоятельно сесть на постели и подложить под спину и голову подушки подобающим для значительного лица образом.
В ту же ночь я и рассказал всем троим — мессеру Алигьери, священнику, которого звали Угуччоне Лунго, и наконец моей прелестной Фьямметте — свою полную чудес историю в том самом виде, в котором эта история, еще не завершенная к тому дню и к тому же перемешанная со сновидениями, запечатлелась на свежих папирусных листах моей памяти.
В продолжении всего рассказа, а длился он не менее трех часов, не изменилась ни одна складка на траурном балахоне мессера Данте Алигьери. Он словно бы превратился в мраморное изваяние, и только его глаза сияли каким-то неземным светом, почему мне казалось, будто он без труда прозревает потустороннюю суть вещей и легко разоблачит передо мной все тайны, стоит мне только добраться в своем путешествии до дома священника Угуччоне Лунго и закрыть рот. Сам священник, в противоположность мессеру Алигьери, пребывал в постоянном движении, вернее — в зримом трепете. Он поминутно осенял себя крестным знамением и призывал Господа Бога, всех его сил бесплотных и всех его святых. Фьямметта, словно держась примера мессера Алигьери, как и он, замерла по правую от него руку в царственной неподвижности и только беспрерывно теребила пальцами голубенький кружевной платочек, порой даже норовя надорвать его край.
Разумеется, я упустил из рассказа самую замечательную ловушку, что ожидала меня по приезде во Флоренцию, но также заменил и Акису Черную Молнию неким наиболее опасным ассасином. Однако я все же весьма опрометчиво упомянул Акису, когда она появилась на храмовой площади Трапезунда с целью убийства императора, да и то уточнил, что дело происходило вовсе не в яви, а в ночном бреду. Однако женского сердца не обманешь: Фьямметта сразу почуяла неладное, что-то про себя надумала и опустила взгляд. Я успел заметить, что глаза ее заблестели, и заблестели той самой женской росой, что опаснее любой отравы. Мне оставалось только взять себя в руки и невозмутимо продолжать свое повествование.
Когда я дошел до конца последней, написанной к тому часу страницы и, закрыв рот, стал переводить дух, мои слушатели потом еще долго сидели в молчании. Священник все поглядывал на мессера Алигьери, ожидая, как и я, что глава нашего общества произнесет об услышанном первое и самое веское слово. Однако мессер Алигьери, казалось, никак не мог оторваться от духовного созерцания каких-то таинственных и величественных картин и теперь явно был способен безмолвствовать в полной неподвижности хоть до скончания века. И вот святой отец не вытерпел и, изрядно покряхтев, решился заговорить первым.
— Вот так чудеса творятся на свете! — качая головой и разводя руками, оценил он по достоинству мой рассказ. — Скажу я вам, сын мой, что моих лет втрое больше вашего, а за всю мою жизнь не случалось со мной ни во сне, ни наяву ничего такого, что при общем подсчете хватило бы для сравнения хотя бы с одним днем вашей жизни. Я бы и не поверил вам, не знай наперед историю мессера Алигьери, не менее удивительную, чем ваша.
Тут я посмотрел на мессера Данте Алигьери не просто с надеждой, а прямо-таки с мольбой о помощи. Он же глядел сквозь меня и сквозь стены дома в пространства, отдаленные от грешного мира: сияние недоступных сфер и покой безбрежных вод отражались в его глазах.
— Что же мне делать? — невольно вопросил я окружавших меня людей, вновь теряя упование на свои собственные силы.
— Слишком мудреного я вам не посоветую, сын мой, — участливо проговорил святой отец Угуччоне Лунго. — Я простой клирик, приход мой невелик, и ходят ко мне исповедывать свои грехи по большей части вдовы да разные юные особы. — Тут он с осторожностью взглянул на Фьямметту, которая старательно избегала моего умоляющего взгляда. — Однако иной вдове, — продолжал священник, — в иную плохую ночь, бывает, такое привидится, что и вам, сын мой, икнулось бы от ее рассказа. Мне известно только одно средство от любого помрачения: искренняя молитва. Молитесь, сын мой, чаще, просите Господа нашего Иисуса Христа избавить вас от непосильных искушений, и уверяю вас, что, даже если вы вовсе потеряете сознание и всякое разумение происходящего, то и тогда Господь не оставит вас по вашему прошлому молитвенному упованию. Молитва — не флорин, не стирается и не уходит в чужие руки. Молиться, сын мой, возможно даже в глубинах ада. Вот мессер Алигьери подтвердит мои слова. Но если в глубинах ада вас настигнет взгляд самого князя мира сего, и от того взгляда вас охватит уже вовсе непреодолимый ужас, сковывающий уста и поражающий рассудок и память, то знайте, сын мой: и тогда вашу молитву, хотя бы одну единственную, но произнесенную ранее от всего сердца, не осилит власть темного духа. Та молитва будет как бы жить за вас и связывать вашу душу золотой нитью с небесами вплоть до самого Судного Дня, когда все тайное станет явным и память будет возвращена всем нам самой полной мерой. Не страшитесь, сын мой.
— Вот правда! Святой отец говорит правду, — раздался вдруг грозный глас мессера Алигьери, и от этого гласа вздрогнули мы все: и священник, и Фьямметта, и я.
Мы обратились к мессеру Алигьери, однако он вновь замер в созерцании неведомых сфер.
— И вот, что я вам еще посоветую, сын мой, — добавил святой отец, видя, что дожидаться новых откровений от мессера Алигьери можно еще долго. — Исповедуйтесь, как положено, и приобщитесь Тела Христова, а потом уже смело отправляйтесь в дальнейшие странствия, раз уж цель их представляется вам столь важной и благородной.
Первым ответом на его слова был печальный вздох Фьямметты.
— Да ведь мне даже не известно, крещен я или нет! — горестно воскликнул я, вторя Фьямметте своим, столь же печальным вздохом.
Священник нахмурился, опустил взгляд и некоторое время сидел, пожевывая мясистые губы.
— Если ваше чуткое сердце не обманывает вас, сын мой, и вы действительно родились и провели младенческое время вашей жизни во Флоренции или в какой-нибудь иной христианской земле, то несомненно вы были крещены, — так, подумав, рассудил священник. — Однако ваша история столь необычна, что можно сомневаться во всем. Я хотел бы предварительно поговорить с епископом.
При слове «епископ» я невольно передернулся, и был рад, что святой отец не заметил моего греха.
— Я мог бы сказать ему, — продолжал он, — что вы остались сиротой, с малолетства обретались на Востоке среди неверных и не ведаете, была ли принята вами благодать Божья во святом крещении. Полагаю, что его высокопреосвященство предпочтет повторное осуществление таинства. Тогда и моя молитва за вас, сын мой, окажется куда более действенной.
— Тогда и я буду молиться день и ночь, — кротко прошептала Фьямметта, — и укреплю мою молитву строгим постом.
— Не переусердствуйте, дочь моя, — ласково обратился к ней священник. — Под венцом вы должны оказаться розочкой ухоженной и полной жизненных соков. Уж позвольте мне самому поруководить вашими трудами.
Некоторое время мы молчали, и у меня в продолжении той тишины, проникнутой самыми добрыми чувствами, почти нестерпимо разгорелось лицо. Признаюсь, что, мы с Фьямметтой теперь оба прятали друг от друга глаза, и старый священник наблюдал за нами с нескрываемым удовольствием.
— Слушайте, слушайте святого отца! — раздался из неведомых сфер глас мессера Алигьери, обращенный то ли к одному из нас, то ли к обоим вместе. — Если бы я не был осенен благодатью Божией во святом крещении, никогда бы не выбраться мне из ужасного жерла.
Он вновь замолк, и мы долго глядели на него с недоумением, если не сказать со страхом.
— Мессеру Алигьери однажды довелось побывать в сумрачных долинах, в тех кругах мирозданья, кои находятся под прямой властью самого Люцифера, — пояснил священник. — Чувства, им испытанные, и картины, им увиденные, были куда сокрушительнее тех, что испытали вы, сын мой. Однако то, о чем рассказывали вы, наводит меня на мысль, будто какие-то каббалисты вознамерились с помощью неверных создать на самой земле подобие преисподней. Разумеется, на этом свете и так невесело, но всемилостивый Господь дает нам в сей жизни известную свободу волеизъявления, то есть выбора между добром и злом. Господь оберегает трезвенность нашего рассудка и укрепляет твердость памяти. Теперь, судя по вашему рассказу, сын мой, какие-то демонические силы пытаются поработить и этот земной мир до такой степени, чтобы люди, живущие в нем, еще до разлучения души с телом напоминали бы собой бесплотные тени, в беспамятстве мечущиеся по кругам Аида, царства мертвых язычников. Притом эти демонические силы готовы облечь новый ад беспамятных неким подобием благополучия и даже состоятельности. Его лишенным памяти обитателям будут сниться великие подвиги и великие страсти, в сущности своей не имеющие для их судеб никакого значения. Его уже бессильным обитателям будет сниться их собственная, но уже отторгнутая от них, непоколебимая воля, и при этом, замечу вам, их собственные силы станут грезиться им в образах самого величественного, наивысшего проявления. Им, безумцам, будет сниться украденная у них совершенная мудрость. Каким-то новым, изобретенным в самых недрах дьявольской механики и совершенно недоступным моему разумению способом темные силы намереваются отравить смертных своего рода поддельным преображением их личности. Демоны замыслили придать душам человеческим поддельное ангелоподобие, или вид первоначального Адама, а для этой цели они хотят перемешать сон с явью и спутать добро со злом.
Моего воображения никогда ранее не хватало на то, чтобы представить происходившие вокруг меня события шире некоего и так-то уж совершенно не объятного разумом государственного заговора. Глубокомысленные рассуждения священника Угуччоне Лунго потрясли меня до глубины души.
— Таковы лишь мои предчувствия, сын мой, не пугайтесь, — поспешил прибавить к своим словам святой отец, заметив, как расширились мои глаза и как быстро сбежала краска с моего лица.
В самом деле мне показалось, будто ледяной ветер подул мне навстречу.
— Я — простой клирик, мессер. Простите меня за то, что я увлекся суемудрием и без спроса полез в сферы, доступные лишь ученым богословам. Однако, признаюсь, все-таки есть чему ужасаться, — вздохнул святой отец и обратился к мессеру Алигьери уже с откровенной настойчивостью. — Скажите же нам что-нибудь, мессер, ведь вам такие вещи понять легче, чем нам.
— Круги, круги… Круг змеи, — изрек мессер Алигьери как бы колдовское заклинание, и снова в комнате воцарилась тишина.
Внезапно складки на его траурном балахоне пришли в движение; он глубоко вздохнул. Взгляд же мессера Алигьери воспламенился и пронзил меня огненными стрелами.
— Я обращаюсь именно к вам, доблестный молодой человек, — произнес он громко и с таким царственным недовольством, что поверг меня в холодный пот и трепет. — Ведь это вы говорили о «круге змеи», я не ослышался?
— Да, да, мессер, — поспешил я оправдать заминку. — Об этом загадочном «круге змеи» здесь упоминал ваш покорный слуга. Из намеков столь же таинственных лиц, встречавшихся на моем пути, я могу вывести заключение, что «круг змеи» является тайным средоточием тайного же «внутреннего круга» Ордена тамплиеров и охватывает он иерархию особо посвященных лиц, иерархию, неведомую даже для прочих избранных «внутреннего круга». При том, однако, что «круг змеи» охватывает крохотное ядро огромного сообщества воинов и жрецов, его границы непостижимым образом простираются далеко за пределы этого сообщества, замыкая в себя некие иные иерархии, на первый взгляд весьма отдаленные и даже враждебные Ордену.
— Картина верна! — возгласил на этом месте моих рассуждений мессер Алигьери. — Средоточие круга — одна точка; чем мельче и неуловимей для всякого глаза такая точка — тем полнее обладает она всеми свойствами и силами, заключенными в сфере. Ведь в самом средоточии преисподней я зрел три пасти сатаны, поперхнувшиеся грешниками и их грехами, которые сатана же и породил. Но ведь можно сказать, что и весь необъятный ад помещается в этом тройном зеве!
Теперь святой отец Угуччоне Лунго в недоумении переводил взгляд то на меня, то на Данте Алигьери, а мессер Алигьери стал рассказывать о том, как некоторое время тому назад не то во сне, не то наяву он пережил невероятное путешествие по кругам ада, как поначалу оказался он в сумрачном лесу и воспринял ту дикую глушь в качестве предсмертного видения.
Он повествовал о том, как тщился выбраться из тьмы на свободную от мрака возвышенность, но страшные хищники — рысь, лев и волчица — с разных сторон преграждали ему путь. И вот, когда его, странника поневоле, сковал тяжелый гнет страха, явился ему некий муж, оказавшийся самим великим Вергилием, который потом и проводником мессера Алигьери по кругам ада.
— Круги ада вполне возможно сравнить с кольцами свернувшегося змея, — изрек Данте Алигьери, заключая свой удивительный рассказ, длившийся никак не менее двух часов и поразивший всех нас образами подземных глубин и картинами страданий. — Я спускался по этим кольцам к сужению, к сердцевине, туда, где голова Мирового Змея как бы сливается с головой самого Люцифера. Вы, мой юный друг, вероятно, движетесь по земному отражению Змея, по самому широкому кольцу, по расширению спирали, но там, где эта спираль как бы должна уже оборваться в бесконечность, вы вдруг наткнетесь на страшную голову, ведь Змей, охватывая своими кольцами сей мир, замкнулся на себя, на последний предел своего владычества. Змей закусил конец своего хвоста и тем самым принял вид бесконечности, довольно фальшивый вид, скажу я вам, но пугающий многих. Когда увидите — не страшитесь.
— Мне бы такого провожатого, какой был у вас, — искренне позавидовал я мессеру Алигьери, — всезнающего и беспристрастного, к тому же такого, о ком есть полная уверенность, что он послан волею свыше, а не окажется вдруг сам игрушкой из набора бесовских проделок.
— Почтенный Вергилий хоть и всезнающ, однако ж мертвец, — многозначительно заметил Данте Алигьери. — Вы же, мой юный друг, странствуете вкруг мира живых. Вы нуждаетесь в ином путеводном образе. К тому же, если вы по совету святого отца, примите крещение, у вас появится надежда выбраться в конце концов в иные, славные Миры и предаться созерцанию светлых обителей истинной любви и мудрости, как и случилось со мной. Однако я вижу, что вы уже порядочно утомлены, потому намерен приберечь свой рассказ про восхождение в небесную высь до следующего вечера.
— Вот мудрое решение, мессер, — торопливо вступил в разговор святой отец. — Посмотрите на нашего юного героя. Можно подумать, что не он удивлял нас своей необыкновенной историей, а, напротив, мы сами поразили его нашими элоквенциями. У него такой вид, будто вот-вот начнется горячка.
Слова священника были недалеки от истины. Меня бросало то в жар, то в холод; предметы и лица собеседников начинали трепетать передо мной, точно в дали знойного полдня пустыни, и я различал их в сгущавшейся дымке, уже напрягая последние силы.
Внезапно донеслись до нас тихие звуки, напомнившие журчание родника. Все обратились к Фьямметте, а ко мне вдруг вернулась живость чувств, и сразу прояснился мой замутненный взор.
Фьямметта, отвернувшись в сторону, чтобы не слишком тревожить нашего слуха, и спрятав лицо в кружевной платок, тихо и безутешно рыдала. Видно, моя участь показалась для нее совершенно непредставимой, а потому и совершенно безотрадной.
— Вот вам прекрасная путеводная песнь в вашем странствии, мой доблестный друг, — глубокомысленно изрек мессер Алигьери.
Священник, тем временем, занялся утешением Фьямметты и, как человек, имевший в таких делах большой опыт, быстро достиг успеха. Так, всеобщим успокоением и завершился очередной день моего пребывания в гостеприимном доме святого отца Угуччоне Лунго.
Однако, увы, последовать за удивительным мессером Данте Алигьери в небесную высь и узнать, как же выглядит блаженство праведников, пребывающих в райских садах, мне так и не довелось. Вечером следующего дня святой отец в большом беспокойстве сообщил нам, что мессер Алигьери при входе в Санта Мария дель Фиоре вызвал к себе подозрения, начав громогласно изрекать не слишком благоприятные пророчества о нынешнем правительстве города, а потому был вынужден укрыться в более надежное место, и уже нынешней ночью ему, по-видимому придется покинуть Флоренцию. Это известие огорчило всех нас, оставшихся прозябать на грешной земле.
На другой день, чтобы более не стеснять добросердечного священника, я перебрался в дом, где царил храбрейший Гвидо Буондельвенто, а управляла его прелестная сестра Фьямметта. Однако я имел твердое намерение долго не пользоваться гостеприимством и в этом уже полюбившемся мне доме.
Два человека нетерпеливо ожидали моей скорейшей поправки: я сам и Тибальдо Сентилья. Трактатор навещал меня каждое утро в одно и то же время, с точностью самого порядочного торговца. Принимали его со всей учтивостью, и даже буйный Гвидо проявлял чудеса вежливости и благоразумия.
— Мессер, — торопил меня Сентилья, с видимым, однако, сочувствием приглядываясь к моим заживающим ранам. — Человек, которого мы имеем в виду, обязан уже на днях отбыть в Париж. Мне и так удалось задержать его на целую неделю, но в определенной мере он не хозяин себе и тоже должен подчиняться обстоятельствам. Постарайтесь поскорее окрепнуть, прошу вас.
Я старался изо всех своих молодых сил, а на следующий день по своей единоличной воле издал эдикт о своем полнейшем выздоровлении. Тот эдикт пресекал на корню любые препирательства по поводу моих синяков и болей. Сам Гвидо ударил ладонью по столу и грозно сказал сестре:
— Раз мессер говорит, что «пора», значит, «пора». Не цепляйся за хвост рыцарского коня.
Встретив же на пороге своего дома Сентилью, которого сопровождали двое вооруженных людей, он, в меру учтиво с ними поздоровавшись, довольно громко и недовольно шепнул мне на ухо:
— Мессер, не худо бы и вам укрепить свои силы приличной вашему званию свитой.
— Нет, Гвидо, — мягко ответил я ему. — Именно сегодня не должно быть никакой охраны.
И вот, чувствуя некоторую слабость в коленях и дрожь во всем теле, я двинулся по улицам Флоренции, отдав себя на произвол человека, от которого можно было ожидать всякое. Признаться, поначалу, свернув в первый проулок, я оперся не только на его совесть, но также и на его плечо, поскольку меня охватило сильное головокружение. Сентилья был весьма польщен этим моим движением. Впрочем, силы вскоре вернулись ко мне; я, что называется расходился и даже ощутил приятное, упругое тепло в своих мышцах.
Сентилья вел меня по городу такими же скрытными и не слишком живописными путями, какими вел Гвидо, когда мы торопились на праздник Золотого Осла. Я невольно вспомнил о провожатом, который водил мессера Алигьери по кругам преисподней, и мне впервые за последнюю неделю стало смешно.
Когда мы вышли к реке, к местам, вид которых мне был знаком, я стал испытывать тревогу, но виду не подал. Мы прошли по берегу вдоль грубой каменной ограды, напоминавшей уменьшенную крепостную стену, и остановились у ворот кладбища.
Два бледнокожих незнакомца неопределенного возраста, обряженные в черные балахоны, предстали перед нами, и тут Сентилья произнес слова, кои придали больше сил моим членам, ясности — уму, но и трепету — душе.
— Он пришел, — тихо, но властно сказал Сентилья.
Люди в черном кротко поклонились, при том — более в мою сторону, и, повернувшись к нам спинами, повели важных гостей по лабиринту среди высоких надгробий.
Нашей целью оказался огромный гранитный склеп, похожий на базилику. Над его железными дверьми был выбит в сером камне знакомый мне, вещий знак, тот самый, коим был отмечен и Удар Истины, прикрепленный на моем плече: то был восьмиконечный крест.
— Братский мавзолей Ордена Соломонова Храма, — шепнул мне на ухо Тибальдо Сентилья.
Замка на дверях уже не было. Люди в черном согласными жестами постучали в двери и отступили в стороны. Двери как бы сами собой начали приотворятся и наконец раскрылись настежь.
Я увидел два ряда факельщиков, выстроившихся на лестнице, что вела вниз. К моему удивлению, из подземелья на меня дохнуло сухое тепло и повеяло благовонным ароматом, который показался мне очень знакомым.
Сентилья двинулся вперед, и я — вместе с ним: двери и лестница были достаточно широки, чтобы принять двух человек, идущих плечом к плечу.
— Он пришел! — громко повторил Сентилья, когда мы ступили на лестницу, и голос его был превращен подземельем в устрашающий утробный звук.
Чем ниже мы спускались, тем большее меня охватывало изумление. Я видел внизу весьма широкую площадку, посреди которой был установлен внушительных размеров очаг: в нем ярко пылали дрова, согревая днище большого медного котла. Из-под его крышки уже доносился глухой рокот кипящей воды, а дым и пар, не наполняя склепа, поднимались прямо ввысь. Вокруг котла неторопливо двигались полуобнаженные люди в кожаных фартуках, их мощные торсы блестели потом. За их работой наблюдали еще трое неподвижных людей в черных балахонах, но эти, в отличие от встречавших нас, были подпоясаны белыми шнурками. Замечу, что они как бы вовсе не замечали нас, пока мы не достигли площадки. К увиденному еще с верхних ступеней лестницы добавлю также мощный дубовый стол о восьми ногах, вырезанных из цельных стволов, который был установлен около очага.
Однако вовсе не странная обстановка, не черные духи и не адский котел были причиной моей все возраставшей растерянности. Мне все яснее представлялось, будто я уже побывал однажды на этом самом месте и вдыхал этот подземный аромат: смесь елея и гвоздики. Оказавшись же на последних ступенях лестницы и увидев то, что до того мига было скрыто низким сводом, я испытал истинное потрясение души.
Моему взору открылись за очагом глубокие ниши, а в тех нишах — не что иное как каменные гробницы, одна из которых, самая правая, несомненно послужила однажды мне не только убежищем, но также источником власти, благополучия, справедливой мести и, возможно, будущего счастья. Невольно я закрыл глаза, а когда открыл их вновь, то опять увидел перед собой адский очаг и ряд гранитных гробниц. Я испытывал выдержку судьбы, судьба же испытывала мою собственную выдержку.
Так же невольно я стал озираться, ища глазами тайный лаз в колодец.
— Вы удивлены, мессер? — хладнокровно прошептал Сентилья.
— Есть чему удивиться, — ответил я, отдавая хладнокровию куда больше сил, коими и так не мог похвалиться. — Дым идет, а в склепе так же свежо, как на берегу реки.
— Особое устройство тяги, — пояснил Сентилья. — Взгляните вверх, мессер. Видите там отверстие?
Я подтвердил, что вижу: указанное Сентильей зарешеченное отверстие находилось в зените самого широкого свода, в средоточии восьмиконечного креста, что был выведен на своде алой охрой.
— Особые отверстия прорублены также в стенах, у самого пола, — добавил трактатор. — Вытяжкой служил и колодец, но теперь он замурован. Через колодец сюда однажды удалось пробраться грабителям.
— Вот как! — изумился я, изо всех сил хмуря брови. — Что же они похитили с голого пола?
— Кое-что, — сухо усмехнулся Сентилья. — Вернее не все, что могли. Однако воры уже пойманы, казнены, и прах их расклеван воронами и растащен крысами.
— Вот как! — сказал я на такую новость.
— Мессер, не желаете ли узнать, кто должен был быть вашим провожатым во Францию, — уже с нетерпением полюбопытствовал Сентилья.
— Догадываюсь, что один из тех, кто покоится теперь в какой-то из этих гробниц, — сказал я, не удивляясь более ничему.
Сентилья долго молчал, глядя то себе под ноги, то на кипящий котел, то на трех незнакомцев в черных балахонах.
— Человека, столь проницательного, как вы, — глухо проговорил он наконец, — я еще не встречал в своей жизни. Признаюсь, приятно, что я хоть немного похож на вас.
На такую любезность я решил не отвечать грубостью.
— Это так, — добавил Сентилья. — Вы, наверно, рассержены. Я не сказал вам сразу, что ваш проводник мертв. Действительно, сенешаль флорентийской капеллы Ордена скончался за неделю до вашего прибытия во Флоренцию. Я опасался, что вы мне не поверите, а, значит, и не воспримите моего замысла.
— Мне непонятно только одно, — безо всякого гнева ответил я Сентилье. — С какой стати он теперь так торопится?
— В этом-то вся и загвоздка! — обрадовано проговорил Сентилья. — Насколько мне было известно, в его обязанности входило доставить вас в Париж на кладбище Невинноубиенных младенцев.
— Живым или мертвым? — полюбопытствовал я.
— Вы — шутник, мессер, — сдержанно рассмеялся Сентилья, бросив взгляд на бездвижную троицу в черном. — На том месте вас должен был принять под свою опеку следующий провожатый, уже из адептов «змеиного круга». Теперь положение таково: умирая, сенешаль возжелал, дабы его кости нашли последнее упокоение на кладбище Невинноубиенных. Замечу вам, что многие крестоносцы оставляли подобные завещания. Таким образом, его последний путь лежит на то самое место, куда предназначалось попасть и вам самим.
«Ты захотел обрести себе провожатого из мертвецов, — с насмешкой над самим собой подумал я. — Ты такого получил».
— Теперь по старому обычаю крестовых походов пробальзамированное тело рыцаря будет разрублено на части, — сообщил Сентилья, — затем выварено в котле до костей, кости будут уложены в шкатулку-реликварий, и на этот раз не сенешаль, а как бы вы сами, мессер, станете его провожатым вплоть до места последнего упокоения. Мне пришлось приложить немало трудов, чтобы отправление праха в Париж было задержано и чтобы прах был передан непосредственно в ваши руки. В Париж вас перевезет торговая миссия Большого Стола Ланфранко.
— Благодарю вас, синьор Сентилья, — только и сказал я.
— Кроме того, я задержал пурификацию тела, — усугублял свои заслуги Сентилья, — дабы вы смогли сами убедиться, что дело идет именно о сенешале капеллы.
— На корабле вы уверяли меня, что не знаете моего следующего провожатого, — заметил я.
— Лжи в том не было, — решительно и даже сердито ответил Сентилья. — Но обстоятельства изменились. Вы сами изменили их. Прикажете начинать?
— Начинайте, — без дальнейших рассуждений ответил я, чувствуя новый приступ слабости и озноба.
Двое полуобнаженных служителей подошли к гробнице. Титанические мышцы вздулись на их плечах, отливая бронзой, когда они с помощью особых рычагов сдвигали мраморную крышку. Двое других, тем временем, густо обмазывали ароматическим маслом темную поверхность дубового стола, имевшего, как я заметил, узкий желобок со щелью, рассекавшей стол вдоль на две равные половины.
Тело усопшего сенешаля, обернутое белым орденским плащом с алым тавром, было осторожно вынуто из гробницы. Только в эти мгновения один из черных людей ожил, тронулся со своего места и, подойдя к телу, еще висевшему на руках служителей, бережными движениями рук снял с усопшего плащ. Сложив плащ ввосьмеро, он опять удалился в сторону. Затем, положенное на стол тело было разоблачено полностью, что произвели двое других людей в черных балахонах.
И вот мои глаза увидели набальзамированное и, как мне показалось, крепко прокопченное тело темно-коричневого цвета, сильно усохшее, с веревчатыми жилами и тонкими костями. Череп тамплиера был так туго обтянут кожей, что нос представлялся острым клювом, рот — рыбьей пастью, а провалившиеся щеки должны были вот-вот порваться на грубо выпиравших скулах. Зубы были редки и сильно зачернены.
— В каком возрасте он скончался? — тихо спросил я Сентилью.
— Он прожил не меньше шестидесяти лет, — ответил тот.
В руке одного из служителей сверкнул короткий конусовидный нож, сделанный, как я узнал, из позолоченной бронзы. Этот нож сначала пронзил шейные позвонки под затылком, затем гортань и пищевод и наконец перерезал все жилы, еще скреплявшие голову с телом. Голову поместили в сетчатый мешочек, вроде того, в котором оказалась некогда моя собственная голова на эшафоте в Конье. Не сразу вспомнил я, что происходила такая неприятность с моей головой не наяву, а во сне. Пока я предавался воспоминаниям, усиливавшим озноб, мешочек поместили в котел, а шерстяную веревку, к которой он был привязан, оставили снаружи, прикрутив ее конец к одному из крючков, торчавших на краю котла.
После того другим, серебряным ножом, изогнутым в полукольцо, от тела был отделен уд. Для органа был предназначен кожаный мешочек и особый маленький котел, наполненный горячим маслом. Затем засверкал тяжелый топор с округлым лезвием. Одним мощным и умелым ударом была отделена левая нога, следующим ударом — правая, третьим — левая рука, четвертым — правая. Конечности поместили в отдельную сеть и погрузили в котел со стороны, противоположной голове.
— Сечение производится по особому, флорентийскому уставу, — сообщил мне на ухо Тибальдо Сентилья.
Меня охватывал то жар, то холод, но не скажу, что происходило это от страха или от омерзения. Я наблюдал за происходящим безо всякого живого чувства, вроде как за какой-то обычной полевой работой простого поселянина, трудами мельника или мясника. Некое собственное недомогание все сильнее подтачивало мои силы, вызывало головокружение и затрудняло дыхание.
— Вам нехорошо? — наконец участливо спросил Сентилья, заметив, какие усилия я прилагаю к тому, чтобы держаться на ногах прямо.
— Не беспокойтесь, — крепясь, отвечал я. — Ребра пока что немного ломит.
Сквозь щель в столе было пропущено лезвие пилы, и титанические руки служителей стали разделять тамплиерское тело надвое. Звук раздался такой, будто ломали вороха сухой соломы и рвали листы пергамента. По завершении продольного сечения каждую из половин — сначала левую, потом правую — положили поперек стола и вновь распилили надвое, так что все тело оказалось рассечено крестообразно. Останки были разложены по сетчатым мешкам, и мешки были погружены в котел по оставшимся его сторонам.
Мне принесли низкий стульчик, и я вынужден был принять оказанную мне услугу. Сентилья остался стоять по левую от меня руку и навис надо мной неприятной тяжестью. В моем присутствии ритуал некротической пурификации продолжался еще около двух часов. Иногда мешки вынимали из котла, и люди в черных балахонах рассматривали окутанные паром останки, молча указывая, нужно ли отскабливать ножом обрывки жил и другой плоти.
По столь же безмолвному указанию тех же черных людей, которые, судя по их белым поясам, являлись посвященными Ордена, в обозримые мною, пределы подземелья — и замечу, что обозримые со все большим напряжением сил, — была внесена и поставлена на темный дубовый стол большая шкатулка из слоновой кости, украшенная крупными рубинами, как ни странно похожая на ту, которую я заказывал сам у флорентийского ювелира.
— Вот и реликварий, — тихо проговорил надо мной Сентилья. — Скоро все завершится.
Что должно завершиться, я уже едва мог понять: мне становилось все хуже и хуже. Мне начинало казаться, что варят в адском котле не чужие кости, а меня самого. Уже по отдельности вываривались мои ноги и руки, моя голова, мое туловище. Наконец котел, дубовый стол со шкатулкой и мрачные люди, занимавшиеся каким-то страшным делом, — все задрожало и закипело в моих глазах, подобно миражу в напитанной зноем пустыне. Так продолжалось несколько мгновений прежде, чем я провалился во тьму.
В списке жителей Флоренции, пораженных моровым недугом, который был признан врачами за разновидность антонова огня, я оказался в первом десятке. Два последующих месяца я пребывал в жару и бреду, изредка прерывавшимся только ласковыми прикосновениями прохладных пальцев и губ Фьямметты Буондельвенто.
Она наотрез отказалась покидать мое бренное тело, выгоравшее на мучительном огне, и ни на мгновение не отходила от меня дальше, чем на пяток шагов, меняя подо мной белье и готовя морсы и бульоны, поддерживавшие во мне жизнь.
В редкие часы слабого просветления я предавался страху за ее собственную жизнь, но менее всех остальных имел право проявлять хоть малую власть над ее волей. Благодарение Господу, Фьямметта не заболела. Тем более недуг оказался бессильным против ее крепкого братца. К моей радости, остался здоров и Тибальдо Сентилья. Болезнь овладела в городе лишь пожилыми и немощными, и я, по всей видимости из-за своих «боевых увечий», оказался приписанным к «цеху» последних. Всего заболевших насчитывалось около полутысячи, и за целой сотней пришлось явиться ангелам, дабы препроводить их в отдаленные царства загробного обиталища душ.
Два светлых дня казались мне двумя путеводными звездами грядущего в то тяжелое время: день моего выздоровления и день, когда свершит надо мной великое таинство добрый святой отец Угуччоне Лунго.
Поначалу мне говорили, что он в отъезде и занят какими-то неотложными делами, затем, спустя почти месяц, признались, что добрый священник так же, как и я, не избежал мучительного недуга, и наконец, когда страшные угли в моем теле остыли и мой разум прояснился, я узнал, что вторая звезда погасла. Мне открыли печальное известие о том, что святой отец Угуччоне Лунго скончался. Мы с Фьямметтой, держась за руки, прослезились оба.
Фьямметта сказала мне, что теперь, когда после бреда и лихорадки, здравый рассудок вернулся ко мне и я смогу поведать любому святому отцу такую складную историю своей жизни, которая не приведет того в смущение или вызовет какие-нибудь подозрения, вполне благоразумно креститься у любого другого священника.
В те молодые свои годы я был крайне горделив, а обладание неким священным Ударом Истины было к тому же причиной безудержного тщеславия. Я возымел такую прихоть, чтобы таинство было совершено только самым добродетельным и благочестивым священником Флоренции, которому можно было бы довериться всей душой, а — не каким-нибудь «ослиным епископом». Фьямметта и Гвидо стали перебирать всех святых отцов, каких знали, и наконец пришли в некоторое замешательство.
— Ангелов мы не найдем, все — люди, — вздыхая, говорила Фьямметта, теряясь в раздумьях. — У всякого вы сумеете обнаружить черту характера, которая вам не понравится. Что же теперь делать? Не устраивать же смотрин?
На исходе болезни душа моя была очень уязвима и раздражительна: во что бы то ни стало мне хотелось призвать к своему одру именно ангела во плоти. Пьяные и неотесанные «епископы» ослиного празднества все еще плясали у меня в голове. Сбил меня с толку и не в меру рассудительный Сентилья, который ежедневно захаживал в дом проведать больного и в своем нетерпении поскорее застать его бодрым и здоровым, кажется далеко превзошел всех — и Гвидо, и меня самого, и даже Фьямметту.
— В самом деле, мессер, — говорил он, зная о моем духовном чаянии, — советую вам брать пример со святого императора Константина. Он разом очистился от грехов, приняв крещение в самом конце жизни. Также поступали и многие благоразумные и образованные люди апостольских времен. Без греха ведь никак не проживешь, а потому, как благородный человек, вы ведь понимаете, что лучше приносить оммаж и присягу высокому господину только тогда, когда уже обладаешь способностью строго исполнять свой вассальный долг. И насколько вы уверены, что исполняемая вами миссия во Францию, богоугодна? Действительно, богоугодна ли эта миссия?
Каким словом я мог бы подтвердить то, в чем трактатор процветающей торговой компании выражал сомнение?
— Ваше молчание, мессер, еще раз свидетельствует о вашем истинном благородстве, — продолжал свои здравые рассуждения Сентилья. — Дело чести движет вами. Так пусть же честь пока послужит лучшим оправданием ваших невольных грехов, если таковые случатся по дороге. Ведь отречься от чести ни одному истинно благородному человеку не под силу. Насколько же мне известно по слухам, честь на небесах не в большом ходу. Так не смешивайте же сейчас земное с небесным. Пусть всему будет свое время. Выздоравливайте и поскорее отправляйтесь во Францию. Знали бы вы, каких усилий и каких средств стоит мне теперь удержать этого нетерпеливого мертвеца на месте.
Первый и последний раз Тибальдо Сентилья, мой хитроумный двойник, возымел надо мной существенную власть. Каждый день приходил он и каждый день выражал искреннюю радость словами:
— Сегодня вы прекрасно выглядите, мессер, куда лучше, чем вчера.
На тридцатое по счету заклинание я поднялся на ноги.
— Больше откладывать нельзя, — наконец весьма решительно изрек Сентилья, отвернувшись от горько опечалившейся Фьямметты. — Через три дня во Францию отправляется один весьма добропорядочный торговец, мессер Боккаччо, или, как его все именуют во Флоренции, Боккаччино ди Келлино. Он двинется с большим грузом и немалым числом людей. Мессер Боккаччо — неугомонный весельчак и замечательный рассказчик, хотя и весьма грубоват по своей природе. Поверьте мне, дорогою вы прекрасно взбодритесь. Бургундское вино укрепит ваши силы, а общество мессера Боккаччо несомненно поднимет ваш дух. К тому же мессер Боккаччо хорошо знает Париж и легко укажет вам дорогу к кладбищу Невинноубиенных младенцев, так что вам не потребуется задавать лишних вопросов жителям Парижа.
И вот я издал второй эдикт о своем выздоровлении и в один день собрался в дорогу.
Не стану описывать нашего прощания с Фьямметтой, ибо уста наши молчали, а объяснялись только глаза, и я не знаю слов ни на одном из вправленных в мою голову языков, которые могли вместить хотя бы одно мгновение того священного безмолвия.
Только я собрался дать Фьямметте самую страшную клятву и сделал ради этой клятвы глубокий вздох, как она прикрыла мой рот своими нежными пальчиками и тихо проговорила:
— Не нужно клятв, мессер. Не гневите Бога. Я просто обещаю вам, что будут ждать вас. Вот и все.
Я молча поцеловал ее руку, а потом молча поцеловал вторую. Она же, верная своему обету, величественно прикоснулась губами к моему лбу, вновь охваченному жаром.
И вот в первых числах первого же месяца года одна тысяча триста девятого от Рождества Христова я покинул благословенную Флоренцию и, помнится, оглянулся издали на ее открытые врата, посреди которых остался в печали и тревоге мой верный и ласковый ангел-хранитель.
СВИТОК ЧЕТВЕРТЫЙ. ФРАНЦУЗСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
Зима 1309 года — весна 1314 года
Французские земли были пусты и безвидны, ибо великий холод царил над ними. Дороги и поля, скованные белой коростой, день и ночь хрустели под ногами коней и колесами повозок, а ветки кустарников ломались в руках, как хрупкие птичьи косточки.
Тибальдо Сентилья оказался прав: несмотря на холод и разные грустные мысли, я прекрасно чувствовал себя, держась поблизости от мессера Боккаччо. Доброе вино горячило кровь, а от беспрестанных шуток неунывавшего торговца не только весело колотилось мое сердце, но даже изнемогали от смеха, как от тяжкого труда, мои скулы и ребра. Каждый вечер он рассказывал по две или три занимательных истории из своих путешествий или жизни своих знакомых, коих у него, похоже, насчитывалась целиком вся Италия, и наконец я не выдержал, решив отплатить ему за его щедрость хотя бы одной лептой, вполне достойной его большого, но невесомого казнохранилища. Я рассказал мессеру Боккаччо про одураченного лошадника, угодившего в бездну нечистот, а по избавлению из этого «чистилища» по-королевски одаренного судьбою. На всякий случай я изменил место происшествия, перенеся своих героев из Флоренции в более теплый Неаполь. Мессер Боккаччо хохотал так, что пятились кони и одна повозка едва не перевернулась.
— Вот так история! — несказанно радовался торговец. — Стоит всех моих да еще бочку бургундского впридачу! Навеки вам обязан, мой дорогой друг!
Однажды я почувствовал очень знакомый душок и подумал, не оказалась ли моя история до того хороша, что запах от нее распространился даже до нынешнего дня. Мессер Бокаччо заметил, с каким смущенным видом я потягиваю французский эфир, и сказал:
— Скоро Париж, друг мой. Привыкайте быстрее. Даже в Авиньоне наступление лета определяют не по распустившимся бутончикам, а по дотянувшемуся с севера аромату королевской столицы. «Вот, — говорят, морща носы, — завоняло Парижем, значит, лето уже на дворе». А теперь зима — так что вам повезло.
Если бы я не знал, где теперь нахожусь и куда еду и кто-нибудь указал бы мне на невзрачный, серый городишко, однажды появившийся вдали, я принял бы это место за селеньице из тосканского захолустья.
— А вот и Париж, — сказал мессер Боккаччо. — Конечно, это не Флоренция, однако не советую вам грустить, мой молодой друг. Здесь тоже можно найти на что посмотреть и где приятно провести время.
Над нами и над приближавшимся городом клубился туман, а когда рассеялся, моему взору предстали высокие шпили парижских соборов, нацеленные в небо, подобно копьям титанов.
Уже на подступах к столице Французского королевства мессеру Боккаччо повстречались добрые знакомые, и мы вступили в город шумной варварской толпою.
Оставив весь свой груз и всю свою свиту в одном из надежных постоялых дворов, добрый торговец, несмотря на мое сопротивление, настоял на том, что препроводить меня к цели моего путешествия остается до сих пор его неотъемлемой обязанностью, раз уж он дал обещание в том дому Ланфранко.
Простившись с ним около кладбищенской ограды и сделав еще несколько шагов в одиночестве, я оказался посреди бескрайнего поля, усеянного надгробиями, которые в своем обилии напоминали развалины древнего, давным-давно покинутого живыми душами города.
Здесь с холодом и в полном согласии с ним царила та самая тишина, которая именуется могильной. Тревожили ее только мои робкие шаги да хлопанье вороньих крыльев. Две или три серые птицы с черными головами лениво перелетали с одного камня на другой и недобро косились на пришельца.
Я оказался перед высокими надгробиями, и вот камни, словно по воле подземного духа, вдруг расступились передо мной, и моим глазам открылись горы костей и черепов, громоздившиеся на широких плитах и прямо на голой земле. Зрелище россыпей праха человеческого повергло меня в дрожь. Казалось, целый вымерший город или даже целая страна, истлев до белых костей, поместилась на этих бесплодных камнях под столь же бесплодными, серыми небесами. Не слыша ни одного живого звука, я страшился оглянуться назад. Я страшился, что более не увижу никакого Парижа и что, верно, сразу узнаю, будто и не было тут вовсе никакого Парижа, а живой город только померещился мне в полусне-полуяви, и будто на самом деле по всему миру до самых его водных пределов раскинулось только это бесплодное поле развалин и праха. Что Вергилий! Мне теперь вполне хватило бы и самой безвестной и невзрачной души, готовой послужить мне добрым проводником по этим печальным землям. Ее бесплотная рука могла бы оказаться для меня в те мгновения самой надежной опорой.
Холод наконец преодолел все выставленные мною преграды, проникнув сквозь шерстяной с меховым подбоем плащ и сквозь остальную добрую дюжину одежд, и охватил меня всего от хребта до ребер.
Крепче вцепившись дрожащими руками в тяжелую шкатулку, я беспомощно глядел на россыпи черепов, принадлежавших некогда то ли тамплиерам, то ли их противникам, то ли тем, кому и до тамплиеров, и до их противников не было вовсе никакого дела, и так я все глядел и глядел на остывшие кости, не представляя, что же мне теперь делать.
— Вы у цели, мессир, — вдруг раздался за моими плечами глухой и довольно хриплый, словно простуженный, голос. — Бросайте прямо в кучу. Ни он и ни один из нас не заслуживает большего. Освободите себя от никчемного груза.
Я повернулся назад, и все мое тело в тот же миг оказалось сведено судорогой неописуемого ужаса.
Теперь не позади меня, а прямо передо мной, всего в дюжине шагов, неподвижно стояла толпа человеческих скелетов, облаченных в черные балахоны и подпоясанных белыми шнурками. У половины мертвяков в костяшках пальцев были зажаты высокие косы, один держал на иссохших руках завернутый в ветошь скелетик младенца, другой взвешивал на рыночных весах для пряностей какие-то совсем крохотные косточки, у четвертого сидела на плече полуистлевшая ворона, а еще двое придерживали колесо, которое можно было бы назвать тележным, если только представить себе телегу размером с зерновой сарай.
— Ваше удивление, мессир, весьма удивительно, — донесся голос от скелета, стоявшего во главе загробной толпы, и я заметил, что он ростом ниже остальных и вдобавок выделяется среди прочих выходцев из-под могильных камней пояском ярко-красного цвета. — Вы что же, отправляясь в наш славный город, ожидали встретить здесь таких же, как вы, дурно пахнущих потом и испражнениями, вечно суетящихся и лгущих, подверженных страху и блудному греху людишек? Чего же вы хотели, мессир?
Я не мог выговорить ни слова и отвечал только дробным стуком зубов, вполне уместным в такой компании.
Не дождавшись от меня верной молитвы или хотя бы языческого заклинания, способного сбросить всякую нежить обратно в подземные бездны, мертвяки приободрились и стали наступать на меня, мерзко ломаясь и пританцовывая. Скелетик младенца дразнил меня перестуком зубов, полуистлевшая ворона роняла перья и щелкала клювом, а колесо от исполинской телеги покатилось мне навстречу. Только теперь я заметил, что на нем болтаются разные куклы, привязанные за шеи к спицам: короли и королевы, рыцари в белых и черных плащиках, купцы и нищие. Только говорящий скелет остался на месте, устремив в меня черный взор пустых глазниц и, казалось, насмешливо улыбаясь.
Мертвяки наступали, угрожающе трясли косами, взмахивали костлявыми руками, страшный младенец норовил укусить меня за палец, а ворона тянулась клюнуть меня в глаз, и наконец колесо переменчивой Фортуны готово было вот-вот наехать на меня — но вдруг вся эта мрачная толпа, даже не прикоснувшись ко мне, проскользнула мимо.
Пронзительные вопли и завывания, изображавшие какое-то дикое пение, раздались за моей спиной, а сквозь эти звуки, пугавшие живую душу не меньше безмолвных скелетов, донесся шум трещоток и звон колокольцев. Невольно повернулся я вновь вокруг своей оси и увидел, как навстречу скелетам с другой стороны костяных россыпей приближается толпа голосящих на все лады слепцов, кривоногих и горбатых калек, карликов, нищих и прокаженных. Все они двигались прямо через россыпи праха, отпихивая ногами и палками крупные крестцы и черепа, и вскоре встречное движение всего этого живого и мертвого безобразия слилось и преобразовалось в невиданный и жуткий хоровод.
Я тряхнул головой, посмотрел направо и налево и увидел множество здоровых и полных жизни горожан из самых разных сословий, теснившихся справа и слева поодаль и с благоговейным страхом на лицах пристально следивших за этим кладбищенским представлением.
— Пляска Макабра, — раздался негромкий хриплый голос совсем рядом, и я обнаружил, что низенький скелет с алым пояском стоит, едва не прислонившись к моему левому плечу. — Пляска Макабра. Прекрасное и поучительное зрелище. Вы, мессир, появились как нельзя вовремя. Только что же вы стоите в бездействии? Кости праведного рыцаря так и рвутся из заключения под ноги к этим веселым уродцам.
Мои руки совсем закоченели и казались не живее костяшек моего нового знакомца. Я ничуть не соврал бы, если бы оправдался тем, что не могу пошевелить пальцами. Но пока я был способен только беспомощно раскрывать рот, не в силах исторгнуть из себя ни одного живого и осмысленного звука.
Тогда скелет поднял свою белую руку, и я увидел в его обтянутых иссохшими жилами пальцах ключ, такой же, какой до сих пор находился в висевшем на моем поясе кошельке. Ловкими движениями мертвяк отпер замочек шкатулки, откинул крышку и подхватил пергаментный свиток, покоившийся поверх вываренных костей тамплиера.
— Что же велит завещание этого чувствительного старика? — пробормотал скелет, развертывая свиток и поднося его к своим пустым глазницам. — Вот пожалуйста! «Прах к праху». И вот еще: «не достойного к человеческому погребению и попиравшего Крест Господень смешать с прахом на „камнях покаяния“. Дорого бы отдал король Франции за такие добрые слова!
Тут, справившись наконец с собой, я сумел протолкнуть через свое одеревеневшее горло первые слова:
— Что вам нужно?
— Мне? — усмехнулся скелет. — Уже ничего. Все дело в вас самих. Вы стоите у цели. Исполняйте последнюю волю раскаявшегося. Разве исполнение последней воли раскаявшегося не окажется лучшим Ударом Истины?
Вот когда я догадался, что мертвяк ждал именно меня! И все остальные мертвецы поднялись из-под гробовых плит лишь для того, чтобы встретить тайного посланника этой впечатляющей Пляской Смерти. Я пришел на кладбище Невинноубиенных младенцев и, сам о том не ведая, своим появлением двинул ветхое колесо Фортуны и закружил весь этот мрачный хоровод.
Собравшись с духом, я сделал шаг вперед и высыпал кости на «камень покаяния», прямо под ноги танцующим Пляску Макабра.
— Как видите, мессир, — проговорил скелет за моей спиной, — я слишком долго ожидал вас на этом месте и слишком долго ожидал этого часа. Но этот час все же настал. Теперь мир изменится.
Голос его уже изменился, сделавшись более живым и человеческим, и, когда я повернулся в четвертый раз, то увидел уже не бесстрастную усмешку черепа, а живое человеческое лицо. Передо мной теперь стоял добродушно улыбавшийся старичок, а мертвая голова, служившая ему искусно сооруженной маской, уже валялась у его ног на холодной земле.
Прозрев и увидев мир в истинном свете (а если свет и не был истинным, то, по крайней мере, в нем лучше виделась моя тайна), я почти невольно приветствовал старика на арабском:
— Да продлит Всемогущий твои дни на земле, о мудрый Хасан Добрая Ночь.
— Монсиньор, — усмехнулся старик, — мне не понятна речь неверных.
С этими словами он бросил свиток в шкатулку, затем властным движением взял у меня из рук опустевший реликварий и двинулся с ним к толпе очарованных Пляскою Смерти горожан.
Глас небесный раздался вдруг над кладбищем. Толпа вздрогнула, и я, вздрогнув вместе с нею, стал искать глазами того великана, коему могла бы принадлежать такая громовая глотка.
— Грешники! — прогремело с небес. — Что пришли вы смотреть?! Что привело вас сюда, где живым невеждам нет места?!
Как удивился я, когда обнаружил гиганта: им оказался не кто иной как сам старичок, голос которого теперь словно бы окутывал его всего, подобно огненному облаку. Взгляды испуганных горожан, окутанных облаками иной природы, а именно колеблющимися облаками водяного пара, прикованы были уже не к хороводу мертвяков и убогих, а только к одному маленькому скелету в сером балахоне с алым пояском.
— Что привело вас сюда? — грозно вопрошал владыка города мертвых. — Что пригнало вас сюда, подобно стаду баранов?! Я скажу вам что! Страх! Страх гонит туда, где еще страшней! Страх гонит грешника в ад! Страх адских мук заставляет вас, безмозглых баранов, грешить! А почему, я вас спрашиваю?! Молчите?! Страх сдавил ваше горло! Я отвечу вам! Чем ужасней грядущая мука за ваши грехи, тем сильнее страх. Чем сильнее страх, тем больше хочется грешить. Чем больше хочется грешить, тем скорее грешишь, ибо, если не грешишь, страх перед грехом становится еще нестерпимей. Чем скорее грешишь, тем быстрее попадешь в ад. Чем быстрее попадешь в ад, тем скорее начнется адская мука. А когда страшная мука начнется, пустой страх кончится. Имеющий уши, да слышит! Что видели вы тут? Что видели вы, я вас спрашиваю?! — При этих словах старичок поднял выше шкатулку из слоновой кости. — Вы видели, как смешались кости самого доблестного рыцаря с костями грешников и отъявленных трусов. И чем же, скажите, отличаются его кости от прочих? Идите и отберите их! Идите и отберите семена от плевел! Я скажу вам: он был богаче вас всех и даже праведнее вас всех, ибо в того из вас, кто никогда не божился, не ругал хотя бы в мыслях Господа и его Пречистую Матерь, кто из вас не совратил про себя меньше хотя бы трех десятков хорошеньких девиц, встречавшихся на улице, в того я первым брошу камень, но, увы, этот камень так и останется лежать на земле; и я скажу вам, сей доблестный рыцарь повидал все пределы земли и все самые отдаленные царства, кои окружены бескрайними водами, и вы видите, чего он достиг. Всю жизнь великая сила гнала его кругами к этому месту. Что за сила, я вас спрашиваю?!
Великий глас умолк, оставив в холодном эфире слабый, со всех сторон доносившийся звон. Хоровод Смерти разорвался, и скелеты вместе с убогими, похрустывая попадавшимися под ноги костями, стали осторожно обступать удивительного проповедника. Облака пара еще сильнее затрепетали над толпой горожан, и вот толпа породила первое робкое слово:
— Страх!
И тут же это слово рассыпалось и затрещало на множество голосов, мужских и женских:
— Страх! Страх! Страх!
— Страх! Страх! Страх! — подхватили убогие и калеки визгливыми голосами.
— Страх! — перекрыл весь этот хор величественный глас старика. — И вот ныне: «прах к праху»!
И старик бросил шкатулку на «камни покаяния», она раскололась, и орава убогих и калек кинулась в драку за рубины и аметисты, украшавшие ее со всех сторон.
— Кости к костям! — возгласил старик. — А душа, к чему душа, и куда она делась, я вас спрашиваю?!
Толпа молчала, в благоговейном ужасе глядя на проповедника.
— Быть может, ее унесло так же, как и последнее слово этого гордеца?
Только он выговорил эти слова, как с отдаленного надгробия сорвалась серая птица с черной головой, ворона. Хлопая крыльями, она повисла над головой старика и, вырвав из его поднявшейся руки свиток с завещанием тамплиера, полетела прочь.
Пар над толпой исчез. Все горожане затаили дыхание, следя за полетом колдовской птицы, вскоре канувшей невесть куда, и только калеки продолжали свое сражение за драгоценные камни, сверкавшие среди кипения грязных лохмотьев.
— Что вам до чужой души? — возгласил теперь старик. — Ее уже и след простыл. И нет никакой пользы знать, куда она делась. Подумайте о своей душе, ибо о костях и думать нечего, им все равно не избежать этого места. Слушайте, грешники, что возвещу я вам! Скоро, скоро придет конец этому миру! И вот вам знамение конца: не пройдет и года, как обрушится в Риме Святой Престол, ибо восседали на нем нечестивцы, и все узреют мерзость запустения, и некому будет отпустить вам грехи, ибо все монахи, все священники сами погрязли в грехах. Вы — по колено, а они — по шею. Что за великая сила заставила грешить слуг Господа, я вас спрашиваю?!
— Страх! — нестройным хором ответила толпа.
— Я освобожу вас от страха! — возвестил старец. — И я говорю вам: сия свобода спасет вас!
Толпа качнулась волною и, внезапно рухнув ниц, уничижено поползла на коленях к стопам проповедника. Огромные кузнецы в фартуках и дамы в богатых одеждах — все, всхлипывая и стеная, согбенно двигались по камням и мерзлым колдобинам навстречу новому пастырю.
— Спаси! Спаси! — слышались голоса. — Спаси нас, святой человек!
Я стоял позади старика, и своим положением объяснил себе то, что взгляд и слова маленького скелета не смогли оказать на меня столь чарующего воздействия.
Старик же царственно воздел руки к небесам и возгласил еще властнее и громче:
— Кайтесь! Кайтесь, грешники! Я возвещаю вам: скоро, скоро падет Святой Престол Пап, и некому будет отпускать вам грехи, и больше не будет на земле святых, объявленных святыми волею самых отпетых грешников! Кайтесь — и с этого часа забудьте о страхе! Не станет страха — не станет и грехов! Не станет грехов — значит, все будут святыми! Я нарекаю святыми всех вас! Если не боишься — значит, больше не захочешь грешить! Раз не захочешь грешить — значит, ты святой! Раз ты святой — значит, нет в тебе страха! Я нарекаю вас святыми! Вы все — святые, ибо услышали мое слово и сохранили его в своем сердце. Вы — святые! Любите друг друга и радуйтесь! Радуйтесь, говорю я вам!
Дюжина ворон, серых птиц с черными головами, бесстрастно наблюдала с надгробий за уничижением каявшейся толпою грешников: до тех пор, пока не были произнесены последние слова проповеди, грешники сотрясались в рыданиях, бились лбами об мерзлую землю, тянули трясущиеся руки, дабы прикоснуться к несомненно чудотворному балахону старца.
Вдруг все птицы, испуганно захлопав крыльями, взлетели с могильных камней, а спустя всего одно мгновение толпа грешных горожан уже прыгала от счастья и кружилась в веселой пляске, хохоча, и целуясь, и увлекая в свое радостное коловращение скелеты в балахонах, убогих и калек. Богатые дамы бесстрашно обнимали своих костлявых кавалеров, запечатлевая поцелуи прямо на их могильных оскалах. Огромные кузнецы в фартуках жонглировали карликами и уродцами, визжавшими от удовольствия. То все менялись друг с другом, и тогда полные жизни и горячей крови кузнецы подхватывали скелетов, а дамы начинали кружиться, облепленные со всех сторон грязными коротышками.
— Вот образ гармонии мировых сфер, — весело проговорил пророк немощным старческим голоском и повернул голову в мою сторону.
Естественно, что край капюшона затмил ему половину лица: в меня вперился один его, левый, глаз, и я увидел только левую половину его добродушной улыбки.
— Разве не так? — спросил старичок. — Разве перед нами не образ утерянного рая? Не достает только хищных зверей, львов и тигров, бережно вылизывающих агнцов и голубей.
Однако каким-то необъяснимым ужасом веяло от представшего передо мной веселья.
— У того, кто остается в стороне, — сказал я старцу, гордо имея в виду самого себя, — такая гармония сфер вызывает еще больший страх.
— Мудро, ничего не скажешь, — пробормотал старец и отвернулся. — Не по годам мудро, монсиньор. Всякая временная гармония, всякий временный рай должны вызывать страх у тех, кто видит Истину. Ваши глаза не обманывают вас, монсиньор. Ваши глаза позволят вам верно отличить черное от белого.
Тут старичок замолк, разумеется вызвав мой вопрос:
— Что означают такие слова?
— Черными конями запряжена повозка комиссара инквизиции, а на белом коне появится сам король Франции, — ответил старец. — Теперь-то он появится здесь, монсиньор, уверяю вас. Судьба проявит к нам благосклонность, если первым вы заметите белого коня.
— Насколько мне известно, миссия посланника заключается не только в различении цветов, — заметил я, обнажая руку до плеча и протягивая ее прямо к лицу старца.
Мрачный капюшон несколько раз кивнул.
— Удар Истины. Круг Змеи. Великий Мститель, — вроде заклинания пробормотал старец. — Нам известно, монсиньор, тайны можно не обнажать. Взгляните, монсиньор, на братьев. — Он вытянул руку, указывая на смешавшихся с веселой толпою скелетов. — Все они были доблестными рыцарями Храма. Они встали из гробов, чтобы встретить вас и засвидетельствовать собою великую несправедливость. Почему вы так медлили, монсиньор?
— У меня была отнята память, — смутившись, стал оправдываться я. — У меня было отнято имя. Какие-то неведомые силы полностью овладели моей судьбой, не желая открывать мне ни грана Истины. Наконец меня посадили на цепь, как дворового пса. Мне не дали никакого выбора. Я решил сорваться с цепи, отбежать подальше и посмотреть на мир со стороны.
— И что вам удалось увидеть, монсиньор? — усмехнулся старец.
— Немногое, — признался я. — Не более того, что вижу сейчас.
— Вы насытились? — вновь усмехнулся старец.
— Увы, нет, — вновь признался я.
— Именно поэтому пес вернулся на хозяйский двор? — вовсе не боясь моего гнева, без всякого злорадства проговорил старец.
На мое удивление, я сам не нашел в себе сил разгневаться и только смиренно промолчал в ответ.
— Разве вам не стало известно ваше высокое предназначение, монсиньор? — таков был следующий судейский вопрос.
И на этот раз я промолчал.
— Разве вам претит справедливость? — добавил старец шестой вопрос и, не дожидаясь моего ответа, сказал: — Если бы вы появились, как было положено, год назад, вы бы спасли от пыток и долгого заточения братьев, добровольно принявших мученичество.
— Мне не известно, на чьей стороне справедливость, — решился я ответить-таки на тот, пятый, вопрос.
— Вы, монсиньор, хотите встать на место Господа Бога? — с заметной горечью усмехнулся старец. — Скажу я вам, почему вы решились вновь вернуться на священную дорогу. Вовсе не великая миссия посланника тешит вашу гордыню. Вам хочется во что бы то ни стало узнать, какого вы рода, кто ваши родители и каким именем нарекли вас по рождению. Вы стали печься о своем наследстве и — только о своем собственном наследстве.
И так-то моя плоть вся дрожала от холода, а теперь холод и вовсе пробрал меня до самого мозга костей. В словах старца заключалась страшная истина.
— Не кайтесь, монсиньор, — вдруг ласково проговорил могильный пророк. — Не тратьте времени и сил на то, что предназначено для невежд. Мой вам совет: раз вы по своей воле вернулись на Путь, то пока забудьте о себе и попробуйте всею душою и всем разумением своим попечься о наследстве Истины.
— Что я должен делать? — покорно спросил я, опять принявшись мелко стучать зубами.
— Вы должны делать все по порядку, монсиньор, — ответил старец. — Сначала вы должны различить цвета: белый и черный. Мое же предназначение пока состоит только в том, чтобы послужить вашему спокойствию: обогреть и накормить вашу милость.
И владыка города мертвых повел меня прочь от буйного веселья, попиравшего «камни покаяния» и прах человеческий.
— Любопытно, однако, узнать, в чем предназначение того, кого послали во Францию вместо меня? — спросил я старца, ступая шаг в шаг за ним между могильных камней.
Старец на миг остановился, и я заметил, что капюшон качнулся влево, а потом — вправо.
— Никто не может заменить посланника, ибо второго Удара Истины нет, — услышал я его голос. — Вас либо обманули, либо тот, кто следовал во Францию по тому же самому пути, предваряя вас, имеет иное предназначение.
Ничего большего старец мне не сказал.
Едва мы углубились в лабиринт надгробий, как уже достигли небольшого склепа, из дверей которого мне в лицо дохнуло самое что ни на есть живое тепло обычного людского жилища.
Приняв приглашение, я ступил внутрь и увидел жаровню с ярко-красными углями, скромную трапезу на низком столе и лежанку, покрытую несколькими шерстяными одеялами.
Не успел старец закрыть за собой дверь, как раздалось хлопанье крыльев, и у него на плече появилась ворона, державшая в клюве свиток с завещанием флорентийского тамплиера.
— О, Карл! Ты-то всегда поспеваешь вовремя! — весело воскликнул старец, словно бы мне в упрек.
Он вытащил свиток из клюва своего верного слуги, еще раз, нахмурившись, прочел про себя завещание, а затем, вздохнув, бросил свиток на раскаленные угли. Свиток, потрескивая, стал коробиться и вдруг вспыхнул весь разом, за пару мгновений превратившись в призрачный серый иней, покрывший угли.
— Пусть так же быстро и легко сгорят все его грехи, — сказал старец, а затем обратился к птице: — Карл, ты заслужил начать трапезу первым.
Ворона тут же слетела с его плеча, ухватила с блюда одну из лепешек и, важно отойдя на край стола, принялась ее расклевывать.
— Теперь, вслед за Карлом Великим, можем приступить и мы, — сказал старец, и ничего лучшего для дальнейшего познания Истины, я, признаться, не смог бы придумать в тот час.
Простая гороховая похлебка воодушевила меня более самой вдохновенной проповеди, горячее вино властно повелело моей крови растаять и снова бежать по жилам, и, наконец, я, приняв все происшедшее за самые благоприятные знаки Провидения, стал вытирать со щек побежавшие по ним слезы умиления.
— Монсиньор, готовьтесь провести нынешнюю ночь в компании мертвецов, — сказал старец, замечая перемену в моих взглядах на жизнь. — Опасаюсь, что торговец Боккаччо будет сердится на вас за то, что вы более не сможете принять его приглашение. Отлучаться нельзя, ведь черный или белый конь может появится в любое мгновение, однако ожидание может продлиться долго.
— Я терплю и смотрю, — ответил я старцу, вспомнив кое-что важное из своей румской жизни.
— Крепкие слова, — довольно проговорил старец.
Ни в эту ночь, ни в последующую восставшие из гробов тамплиеры так и не появились за нашим столом, и мне в душу стало закрадываться подозрение, что толпа плясала вовсе не с масками, а с настоящими скелетами. Впрочем, вопросов по этому поводу я решил своему новому «Вергилию» не задавать.
За два дня и две ночи, которые я провел в склепе, едва ли не безотрывно глядя в маленькое зарешеченное окошко, старец появлялся всего два раза, принося еду и новые угли. Он не произносил ни одного слова, и только его ученая ворона, сидевшая у него на плече, трескуче каркала, как только он ступал на порог:
— Откройте двери! Пришел Кар-рл Великий!
В продолжение двух дней из-за надгробных плит доносились до склепа веселые крики и песни, и я думал, что старец снова и снова учит горожан радоваться жизни, объявляя их святыми, освобожденными от всякого страха.
В третий день на кладбище Невинноубиенных младенцев стояло вполне законное для такого места безмолвие.
Чутье подсказывало мне теперь, что именно в третий день должно наконец нечто произойти. С утра до сумерек я до боли в глазах всматривался в туманную пелену, пропитавшую весь эфир от земли до небес, и вот, когда пелена потемнела, я, на миг пред тем отвернувшись и взглянув на алые уголья, заметил посреди темноты белое пятнышко, как бы медленно опускавшееся с небес.
— Белый конь! — невольно прошептал я и, выскочив из склепа, тут же произнес эти слова в полный голос: — Белый конь!
— Монсиньор, вы уже видите белого коня? — изумленно спросил старец, словно бы выросший рядом со мной из-под могильной плиты. — Я чувствую, как под ногами отдается стук копыт, однако всадники еще далеко, их много, а перед нами еще немало глухих стен.
Одно, два, три белых пятнышка трепетали в сумраке перед моими глазами.
— Белые кони! — пробормотал я и потряс головой, пытаясь отделаться от наваждения.
Пять, десять — и уже сотня белых коней приближалась ко мне со всех сторон, легко и бесшумно опускаясь с небес.
У меня закружилась голова, и я едва не повалился на камни, но маленький могильный царь оказался цепким и сильным: он удержал меня на ногах.
— Успокойтесь, монсиньор, — ласково проговорил старец, жесткими пальцами вцепившись в мой локоть. — Вы видите то, что не было запечатлено даже в той памяти, какая была у вас отнята.
Мириады пушинок опускались с небес, покрывая надгробия легкой и приятной для глаз белизною. Я поднял к небу лицо, и белый пух стал опускаться на мой лоб и на щеки, и я чувствовал короткие и холодные прикосновения и думал вовсе не о кладбищенском холоде, а о моей дорогой Фьямметте. Так нежно прикасались к моему лицу раньше только ее прохладные пальцы. Старец ошибся: моя память уже запечатлела нечто очень важное, с чем можно было бы теперь сравнить любое новое, приятное для чувств явление и что, как мне казалось, уже нельзя было отнять у меня никаким, даже самым сильным колдовством. Я невольно провел рукой по лицу и увидел на своей ладони капли простой воды.
— Дождь, — сказал я. — Простой дождь, только падающий на земли из более высоких и чистых сфер.
В ответ на мои слова старец усмехнулся и кивнул. Потом он грустно вздохнул, обводя рукой бескрайнее белое порывало, лежавшее на земле и могильных плитах, и тихо проговорил:
— Великий плащ Ордена. Он покрывает землю и внезапно исчезает вновь. Подобно росе.
— Белый конь! — содрогнувшись, прошептал я, ибо теперь действительно увидел в сумраке приближавшегося всадника на белом коне. — Вот он!
Над всадником тяжело покачивалась на высоком древке орифламма, а следом двигалась едва различимая в темноте многочисленная свита.
— Белый конь! — прошептал старец. — У вас счастливый глаз, монсиньор! Сам король Франции по своей монаршей воле явился в гости к мертвецам! Добрая примета, монсиньор! Теперь нам следует выйти к нему навстречу.
Обогнув полдюжины надгробий, мы втроем с Карлом Великим выступили к «камням покаяния» и остановились у россыпи костей и черепов, покрытых «великий плащом Ордена». Перед нами остановилась целая армия во главе с королем. Облака пара клубились над нею.
Спешу заметить, что к такой важной встрече я уже успел нарядиться, как и старец, в черный макабрский балахон, подпоясанный алой тесьмой, а потому просторный капюшон позволил мне без опаски разглядеть короля, укутанного в пурпурный плащ с горностаевой оторочкой.
Надо мной в седле возвышался довольно одутловатый человек более, чем средних лет, с округлым, бледным и очень гладким лицом. Именно за правильность черт, за редкостную чистоту и гладкость кожи повелителя Франции Филиппа можно было бы назвать красивым. Впрочем, некое совершенство восполняли и его волосы, которые густыми, прихотливо вьющимися прядями выбивались из-под высокой шапки из черного меха. Королевские скулы довольно сильно выпирали, еще больше сглаживая кожу на лице, однако же при том как бы уменьшая королевские глаза, как бы защищая их от излишнего внимания со стороны. Необычайной остроте взгляда, вероятно, и должны были соответствовать только такие, небольшие и защищенные скулами глаза, подобные небольшим бойницам для самой коварной арбалетной стрельбы. Остается добавить только, что все движения короля были медлительны; медлительным было и его дыхание, и, в отличие от резвого пара, вырывавшегося из конских ноздрей и ноздрей королевских подданных, жизненный пар короля вытягивался ленивой струйкой из крохотного отверстия между его губами. Мне показалось, что король Франции, несмотря на явное коварство и явную хитрость, должен быть весьма спокойным и рассудительным человеком.
Правду говоря, никакого внимательного наблюдения за монаршей особой с моей стороны и не было. Образ Филиппа Красивого запечатлелся в моей памяти за одно мгновение, ибо в действительности не успел бы я произнести и трех слов моего нынешнего, столь подробного описания, как уже был бы прерван спокойным, но властным голосом, обращенным к нам, которые проявляя свою искреннюю покорность, преклонили перед монархом колени.
— Ты — пророк с кладбища Невинноубиенных! — изрек над нами монарший глас.
— Ты — король Франции Филипп по прозвищу Красивый! — весьма дерзко, однако же вполне уважительно отвечал ему своим главным, громовым гласом кладбищенский старец.
— Хорошее доказательство дара прозорливости, — усмехнулся король.
Вся королевская свита вместе с конями поддержала своего повелителя верноподданным смехом.
— Мы наслышаны о тебе и твоих еретических проповедях, — продолжал король. — Неужто и вправду не найдется теперь ни одного священника, коему позволено свыше отпускать грехи?
— Отныне Святой Престол, перенесенный в твои владения, будет подчиняться твоей воле, повелитель Франции, — отвечал старец, — и, следовательно, твоей воле будет подчиняться право священников отпускать грехи.
Я заметил, что конь короля вздрогнул и переступил копытами.
— Вот как! — сдерживая некоторую растерянность, проговорил король и обратился к невзрачному человеку в темной одежде, восседавшему на соловом жеребце по правую руку от повелителя: — Вильям, что ты на это скажешь? Нет ли в этих словах еще худшей ереси?
Вскоре я узнал этого человека ближе: то был Вильям Ногарэ, ближайший сановник короля, происходивший из семьи казненных еретиков-альбигойцев, которые не признавали христианской церкви и клеймили подряд всех монахов и священников за порочный образ жизни. Замечу, что именно Вильяму Ногарэ король Франции поручил два самых тяжелых дела в свое правление: арест Папы Бонифация и арест Великого Магистра Ордена Храма вместе с пятнадцатью тысячами рыцарей.
— Ваше Величество, можно ли признать ересь в том, чему должно произойти в видимом мире? — пожав плечами, спокойно проговорил Вильям Ногарэ. — Мир же невидимый находится в ведении Святой Инквизиции. Если этот человек коснется в своих речах мира невидимого, тогда вашей милосердной волей наше недоумение смогут разрешить отцы-доминиканцы.
— Всех, кто приходит на твои проповеди, старик, ты объявляешь святыми, — заметил король. — Разве в твоей власти выпекать святых, как лепешки?
— Я призываю всех стать святыми, не откладывая дело до Страшного Суда, — ответил старец, по моему разумению немного слукавив. — Я лишь повторяю призыв Господа, засвидетельствованный в Писании. Благородный же человек сам, по своей воле и безо всякого повеления свыше, способен стать святым, что прекрасно доказал твой достославный предок, святой король Людовик.
— Говорят также, что ты умеешь изгонять из людей злых духов и исцелять безумцев, — проговорил король Франции со странной улыбкою, истончившей его губы; я назвал ту улыбку «странной», поскольку так и не смог определить, добрая она или злая.
— Когда я говорю одержимому, что он должен быть свят, темный дух не выдерживает веления быть святым и покидает порабощенную им душу, — отвечал старец. — Тогда человек начинает радоваться и плясать от счастья.
— Я вопрошаю тебя, старик, — изгнав с уст улыбку, грозно изрек король, — сможешь ли ты излечить самых отъявленных безумцев, если имя им легион? Сможешь ли ты излечить разом целое княжество безумцев во главе с самым отъявленным безумцем и богоотступником нашего века?
— Приведи их сюда, король Франции, — ничуть не менее грозно ответил старец.
На эти слова Филипп Красивый рассмеялся, и смех его был столь многозначителен, что вся его свита вместе с Вильямом Ногарэ предпочла, напротив, затаить дыхание.
— Сделать это не совсем просто, — отсмеявшись, сказал король. — Мы предпочли бы, старик, чтобы ты последовал в то место, где ограждены от остального счастливого мира эти опасные безумцы, если только твоя сила не иссякнет за пределами этого печального места. Скажешь, что слух об этом верен? Сила иссякнет?
— Твое желание, король, — закон для твоего подданного, даже мертвеца, — проговорил старец, — но я подтверждаю правдивость слуха. Однако в моих силах послать тебе в помощь моего ученика, еще полного жизни. Он станет моими глазами. Укажи дорогу, а безумцев я различу сам.
— Дорога, о которой ты спрашиваешь, ведет на Шинон, — неторопливо проговорил король, пристально глядя на старца.
Черный балахон не шелохнулся, когда старец спустя несколько мгновений заговорил снова:
— Значит, король, ты отправляешь мои глаза прямо в самый крепкий застенок Франции, к Великому Магистру Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма.
— Ты — самый великий прозорливец из всех, о которых я слышал, — покачал головой король Филипп. — Но прежде я хочу удостовериться в твоем искусстве врачевания.
— Твоя воля, король Франции, — сказал старец.
Король подал знак, и из длинной свиты, хвост которой терялся в белесой пелене, смешавшейся с зимним сумраком, выступили два всадника. Один из всадников вел второго коня на поводу, и на том коне сидел худощавый юноша. Когда они приблизились, я заметил, что на лице юноши застыла болезненная печаль, а глаза его сверкали огнем некой неутолимой страсти.
— О, такое безумие несомненно зовется любовью! — весело проговорил старец. — Стоит ли теперь излечивать славного юношу от болезни, которую каждый доблестный рыцарь должен преодолеть сам, дабы остаться на всю оставшуюся жизнь вполне здоровым?
— Это любовь, перешедшая в безумие, — довольно хмуро отвечал Филипп Красивый. — Я привез к тебе своего любимого пажа, старик. Я желаю, чтобы на его милых щечках вновь заиграл здоровый румянец. Так окажи любезность своему королю, старик.
— Король, твоего верного пажа, — сказал кладбищенский дервиш, — должно быть, мучает его собственная тень?
Король приподнял бровь и коротко взглянул на своего визиря:
— Вильям, ведь действительно так?
— Доблестный дворянин, которого ты видишь перед собою, досточтимый старец, — с напускною, и я бы даже сказал, шутовскою учтивостью обратился Ногарэ к могильному дервишу, — избрал Дамою своего сердца одну весьма знатную госпожу, однако на одном из турниров эта знатная особа предпочла чрезмерное к себе внимание другого рыцаря куртуазной страсти, более высокого ростом и умудренного годами. С того дня у преданного, но юного дворянина помутилась память и повредился рассудок. Он теперь помнит, будто бы коварная, но прелестная особа протянула свою перчатку ему самому, но как бы старшему годами. Хуже того, с наступлением ночи, «старший» двойник начинает мерещиться нашему доблестному рыцарю по темным углам, и он выхватывает свой меч, чтобы сразиться с двойником в честном поединке. Двое стражников Его Величества уже получили ранения. Такова вкратце эта занимательная, однако весьма хлопотная история.
— Добрый человек, благодарю тебя, — с не менее напускною важностью проговорил старец и коротко поклонился. — Твой рассказ значительно облегчит дело исцеления. По правде говоря, оно представляется мне настолько простым, что я предпочел бы передать его моему ученику. Мне кажется, что с недугом своего ровесника он сможет справиться даже лучше, чем я.
Наступило молчание, и я не сразу догадался, что речь пошла обо мне.
— Разве тебе не известно, старец, что ученик не может стать больше своего учителя? — заметил Ногарэ. — Ведь так сказано в Писании.
— Верно, — согласился дервиш. — Однако тень очень часто превышает размеры своего господина. Ныне как раз тот самый случай, и следует им воспользоваться для исцеления больного, раз вы все считаете этого доблестного юношу таковым.
— Кто твой ученик? — коротко вопросил король.
— Мой ученик родом с Кипра, — сказал старец, еще сильнее смутив меня, но однако же и указав мне выход из положения, — и происходит он из очень древней дворянской семьи. Судьба его оказалась, увы, весьма нелегкой и запутанной.
— С Кипра? — усмехнулся король. — С того самого Кипра, где говорят, что девица, не переспавшая с тамплиером, еще не годится в невесты? С того самого Кипра, где матери предупреждают своих отроков словами: «Бойся тамплиерского поцелуя»?
— Ваше Величество, я не помню, чтобы мать говорила мне такие слова в мои отроческие годы, — заговорил я, собравшись с духом. — Честно признаюсь вам, Ваше Величество, что даже не помню никакого Кипра. Ныне я стою здесь, посреди кладбища Невинноубиенных младенцев, и готов во всем исполнять волю Вашего Величества.
— Однако выговор вполне может считаться кипрским или даже палестинским, — заметил королю Вильям Ногарэ.
Король кивнул, и наши взгляды встретились.
— Вам будет предоставлено место во дворце, — неторопливо и даже вкрадчиво проговорил король и тряхнул головой, отчего с его черной шапки посыпался вниз белый пух.
— Ваше Величество, места вполне достаточно и здесь, — отвечал я.
— Старик, твой ученик хочет сказать, что для лечения потребуется всего одна молитва? — с напускным изумлением вопросил Ногарэ.
— Мой ученик готов исполнить волю короля Франции, — отвечал дервиш.
По моему указанию бледного юношу поставили прямо передо мной. Я вперился взглядом в его глаза и стал намеренно думать о чем угодно, только не о самом лечении и возможной неудаче. «Неудачи быть не может, — заранее решил я, — если, по расчету дервиша, я избавлюсь от всякого страха и попробую на один час сделаться святым». Я долго думал о моей любимой Фьямметте, а затем размышлял о том, что, простившись с нею, наверно опять заснул необыкновенным сном, раз попал на кладбище, куда запросто по вечерам приезжает в гости к покойникам сам французский король.
В таких размышлениях я провел половину часа, а, может статься, целый час. Сумерки густели, и, когда я почти перестал различать лицо юноши, стражники короля окружили нас потрескивавшими факелами.
Тогда, в тревожном свете факелов, я увидел, что все лицо юноши покрыто каплями влаги, и подумал, что, наверно, он уже плачет от усталости. Мне захотелось пожалеть его, но я подумал, что жалеть ни в коем случае не полагается, иначе все надежды старца на своего ученика пойдут прахом.
«Доблестный дворянин не может плакать, — заключил я, видя, как он мучительно жмурится и роняет одну за другой слезы. — Он, как и я, нестерпимо захотел спать. Еще немного, и мы повалимся друг на друга. Пора завершать это надувательство».
Не сводя глаз с влюбленного безумца и не обращаясь ни к кому определенно, я, насколько мог властно, повелел:
— Дайте ему меч!
По короткому порыву теней и по тому, как болезненно искривились губы безумца, я определил, что ему в правую руку вложили рукоятку меча.
— Отвечайте на три вопроса, сударь! — в полный голос приказал я.
— Да, мессир! — едва живым голосом ответил юноша, чем подтвердил то, что я пока еще не совершил ошибки.
— Вопрос первый! — изрек я. — Вы видите меня теперь перед собою?
— Да, мессир, — был покорный ответ.
— Вопрос второй! Вы видели меня когда-либо раньше?
— Нет, мессир, — был столь же покорный ответ.
«Если я сумею задать и третий вопрос, — мелькнула у меня в голове мысль, — значит, из меня и вправду выйдет искусный джибавия, целитель безумия».
В продолжение этой мысли моя правая рука успела неторопливо размахнуться, затем — прицелиться, и, как только, покончив со всеми мыслями, я отдал ей последний приказ, она изо всей имевшейся в ее мышцах силы, закатила моему безумному дворянину увесистую оплеуху.
Юноша отшатнулся, факелы вздрогнули, а меч взлетел над моей головой.
— Вопрос третий! — сорвав голос, выпалил я. — Вы дали слово ответить! Слово благородного человека!
Юноша окаменел.
— Вопрос третий! — уже с должным спокойствием произнес я. — Если вы меня никогда не видели раньше, откуда вам известно, что ударил вас именно я?
Юноша остался передо мной бездвижным изваянием.
— Погасите факелы! — повелел я. — Немедленно погасите факелы!
Тьма обрушилась на нас и поглотила обоих. Я затаил дыхание.
Миновало одно мгновение, потом миновало второе. Так, возможно, миновала половина той необыкновенной ночи.
И вот, наконец, я услышал донесшийся из темноты шепот:
— Благодарю вас, мессер ! Благодарю вас! Мне уже лучше. Мне стало гораздо лучше.
— Вы уверены в своих силах, сударь? — столь же тихо и при том весьма участливо проговорил я, успев вытереть с лица горячий, как факельная смола, пот и возблагодарить Господа за то, что Его волею я остался-таки живым и невредимым.
— Да, мессер, — прошептал юноша. — Вы избавили меня от страха.
— Теперь свет станет весьма уместен, — сказал я, решив, что настала пора немного погордиться своей находчивостью.
Факелы вновь вспыхнули передо мной и выстроились длинной цепью, освещая королевскую свиту, которая едва не на целую милю вытянулась позади своего повелителя. У меня появилось предчувствие, что один из факелов уже освещает уготованное мне а, может быть, и могильному старцу, место в свите.
Я увидел, каким решительным жестом паж вытер капли влаги, покрывавшие его лицо, и как преданно посмотрел он на своего короля, заговорив наконец живым и звонким голосом:
— Мне стало гораздо лучше, Ваше Величество!
Король коротко переглянулся с Вильямом Ногарэ, и тот ответил важным кивком.
— Что ты скажешь на это, Карл? — раздался у меня за спиной голос дервиша.
— Кар-рл Великий пришел! — громко протрещала ворона. — Откройте двери!
На лице юноши появилась изумленная улыбка. Он растерянно огляделся по сторонам, а затем, к моему окончательному облегчению, убрал меч в ножны.
— Король, твой паж выздоровел, — сказал кладбищенский пророк. — Для него наступила добрая ночь. Теперь он не опасен ни для себя самого, ни для собственной тени.
— Чудо! — донеслось из королевской свиты тихое слово.
— Чудо! Чудо! — шепотом вторили другие голоса.
Паж подошел к королю, и тот, чуть наклонившись с коня, пригляделся к лицу своего любимца и ласково потрепал его за щеку.
— Теперь я вижу, старик, — проговорил король, коротким жестом указывая пажу на его обычное место в своей свите, — теперь я вижу, что твоего ученика можно отправлять послом в страну безумцев вместе с твоей ученой вороной. — И обратившись ко мне, король вопросил: — Назови свое имя, искусный целитель любовной горячки.
— Мне не известно мое имя, Ваше Величество, — признался я, не опуская глаз. — В том-то все мое несчастье.
— Сообщение полностью подтверждается, Ваше Величество, — раздался голос Ногарэ, приложившего немалый труд, чтобы сдержать волнение. — Действительно, ночь оказалась доброй, Ваше Величество.
— В таком случае мы сможем отплатить этому искусному целителю за его добрую услугу не менее доброй услугой, — таинственно улыбаясь, неторопливо проговорил король. — Вильям, известен ли тебе человек родом с Кипра, молодых лет, умеющий исцелять безумие и к тому же не ведающий своего настоящего имени?
— Да, я слышал о таком, Ваше Величество, — с не менее таинственной улыбкой на губах, сказал Ногарэ. — Он пришел. Он стоит перед вами, Ваше Величество. Не кто иной, как молодой граф де Ту.
Я обомлел, несмотря на то, что всем случившимся со мною чудесам уже давно потерял всякий счет.
— Граф де Ту?! — воскликнул я и невольно обернулся на старика.
Тот очень ласково улыбнулся мне, потом медленно опустил веки, как бы подтверждая поразительные слова Ногарэ и при том указывая мне во всем подчиняться обстоятельствам, а спустя пару мгновений вновь открыл глаза.
— Граф де Ту? — нарочито удивился король. — И все? Но где же имя?
— Полного имени не упоминалось ни в одном сообщении, — сказал Ногарэ.
— Какая досада! — покачал головой король. — Я-то думал, что мы сможем отплатить графу сполна. Однако я полагаю, что дело поправимо. Итак, граф, — обратился он ко мне, — мы рады приветствовать вас в наших владениях. Нам кое-что известно о необычайной судьбе вашего рода и вас самих. Нам известно, что заставило вас избрать столь необыкновенный путь и какие ужасные опасности подстерегали вас в дороге. Но теперь главному свидетелю по делу о богоотступнических деяниях Ордена Соломонова Храма страшиться нечего. Отныне он поступает под личную защиту короля Франции.
«Может ли старик быть предателем? — не добавляя к тому волнению, что уже наполнило мою душу, ни капли сверху, спросил я самого себя и тут же самому себе решительно ответил: — Будь он кем угодно, а только обстоятельства, конечно же, находятся во власти той самой, невидимой силы, цели которой не известны никому из проводящих эту „добрую“ ночь посреди кладбища».
Признаюсь, что я опять думал только о своем собственном наследстве, судьба же Ордена тамплиеров волновала меня в те мгновения меньше всего.
— Ваше Величество, — обратился я к королю. — При всем моем желании я не уверен, что смогу стать истинным свидетелем. У меня отнято не только имя, но и память.
— Нам известно, граф, — продолжал король, — что ваша память хранит главную тайну Ордена, потому-то она, ваша память, и была запечатана, подобно самому ценному сокровищу казны. Нам известно также, граф, что ваша память может быть открыта с помощью особого ключа, коим является некое тайное слово. Это слово пригодно к использованию в качестве ключа только один раз, как если бы ключ был отлит изо льда, а замок был бы горяч, как живое человеческое тело. Тайное слово известно Великому Магистру Ордена, и он дал мне обещание произнести его. Дорога на Шинон очищена для вас от всех встречных. На этой дороге вас будет охранять целое войско. Мы желаем, чтобы вы отправились немедленно, но, разумеется, предварительно переодевшись в нечто более соответствующее вашему дворянскому достоинству и еще далеко не оконченной жизни.
— С великой радостью исполню волю Вашего Величества, — сказал я, кланяясь и действительно испытывая некое подобие радости: разоблачение тайны приблизилось, вроде колодца в пустыне, до края которого уже легко было дотянуться рукой. — Однако прошу у Вашего Величества позволения проститься перед дорогой со своим Учителем.
— Прощайтесь, граф, — разрешил король, поворачивая своего коня и вместе с ним приводя в движение всю свою свиту, а вместе со свитой — вереницу трескучих факелов. — Хотя, как говорят, уходя с кладбища, не следует оглядываться назад.
Я повернулся к могильному дервишу и увидел, что его черный балахон совсем побелел от падавшего с небес холодного пуха, и, если бы не продвигалась мимо нас долгая вереница факелов, я уже и не различил бы в темноте маленькую неподвижную фигуру. На правом плече старца восседал Карл Великий, невозмутимо отряхивая крылья.
— Учитель, — обратился я к старцу, едва не произнеся это священное слово на арабском наречии. — Скажи мне: то, что я теперь вижу своими глазами, происходит во сне или наяву? Сам король Франции со всеми своими придворными является на кладбище, в гости к загадочному старику, к которому он вполне мог бы выслать комиссара инквизиции. Не так ли? Ведь и ты, Учитель, опасался черного коня.
— Ваша новая память, монсиньор, не только успела пробиться из семени, но уже приносит первые добрые плоды, — ласково произнес старец, но его ласковую улыбку я мог только вообразить, поскольку края капюшона затеняли все его лицо. — То, что первым появился белый конь короля, наилучшим образом доказывает ваше право называться истинным посланником Удара Истины.
— Насколько я могу догадаться, на заднем дворе королевского замка растет дерево, в которое изредка попадают стрелы с важными сообщениями, — вслух подумал я.
— Возможно, есть особый вид плодовых деревьев, из которых порой произрастают оперенные прутики, — посмеиваясь, ответил мне могильный дервиш. — Однажды, монсиньор, некий честный человек шел по улице в позднее время и вдруг увидел, что ему навстречу приближаются какие-то люди, тихо между собой переговариваясь. Он очень испугался, подумав, что они могут оказаться грабителями и, перепрыгнув через ближайшую ограду, упал в канаву, полную воды и грязи. Там он и остался лежать, затаив дыхание и в ужасе замечая, что встречные тоже стали перелезать через ограду. И вот они окружили несчастного, склонились над ним и спросили: «Добрый человек, не грозит ли тебе какая-либо опасность, от которой ты решил скрыться в этом неприглядном месте, и не можем ли мы оказать тебе какую-нибудь посильную помощь?» Тот же с облегчением вздохнул и ответил им так: «Видите ли, добрые люди, случилась довольно непростая история: я попал сюда из-за вас, а вы попали сюда из-за меня».
— Теперь я почти готов поверить в то, что сам король Франции вынужден быть моим следующим провожатым к Великому Мстителю, мстящему не кому-нибудь, а самому королю за весь арестованный им Орден тамплиеров, — самым тихим шепотом проговорил я, надеясь, что топот коней заглушает мои слова.
— Монсиньор, вам пойдет на пользу узнать, что именно с кладбища Невинноубиенных младенцев донеслось до королевского Дворца пророчество о том, что король Филипп сменит прозвище, став Святым. Он поведет святое во всех отношениях воинство, дабы, сокрушив Рим, собственными руками воздвигнуть истинный Святой Престол посреди Иерусалима, освобожденного им от неверных.
— Теперь я уже не сомневаюсь в том, что король Франции явился к тебе наяву, Учитель, — только и оставалось признать мне.
— Во всяком случае, если кому и снится ныне приятный сон о посещении кладбища Невинноубиенных младенцев, так — только самому королю, — весело сказал могильный дервиш.
Между тем, его самого стала окутывать темнота, а стук копыт за моей спиной начал стихать. Обернувшись, я увидел, что уже вся королевская свита прошла мимо нас, и только один всадник остался на месте, держа за поводья второго оседланного коня.
— Поторопитесь, монсиньор, — сказал из темноты парижский дервиш. — Если король этой страны спросит вас, почему вы задержались, сообщите ему, что пророк с кладбища Невинноубиенных научил вас, как превратить всех рыцарей Соломонова Храма в святых. Ведь только святые должны составить королю отборное войско рыцарей, принявших обет Креста, для последнего похода в Святую Землю.
— Неужто и вправду я смогу превратить их в святых, дабы мне самому поверил король? — вопросил я.
— Монсиньор уже забыл о Великом Мстителе и его миссии? — нарочито удивился старец. — А также и об истории человека, который прятался в грязной канаве от грабителей?
— Учитель слишком рано похвалил мою новую память, — признался я, — ибо его ученик успел забыть и о третьем: о тайном слове, которое должно раскрыть его исконные воспоминания, а тем воспоминаниям, вероятно, и полагается подсказать ученику, каким способом можно восстановить святость истинных рыцарей Храма. Таким образом кольцо замкнется.
Невольно я прибавил еще два слова:
— Кольцо Змеи.
— Монсиньор, — донеслось до меня из темноты, и я, с великим трудом приглядевшись, увидел, что старец опускается передо мной на колени.
Тут я почувствовал могильный холод на сердце и сказал:
— Учитель, пощади меня. Поднимись с земли.
Я ничего не услышал в ответ, да и самого дервиша больше не мог различить во мраке. Тогда я повернулся прочь и подумал, что старец, сделав свое дело, уже соединился с Единым и слился с холодом могильных плит, подобно истинным джибавиям, которых я некогда видел лежащими на белом мраморе посреди площади в Конье.
Садясь на коня, я услышал хлопанье вороньих крыльев, однако стук копыт о твердую землю тут же заглушил те эфирные звуки.
Двигаясь по сумрачной дороге к крепости Шинон, я старался не думать ни о чем. Более же всего старался не размышлять о трех предметах: о своей родственной связи с графом Робером де Ту, о возможной родственной связи с ним же трактатора Тибальдо Сентильи (я весьма часто вспоминал о нашем внешнем сходстве) и, наконец, о том, где мне суждено повстречать Великого Мстителя и кто таковым окажется.
Подобно мрачной гряде неприступных скал, постепенно вздымались передо мной стены и башни крепости Шинон. К восходу солнца они поднялись из-за окоема земной тверди до стремян скакавших впереди меня всадников, к полудню доросли до их тускло поблескивавших наплечников, а на закате дневного светила обтесанные обрывы той цитадели уже возвышались над моими грозными стражами темной вавилонской громадой, превращая их всех из геркулесов в неприметных карликов.
Мне делалось зябко — скорее от робости, чем от крепчавшего к вечеру холода, и я все плотнее укутывался в роскошную меховую накидку, отороченную русскими куницами, и все ниже надвигал на глаза и уши большую меховую шапку. На ближних подступах к Шинону в руках сопровождавших меня воинов, как и в прошлую ночь, вспыхнули трескучие факелы, и я невольно обернулся назад: за моей спиною двойная вереница тревоживших душу огней неисчислимо растянулась едва ли не до самого Парижа. Это зрелище придало мне, посланнику Удара Истины, столь почетно принятому на французских землях, немного бодрости и немного мужества.
Небо очистилось, но звезд я успел насчитать не больше дюжины, поскольку башни Шинона уже затмили надо мною едва не весь небосвод.
Впереди нас, в сумраке, тяжело заскрипели цепи, и те железные звуки соединились в хоре со звуками иного, с неимоверным напряжением движимого железа, звуками, гулко отдававшимися в пещерной пустоте. Проехав сквозь холодный вертеп, мерцавший лживыми звездами подземной влаги, я очутился в лабиринте внутренних дворов цитадели.
— Монсиньор, вам — к башне Кудрэ! — услышал я рядом с собой хриплый от холода голос, и рука провожатого, взяв под уздцы моего коня, повела его в сторону от факельных огней, прямо к настоящему вавилонскому столпу.
При взгляде от подножия этой рукотворной скалы можно было подумать, что своей вершиной она дерзко передавила не одну сотню звезд на Божественном своде. Вновь напоминая своим жутким пением о вечных оковах Тартара, заскрипели и застонали неподъемные засовы и решетки; затем передо мною, в устье узкой пещеры, появился огонек, заключенный в тюремную лампу, и, следуя за ним, я двинулся вверх по широкой спирали из гранитных ступеней.
Итак, поднявшись кругами на неизвестную высоту, от восхождения на которую, признаюсь, у меня заломило икры, я оказался перед освещенной огоньком дверью, что была окована железным переплетом толщиною в два пальца. Увидев меня, недовольно, подобно церберам, но, вместе с тем, и покорно заворчали вековые замки. Затем, лязгнув, разъединились петли. И вот, наконец, освобожденная от всех печатей дверь тронулась и открыла мне вход в «святая святых» великого королевского каземата.
Оттуда, из самого мрачного и недоступного застенка Франции, на меня дохнуло живое тепло, и только это приятное тепло простого домашнего очага немало изумило меня, все же остальное ничуть не изумило, ибо увидел я именно то, что и ожидал увидеть.
Я увидел алое тамплиерское «тавро» на белом поле, освещенное двумя масляными светильниками и жаркими углями, багряно сиявшими на широкой жаровне, что была воздвигнута посреди темницы на железном треножнике.
Я увидел белый тамплиерский плащ, образ духовной чистоты, покрывавший плечи и спину грузного, согбенного человека, который неподвижно восседал на невысоком резном креслице с округлыми подлокотниками.
Я сделал два шага внутрь этого скорбного жилища, и дверь неторопливо заскрипела за мною, как бы радуясь, что теперь может удержать хоть до скончания века уже не одного, а двоих важных пленников.
Впрочем, здесь еще оставался и некий третий, тень коего я приметил с порога и тоже ничуть не удивился, понимая, что такая знаменательная встреча не обойдется без королевского соглядатая; но то была только тень, способная просочиться через любую щель и под любую дверь.
Некоторое время я заворожено смотрел на белое тамплиерское поле, запечатленное алым тавром, и наконец решился произнести первые слова.
— Монсиньор Великий Магистр, — трепеща душою, однако же твердым, как мне показалось, тоном выговорил я.
— Монсиньор Посланник Удара Истины, — услышал я в ответ приветствие, произнесенное глухим старческим голосом, и это приветствие поразило меня, поскольку вслед за франкским «монсиньором» последующие три слова были произнесены на особом арабском диалекте, которым пользуются в крайних случаях только ассасины и который вдруг оказался мне понятен.
— Я пришел, господин! — трепеща уже и душою, и голосом сказал я на том же тайном наречии и протянул вперед левую руку, обнажая ее до локтя.
Великий Магистр Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма Жак де Молэ медленно повернулся на своем сиденье, и я увидел перед собой седобородого старика со страдальческим, изможденным лицом и ярко блестевшими глазами.
Я совершил низкий поклон и прошел вперед и в бок еще несколько шагов, чтобы Великий Магистр мог видеть меня перед собой, не прилагая к тому более никакого труда.
Он долго приглядывался ко мне, и его дряблые веки часто вздрагивали, словно ему было трудно удерживать их. Его светлые, и я бы сказал, выцветшие от сумрака, глаза блестели старческими слезами, не проливавшимися на щеки.
Признаюсь, я испытал сильную жалость к этому величественному и мощному в плечах старику, но и уже обветшавшему, подобно изъеденному временем и всякими несносными паразитами дубу. Все возможные усилия я приложил, чтобы никак не выдать своих чувств.
Великий Магистр, казалось, даже не взглянул на священный кинжал, притороченный к моей левой руке.
— Господин мог не исполнять обета, — тихо проговорил он на языке ассасинов, — ибо и ныне, и на восходе грядущего дня Удар Истины уже не достигнет цели.
— Господин, — прошептал я в ответ, холодея и душою, и телом, — многое осталось не известным для меня.
— Он не сдержал слова, — сказал Великий Магистр и, крепко стиснув подлокотники своего низкого сиденья, повторил: — Он не сдержал слова и будет проклят во веки веков.
— Кто, господин? Кто? — настойчиво вопросил я, чувствуя как свинцовая тяжесть сдавливает мое сердце.
— Великий Мститель, — изрек Великий Магистр, и вековые камни застенка просели под моими стопами, и глубокие трещины разбежались по вековым камням от моих стоп.
— Мой господин! — едва дыша, пролепетал я. — Но кто он, скажи, кто он, Великий Мститель?
Каждое из слов, изреченных Великим Магистром, своею тяжестью могло окончательно проломить гранитный пол под моими ногами и сбросить меня в темную бездну.
— Филипп от Капетингов, — неторопливо и спокойно раскрыл тайну Великий Магистр, — по прозвищу Красавец, король Франции.
Я провалился и стал падать в бездну вместе со всеми огнями и жаровней, полной багровых углей.
— Всемогущий Боже! — не выдержав больше ни яви, ни сна, вскричал я, уж не помню на каком наречии. — Нет! Нет, господин мой! Не может так быть!
Даже теперь я не вполне понимаю причину охватившего меня в те мгновения отчаяния. Почему бы в самом деле, отдавшись на волю Провидения, не принять было мне за Великого Мстителя кого угодно — хоть короля Филиппа Красивого, хоть пернатого Карла Великого?
Однако я продолжал упорствовать и воскликнул еще раз:
— Нет, господин мой!
— Филипп от Капетингов, — смиренно и скорбно повторил Великий Магистр Ордена тамплиеров. — По праву предания и по праву священной вести Филипп от Капетингов был избран Верховным Капитулом Ордена и наречен Великим Мстителем. Но вот, он не сдержал обета.
— Господин мой! — опомнившись, обратился я к Великому Магистру и вновь протянул к нему левую руку с привязанным к ней маленьким кинжалом. — Но ведь король как Великий Мститель не принял из моих рук Удара Истины!
— Удар Истины является всего лишь знаком тайной власти, перед которым преклоняются даже ассасины, — отвечал мне Великий Магистр тамплиеров. — Разумеется, Великий Мститель не принял Удара Истины, раз я ничего не сказал ему об этом знаке. У меня было дурное предчувствие, и я решился помолчать до поры. К несчастью, предчувствие оказалось вещим, так что не потребовалось даже обращаться за ответом к…
Тут старый предводитель рыцарей Храма осекся и тревожно сверкнул глазами.
«Есть еще главная тайна Ордена», — подумал я.
— Теперь Посланник может оставить Истину на этих горячих углях, более она не потребуется, — добавил к своим словам Великий Магистр еще несколько слов на ассасинской тайноречи.
Я взглянул на раскаленные углы и вспомнил вдруг о храбром римлянине Муции Сцеволе, который, дабы доказать врагам римскую стойкость, положил на угли собственную руку, сжатую в кулак, и бесстрастно терпел до тех пор, пока рука не превратилась в такую же обугленную головешку.
— Господин мой, — обратился я вновь к Великому Магистру, — когда высыхает река, останавливается мельничное колесо, а когда останавливается колесо, замирает и жернов. Движение должно прекратиться во всех частях механизма. Если, подобно падшему ангелу, Великий Мститель отрекается от священного обета, а Великий Магистр, еще только предчувствуя последствия, заведомо утаивает от него ключ, открывающий замок власти, то и Посланник отказывается расстаться с ключом.
Предводитель тамплиеров приподнял голову и вновь пристально посмотрел мне в глаза. Невольно я приблизился к нему еще на один шаг, чтобы старик мог разглядеть меня без напряжения.
— Что тебе нужно, господин? — глухо произнес он по-ассасински.
— Я — третье существо, которое по праву предания и по праву священной вести обязано знать причину беды, — вполне дерзко заявил я.
— Пожалуй, что так, — произнес старик на франкском и вновь прибавил на чужом и тайном наречии: — Но что желает знать господин?
— Почему Филипп от Капетингов? — высказал я свое первое недоумение.
— Еще недавно он был другим человеком, уверяю тебя, господин, — сказал мне Великий Магистр. — Подобно царю Саулу, он еще накануне безумного отречения проявлял великие порывы души.
— Поверить в это трудно, — столь же дерзко заметил я.
— Трудно, — кивнул Великий Магистр, — но словам крестного отца любимого сына короля поверить не грех.
— Кто же этот крестный отец? — проявил я поразительную недогадливость, изумившую Великого Магистра.
Дабы мне не краснеть, он учтиво промолчал.
Наш дальнейший разговор длился весьма и весьма продолжительное время — до тех самых пор, пока толстая оконная решетка не проступила на мутной белизне рассвета, и, чтобы в сей хронике, повествующей об удивительных событиях моей жизни, перечень моих бесчисленных вопросов к Великому Магистру Ордена Храма не занял чересчур обширного места, я намерен изложить наш разговор в виде как бы отдельного рассказа моего знатного собеседника.
Если слова Великого Магистра, изреченные на птичьем ассасинском языке перевести на франкский, понятный большему числу смертных, то получится примерно следующее:
РАССКАЗ ЖАКА ДЕ МОЛЭ, ВЕЛИКОГО МАГИСТРА ОРДЕНА БЕДНЫХ РЫЦАРЕЙ СОЛОМОНОВА ХРАМА
Я родом из Бургундии, где темных слухов об ужасных богохульствах, творившихся в цитаделях Ордена, можно собрать втрое больше, чем в любом другом месте. О разных ужасах я был наслышан еще в отрочестве. Но знал я и множество прекрасных преданий о героях-тамплиерах, доблестно сражавшихся в Палестине, «как дети одного отца», о великих рыцарях, не страшившихся направить одно-единственное копье против полчища сарацин и в одиночку бросавшихся на целое войско неверных. Мне снились девять храбрецов Гуго де Пейна, взявших под защиту тысячи паломников. Мне снились блистательные короли Палестины и ослепительнейшие принцессы Иерусалима, за каждую из которых я готовился еще желторотым птенцом отдать хоть по девять жизней. Мне снился король Ричард Львиное Сердце, которому я мечтал принести обет верности и самого близкого оммажа. Я грезил о подвигах на Святой Земле.
Двадцати лет от роду, в году одна тысяча двести шестьдесят пятом от Рождества Христова, я вступил в Орден Храма. Еще раньше, зная наперед, что богохульная проказа и поругание Креста распространяется в Ордене через какие-то запретные, еретические книги, вывезенные с Востока и проникшими в Орден ассасинами, я дал два обета: безграмотности и простодушия. Я дал обет навсегда остаться простым воином, не умеющим ни читать, ни писать, ни мудрствовать. Я говорил себе: «Когда сюзерен хорош, надо защищать и сюзерена, и замок; когда сюзерен плох, надо с удвоенным рвением защищать замок. Когда король хорош, надо защищать короля и королевство; когда король плох, надо с утроенным рвением защищать только королевство».
Я желал лишь одного: стать доблестным рьщарем-тамплиером. И я стал хорошим рыцарем, тому свидетель наш Всемогущий Господь.
Пятнадцать лет я воевал на Святой Земле, и из самой Акры уходил в числе последних, следуя приказу комтура, хотя и предпочел бы остаться на башнях вместе с доблестными рыцарями, из которых я более других запомнил Жиля де Морея и молчаливого изгнанника Милона, носившего прозвище Безродный.
Когда Великий Магистр упомянул эти столь важные для моей судьбы имена, я набрал в грудь воздуха, чтобы задать самый важный для меня в ту ночь вопрос, однако спустя мгновение я сделал только протяжный выдох, а никакого вопроса так и не задал.
Когда Орден ушел со Святой Земли на остров, где по преданию появилась из морской пены богиня развратных язычников Афродита, страшные болезни стали развиваться и все сильнее истачивать тело Ордена. Так рыцарь в пустыне пьет частыми и мелкими глотками воду, пристально всматриваясь вдаль и трезво убеждая себя, что трепещущие темные клочки, как бы скачущие на него со всех сторон — вовсе не бесчисленные сарацины, а просто неиссякающие завихрения вечного зноя, а мерцающие лужицы — вовсе не чистые и прекрасные озера, а всего лишь обрывки эфирных отражений. Так тот же рыцарь, попав на недоступный сарацинам и плодородный Кипр, начинает залпом опоражнивать целые винные меха и готов в каждом ближайшем кусте различить похотливую блудницу.
Когда я воевал с сарацинами мне было легко держать все свои обеты, и я вовсе не задумывался о страшных тайнах, скрытых в подземельях наших замков.
Как только я попал на Кипр, меня призвали на совет «северяне» из высших орденских чинов. Вот когда я увидел в полном свете то, о чем был наслышан еще в отрочестве. Ни что из услышанного меня не поразило, и я только с грустью подумал, что теперь за годы воинской славы и доблести, предоставленные мне Орденом, придется расплачиваться полною мерой.
Разделение среди тамплиеров на «северян» и «южан» началось через четверть века после основания Ордена, при Иерусалимских королях Бодуэне Третьем и Амальрике, окружившими себя вавилонской роскошью, арабскими писцами и болтунами-сирийцами. Тогда и составилась в Ордене партия стойких к искушениям нормандцев и бургундцев. Выходцы же из Прованса, всегда склонные к разврату, погрязли в сирийском суемудрии. Впоследствии многие из южан сражались на стороне альбигойских еретиков, поносивших Христа, отрицавших Святой Крест и объявлявших себя святыми уже при жизни. Именно «южане» стакнулись с ассасинами и жадно учились у них разным колдовским штукам.
На протяжении полутора веков то одна, то другая партия преобладала в Ордене, подобно тому, как на Орденском штандарте белый цвет чередуется с черным, хотя и с иным значением, и этим противостоянием, часто выходившим из равновесия, можно объяснить многие противоречивые деяния Ордена.
И вот на Кипре высшие «северяне» призвали меня в свой круг. Их привлекли мои воинские качества, проявленные ранее в сражениях с сарацинами, моя неграмотность и, если угодно, мое нелюбопытство.
В кругу «северян» я и впервые узнал о священном предании и о священной вести. Я услышал легендарную историю мятежного графа Робера де Ту, якобы получившего в сокрушенном Константинополе некий вещий знак власти, именуемый Ударом Истины, который некогда позволит возродиться Ордену в изначальной духовной чистоте. Чтобы сокрыть тот священный знак силы графу де Ту пришлось выдать себя за ренегата и скрыться вместе с преданными ему рыцарями в недоступных горах Тавра, в царствах неверных, для которых тот священный знак вместе с его временным владельцем издревле являлись предметами поклонения. Я услышал о грядущем Великом Мстителе и о его Посланнике, который не будет предшествовать ему, подобно пророку, возвещающему о скором приходе мессии, а, напротив, придет за ним следом, неся священный Удар Истины. Если верить преданию, Великий Мститель и Посланник, соединившись, каким-то чудом спасут Орден и вознесут его на небывалую высоту, до самых небесных облаков. Призвавшие меня «северяне» состояли в Ордене уже не один десяток лет и верили в грядущее чудо. Признаюсь, как на исповеди, что я всегда отличался маловерием относительно всяких чудес.
Однако даже мне, простому и безграмотному воину, старавшемуся не придавать значения слухам и россказням, было очевидно, что деяния двадцать первого Великого Магистра Ордена Тибальда Годэна, так же как и его предшественников, Томаса Берарда и Вильяма де Божо, выдавали в них если не прямых ставленников султана или каких-нибудь старцев горы, то, по крайней мере, не доблестных рыцарей, а хитрых ростовщиков, более заботившихся о сохранности сарацинских вкладов, нежели об уставном достоинстве Ордена.
Я дал клятву «северянам», что отныне все свои усилия направлю на очищение Ордена от ассасинской проказы.
Мне было сказано, что, несмотря на твердость духа, до высших ступеней можно дойти, лишь вступив во «внутренний круг», нашпигованный тайными ассасинами, и исполнить, хотя бы притворно, некоторые нечистые ритуалы. Мне сказали, что для «северян» существует череда особых постов и предварительных покаяний, снимающих грех подчинения богохульному обряду, а особый священник затем снимет с моих плеч тяжесть содеянного.
Однажды дав клятву, я спокойно пообещал своим покровителям честно исполнить все принятые внутри Ордена ритуалы и не бояться никаких ядовитых испарений на трудном пути через нечистые болота к горной вершине.
При посвящении я целовал Великого Магистра в срамное место, но при этом про себя, как мне и было велено, твердил самые отвратительные ругательства, какие помнил с отрочества и в коих затем исповедался у орденского священника. Пришлось исполнить еще многие непотребные жесты, которые я не намерен перечислять.
Вскоре я был направлен в качестве прецептора Ордена в Британию, где и был обучен тому тайному наречию, на котором говорят посвященные «внутреннего круга».
В году одна тысяча двести девяносто пятом от Рождества Христова при сильной поддержке всех «северян» я был избран Великим Магистром Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма.
Я не считал себя более мудрым, нежели те мои предшественники, кои пеклись о чистоте Ордена, и что же я мог противопоставить разъедающему действию восточной проказы? «Северяне» верили в чудо и считали, что необходимо лишь приготовить стези грядущему Мстителю и его Посланнику, которые безо всякого дознания отделят агнцев от козлищ. Возможно, я был тем, кто верил в такое чудо меньше всех, хотя должен был сделаться главным столпом этой веры.
Я желал применить свое собственное усилие и — применить его до последнего предела, и только оставшееся за пределами моих сил я был готов бросить на холодные угли возможных чудес, дабы они могли разгореться сами собой на глазах изумленных братьев.
Я привык надеяться только на свою силу и на свою правду — на единственного коня подо мною, на единственное копье, на единственный щит, на единственный меч и, наконец, — на единственную, видимую глазами, неправду, а именно — на войско сарацин впереди. Я привык надеяться на то, что оно не может взяться неизвестно откуда и не может при лобовом столкновении исчезнуть, как мираж.
И что я сам мог сделать, как не постараться остановить порченую кровь?
Я усилил в Ордене подчинение и усугубил уставную строгость. Отныне всякое перемещение любого рыцаря Храма должно было направляться волею старшего брата.
Я приказал собрать все книги и свитки, хранившиеся в замках Ордена, и благодарил Бога за то, что не испытываю никаких искушений при взгляде на эти бесчисленные и не понятные для меня знаки. Все книги, не утвержденные древним Уставом Ордена, я сжег в один час и собственными руками ворошил горы пепла, дабы ни единый клочок с еретическими бреднями не избежал огненной стирки.
Я приказал пустить в оборот большую часть орденского золота, выбрав между двумя неизбежными грехами — суемудрием и сребролюбием — меньший.
И, наконец, я придал движение всему орденскому войску, разлагавшемуся от мирного прозябания. Каждый рыцарь получил свое послушание и свою дорогу. Я запретил простым рыцарям находиться на одном месте больше двух дней. Отныне каждый рыцарь был обязан двигаться с каким-нибудь особым поручением из одного замка в другой, из одного комтурства — в другое, из одной прецептории — в другую, отмечая у приоров точное время отбытия и прибытия.
«Южане» молчали, но молчали и «северяне». Я не слышал осуждения, я не слышал ропота, но не замечал и особой поддержки. Такое положение дел я считал самым верным признаком своей правоты.
Я знал, что такое положение дел не останется до скончания века, и когда-нибудь тайные ассасины сумеют снова собрать силы и возобладать в Ордене. «Северяне» надеялись на скорое пришествие Мстителя. Я знал, что в день, когда я обопрусь на такую надежду, Орден рухнет.
И вот, как можно более крепко отгородив Орден от мира, я стал искать опору вовне. Я знал, что Рим не сможет стать верной опорой, ибо явно признать перед Папой, что Орден пронизан еретической заразой, означало пустить в свои стены извергов и крючкотворов из инквизиции. Я знал, что настоящего исмаилита и ассасина им все равно не удастся опознать и они скорее сумеют вышибить признание у кого-нибудь из совершенно невинных юношей, из облатов или новоначальных братьев. К тому же изгнать из стен этих черных крыс стало бы куда труднее, чем избавиться от любой самой хитроумной ереси.
Я обратил свой взор на короля, и случай помог нам сблизиться. Я воспринял тот случай как доброе знамение, и я тяжко ошибся. То был единственный раз в моей жизни, когда я порадовался вещему знаку. Возможно, мои братья правы: и в самом деле следовало надеяться только на самое большое чудо и, как опасных искушений, сторониться всяких мелких чудес и вещих знаков.
Некие египетские послы явились к нашему королю и сказали, что им удалось сохранить мощи святого подвижника Бенедикта Акрского и они теперь готовы передать священную реликвию повелителю Франции в обмен на возвращение неверным крупного вклада, некогда заложенного в казнохранилища Ордена одним из египетских сановников.
Появление в Париже этих египтян стало поводом к моей тайной встрече с Филиппом от Капетингов.
С удивительным воодушевлением он желал возвратить во Францию мощи блаженного Бенедикта Акрского, последнего подвижника Иерусалимского королевства христиан.
Мне удалось расположить короля к доверительной беседе и я узнал, что возвращение реликвии он воспринимает как вещий знак своей будущей власти над Святой Землей и своего будущего наречения новым королем Иерусалима.
Я узнал, что Филипп от Капетингов с детства, как и я, грезил подвигами на Святой Земле и замыслил самый грандиозный поход во имя Креста.
Я узнал также о самой заветной мечте короля Филиппа: он желал во что бы то ни стало присоединить к Франции всю Священную Римскую Империю вместе с Испанией, Фландрией и Британией, став таким образом основателем самой обширной Империи со времен Августа и Александра Великого. Для воплощения такого замысла Филиппу нужны были деньги, очень много денег, а еще ему была необходима запутанная, понятная только ему одному сеть кровных связей с прочими Дворами.
Об этом, последнем и самом опасном для всех прочих монархов, замысле Филиппа не мог знать никто, кроме меня. Так мы стали близкими людьми. Я знал, что Филипп от Капетингов очень хитер и слишком хорош собой, чтобы отличаться постоянством в своих привязанностях. И все же я решил опереться на него, вернее — на его сребролюбие и на его детскую грезу. Так одной ногой я оперся о камень, а другой — о пустоту пропасти.
Чтобы торговля имела пристойный вид, я дал королю орденский займ в размере сарацинского вклада, и уже через месяц Филипп от Капетингов направился с мощами праведника на кладбище Невинноубиенных младенцев.
Вскоре он предложил мне стать крестным отцом его сына. Я согласился, и так мы сблизились еще больше, а мой замысел окреп.
Теперь Филипп, точно вернувшись в отрочество, днями и ночами грезил о великом походе христианского воинства в Святую Землю и даже порывался вступить в Орден простым рыцарем. Я приложил много усилий, чтобы разубедить короля в необходимости принятия орденских обетов, а, кроме того, настойчиво втолковывал ему, что в нынешнее время, при столь возросшей из-за наших прошлых грехов силе неверных, поход к Гробу Господню — дело трудное и требующее согласных усилий всех монархов еще до того дня, когда все они преклонятся перед одной короной и одним повелителем Европы. В пример я приводил горькие неудачи его святого предка, короля Людовика.
Филипп от Капетингов чаще соглашался, чем не соглашался со мной, и однажды он воскликнул:
«Я не верю, что у Ордена не хватит золота, чтобы купить в один день все армии Европы!»
Я отвечал, что, если золота и хватит на то, чтобы в один день купить, то не хватит на то, чтобы более ни одного дня не сомневаться в победе.
Я всегда был только простым неграмотным воином и не привык раздумывать над чужими словами, а тем более — над чужими мыслями. Когда-то это было моим достоинством, сделавшим меня Великим Магистром. Теперь это стало недостатком.
Следовало поразмышлять над восклицанием короля прежде, чем хитрые волхвы из Египта появились вновь, а появились они довольно скоро.
Тайное предложение, с коим они совершали учтивые поклоны перед троном короля Франции, не удивило меня, поскольку мне было известно, какой ценой некогда заполучил у сарацин Святую Землю повелитель Священной Римской Империи Фридрих Второй Штауфен, бывший сам и скрытым альбигойцем, и одним из главарей ассасинов. Меня встревожили только сроки и необходимость поспешных действий.
Вот что сказали послы королю Филиппу от Капетингов:
«О, павлин мира! В вещих видениях до нас дошла весть о твоих чаяниях и твоей горячей преданности пророку Исе и матери его Мариам, коих и мы удостаиваем глубоким почитанием. Вещие знамения подтвердили нам, что ты, о жемчужина в оке северного неба, достойно распорядишься священными землями и с твоим приходом на них воцарится многолетнее благоденствие. Владыки земель пророка Мохаммада, да будет его имя полуденным солнцем освещать все поднебесные пределы во веки веков, послали нас к тебе со словами: „Мы отдаем, повелитель полуночных стран, прекрасную Палестину в твои золотые руки сроком на десять лет и будем способствовать твоему мирному воцарению в Иерусалиме, отведя все войска от берегов Иордана на потребное для того расстояние. Во благоприятный для грядущего знак принятия сего дара мы предлагаем тебе, повелитель полуночных стран, вернуть нам лишь то, что издревле принадлежит нам по праву“.
В тот час, когда Филипп от Капетингов передавал мне послание неверных, глаза его горели огнем. Однако он нашел в себе силы сдержать свою страсть и даже усмехнулся.
«Неужели денег не хватит и теперь, когда уже не потребуется идти на рынок за армией и за победой?» — лукаво спросил он меня.
«Сарацинские вклады составляют на нынешний день около одной трети неприкосновенного запаса Ордена, — ответил я королю в тот час. — Уверены ли вы, Ваше величество, что речь идет только о полном возвращении вкладов?»
«Они сказали не больше того, что сказали», — сухо ответил мне король, и я понял, что, во-первых, он уже не отступится от своего, а, во-вторых, не намерен долго ждать.
Несмотря на свою силу, я не имел уверенности в том, что мне удастся убедить Верховный Капитул Ордена принять волю короля как поспешно, так и с полным смирением. Мне оставалось только одно: соединить несоединимое, а именно — свой собственный замысел со столь неожиданными и столь сокрушительными обстоятельствами.
Теперь передо мной оставался последний выбор: с кого начать, с короля или с Верховного Капитула.
Однако, сколько бы я теперь не подгонял события, я не мог ускорить одного предварительного чуда и никак не мог им пренебречь. Я говорю о «священной вести», стреле с посланием от Востока, той самой стреле, о которой говорится в священном предании, почитаемом «северянами», и которая таинственным образом должна вонзиться в платан, что стоит на заднем дворе парижской цитадели Храма.
Я полагал, что такого рода таинственные послания, если нет намека на то, что они должны быть вручены всему народу самим архангелом Гавриилом, спускающимся с небес на главную площадь города, всегда порождаются общим советом первосвященников или Капитулом. Я находился в затруднительном положении. Впервые в жизни я подумывал о прямом подлоге и о.тех достаточно таинственных обстоятельствах, которые могли бы оправдать такой подлог. Во всяком случае я выбирал подходящую стрелу.
Я раздумывал день, потом второй, потом третий, и вдруг, в ночь с третьего на четвертый день, в тот самый час, когда я решил, что медлить более нельзя, один из моих приоров прибежал с заднего двора с выпученными глазами и разинутым ртом.
Когда я увидел в сумраке белеющее оперение, подумал, что потеря времени обернулась худшим из зол: не решившись стать чудотворцем, я невольно отдал это недоброе право «южанам», которые могли что-то разнюхать о моих переговорах с королем.
Я не трепетал так перед тысячью разъяренных сарацин, как трепетал перед крохотным кусочком пергамента, прикрученным к древку стрелы бечевой из овечьей шерсти. Первый и единственный раз в жизни я горько пожалел, что не умею читать.
Однако я собственноручно развернул пергамент и когда развернул его, то сердце мое сразу наполнилось черно-белым сплавом радости и тревоги. Хотя я не умел читать, но прекрасно знал, в какое слово свиваются все эти сарацинские завитки, начертанные на пергаменте.
Священная весть, если эта весть была священной, содержала только одно слово: ЗМЕЕНОСЕЦ. Кто мог написать такое слово? Чудесный Посланник или тайный ассасин из «внутреннего круга»? Кем бы ни был этот неизвестный стрелок, теперь, в продолжение всего нескольких мгновений, все зависело от меня, от моей воли и от моей сообразительности.
Невольно я поднял взгляд к небесам и без труда отыскал на темном небосводе Змееносца, «священное», тринадцатое, созвездие Зодиака, почитаемое «внутренним кругом» Ордена. И вот меня осенило!
Я заметил, что звезды Змееносца склонены на сторону королевского дворца!
Я знал, что судьба, а вернее, как оказалось впоследствии, рок, дает мне теперь не более получаса на построение всего войска, и я, разом успокоившись, решил действовать немедля.
Спустя четверть часа в одном из моих тайных подземелий, не доступных для подслушивания, был собран Капитул «северян», и я объявил им, что день священной вести настал, а все вещие знаки указывают на короля, которого и необходимо признать Великим Мстителем. Помню, что мои братья застыли, как изваяния. Не вдаваясь в подробности, я рассказал им о моих встречах с королем с глазу на глаз и о тех вещих знаках, которые уже загодя несомненно указывали на великую миссию короля в деле очищения Храма от мерзости запустения. Спустя еще четверть часа, взглянув на темные небеса, братья признали мою правоту, и король Филипп от Капетингов был тайно объявлен Великим Мстителем. Разумеется, сам он не должен был узнать о своем истинном звании, подобно рыцарю-тамплиеру, направляемому в отдаленные царства с некой тайной миссией.
Тем временем, возвратился мой гонец, посланный к королю, и спустя еще не более получаса король принял меня в Карбункуле, алой комнате, предназначенной для особо тайных свиданий. Он грел руки над жаровней, такой же, какая стоит здесь.
Я сказал королю, что сделал все, доступное моим силам, и что он вскоре сможет не только купить Иерусалим, но и сходить на рынок за всеми армиями Европы.
Король кивнул и убрал руки от жара, как если бы уже достаточно согрел их. Хотя осень только начиналась, но та ночь выдалась очень холодной, я это хорошо помню. Наступило второе сентября года одна тысяча триста седьмого от Рождества Христова.
При этих словах Великого Магистра я невольно напряг память, пытаясь сообразить, где я сам мог находится в тот знаменательный день, и пришел к заключению, что скорее всего продвигался по дороге в Конью.
Тогда, продолжал Великий Магистр свое повествование, я стал раскрывать перед королем многие тайны Ордена, рассказал ему о борьбе двух начал в его стенах и объявил, что именно рука короля Франции должна очистить великое основание и возродить славу Гуго де Пейна.
Глаза короля загорелись огнем, и тогда я раскрыл перед ним весь мой замысел.
Мой замысел едва ли не превосходил самые безумные замыслы короля.
Во-первых, я предложил королю поставить Святой Престол прямо к подножию королевского трона, то есть перевезти его во Францию. Хотя Папа Клемент Пятый, бывший архиепископ Бордо, гасконец, и так стал прямой креатурой Филиппа, однако я стремился исключить любые случайности. По крайней мере в том, что такие «случайности» возможны, я, увы, не ошибся.
Затем я не без душевного напряжения, произнес слова о великой жертве, которая теперь только и может спасти и возродить Орден в прежней чистоте.
Я напомнил королю слова из Писания: если зерно не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода.
Итак, я сказал, что готов сдать королю без боя все неприступные цитадели Ордена, включая парижский Храм, все свое воинство и все казнохранилища.
У Филиппа широко раскрылись глаза, и только тогда я произнес слово «жертва». Я сказал королю, что единственный способ очистить Орден от проказы — это арестовать разом всех тамплиеров, включая Верховный Капитул во главе с Великим Магистром, по обвинению в богохульстве и заключить их в темницы, предав затем всех арестованных папскому суду, а имущество Ордена конфисковав. Я сказал королю, что следует выдвинуть против Ордена обвинения во всех грехах, о которых по миру бродят слухи.
Со своей стороны я был готов отдать приказ всем рыцарям сдаться без малейшего сопротивления королевским сержантам и признать все возводимые на рыцарей обвинения. Только истинно преданные Богу и Ордену братья могли бы смириться с такой жертвой, а всякие еретики, тайные ассасины и альбигойцы, несомненно предпочли бы спастись бегством или временно укрыться в каком-нибудь недоступном месте. Для верности дела я был готов пустить внутри Ордена слух, что уже составлены и переданы королю списки истинных ассасинов и богохульников «внутреннего круга», и отделить на суде агнцев от козлищ не составит труда.
При этом, объяснил я королю, мне уже и самому не составит труда передать в руки короля все требуемые сарацинами вклады.
Затем, по прошествии недолгого времени, согласно велению короля, должно быть принято всеобщее покаяние Ордена, произведено отпущение грехов, двое или трое явных еретиков, кои мне были известны, примерно наказаны, а сам Орден переведен на вновь освобожденную Святую Землю, но не в Иерусалим, на место Соломонова Храма, столь вожделенное для ассасин, а в какое-нибудь иное священное место: в Вифлеем или Назарет.
Король дважды бледнел и трижды покрывался багровой краской, как бы сливаясь со стенами Карбункула. Наконец он воскликнул: «Я вижу самого мудрого и самого честного рыцаря, который когда-либо появлялся на свете! Если бы этот рыцарь не был тамплиером, я прогнал бы хитрого альбигойского лиса (речь, конечно же, шла о Вильяме Ногарэ) и сделал бы великого рыцаря самым важным человеком при Дворе! Я даю свое королевское слово, что впервые в жизни полностью подчинюсь замыслу, зародившемуся в чужой голове!»
Воодушевленный «королевским словом», я вернулся в цитадель Храма и, вновь собрав «северян», преподнес им замысел Великого Мстителя, подтвержденный моею волей, как Великого Магистра, находящегося в здравом уме и твердой памяти.
На этот раз Капитул еще меньше отличался от собрания мраморных и безмолвных изваяний. Молчание длилось до самого рассвета. Затем «северяне» вознесли общую молитву Всевышнему, в Чьих руках заключены все судьбы, осенили себя крестным знамением и разошлись.
В ночь на двенадцатое октября года одна тысяча триста седьмого от Рождества Христова все крепости Ордена были сданы провинциальным сержантам, а пятнадцать тысяч доблестных рыцарей Храма, не подняв руки и не произнеся ни одного бранного слова, позволили заключить себя в темницы и казематы, расположенные в королевских владениях. Все арестованные рыцари беспрекословно исполнили мою волю. Только в ту ночь я окончательно удостоверился в том, что исполнил-таки и главную миссию Великого Магистра Ордена, сумев восстановить в Ордене первоначальный Устав полного смирения.
Что произошло с той ночи за этими стенами, мне не известно.
Я знаю наверняка только одно: король изменил своему слову, и ремни в механизме моего замысла оборвались.
Что произошло с самим королем, мне не известно.
Готов поклясться: в ночь Змееносца Филипп от Капетингов был как никогда откровенен и намеревался действовать согласно со мной.
Возможно, мы стали жертвой какой-то особо изощренной клеветы.
Возможно, скрывшиеся ассасины предложили королю более высокую цену за сокрушение «северян», хотя я и сомневаюсь, что где-либо в мире найдется больше золота, чем в подвалах Ордена.
Возможно, сам Филипп от Капетингов является тайным ассасином.
Нетрудно отыскать бесчисленное множество разгадок, но все они теперь не имеют никакого значения.
Оказывается, вернее всего жить, веря в какое-нибудь небывалое чудо.
— Но ведь Посланник все же пришел, господин мой ! — невольно напомнил я Великому Магистру о своей собственной миссии.
— Возможно, — кивнул головой Жак де Молэ. — Согласно священному преданию, я обязан называть посланника так же, как он называет теперь меня. Так вот, господин мой, скажи мне, чем же отличается доблестный молодой человек, лишенный памяти и посланный с некой священной реликвией неизвестно кем и куда, чем отличается он от Великого Магистра, глубокой ночью и посреди узкого двора стоящего с древком от таинственной стрелы и обрывком пергамента, что содержит какое-то слово на чужом языке, слово, смысл которого так же темен, как сама ночь?
В тот же миг мне представился глубокий колодец с загадочным светилом, висевшем во тьме более густой и черной, чем смола драконова дерева. Мне представился некто, неизвестный доброжелатель или союзник, спасший мне жизнь то ли наяву, то ли во сне ценою своей собственной жизни. В моих ушах гулким колодезным эхом прозвучала клятва, которую я дал своему спасителю: не меньшей ценою доставить священную реликвию по назначению, то есть во что бы то ни стало отдать ее в руки столь же призрачной персоне.
Я признал, что ничем не отличаюсь от вполне трезвомыслящего человека, скованного необъяснимыми обстоятельствами древнего предания. Оставалось либо принять их, эти обстоятельства либо навсегда покинуть мир всяких преданий и обстоятельств. Так я рассуждал теперь, когда стоял перед престарелым Великим Магистром Ордена тамплиеров, гревшим скрюченные подагрой пальцы над углями, что светились, подобно жару преисподней.
— Так или иначе, я обязан исполнить данную от всего сердца клятву, — пробормотал я. — Даже если меня угораздило давать ее во сне.
— В том наше с тобой, мой господин, сходство, — проговорил Великий Магистр, морщась, по всей видимости от боли в суставах, — в том же, однако, и наше различие. Я тоже давал клятву. Однако твоя, мой господин, клятва ведет тебя прочь из клетки, моя же, напротив, всегда вела в клетку.
Я же про себя подумал, что вся наша разница — только в том, что один охотник на драконов, а именно ваш покорный слуга еще с рвением учится своему ремеслу, а другой, ставший Великим Магистром, уже в совершенстве освоил это искусство и наконец обнаружил его совершенную бесполезность.
— Мой господин, — вновь обратился я к пленному старцу. — Известно ли имя того египетского сановника, чей вклад в казнохранилище Ордена был востребован первым в обмен на мощи святого?
Великий Магистр поднял на меня взгляд, и в мерцании старческих слез, не проливавшихся на щеки, я заметил слабый отблеск любопытства.
— Имя? — с таким же слабым удивлением сказал он. — Не помню. Когда король называл его, я подумал о сверле, которое просверливает сундуки в хранилище. Имя, оно было похоже на сверло.
— Аль-Азри? — уточнил я.
— Возможно, — качнул головой Великий Магистр. — Похоже на то.
— Умар аль-Азри, — невольно произнес я вслух и подумал, что все рыбы, и маленькие, и большие, бьются в одной сети.
Великий Магистр молчал.
Ранее, когда я задавал ему бесчисленные вопросы, то с напряжением прислушивался едва ли не к каждому его слову, все же надеясь, что однажды он произнесет главное, то, которое наконец откроет мою запретную память и вернет мне всю потерянную или отнятую насильно жизнь. Особенно сильно забилось мое сердце при слове ЗМЕЕНОСЕЦ. Я до боли «вгляделся» во мрак своей памяти, но, увы, так и не различил в бездне никакого просвета. Великий Магистр Ордена Храма обладал ключом, или сверлом, к моей исчезнувшей жизни и к моему имени, и я все еще не мог позволить себе уйти от него, не добившись главного. Конечно, мое страстное желание превращало меня в верного союзника короля, ставшего заклятым врагом Ордена.
— Господин мой, я готов сделать для Ордена все, что в моих силах. И не отдам королю священного знака, будь он хоть трижды Великим Мстителем, — твердо проговорил я.
Великий Магистр помолчал и ответил:
— Ты говорил о клятве, господин мой.
— Но кто объявил Великим Мстителем короля, как не сам Великий Магистр Ордена Храма, простой воин, никогда не доверявший знамениям и расположению звезд! — предчувствуя недоброе, воскликнул я в сердцах.
Предводитель тамплиеров опять долго молчал и наконец ответил, обращаясь не ко мне, а к жаровне с горячими углями:
— Теперь уже поздно. Ничего не изменишь. Люцифер первоначально тоже был объявлен «ангелом света».
«Великий Магистр берет на себя слишком много», — хотел было сказать я, но не сказал, а только взмолился к этому величественному старику сразу, как только почувствовал новый прилив отчаяния:
— В твоей власти, мой господин, вернуть мне имя и жизнь. Тебе известно тайное слово. Я же не скажу королю ничего.
Великий Магистр заговорил, и я похолодел от ужаса.
— Когда иссыхает река, останавливается мельничное колесо, — медленно изрек он. — Когда останавливается колесо, должен замереть и жернов. Ошибившись в Великом Мстителе, я не могу доверять и Посланнику. Это будет меньший из моих грехов. Есть много слов, именуемых теперь тайными. Я промолчу. Я не могу отдать изменнику сокровенное.
Так я удостоверился, что эта ночь не будет самым счастливым из моих сновидений.
Еще некоторое время я переминался с ноги на ногу, глядя на старческие пальцы, изломанные болезнью, что теперь в этих сумрачных стенах несомненно обрела над Великим Магистром непреодолимую силу.
И вот я решил, что миссия Посланника, если не Истины, то короля Франции, исполнена мною до конца.
— Я преклоняюсь перед вами, монсиньор! — твердо сказал я Великому Магистру на франкском наречии. — Вы самый благородный из всех людей, каких я помню в своей укороченной, если не с конца, то прямо с самого начала, жизни. Прощайте, монсиньор!
И не рассчитывая на ответ, я повернулся и пошел прочь.
— Прощайте, доблестный рыцарь клятвы! — донеслось мне вслед уже издалека, и тогда, облегченно вздохнув, я ускорил шаги.
Я двигался по лестницам и галереям, по мостам и от холода таким же твердым, как крепостные мосты, дорогам. Я шел, едва замечая безжизненный рассвет, затем сумрачный полдень и наконец бесплодные сумерки. Так я двигался, чтобы невольно достичь короля, который ожидал меня в Карбункуле с той же самой жаровней, полной раскаленных углей.
«Действительно, мало различий между тем и этим», — придумал я недобрую шутку.
— Что это за птичий язык, на котором вы там переговаривались? — не успев принять моего поклона, вопросил король Филипп от Капетингов.
— Тайное наречие ассасинов, Ваше Величество, — ответил я, глядя ему прямо в глаза.
Филипп от Капетингов отвернул голову в сторону, отчего его прекрасные золотистые локоны посыпались вниз с левого плеча на грудь, и многозначительно переглянулся с темным человеком, неприметно стоявшим в стороне, Вильямом Ногарэ.
— И что же? — вернувшись глазами к моей особе, усмехнулся король.
— Ваше Величество, он не произнес тайного слова, — сказал я, ни единожды не моргнув. — Что это так, а не иначе, легко подтвердит соглядатай Вашего Величества, тот самый соглядатай, которого, конечно же не могло обмануть выражение моего лица.
— Не отчаивайтесь, граф, — приветливо улыбнувшись, сказал Филипп от Капетингов. — Я полагал, что так и случится, по крайней мере при первой встрече. Мы расколем этот орех. Рано или поздно мы расколем его.
— Ваше Величество, — решился я перейти к более опасному предмету, — Как известно Вашему Величеству, мы беседовали с Великим Магистром весьма продолжительное время, и я опасаюсь, что невольно узнал из его прочих, вполне обыкновенных слов, нечто большее, чем мне положено знать.
Король вновь переглянулся со своим приближенным, и в их взглядах я заметил некое удовлетворение тем, что какие-то их важные догадки несомненно подтвердились.
— Он не сдержал своего слова, — почти не двигая своими узкими и короткими губами, изрек король, когда вновь увидел перед собой меня, безымянного графа де Ту. — В этом причина множества бед и множества издержек. Я ждал. Я доверял. Однако теперь я не удивлюсь, если выяснится, что Старый Жак вовсе и не был никогда настоящим Великим Магистром этих богохульников. Что скажешь, Вильям? Ведь действительно так?
При этих словах я попытался изобразить из себя перед королем мраморное изваяние.
— Ваше Величество, обман и так беспредельно велик, — промолвил Ногарэ, оставаясь на два шага дальше от короля, чем безымянный граф де Ту. — Обман настолько велик, что, если Старый Жак и окажется всего лишь «подсадной уткой», то это станет не большей бедой, чем наткнуться на один поддельный су в мешке, полном фальшивых алмазов и дукатов.
— Да, — с мужественным прискорбием вздохнул король, — все эти хитрющие ассасины…
Сентенция Филиппа от Капетингов была прервана мелодичным позвякиванием какого-то скрытого колокольчика. Брови короля взметнулись, а черная тень, которую представлял из себя Вильям Ногарэ, беззвучно переместилась к двери.
— Маркиза д'Эклэр, Ваше Величество! — шепнул Ногарэ позади меня.
— О! — сказал король, вздернув теперь только одну тонкую бровь. — Вот еще один важный свидетель в этом темном деле. И, кстати, так же, как и вы, она — порождение кипрских волн. Вам что-нибудь известно о ней, граф?
— Нет, Ваше Величество, — честно признался я, хотя мое сердце почему-то дрогнуло при сообщении Ногарэ, произнесенном мне прямо в спину. — Если что-то и было известно на том берегу, то ничего не известно на этом.
— В таком случае, граф, — чуть нахмурил обе брови король, — я не желаю, чтобы вы встречались с маркизой лицом к лицу, пока идет следствие. Однако я даю вам слово, что однажды лично познакомлю вас с этой очаровательной особой.
Тут я снова исчез из глаз короля, а появился в них несомненно Вильям Ногарэ, вернувшийся на свое исконное место.
— Вильям! — сказал король, увидев его вместо меня. — Я поручаю тебе все заботы о графе. Надеюсь, ты немедля посвятишь его в некоторые немаловажные особенности дела, а затем, раз уж произошло то, что произошло, определишь этому доблестному дворянину вполне достойную его благородства и положения службу.
Я поклонился королю, и Ногарэ вывел меня в одну из потайных дверей, коими были снабжены все четыре стены Карбункула.
О, как сильно желал я хотя бы краем глаза запечатлеть эту таинственную свидетельницу, маркизу д'Эклэр! Однако я успел прихватить взглядом только появившуюся над порогом фалду ее темно-синего сюрко, украшенного еще и причудливыми золотыми звездами, да острый, блестящий кончик ее черного башмачка.
Удивительно, что комната, в которую я попал по велению короля и указанию Вильяма Ногарэ, оказалась одного цвета с сюрко маркизы д'Эклэр, и так же в сиянии свечей заблестели перед моими глазами золотистые звезды. Кроме того, отовсюду со стен и потолка свисали золотые кисти и бахрома.
Вильям Ногарэ прошелся полукругом по мягким, как болотный мох, персидским коврам и тихо обратился ко мне из другого конца этой небольшой комнаты:
— Граф!
Я покрыл свое лицо маской самого учтивого внимания.
— Известно ли вам, граф, — вкрадчиво продолжил Вильям Ногарэ, — что Жак де Молэ был признан в тайном «внутреннем круге» Ордена Храма так называемым Великим Мстителем?
Холодная маска, которую я обязался не снимать теперь ни при каких обстоятельствах, очень пригодилась мне в эти мгновения. Кроме того, мне удалось сдержать вздох облегчения. Теперь я обладал уверенностью в том, что настоящим Мстителем не являются ни король, ни Великий Магистр. «Я вижу вас!» — хотелось мне крикнуть тем незримым и всемогущим карликам, которые забавлялись и королем, и Великим Магистром, но я прекрасно понимал, что такое признание оказалось бы бесстыдной ложью.
— Весьма благодарен вам, мессир, — ответил я Вильяму Ногарэ. — Вы посвятили меня в очень важную тайну. Если бы она была мне известна, этот священный среди тамплиеров и ассасин предмет не остался бы на моей руке.
И я дерзко осмелился показать сановнику заключенный в ножны Удар Истины.
Что касается Ногарэ, то он вовсе не собирался сдерживать облегченного вздоха.
— Разумеется, — усмехнулся он. — Всем теперь, и прежде всего самому де Молэ, нелегко выбраться из порочного круга. Чтобы тайна открылась вам как бы сама собой, ему требовалось произнести тайное слово, открывающее всю вашу память, граф. Заметьте, всю. Ее Старый Жак и боится.
— Прошу извинить меня за дерзость, мессир, но насколько вы можете доверять своим собственным сведениям о Великом Мстителе? — вопросил я, не имея, однако, особой нужды в заверениях Ногарэ; я всего лишь хотел лишний раз убедиться в собственной правоте, которую подтверждал бы любой ответ ближайшего сподвижника Филиппа от Капетингов.
— Мы давно держим в Ордене очень надежных шпионов, граф, — сказал Ногарэ. Разумеется, я кивнул.
— Заговор тамплиеров зрел больше двух веков, — продолжал Вильям Ногарэ свою вкрадчивую речь. — Они сделали все, чтобы Святая Земля была потеряна христианами. Резня в Акре, которую учинили ломбардские наемники, и гибель этой последней христианской цитадели — дело рук адептов «внутреннего круга». Они хотели рассредоточить весь золотой запас Ордена по тайным углам и тем оправдать свои действия перед вкладчиками, в том числе и сарацинами, которых Орден никогда не обманывал. Задолго до сдачи Акры Верховный Капитул Ордена ввел так называемое «орденское дворянство» для всех родственников своих рыцарей. Это означало, что родственники комтуров, прецепторов и тому подобных лиц получали известные привилегии перед родственниками простых рыцарей, однако и те и другие были уже сплочены одной грозной силой.
Орден имел особый девиз: «Храм всегда покупает и никогда не продает». Тамплиеры намеревались в конечном итоге подгрести под себя все золото Европы, и на половину собранного золотого запаса выкупить у сарацин Палестину в вечное владение, пообещав им — нам это известно — половину процентов с будущего оборота своих денег на европейских землях. Они намеревались основать в Палестине собственную империю, наречь Великого Магистра выборным императором, а затем всех родственников, которые имелись у братьев Ордена, объявить подданными Святой, заметьте, граф, не Священной, а Святой Империи Соломонова Храма и возвести их всех в более высокое дворянское достоинство.
Сверх же всего этого, тамплиеры замыслили совершенно отречься от Святого Престола и основать в Иерусалиме свою собственную Церковь во главе с «Папой», избираемым из приората Ордена. Именно этот, последний, замысел стал причиной того, что Верховный Капитул Ордена начал с особой охотой принимать в ряды братьев отлученных от Церкви грешников.
Его Величество узнал о зреющем заговоре от одного из тайных ренегатов Ордена…
— Известно имя этого ренегата? — забыв о всякой учтивости, перебил я Вильяма Ногарэ.
Тот, несколько изумившись моему наглому любопытству, однако приняв его за искреннее подтверждение моих свидетельских намерений, вполне доверительно ответил:
— Он носил имя Милон.
— Милон Безродный? — воскликнул я, и от этого восклицания моя гипсовая маска едва не рассыпалась в прах.
— Безроден он был или нет, мне не известно, граф, — покачал головой Вильям Ногарэ, — однако в двух архивных свидетельствах я и вправду наткнулся только на одно имя, не носившее никаких родовых титулов. Насколько я знаю, этого человека давно нет в живых. Он был убит при падении Акры.
Мне ничего не оставалось, как только кивнуть в ответ.
— Итак, узнав от Милона, если угодно Безродного, подробности заговора, Его Величество со всем присущим ему рвением принялся за дело, — продолжил Вильям Ногарэ свой рассказ, словно пытаясь ввести меня в те области прошлого, которые остались во мраке моей утраченной памяти. — И, тем не менее, даже прилагая все силы своего великого ума, Его Величество спустя лишь целое десятилетие смог пожать первые плоды, когда во «внутреннем круге» Ордена составилась достаточно сильная партия людей, преданных Его Величеству. Не без воли Его Величества новым Великим Магистром Ордена был избран простой неграмотный воин Жак де Молэ. Он провел в Ордене важные преобразования, которые позволили превратить все орденское воинство, более мощное и сплоченное, чем сама королевская армия, в мириады беспорядочно и безо всякого смысла снующих по всей Европе муравьев, а затем он предложил Его Величеству очень хороший с виду план очищения Ордена от заговорщиков.
Воспользовавшись коротким и многозначительным молчанием Вильяма Ногарэ, я выказал свою осведомленность:
— Арест рыцарей под предлогом борьбы с тайными ассасинами.
— Вероятно, я слишком много слов трачу напрасно, — сухо улыбнувшись, заметил Вильям Ногарэ.
— Ничуть не бывало, мессир, — заверил я его. — Кое-что мне, разумеется, известно, но я с нетерпением ожидаю развязки. Эта развязка несомненно поразит меня и прояснит мое собственное значение во всей этой истории, которое во многом остается для меня неразрешимой загадкой.
— По чести говоря, развязку мы ждем от вас, граф, — усмехнувшись с заметной неуверенностью, проговорил Вильям Ногарэ. — Вскоре после ареста пятнадцати тысяч тамплиеров выяснилось, что неприкосновенный золотой запас Ордена испарился. Исчезли также многие трофейные реликвии Востока, которые можно было использовать среди неверных в качестве знаков высшей, надземной власти. Его Величество лично задавал вопросы Старому Жаку — так именуют при Дворе Великого Магистра, — однако тот выказывал удивление и — не более того. Через некоторое время все содержавшиеся под стражей тамплиеры разом отказались от всех выдвинутых против Ордена обвинений, точно услышали голос своего предводителя, легко проникший сквозь все глухие стены множества крепостей и тюрем, что находятся друг от друга на расстоянии нескольких дней пути. Чем не бесовское колдовство, граф?
— В крайнем случае можно поразмышлять и о колдовстве, — уклончиво подтвердил я.
— Тут еще много загадок, граф, — прищурившись, добавил Вильям Ногарэ.
— Чего-чего, а этого добра предостаточно, — в полной мере согласился я.
— Наконец, от верных Его Величеству людей, пребывающих в Египте, — понизив голос, продолжал Вильям Ногарэ, — мы недавно получили известие, что незадолго до своего ареста Жак де Молэ был избран, согласно древнему суеверию, или, если желаете, граф, согласно некому священному преданию Ордена, на Капитуле посвященных «внутреннего круга» так называемым Великим Мстителем. Что это значит, граф?
— Что же это значит, мессир? — сменив маску учтивого внимания на маску искреннего недоумения, проговорил я.
— Это может означать множество разных разгадок происшедшего, из коих вы, граф, должны помочь нам выбрать верную, — сказал Вильям Ногарэ. — Насколько мне известно, у ассасин Великим Мстителем именуется тот фанатик-фидаин, которого посылают совершить жертвенное убийство особо опасного ренегата и при этом обязательно погибнуть самому, дабы противостоять и за пределами этого мира вредному влиянию исшедшему из тела убитого. Можно вообразить, что еретики «внутреннего круга» в конце концов узнали через своих шпионов при Дворе о замысле Его Величества, и тогда они приняли удивительно хитроумное решение полностью подчиниться этому направленному против них заговору вместо того, чтобы начинать чреватую непредсказуемым исходом войну против короля Франции. Для отвода глаз они, эти демоны, бросили на поле битвы всякие безделушки, а заодно и сдали врагу все войско служивших им простаков, дабы обременить противника хлопотами и отвести ему глаза на никчемные трофеи. Что вы скажете на это, граф?
— Только то, мессир, — отвечал я Вильяму Ногарэ, — что теперь вместо империи, вполне осязаемой плотским взором, империи со столицей в священном Иерусалиме, империи, блистающей на виду у всех завистливых и весьма могущественных соседей, эти «демоны» создадут империю невидимую, не имеющую никаких столиц и потому совершенно неуязвимую отныне и во веки веков.
Бескровные уста Вильяма Ногарэ приоткрылись, и по его неподвижному взгляду я догадался, что он вглядывается вовсе не в меня, а в темную глубину своих собственных замыслов и подозрений. Мне невзначай удалось удивить этого «хитрого альбигойского лиса», и, по правде говоря, я сам при этом удивился своему непреднамеренному успеху.
— Вы действительно великий свидетель, граф. Ваши слова, граф, я передам Его Величеству, не потеряв ни одного слова и ни одного же не прибавив от себя, — наконец проговорил Вильям Ногарэ, разводя руками. — Может быть, вы теперь сразу и подскажете, что же нам делать со Старым Жаком?
— Уточните, мессир, кого вы имеете в виду, — состроив очень многозначительную мину, попросил я. — Старого Жака или Великого Магистра Ордена Соломонова Храма?
Тонкой и довольно неясной улыбкой Вильям Ногарэ выказал все свои соображения на этот счет.
— Что касается Старого Жака, то для всех нас он остается простым неграмотным воином во плоти и крови, как все смертные, — заметил я. — Зато Великих Магистров мы теперь можем насчитать уже никак не меньше трех, и все они оказываются бесплотными тенями, то сливающимися в одно единое темное пятно, то разбегающимися по полу во все стороны, как от светильников, расставленных в разных углах комнаты.
— Всемогущий Боже! — воскликнул Вильям Ногарэ, возведя очи горе. — Когда король услышит ваши речи, граф, я останусь без места!
— Я приложу все усилия, чтобы не оказаться на вашем месте, мессир, — уверил я Вильяма Ногарэ, и мы скрепили свой договор вполне дружеским смехом, а затем я продолжил свои откровенные рассуждения, не боясь, что они могут внезапно выставить меня самым опасным врагом Филиппа от Капетингов: — Итак есть один Великий Магистр, избранный Его Величеством, затем давший королю искреннее обещание и наконец оказавшийся жертвой хитроумных ассасинов «внутреннего круга». Другой Великий Магистр, «родной брат» первого, тоже давал обещание, но, подобно падшему ангелу, изменил своему предназначению. И наконец есть третий, настоящий и самый зловещий, о котором не знает никто, даже посвященные «внутреннего круга».
О таинственном «круге змеи» я в этом разговоре так и не стал намекать.
— Вы забыли о четвертом Великом Магистре, граф, — с видимым удовольствием заметил Вильям Ногарэ. — О том, который изначально был тайным ассасином или альбигойцем и сразу давал королю совершенно лживые обещания. Об этом, четвертом, лучше не говорить Его Величеству, дабы не ставить под сомнение его замечательную проницательность.
— Вы совершенно правы, мессир, — согласился я. — Раз светильники стоят по трем углам, то почему четвертый угол должен оставаться пустым? И вот теперь, мессир, все наше печальное знание о тенях Великого Магистра Ордена тамплиеров мы с полным правом можем приложить к теням Великого Мстителя и Посланника. Вот я стою перед вами, мессир. — Тут я сбросил с себя все маски, решив, что настал час полного доверия пусть даже своему врагу, доверия, без которого мне все равно не удастся выбраться из этого заколдованного круга. — Я стою перед вами: безымянный граф де Ту, Посланник неизвестно кого, лишенный памяти и всякого различения друзей и врагов, отправленный неизвестно куда с таинственным Ударом Истины и вполне готовый нанести удар Истины, не ведая, кого же этот удар сразит. Теперь ваша очередь, мессир. Скажите, что известно о Посланнике Его Величеству вам самим. Возможно, ваши сведения как-нибудь прояснят мое положение еще до того часа, когда Старый Жак решится произнести заклинание, если вообще он на это решится, в чем я, откровенно говоря, сильно сомневаюсь.
— Ваша правота столь же несомненна, граф, — сказал Вильям Ногарэ, в знак доверия даже протянув в мою сторону свою правую руку, обращенную вверх ладонью. — Полученные из разных источников сведения о так называемом Посланнике Удара Истины были столь разноречивы, что мы стали ожидать сразу нескольких загадочных вестников, по той же самой причине не слишком веря в их появление. Мы знали об этой туманной легенде, которая во «внутреннем круге» Ордена именуется «священным преданием». Вам, граф, легенда тоже известна, но чтобы предупредить ваш естественный вопрос, скажу, что речь идет о вашем необыкновенном предке, графе Робере де Ту, который столетие тому назад раскрыл некую ужасную тайну Ордена, однако не имел возможности убедить короля Филиппа Августа в достоверности своих показаний. Тогда граф Робер де Ту, воспользовавшись случаем, отправился в рядах крестоносного воинства на взятие столицы греческих схизматиков. Там, в Константинополе, он собрал отряд верных друзей-рыцарей и, отложившись от Ордена, скрылся в сельджукских землях. Согласно преданию, ему удалось прихватить еще и некую священную реликвию Ордена, которая могла быть использована в качестве ключа к раскрытию ужасной тайны проникших в Орден ассасинов или магов. Час этой реликвии — а теперь, как вы догадались, граф, речь идет об Ударе Истины — настал бы, если бы во «внутреннем круге» Ордена возобладала наконец партия рыцарей, до этого самого часа скрывавших свою преданность изначальному Уставу и чистым, богоугодным помыслам. Разумеется, чтобы иметь возможность передачи своего знания и реликвии в верные руки, графу Роберу де Ту пришлось снять с себя обет безбрачия. Так вы, граф, и оказались наследником его замыслов. О том, что происходило в Ордене с появлением Великого Мстителя или, если угодно, всех Великих Мстителей, нам известно теперь не больше, чем вам.
Потомку графа Робера суждено было стать Посланником. В том, что вы являетесь его потомком, у нас почти нет сомнений. Нам известно, что у вас под левым соском находится особая отметина рода де Ту, темное пятно, якобы свидетельствующее о месте, в какое основатель вашего рода был поражен копьем римского императора Юлия Цезаря. Некоторые признаки Посланника также налицо. От наших людей в Руме мы получили сведения, что Посланнику придется скрывать от врагов свою миссию, и он будет путешествовать в образе странствующего лекаря, способного исцелять безумие. Этому искусству Посланник обучался в племенах, земли которых рыцари графа Робера де Ту безвозмездно охраняли от разбойников. От наших шпионов в Трапезунде мы узнали, что Посланник будет выдавать себя за выходца с Кипра. Из Флоренции мы получили сведения, что Посланник, достигнув Франции, объявится на кладбище Невинноубиенных младенцев. Наконец нам было известно, что память Посланника, содержащая особо важные сведения, будет надежным образом защищена от любых вражеских посягательств даже в случае самых изощренных пыток. Мудрецы из тех самых племен, где Посланник обучался целительскому искусству, владеют тайными способами закрывать человеческую память на замок.
Итак, сходится все, кроме одного, а именно — сроков. Посланник должен был появиться больше года тому назад, вскоре после заключения тамплиеров под стражу. Сначала о нем не было никаких сведений, потом наша флорентийская миссия сообщила, что он якобы убит в дороге, а затем, по прошествии месяца, мы получили из Рума весть, что во Францию якобы отправлен другой Посланник, приметы которого во избежание каких-либо новых неприятностей не известны никому. Вот такая темная история, граф.
Пока речь Вильяма Ногарэ близилась к концу, я раздумывал, не пришла ли пора положить предел своей собственной откровенности, и, когда наступила тишина в комнате, за тонкой стеною которой король Филипп от Капетингов давал аудиенцию еще одному свидетелю заговора тамплиеров, я вздохнул и признался:
— Все дело в том, мессир, что у Посланника возникло сильное подозрение, будто в дороге его перехватили враждебные силы, и он совершил своевольный поступок, последствия которого, вероятно, откроются вполне разве что в Судный День.
Если бы кончики золотой бахромы не затрепетали, мерцая перед моими глазами, я, пожалуй, и не заметил бы, что черная фигура Вильяма Ногарэ переместилась к дверце, противоположной той, которая вела в королевский Карбункул.
— Что же нам делать с другими Посланниками, если таковые появятся? — вопросил Вильям Ногарэ.
— Мне будет весьма любопытно встретиться со своими братьями, — ответил я так же честно, как и отвечал до сих пор.
— И чем бы вы хотели заняться, граф, до этой приятной встречи? — был новый вопрос «хитрого альбигойского лиса».
— Полагаю, что во власти Его Величества оказались многие важные бумаги и книги Ордена, — предположил я. — Теперь я готов смиренно просить Его Величество открыть мне доступ к этим письменам, кои не сумел бы прочитать простой неграмотный воин. Возможно, мне удастся обнаружить в них тайное слово, которое не только напомнит мне мое утраченное имя, но и раскроет тайны всех скрывающихся по углам мстителей.
— Несмотря на ваше беспамятство, граф, вы удивительно прозорливы, — усмехнулся Вильям Ногарэ. — Я как раз и намереваюсь проводить вас к этим письменам.
Он раскрыл передо мной дверь, которая вела в еще более темное помещение.
Таких дверей, что вели все глубже к тайнам следствия о богоотступнических деяниях Ордена тамплиеров, я смог бы насчитать впоследствии никак не меньше сотни, ведь в продолжении целого года безымянный граф де Ту пользовался доверием короля и прилежно исполнял обязанности секретаря комиссара инквизиции.
Роясь, как крыса, в книгах и пергаментах Ордена, я, разумеется, был озабочен прежде всего своим собственным «наследством», однако, к своему глубокому огорчению, не обнаружил в них ничего, что могло бы пролить свет на таинственную родословную, которую несомненно оставил после себя граф Робер де Ту, раз уж сам король, не колеблясь, причислял меня к этой династии. Только в одной из бумаг, что была написана десятилетие тому назад рукой морейского князя, затем отправлена Великому Магистру Ордена иоаннитов и, наконец, перехвачена тамплиерами, я наткнулся на необъяснимое сочетание имен Гуго де Ту и Жиля де Морея. В письме упоминалась некая «вторая степень вассального права», коей мог бы воспользоваться Жиль де Морей после смерти Гуго де Ту. Целую ночь напролет я ломал себе голову над тем, что могла бы означать эта «вторая степень», однако, не имея возможности задавать вопросы, я бросил и эту загадку в бездонное хранилище прочих загадок, только и составлявшее все мои графские владения.
Тайное слово так и не открылось мне среди тысяч и тысяч прочих, которые могли быть не менее тайными для кого-то другого, например, для предводителя тамплиеров Рума, Эда де Морея.
Эти неудачные поиски, однако, не охладили моего пыла. К удовольствию Вильяма Ногарэ и комиссара инквизиции, я продолжал дотошно рыться и громко чихать среди вороха конфискованных «заклинаний» Ордена. Среди французских, арабских, итальянских и прочих письмен, я принялся усердно искать следы той могущественной силы, что и поныне смеялась за спинами всех титанов войны и мудрости — тамплиеров и королей, ассасинов и дервишей. Эти демоны не оставляли никаких явных следов, хотя, как мне казалось, прошлись своими невесомыми стопами по каждому, попадавшемуся мне на глаза бумажному или пергаментному клочку.
Кроме того, я присутствовал на многих допросах как простых рыцарей-тамплиеров, так и их предводителей, Великого Магистра Жака де Молэ и Верховного Казначея Ордена Гуго де Перо, однако молчание воинов Храма и злобное недоумение инквизиторов так же мало способствовали моей придворной карьере.
На исходе года моего заключения в стенах королевского дворца, среди бумаг и золотой бахромы, все начали терять терпение: король, «хитрый альбигойский лис», комиссар инквизиции и сам безымянный граф де Ту. У последнего была на то своя причина, ибо подходил к концу срок, некогда упомянутый в обещании, которое граф де Ту, а также лошадник Андреуччо ди Пьетро и, наконец, просто влюбленный Джорджио дали одной прелестной даме по имени Фьямметта Буондельвенто.
— Я не смог найти ничего такого, что позволило бы мне помочь следствию, — прямо сказал граф де Ту Вильяму Ногарэ. — Опасаюсь, что только слово Великого Магистра способно воплотить тень Посланника в самого важного свидетеля, на которого так надеется Его Величество. Если кто теперь и нанесет Удар Истины, то скорее всего этим доброжелателем окажусь не я.
— Вот как, граф, — явственно омрачившись, пробормотал Вильям Ногарэ и потеребил золотую кисть, свисавшую вдоль парчовой занавеси. — Но Старый Жак до сих пор молчит.
— Молчит, — сочувственно кивнул я.
— Я передам ваши слова Его Величеству, ничего не прибавив от себя, — заверил меня Вильям Ногарэ, и спустя неделю передо мной открылись самые величественные, украшенные львиными мордами двери Дворца, которые вели в большой приемный зал.
— Граф де Ту! — выкрикнул герольд слова, странным образом относившиеся ко мне, и я, блистая роскошным котарди цвета тигровой розы и загодя начищенными застежками, двинулся вперед, к королевскому трону, между рядами перешептывавшихся придворных.
Хотя на праздник по поводу годовщины восшествия на франкский престол Филиппа от Капетингов по прозвищу Красавец я вошел одним из последних, однако именно в день своего праздника король приготовил подарок для меня, безымянного графа де Ту.
Подойдя к подножию трона, я совершил соответствующий большому торжеству поклон и отошел в сторону, по правую руку от короля, и притом вовсе не так отдалился от трона, как полагалось бы вошедшему в числе тех самых последних. Полторы сотни испепеляющих взоров вперилось в меня, однако всего один короткий взгляд короля без труда погасил их всех. Переглянувшись еще и с Вильямом Ногарэ, я отступил на шаг от прохода, чтобы наблюдать за «львиными вратами» из-за подходящего укрытия — грузного и широкого тела какого-то пожилого придворного.
Герольды объявили еще три ничего не значивших для меня имени, и вот наконец сердце мое дрогнуло и сжалось в комок, как почуявший опасность еж.
— Маркиз и маркиза д'Эклэр! — раздалось в стенах Дворца.
Я увидел острый кончик черного башмачка, фалду темно-алого, как медленная кровь, сюрко; я увидел блеск золотых звезд с причудливо изогнутыми лучами и вот, ослепленный, закрыл глаза.
Оказавшись в непроницаемой тьме, созданной как бы по моей собственной воле, и переведя дыхание, я спросил себя, почему же король Франции не был убит год назад, спустя миг, после того, как острый черный башмачок впервые коснулся порога Карбункула.
В том, что уже в тот день, наступивший и затем растаявший в ночном сумраке год тому назад, смерть короля оказалась при дверях Карбункула, я ничуть не сомневался. Ибо ни кем иным не могла быть маркиза д'Эклэр, маркиза Молнии, как только самой Черной Молнией, Акисой, ассасином от ассасин!
И я посреди тьмы ответил самому себе: король получил в подарок еще один год жизни только по одной из двух причин. Или потому что он еще целый год не принимал решения, которое утвердило бы его смертный приговор, или потому что ассасины вообще любят «праздничные убийства» с большим ужасом и воистину вселенским устрашением народов. Третью возможную причину — будто бы что-то помешало прекрасной, несравненной, бесконечно опасной Акисе совершить покушение — я попросту не принял на счет. Помешать ей могли только безымянный граф де Ту и великолепный, доблестный и неустрашимый Эд де Морей, но королю Филиппу от Капетингов Эд де Морей, увы, не служил.
Не мог, не имел никакого права сомневаться я и в том, что наступивший день должен стать для короля последним, а начавшийся праздник — самым кровавым из всех дворцовых праздников франкской короны.
Сверкавшие глаза прекрасной Акисы вполне подтверждали мои самые дурные предчувствия. Признаюсь: увидев из своей засады очаровательную маркизу с драгоценной диадемой в прихотливо убранных и невинно покрытых прозрачной вуалью, черных, как смола драконова дерева, волосах, я испытал греховную радость от того, что не давал Фьямметте клятвы верности, а только дал ей обещание на окончательный ответ, как если бы вовсе не она, а я был строптивой возлюбленной славного воина.
С этой мыслью я раскрыл глаза.
Акиса Черная Молния торжественно шествовала к трону, под руку со своим новоявленным супругом, которого, на мой беглый взгляд, вряд ли можно было бы признать третьим Посланником Удара Истины, направленным в Париж из пустынь и миражей Востока. В том, что Акиса не теряла во Франции времени даром, я мог убедиться уже по ее блистательной походке и умению носить европейское платье.
Она двигалась вперед, к своей кровавой цели, а я все отступал, прячась за толстого сановника и вполне разумея, что мой главный и последний долг — уберечь короля, кем бы он ни был в действительности, врагом Истины или ее ближним вассалом.
Всего на десять шагов приблизилась Акиса Черная Молния к трону от «львиных дверей», когда я, упустив ее всего на мгновение из виду, перевел взгляд на короля.
Король же, вероятно, с самого появления маркизы д'Эклэр неотступно следил за всеми моими движениями.
Я позволил себе улыбнуться королю, и он понимающе кивнул безымянному графу де Ту. Однако ни сам король, ни Вильям Ногарэ не должны были раскрыть тайного смысла улыбки графа де Ту и того тайного слова, которое теперь могло быть им произнесено. В это самое мгновение я почувствовал себя посланником тех смеющихся духов, которые так искусно жонглировали судьбами слуг и королей.
Я успел порадоваться еще одному обстоятельству: теперь у меня был выбор, не слишком богатый, но вполне достойный моей гордыни. Жизнь короля была в моих руках.
Взглядом я отсчитал от трона шесть шагов — как раз достаточных для ассасина, чтобы тот, не торопясь, сделал свое дело.
До этой мысленной меты Акисе оставалось пройти не больше одного десятка шагов.
Прищурившись, я вглядывался в причудливо изогнутые звезды на ее темно-алом сюрко, в ее пояс, напоминавший жемчужное ожерелье и даже в прозрачную вуаль на ее волосах, стараясь отгадать, где же у нее припрятан малый Зуб Кобры.
За четыре шага Акисы до зловещей, незримой черты я вывел заключение, что смертоносное жало укрыто у нее или в неприметном кармане под левой грудью, чуть выше пояса, или еще выше слева, над самой грудью, под краем безрукавного сюрко.
Тучное тело придворного, служившее мне крепостной стеной, расплывалось в моих глазах и, мешая наблюдениям, сверкало серебряным шитьем.
За два шага я, наконец, принял невольный вызов, и, как только острый носок черного башмачка, коснулся лепестка мраморной лилии на полу, я смело и дерзко выступил из-за укрытия, заложив правую руку под локоть левой руки — на место, прекрасно известное всем ассасинам.
По залу пронесся шепот, напоминавший гнев осиного роя. Пестрые, горделивые осы не могли не рассердиться: ведь я нагло выступил на полный шаг за предел, положенный для всех выстроившихся по сторонам от трона придворных и знатных гостей Двора. Полтораста изумленных и злобных взоров совершенно безболезненно впились в меня: всех взбудоражило движение моей ноги, но ни одного из нобилей или стражей не смутил жест моей правой руки — никого из приглашенных на королевский праздник, кроме той, которая весьма искусно сделала вид, будто вовсе не заметила никому не известного наглеца.
Только ресницы ее дрогнули, пронзив мое сердце, подобно арбалетным стрелам. Только ее черные брови, острее ассасинских кинжалов, чуть изогнулись. Только ее смуглые щеки чуть побледнели, словно отражая смертельную бледность уже повергнутой жертвы. Только ее алые губы сжались так, что я теперь уже никак не мог рассчитывать на ответный поцелуй.
Только маркиза д'Эклэр, Черная Молния, готовая поразить Францию, знала, что моя правая рука, вооруженная железной Петлей Асраила — коей, увы, у меня не было и в помине — успеет остановить ее кинжал, как бы близко ни подошла она к своей жертве.
О, как страстно желал я преклонить колено перед Акисой!
«Красавица! — так и кричал мой взгляд. — Кто другой знает о твоей силе?! Кто другой поклоняется ей?! Кто другой благоговеет так, как я, глядя в твои бездонные и страшные зрачки?! Кто еще здесь может оценить по достоинству твою выдержку, с какую ты, прелестная посланница Смерти, скрываешь в себе ее неудержимую волю?! Кого другого ты можешь ненавидеть в этот час со столь беспредельной силой, как ни меня, твоего верного рыцаря?! Так сжалься, подари мне хоть один знак твоего внимания, подари мне хоть одну .улыбку, равную по силе блеску твоего оружия!»
Маркиза д'Эклэр гордо прошла мимо меня к подножию трона и, исполнив изумительно совершенный поклон, приветствовала короля с таким чистым нормандским выговором, что мне оставалось только устыдиться своему кипрскому невежеству. Да и некуда было деваться: она обогнала меня на два года.
Я посмотрел в плоский затылок маркиза д'Эклэр и пришел к выводу, что здесь маркиз выглядит куда наивнее простого лошадника Андреуччо ди Пьетро.
Только после этого я позволил себе ответить на взгляд короля, отчего Его Величество дернул правым уголком губ, как бы обрывая понимающую улыбку, и, по-видимому, пришел к собственному выводу насчет нашего с маркизой знакомства.
Зная, что король до конца не поймет моего знака, я указал ему глазами на латных стражников, возвышавшихся по сторонам от трона. Король приспустил веки, и, кажется, мы оба остались довольны друг другом. Во всяком случае у меня прибавилось уверенности в том, что Филипп от Капетингов не станет производить излишних и неосторожных перемещений по залу.
Теперь я сам мог временно сделать вид, что не замечаю холодную маркизу. Однако, как только заиграли лютни, флейты и арфы и настал час торжественного танца, я понял что опасность вовсе не миновала.
Взгляд короля был устремлен туда, куда избегал смотреть я.
Увы, что же еще оставалось королю, как не проявлять любопытство к самым загадочным гостям торжества!
Теперь вновь, подобно грозному ангелу с обращающимся мечом в руке, я должен был не допустить приближение одного к другому: не только убийцы к жертве, но — что было куда труднее — жертвы к убийце.
На миг, прямо по моему внутреннему велению, около меня оказалась темная, бесплотная фигура Вильяма Ногарэ.
— Его Величество спрашивает: знает ли она больше, чем говорит? — прошептал он.
— Многое ли она говорит? — полюбопытствовал я, в мыслях предвосхищая узор из мужских и женских фигур, сходящихся в церемониальном танце.
— По ее словам, Старый Жак говорит ложь, которую принимает за правду, — ответил Вильям Ногарэ.
— Кому же теперь верит король? — спросил я.
— Его Величество ждет, а не верит, — сухо усмехнулся «альбигойский лис».
— Тем не менее, Его Величество уже определил судьбу Ордена, насколько это может подтверждать его триумфальный вид, — опасно заметил я.
Вильям Ногарэ вперился в меня, и в его взгляде я словно бы увидел весы: на одну чашку он положил мою догадливость, а на другую — сведения, возможно полученные мною от шпионов Ордена.
— Передайте Его Величеству, мессир, — сказал я и отвернулся от Вильяма Ногарэ, не желая видеть результатов взвешивания, — я постараюсь немедля выведать у маркизы, что ей известно о тайном слове.
Как раз вовремя оторвался я от своего темного собеседника, поскольку король, поручив меня своему «лису», неотрывно смотрел на маркизу, словно стараясь притянуть ее к себе взглядом, а фигуры танца уже складывались, вторя его желанию: маркиза вот-вот должна была двинуться к трону в раскрывающемся надвое ряду — и только один король имел право вступить в танец в любое мгновение и на любое место. Теперь он явно ожидал, пока маркиза снова достигнет лепестка мраморной лилии.
За один шаг маркизы д'Эклэр до смертельной меты, я сделал то, что имел право делать только король Франции.
Я выступил вперед, повернулся лицом к разделявшемуся «ручейку», и поднял руку, принимая своим запястьем запястье Акисы Черной Молнии.
На одно мгновение танец замер, словно заледенев, струны вздрогнули, а все свечи как будто погасли.
Не замечая вокруг более ничего и наверняка зная только то, что король теперь хитро улыбается мне в спину, не обращая внимания на своих придворных, я сделал шаг вперед — и две самые опасные в мире руки скрестились.
В зрачках Акисы была заключена Ночь, которая могла бы поглотить все светлые дни, исчисляемые от моего рождения.
— Сударыня! — прошептал я. — Примите уверения в моем совершенном поклонении вашей красоте и вашему сердцу!
«Ручей» танца повлек нас прочь от трона — в сторону «львиных дверей».
Сколько голов норовили дерзко повернуться в нашу сторону! Но танец, священнодействие придворной жизни, теперь оберегал нас от чрезмерного любопытства тех, кто вовсе не ведал об истинно священном танце, вторгшемся в незатейливое королевское торжество.
— Сударь, я несказанно рада лицезреть вас, — журчащим голоском проговорила маркиза, — и всею душою принимаю ваши уверения.
На моей вытянутой руке невесомо лежала ее рука, холодная, но все же гораздо теплее настоящей Смерти, и потому сердце бедного рыцаря Черной Молнии громко колотилось от счастья.
— В таком случае, сударыня, — продолжал я куртуазную беседу, — смею ли надеяться на вполне осязаемые знаки внимания вашей милости?
— Разумеется, сударь, — получил я любезный ответ. — Видя вашу искреннюю ко мне привязанность, я буду счастлива одарить вас даже тем знаком внимания, который уготован гораздо более высокородному лицу, чем вы.
До полного поворота от «львиных дверей» обратно к трону оставался еще десяток шагов, и я решил, что наконец пора повернуть к существу дела.
— Прекрасная маркиза! — горячо зашептал я, чуть склонив голову в ее сторону и, совершенно позабыв про то, что ее «супругу», следовавшему за нами через одну или две пары, вероятно, уже не терпится вызвать меня на поединок. — Прекрасная маркиза! Вашему верному рыцарю привиделся дурной сон, будто бы тот знак внимания, о коем вы только что упомянули, не будет принят высокородным господином, также упомянутым вами. Напротив, последняя ваша встреча с ним будет иметь для вас роковые последствия.
Так я поведал красавице о том самом сне, что мучил меня на берегах Трапезунда.
До поворота оставался один шаг, и тогда я осмелился прямо заговорить на языке, на котором здесь, в сердце Парижа, и в этот час только и могла откровенно высказаться Истина.
— Черная Молния! — шепнул я ей на языке ассасинов. — Предзнаменования дурны. Твой замысел сорвется, даже если я покину дом короля. Здесь ты погубишь только одну жизнь — свою. Предоставь исполнение мне. Сама уходи.
Мы вновь повернулись лицом к яркому свету и — к глазам Филиппа от Капетингов. Теперь он с удовольствием наблюдал, как к нему торжественно приближается пара самых дерзких подданных его королевства.
— Собака! Убирайся прочь! — чарующе улыбаясь королю и почти не разжимая своих ослепительных зубок, прошипела Акиса. — Я успею приколоть обоих. Сам увидишь, деревенский пес!
Я хотел напоследок ответить маркизе самой изысканной любезностью, но промолчал, до конца уразумев, что судьба моя теперь решена, и вместо того, чтобы рассыпаться в любезностях, пора просто помолиться Богу и в мыслях попрощаться с той, которая никогда не назвала бы меня «деревенским псом» и которой безымянный граф де Ту был теперь достоин куда меньше, чем этой холодной и смертоносной красавицы.
Только на восьмом нашем шагу от «львиных дверей» к трону король перевел взгляд с маркизы д'Эклэр на графа де Ту: вероятно, на лице дерзкого графа произошла какая-то печальная перемена.
Мне хотелось теперь избежать взгляда короля, дабы еще спокойно поразмышлять о жизни и о бренности всего сущего. Однако по причине той же неслыханной дерзости, правом на которую я пользовался в этот роковой вечер, я вовсе не желал опускать перед королем своих глаз.
Тогда я невольно поднял глаза вверх — и обомлел!
На потолке, прямо над смертельной метой в виде мраморной лилии, был изображен «круг змеи», то есть змея, закусившая свой хвост.
«Сон! — ужаснулся я. — Сон в одном и том же Дворце Чудесного Миража!»
Тогда я опустил глаза и взглянул на белую лилию.
«Ищи там, где светлее! — успокоил я себя. — Ищи там, где светлее!»
Моя правая рука, как мне казалось ничуть не потеряла прежней силы и твердости, однако душевная дрожь передалась-таки через нее беспощадным пальчикам Акисы. Они вдруг крепко сжали мою кисть и до крови впились в нее коготками.
«Ищи там, где светлее!» — повелел я себе и за три шага до белой лилии скосил свои глаза вбок, а потом уже совершенно непристойно опустил голову, заглядывая даме прямо подмышку.
И вот перед самым освещенным местом зала мне почудилось, будто в другом, самом сокровенном месте, блеснула золотая искорка, вовсе не приметная среди роскошных золотых звезд, вышитых на кровавом сюрко красавицы.
Правая рука Акисы уже плавно двигалась к тайнику, несколько нарушая последовательность жестов, узаконенных танцем.
Черный ее башмачок уже поднялся над полом, стремясь окончательно попрать белый цветок.
Тогда и наступил мой час, легко вместившийся в одно мгновение, едва уловимое всеми живыми, надеявшимися жить еще долго и счастливо.
Я вырвал свою руку из самых острых в мире коготков, обхватил маркизу д'Эклэр за тонкую талию и, прижав к себе, вихрем закружился вместе с ней над белым, холодным цветком.
Я услышал ее растерянный вздох у самого уха и прижал к себе маркизу д'Эклэр, Черную Молнию, еще крепче, вовсе не из страстной любви к ней, а дабы вернее ощутить своим телом скрытое под ее одеждой смертоносное жало.
Оно оказалось там, где я и предполагал.
И вот я бесцеремонно оттолкнул от себя маркизу, оставшись на цветке Смерти в одиночку, а в моей руке засверкал золотой кинжал ассасинов.
Акиса приготовила Филиппу от Капетингов вовсе не Малый, как я думал, а главный, Большой Зуб Кобры.
Теперь я был уверен, что никто не успел заметить, откуда он взялся в моей руке.
Одной четвертой части мгновения хватило, чтобы Истина нанесла свой удар.
Я остался стоять на месте, нарочно повернувшись к королю правым боком — и так оказался прямо перед заморским стеклянным зеркалом, диковиной, подаренной королю китайским императором. Теперь оно, обрамленное бронзовой змеею, отражало Великого Мстителя в полный рост. Четверть мгновения я разглядывал лицо того, кому и был обязан вручить таинственный Удар Истины. Я вглядывался в его темные, горячечно блестевшие и окруженные палевой бледностью глаза, его ровный лоб, в острые черты его крупного носа и довольно слабого подбородка, в его плотно сжатые губы — и все же более приметные, чем тонкие ниточки его «братца»-двойника, Тибальдо Сентильи. Я хорошо запомнил и одеяние Великого Мстителя — его небесного цвета котарди, кольчатый серебряный пояс, алые шоссы, плотно облегавшие крепкие ноги, такие же алые башмаки, носы которых были заметно короче, чем у остальных гостей короля.
«Здравствуй! — не открывая рта, приветствовал я Великого Мстителя. — Я нашел тебя там, где было светлее».
Второй четверти мгновения, истекшей задолго до того, как пики стражников наклонились в мою сторону и целое воинство бросилось на меня сверху, с тронного возвышения и из потайной дверцы, открывавшейся позади него, мне вполне хватило на то, чтобы рассмотреть короля. Он восседал на троне, как безжизненная кукла.
Теперь, в эту четверть мгновения, я вновь оказался перед выбором.
Я мог убить короля и мог его не убивать.
Зуб Кобры был зажат в моей руке именно так, как было удобнее всего метнуть его, находясь правым боком к жертве. Теперь Великому Мстителю, если он уже успел избрать цель своей мести, ничего не стоило отвести руку вниз, левее, и затем бросить внахлест или ассасинский кинжал, или сам Удар Истины.
На шестом обороте Зуб Кобры пошел бы на излет, его острие чуть рассекло бы кожу на кадыке жертвы, но углубилось бы в плоть ниже этого выступа и уже под собственной тяжестью проникло бы дальше вниз, до самых позвонков и, если бы вошло с неслышным хрустом в мягкий промежуток между костяшками хребта, то выступило бы наружу, прорвав и запачкав кровью редкостное шитье пышного королевского воротника.
В третью четверть мгновения, что минула задолго до того, как все придворное празднество превратилось в суету переполошенных ос или, куда вернее, перепуганных кур, я поднял руку и метнул священный кинжал ассасинов в ту жертву, которую нашел достойной своей собственной гордыни.
На третьем обороте острие коснулось лба Великого Мстителя. Ломаные трещины, подобно бесчисленным молниям, разбежались во все стороны по хрупкому стеклу, и Великий Мститель, превратившись в рой сверкающих острых осколков, посыпался на мраморный пол королевского Дворца.
Как я и предполагал, прямо передо мной обнажился черный зев колодца, обрамленный «кругом змеи».
И тогда я вспомнил тайное слово — вовсе не то, которое могло бы теперь сохранить мою жизнь, а то слово, которым я мог сохранить жизнь Акисы: слово приказа, произносимое ассасином высших степеней.
Я повелел Акисе. Я выпустил это слово в щелочку между губами, даже не оборачивая к ней головы.
В последнюю четверть мгновения, истекшую задолго до того, как единым хором ахнули пораженные ламы, до моего уха донесся короткий и легкий хруст, и настоящая черная молния мелькнула, канув во мрак обрамленного змеею колодца, в который любой из королевских стражников сумел бы просунуть с трудом разве только свою крепкую голову.
Я скосил взгляд и приметил, как алое сюрко маркизы д'Эклэр медленно оседает на пол, разваливаясь, подобно смятому панцирю куколки, только что превратившейся в бабочку. Головное покрывало маркизы также неторопливо плыло по воздуху мне под ноги, прямо на белую мраморную лилию.
Все последующие мгновения того дня пронеслись быстро, поскольку я не собирался придавать им особого значения.
Стража окружила меня со всех сторон, уткнув в мою грудь и в мои лопатки целый веер пик.
Потом пики немного разошлись, пропуская в круг Вильяма Ногарэ.
— Граф, вы знали раньше, кто она есть на самом деле? — негромко спросил он.
— Мне легче ответить на вопрос, знал ли я, кем она не может быть, — честно признался я.
Пока конвой препровождал меня к дверям, Вильям Ногарэ шепнул мне на ухо:
— Его Величество несомненно учтет то обстоятельство, что вы постарались спасти жизнь Его Величества, хотя кинжал все видели только в вашей руке.
— Мессир, передайте Его Величеству, что я премного благодарен ему за его наблюдательность, — ответил я. — Более того, я несказанно рад всем сложившимся обстоятельствам. Раз уж в стенах Дворца и на таком великолепном празднестве могла случиться такая неприятность, то за его пределами и в обычный день с нами обоими, с Его Величеством и со мною, могло произойти вообще все, что угодно.
Вильям Ногарэ приподнял брови и взглянул на меня, как на умалишенного, а я так и не стал объяснять ему, что же имел в виду, поскольку для оставшейся жизни моя вменяемость уже совершенно не требовалась.
«Львиные двери» в последний раз раскрылись передо мной, а закрылись за моей спиной уже иные двери, отличавшиеся не роскошью отделки, а крепостью запоров.
В той самой клетке замка Шинон, где до недавнего времени содержался Старый Жак, Великий Магистр тамплиеров, безымянный граф де Ту так же, как он, грея руки над углями, провел последующие четыре года, не содержавшие никаких достойных запоминания событий.
Говоря по чести, его жизнь в застенке мало чем отличалась от жизни в потаенных комнатках королевского Дворца, наполненных пыльными пергаментами, книгами и крысами, пристрастившимися к бумажным трапезам.
По-видимому, Филипп от Капетингов все еще надеялся, что Старый Жак так успеет состариться, что проговорится уже по старческой забывчивости, если только вовсе не забудет того тайного слова. Поэтому и графа де Ту продолжали кормить, не как узника, а как знатного гостя, не жгли его каленым железом и не вешали на дыбу, дабы нечаянно не повредить хрупкий ларец, все еще хранивший какие-то неведомые сокровища.
Его так же усаживали на удобный стул свидетеля при допросах рыцарей Ордена, и не раз ему приходилось проводить часы, глядя в мутно блестевшие глаза Старого Жака.
Комиссар инквизиции считал, что мы оба сговорились играть в молчанку.
Я же не терял времени даром, мысленно сочиняя длинные письма моей очаровательной Фьямметте, и этих эфирных, призрачных писем за годы моего заключения набралось никак не меньше полутора тысяч.
В часы, свободные от писания на невидимых листках всяких нежных слов, безымянный граф де Ту вновь превращался в ассасина, который даже в заключении совершенствовал свои навыки, дабы не ослабели мышцы и не истончилась кость. Словно предчувствуя, что ему предстоят еще многие подвиги, он научился лазать по гладким каменным стенам без помощи кинжалов и крючьев, а только посредством собственных ногтей.
Еще он научился бы спать стоя, что особенно пригодилось бы в случае казни на медленном огне, но для полного освоения этого лошадиного искусства не хватило, по всей видимости как раз одной, последней ночи, ибо предпоследняя ночь завершалась удивительно ясным весенним рассветом марта восемнадцатого дня года одна тысяча триста четырнадцатого от Рождества Христова.
В то утро мне принесли очень дорогую одежду и роскошную меховую накидку, которая легко скрыла кандалы, повешенные мне на руки.
Меня провели по тюремному двору, придерживая, как слепца, поскольку белизна рассвета и небесная синева оказались нестерпимо прекрасны для моих глаз, а затем долго везли по оживающим полям и веселым улицам Франции.
Темные острия Нотр-Дам поднялись надо мною, и, когда я прозрел, то увидел внизу, перед его вратами, широкий деревянный помост.
Я с легкостью, подобавшей тому ясному весеннему дню, подумал, что наконец наступил-таки последний день моей жизни, но ошибся. Оказалось, что я оставлен в стороне от главного события этого дня.
Из-за толпы донесся вовсе не гармонировавший с веселым утром тяжелый скрип колес, и с двух повозок на помост были сведены королевской стражей четверо первых рыцарей Ордена во главе с Жаком де Молэ. Они медленно двигались, звеня цепями, которые не были скрыты ни от кого.
Вслед за тем какой-то человек в черном, также совершенно не годный для такого божественного утра, развернув длинную хартию, стал хрипло выкрикивать все обвинения, тяготевшие над Орденом с первого дня всеобщего признания вины: тайный союз с неверными, попирание Креста, идолопоклонство, содомия, измена Святой Земле, поклонение врагу рода человеческого.
Двое из обвиняемых стояли, опустив головы, другие двое — Великий Магистр Жак де Молэ и комтур Нормандии Жоффруа де Шарну, — щурясь, смотрели в синее небо.
И вот, когда все грехи были уже перечислены, вдруг звонко загремели цепи Старого Жака.
Собрав свои силы, он поднял руки, отягченные железом, и возгласил:
— Я, как и всякий человек, призванный к земной жизни Создателем, а предназначаемый к смерти людьми, имею право на последнее слово! Вот оно! Слушайте меня! Перед лицом Святых Небес и грешной земли я исповедуюсь. Я исповедуюсь в величайшем грехе, который именуется ложью. Я исповедуюсь во лжи, ибо я отвратительно лгал, признавая все обвинения и всю клевету, возведенную на Орден. Теперь я заявляю, ибо я обязан заявить: Орден невиновен. Его чистота и святость никогда не были попраны. Я признавал противоположное — каюсь в том. Но делал это из страха перед ужасными пытками. Те рыцари, кто отказался от своих признаний, уже тайно сожжены. Я знаю об этом. Смерть не так страшна, как пытки, и потому я, исповедуюсь перед вами в своей слабости и с легким сердцем отказываюсь теперь от признаний в преступлениях, которые никогда не были совершены. Жизнь предложена мне, но за цену предательства. Жизнь не стоит такой цены, а жизнь, купленная за такую цену, не стоит ничего. Если тебе предлагают жизнь для того, чтобы на камнях одной лжи, возвести другую, то лучше не трудиться вовсе.
Громоподобный глас Старого Жака, разогнавший всех темных птиц с фиалов Нотр-Дам, вероятно был слышен не только по всему Парижу, но донесся и до самых дальних уголков Французского королевства.
Голос же Филиппа от Капетингов, послышавшийся как бы откуда-то снизу, показался мне не более, чем змеиным шипением:
— Старый Жак наговорил уже больше слов, чем за все минувшие семь лет. Граф, неужели ни одно из них так и не разбудило вашей памяти?
— Сожалею, Ваше Величество, — посочувствовал я уже не себе, а королю. — Однако теперь подозреваю, что Великий Магистр не знает этого слова.
— Вполне возможно, — сказал король, убирая руку с орлиноголового подлокотника кресла, потому что его пальцы побелели, то ли от холода, то ли от гнева. — Однако одно священное слово он произнес, и оно оказалось ложью. Слово, данное мне.
— Ваше Величество, вы полагаете, что Великий Магистр лжет и теперь, перед смертью? — нарочито изумился я.
— А как полагаете вы, граф? — резко произнес король, не поворачивая головы в мою сторону и глядя на комтура Нормандии Жоффруа де Шарну, вторившего теперь речам своего монсиньора.
— Полагаю, что лжет тот, кого здесь нет, — ответил я.
— Что вы имеете в виду, граф? — вполне искренне полюбопытствовал король.
— Только то, что НЕВИНОВНОСТЬ остается не менее тайным словом, Ваше Величество, — сказал я.
Король промолчал, и по короткому облачку пара, потянувшемуся из щелки между его губами, я мог догадаться, что он тягостно вздохнул.
Пальцы другой его руки, одетой в алую перчатку, шевельнулись, и меня повели прочь.
Сквозь щель между грохочущими вокруг меня стражниками проскользнул Вильям Ногарэ.
— Граф, вы сами отрезали себе все пути, — вполне сочувственно проговорил он. — Зачем вам это было нужно? — И не дожидаясь моего ответа, он добавил: — У Его Величества нет выбора. Если Великий Магистр унесет это слово в могилу, то и вы из свидетеля превратитесь в опасное лицо, тайной которого могут воспользоваться враги королевства…
— Я знаю, что, когда высыхает речное русло, мельничное колесо должно остановиться вместе с жерновом, — прервал я Вильяма Ногарэ, чувствуя прилив досады.
— Так Его Величество и сказал! — растерянно воскликнул Вильям Ногарэ, но, тут же справившись со своим удивлением, добавил. — В конце концов, не от одного только слова могла бы зависеть ваша жизнь, граф. Если бы только Старый Жак признался, куда делось золото Ордена…
Внезапно и совершенно ни к месту меня стал разбирать смех, и я проговорил:
— Если дело стало только за этим, то я вполне готов взять всю вину на себя. Каюсь. Золото Ордена украл и спрятал ваш покорный слуга.
— Вот как! — недоверчиво усмехнулся Вильям Ногарэ. — И где же вы его укрыли, граф?
— В дерьме, — честно признался я. Чему хитрые и ушлые люди никогда не верят — так это самой чистой правде.
— Площадная шутка, граф, — поморщился Вильям Ногарэ, — не красящая такого высокородного человека, каким являетесь вы.
— И тем не менее, я говорю сущую правду, — твердо сказал я. — Золото Ордена — в самом настоящем дерьме…
Мысли мои разыгрались, и я добавил, уже неимоверным усилием давя смех:
— …которое для меня куда дороже самого золота.
Вильям Ногарэ отстал, однако вскоре настиг меня вновь, успев протиснуться в закрывающуюся за моей спиной в последний раз дверь тюремного застенка.
— Его Величество помнит, что однажды вы, граф, спасли ему жизнь, — сообщил он мне, запыхавшись. — И к тому же Его Величество сказал, что даже король не в силах лишить благородного человека его свободной воли и его свободного выбора.
Он раскрыл перед моим лицом руки, и я увидел на одной его ладони пузырек темного стекла, а на другой — огниво.
— Смею вас уверить, граф, — добавил Вильям Ногарэ, — что действие этого яда незамедлительно и вызывает очень приятное чувство отрешенности от всего земного.
— Благодарю вас, мессир, — сказал я, вспоминая о всяких отравах, способных превратить и саму смерть в подобие нескончаемо суматошной и совершенно бесплодной жизни. — Однако я предпочту умереть, греясь под ясным голубым небом у приятного камелька.
Через час мне принесли диковинную одежду, которая напомнила мне о празднестве Золотого Осла — и напомнила совсем неспроста, ибо, как только тяжелые французские двери раскрылись и выпустили меня из тьмы под ясное голубое небо в последний раз, я тотчас очутился в самой гуще удивительной, пестрой процессии, двигавшейся мимо королевского Дворца в сторону Сены и моста через нее, соединявшего речной островок Сите со всей остальной Францией.
Толпа, с радостью повалившая на праздник и оттесняемая на две стороны высокими и хмурыми воинами, приветствовала всех участников процессии, а среди них и безымянного графа де Ту, семенившего в саване, что был сшит из черно-белых заплат. Она, толпа, приветствовала его хлопками, ругательствами, свистом, обглоданными костями, плачем, благословениями и молитвами.
Все это мне уже было знакомо, и потому я не испытывал особого волнения. Сердил меня только мой не слишком выдающийся рост и то обстоятельство, что по закону, установленному здешним Золотым Ослом, мне, как и остальным грешным рыцарям Ордена, приходилось идти по холодным камням босиком: будь я обут, я все же оказался бы чуть повыше и смог бы без труда увидеть чуть побольше. Невольно приподнимаясь на носки и заглядывая через плечи стражников, опекавших мою особу, я видел впереди серое стадо доминиканских монахов, вооруженных высокими хоругвями, и возвышавшегося среди доминиканцев Великого Магистра в разорванном надвое тамплиерском плаще и коротком наплечнике с изображениями отвратительных демонов.
Как и раньше, мне не терпелось протиснуться вперед, чтобы оказаться бок о бок с Великим Магистром, теперь, однако, — с совершенно противоположной целью. Увы, здесь был холодный и строгий Париж, а не веселая, теплокровная Флоренция: здесь на празднике полагался порядок, да, к тому же, мне никто не мог помочь в моем деле, рядом со мной не было норовистого, упорного Гвидо.
«Гвидо! Тебя-то мне и не хватает», — подумал я и вдруг замер на месте, в первый раз совершенно не поверив своей памяти.
Мне показалось, что мои глаза всего мгновение назад видели Гвидо.
Стражники, прилежно двигавшиеся в арьергарде, подтолкнули меня в лопатки, и я снова тронулся вперед, изумляясь внезапному видению, которое приписал только своему теперь уже плохо сдерживаемому страху.
Раз уж мне вспомнился Гвидо, то, конечно, очередь дошла и до его прекрасной сестренки, перед которой я отныне был виноват настолько, что даже стыдился попрощаться с ней мысленно, послать ей последний сердечный привет. Я дал себе только одно строгое обещание: помолиться на костре за ее будущее счастье — увы, не с безымянным графом де Ту, появившимся на свет из выгребной ямы, а с более достойным рыцарем. Я возмечтал, что во Флоренции появится когда-нибудь храбрый Эд де Морей, и такое скрещение судеб я хотел выпросить у Всемогущего Господа в те мгновения, когда под моими стопами займется пламя.
Так я не сдержался и увидел перед собой Фьямметту, прелестную сестренку доблестного Гвидо Буондельвенто.
Так я и остолбенел вновь, увидев ее вовсе не внутренним взором, а самыми что ни на есть плотскими очами.
Она смотрела на меня из толпы. В ее огромных глазах бушевало море скорби и невыразимой муки.
Стражники вновь подтолкнули меня, и я пошел дальше, кося взглядом вбок и замечая, как крепкая рука высовывается между парижскими зеваками, обхватывает Фьямметту и затаскивает в глубину толпы, а на месте Фьямметты появляется не только хитрое, раскрасневшееся лицо Гвидо, но и — весь он сам, в полный рост, одетый простым суконщиком.
«Это сновидение становится все забавнее», — подумал я, боясь окосеть вовсе, хотя такой недостаток теперь вряд ли бы мог помешать моим честолюбивым замыслам на будущее.
Между тем, Гвидо Буондельвенто, призрак или человек во плоти, расталкивая зевак и потому живо поспевая следом, моргал то одним глазом, то другим, корчил страшные рожи и скалился.
Наконец я догадался, что он так указывает мне взглянуть и на другую сторону, направо. Осторожно повернув голову, я в самом деле кое-кого приметил: я приметил каких-то не менее упрямых людей, столь же резво просачивавшихся сквозь толпу, и наконец из этого настойчивого потока серых одежд мне подмигнуло мое собственное, чуть, впрочем, искаженное отражение.
Только теперь я окончательно уверовал, что это назойливое движение воспоминаний воплощается наяву, ибо Тибальдо Сентилья никогда не снился мне раньше и почему-то мне всегда казалось, что ему не суждено вовсе проникнуть в мои сны.
«Не хватало теперь появиться только Акисе и Эду де Морею, — с какой-то безумной иронией подумал я. — Если Эд и Акиса появятся, то тогда на этой мерзкой дороге может произойти вообще все что угодно, даже такое, что лучше было бы променять на самый медленный огонь и на все самые мучительные яды, вместе взятые».
Так я, оставив мысли о Великом Магистре, о вине и невиновности, о правде и лжи, о чести и бесчестии, нашел себе новый повод для тяжелых, лихорадочных раздумий.
Теперь я положил себе не оглядываться ни вправо, ни влево и молиться за всех добрых людей подряд.
Между тем, процессия достигла моста, и стража отсекла от него возроптавшую толпу, а затем разделила саму процессию на две части.
Все-таки позволив себе оглядеться, я уразумел замысел короля.
Вблизи, почти на самом берегу, возвышался один помост с деревянной осью, торчащей в небо, а вдалеке, на острове Сите, возвышались два таких помоста.
Даже если бы Старый Жак, которого вскоре должны были охватить там, за рекой, безжалостные языки пламени, и переменил бы наконец свою волю, видя мучения того, кто сдержал свое слово, данное Великому Магистру Ордена, и выкрикнул бы заветное слово, то оно уже вряд ли долетело бы до безымянного графа де Ту.
Король решил разъять мельничное колесо и жернов, дабы они каким-то чудом не завертелись над высохшим руслом.
К тому же Филипп от Капетингов явно не хотел подпускать слишком большую толпу горожан к возведенному на костер Великому Магистру. Какие-то люди в одеяниях знати и простонародья были видны на островке, но, что это были за люди и на каком языке они говорили между собой, сказать было трудно.
Таким образом, горячей забавой для всего народа должен был послужить в это столь же ясное, как и накануне, утро безымянный граф де Ту.
Великого Магистра и комтура Нормандии повели через мост, а мне учтиво предложили свернуть влево, к ближайшему возвышению, и я был очень доволен тем, что мой путь сократился, а доски оказались куда теплее весенних камней Парижа.
И вот, наконец, мои лопатки обхватили торчащую в небеса смертную ось, а с моих рук сняли кандалы, но зато опоясали кольчатым железным ожерельем, две петли которого висели на скобах, глубоко вбитых в столб.
Я посмотрел в синее небо, потом прищурился, приветствуя весеннее солнце и не сразу заметил длинный, темный крест, умело протянутый издали к моим губам одним из доминиканских монахов.
С такою же искренней радостью, с какой я смотрел на солнце, я поцеловал крест, но помолился вовсе не о том, о чем собирался молиться, когда вновь доберусь до последних мгновений своей жизни. Теперь я просил у Бога, чтобы Он дал сил Фьямметте и ее сердце не разорвалось бы при виде огня и, вероятно, крови, которая вот-вот должна пролиться. Я просил у Бога, чтобы Он спас мою дорогую Фьямметту из водоворота обезумевшей толпы. Я просил у Бога, чтобы Он образумил Гвидо и тот не стал бы лезть на рожон, готовый схватиться в одиночку со всеми войсками Французского королевства. Я просил у Бога, чтобы Тибальдо Сентилье в его замыслах сопутствовала удача и в случае провала всей затеи моих друзей, он смог бы улизнуть из Парижа, прихватив с собой Фьямметту. И наконец я взмолился: «Господи, а Черную Молнию хорошо бы сегодня совсем не подпускать к Парижу!»
Пока я так молился, четверо стражников встали в десяти шагах от углов помоста, остальные отошли дальше, к берегу, а какой-то маленький и особо ретивый монашек в очень широком капюшоне все подносил и подносил к костру пучки хвороста, вызывая усмешки у своих, вооруженных хоругвями и лениво переминавшихся на одном месте собратьев.
«Вот святая простота!» — подумал я, наблюдая вместе с ними за его муравьиной суетой.
Один из пучков был брошен монашком почти что под ноги палачу.
Палач поглядел через его голову в сторону и, заметив повелительный жест мрачного человека в роскошном черном балахоне, опустил головку факела на жаровню, полную горячих углей.
Первое пламя вспыхнуло.
Факел начал гордо подниматься ввысь, но вдруг раздался сдавленный стон, и, не достигнув неба, пламя стало вновь никнуть к земле.
Порыв теплого ветра обдал меня с головы до ног, и я едва успел заметить, как факел, вертясь, подобно огненному колесу, летит мимо меня и смертной оси, к которой я прикован, в сторону реки.
Серый балахончик маленького монашка, тем временем, оседал на землю, как облачко пепла.
Акиса! Конечно же, прекрасная черная Акиса была тем самым прилежным монашком!
«Если началась моя казнь и появилась Акиса, то больше нечего бояться, — трезво рассудил я. — Такое сочетание происходит всегда только во сне.»
В первую четверть наступившего мгновения я увидел, как палач, насаженный на ассасинский кинжал, валится на бок, опрокидывая с треноги горячую жаровню, и как валится длинная пика ближайшего к палачу стражника, а сам он так же бессильно и неторопливо опрокидывается навзничь, словно пытаясь получше разглядеть торчащую у него между бровей железную звезду.
Во следующую четверть мгновения я, во-первых, услышал шипение угодившего в реку факела, а затем — звонкий топот стражников; во-вторых, я увидел целый рой арбалетных стрел, вырвавшихся прямо из толпы и промелькнувших мимо меня; в-третьих же, вновь сменив зрение на слух, я услышал, что все войско с грохотом и стоном повалилось наземь за моей спиной, даже не успев достигнуть помоста.
В самом начале третьей четверти мгновения ужасный вихрь разбросал всех монахов и их хоругви — и понес к помосту не менее ужасного великана, вооруженного топором. То был Гвидо Буондельвенто. Своим прыжком едва не проломив помост, он подскочил ко мне и, замахнувшись на меня своим орудием, только и успел прорычать:
— Мессер, пригнитесь!
От первого удара я содрогнулся вместе со столбом, а от второго удара испуганно рванулся вперед, поскольку услышал позади себя страшный треск. Верный Гвидо, однако, успел, бросив топор, обхватить перерубленный ствол, который своим комлем едва не проломил мне хребет.
В продолжении всей последней четверти мгновения я сбрасывал с себя всякие железные путы, а Гвидо рычал мне в ухо:
— Удирайте, мессер! Туда! Туда! — Он указывал мне рукой через серые холмики и кочки с испугу бросившихся на землю доминиканцев, в сторону какой-то узкой улочки.
Мгновение, отведенное для устройства моей дальнейшей судьбы, истекло.
— Бегите! — крикнул Гвидо. — Я их задержу!
Задерживать было кого — как раз по силам Гвидо и моим бывшим ифритам, которых я мельком приметил над толпой в виде отдаленных горных вершин: целых три отряда королевской стражи, общим числом в половину сотни, спешило с трех сторон к месту неудавшейся казни.
— Гвидо! — сочувственно вздохнул я, желая принять главную битву вместе с ним.
— Бегите, вам говорят! — яростно вознегодовал Гвидо. — Неужто все мы зря тащились в такую даль?!
Он подтолкнул меня так, что я едва не покатился кубарем с помоста.
Соскочив вниз и, увы, сразу потеряв удобное место обзора, я пригнул голову еще ниже и кинулся в толпу через серые кочки и холмики доминиканской братии.
Люди Сентильи — их я узнавал по торчащим из рук кинжалам и коротким каландарским мечам — прокладывали мне дорогу, угрожая всем направо и налево, однако толпа, пережив первый страх, уже орала и улюлюкала, хлопая в ладоши и весело свистя мне вдогонку. Кто-то даже попытался сунуть мне в руку бурдючок с вином.
Поначалу мне казалось, что Гвидо, громко топая по камням, бежит следом за мной, но вскоре этот близкий топот затих, а затем послышались настоящие боевые ругательства и раздался звон мечей. Я понял, что теперь Гвидо честно исполняет то, что он обещал мне при первом нашем примирении.
Едва плотные стены, составленные из горячих, живых тел кончились, как меня сразу обступили с двух сторон другие стены — темные, сложенные из холодного французского камня. Однако из этих мертвых стен быстро высунулась человеческая рука и, схватив меня за локоть, дернула в какой-то сумрачный и дурно пахнущий закуток.
— Мессер, — дохнул мне в ухо Тибальдо Сентилья, сидевший тут в засаде. — Скорей меняйте личину.
Пока я лихорадочно натягивал на себя штаны суконщика, кожаную рубаху шерстобита и с удовольствием влезал в удобные сапоги конюха, служащего никак не ниже королевской конюшни, флорентиец заталкивал ногой в грязь, шутовские наряды осужденного на костер грешника.
Шум битвы, кипевшей где-то там, посреди волновавшегося моря толпы, вовсе не утихал, а, напротив, даже усиливался.
— Не потеряем ли мы Гвидо? — с тревогой спросил я Сентилью.
— Он провел здесь целый год в нестерпимом бездельи, — усмехнулся Сентилья. — Дабы он случайно не выдал себя и всех нас, я запретил ему совать нос даже в самую захудалую таверну. Как боевой конь, он едва не расшиб копытом все стойло. Теперь его все равно не удержать. Дайте ему отвести душу, мессер.
Целый год все они сидели в Париже, ожидая удобного случая, чтобы взяться за дело моего спасения! Я разинул рот и даже не нашел в себе сил, чтобы проговорить слова благодарности.
— Торопитесь, мессер! — стал подгонять меня порядочный трактатор.
— А где Фьямметта? — выдал я и другую свою тревогу, которую не мог не выдать.
— Не беспокойтесь, мессер, я все предусмотрел, — махнул рукой Сентилья. — За проценты с тех орденских денег, которые я получил от вас, я мог бы выстроить для нее прямо напротив вашей тюрьмы другой неприступный замок. Теперь возьмите это, — добавил он, протягивая мне не что иное, как Удар Истины, которого я не видел уже четыре года!
— Откуда?! — вытаращив глаза, воскликнул я.
— Тише, мессер! — поднял палец Сентилья. — Я сам бы хотел задать вам этот вопрос. Вчера ко мне в дом вошла незнакомая знатная дама, поразив у дверей всех моих головорезов, а затем — и меня самого своей красотой и решительностью. Я не успел и слова сказать, как она сунула мне в руки эту безделушку и потребовала отдать той «рыбке, на которую в Париже давно расставлены сети». Так она и сказала — «рыбке»…
— Чтобы «рыбка» сумела скорее выскочить из всех сетей, — усмехнулся я, вешая кинжал на шею, поскольку мое запястье было уже свободно от всяких петель. — А потом эта дама исчезла, как «черная молния».
У Сентильи приподнялись его редкие брови.
— Примерно так и случилось… как случилось и сегодня, — пробормотал он, — Палача я приберег для себя. Она же опередила мой кинжал. Признаюсь вам, мессер, уж если мне предложили бы выбирать между «черненькой» и «беленькой»…
— Мой выбор уже сделан, — оборвал я Сентилью. — Но очень не советую вам делать свой окончательный выбор. У вас не хватит никаких денег, чтобы угнаться даже за тучей, из которой выскакивают такие черные молнии.
На том наш разговор прекратился, поскольку я уже, как выразился Сентилья, сменил личину.
— Осталось это, — сказал Сентилья, протянув мне еще один кинжал, тот самый, которым я уже владел когда-то на корабле, следовавшем из Трапезунда во Флоренцию. — А теперь, мессер, я прошу вас напрячь все свои силы, которых, как я прекрасно понимаю, у вас совсем немного после стольких лет, проведенных в застенке.
Тибальдо Сентилья недооценил моих сил. Целый год он не терял времени даром, изучая все лабиринты, все переулки и проходные дворы Парижа, по которым теперь выводил меня прочь из Франции. Однако и я не потерял четырех лет даром, каждый день по-паучьи лазая по гранитным выступам и щелям своего тесного застенка. Первым запыхался он, а не я.
— Вы двужильный человек, мессер, — шумно прохрипел он, переводя дыхание и оглядываясь по сторонам на каком-то перекрестке.
На одной из улиц нас настигли-таки взоры королевских всадников, уже рыскавших по городу. Наш разгоряченный вид совсем не понравился им. Мы припустили что оставалось духу, и уж совсем испугался я за трактатора, когда он вдруг замер на месте.
— Ложитесь! — шепнул он, и я невольно последовал его примеру.
В тот же миг из-за бочек и телег, загромождавших проход впереди, поднялись мрачные фигуры — и полдюжины арбалетных стрел пронеслись над нами.
Всадники не догнали нас, зато нас догнал и накрыл грохот падающих тел, лошадиных и человеческих.
— Я так и знал, что здесь, на этом самом месте, нас могут ожидать маленькие неприятности, — с гордостью заметил Сентилья, отряхивая грязь с колен и локтей.
Последняя «маленькая неприятность» ожидала нас уже у самых ворот, вернее, над воротами. Осторожно высунув голову из-за угла дома и посмотрев в сторону открытой настежь дверцы той очень большой клетки, что называлась Парижем, Сентилья недовольно цокнул языком.
— Стража подкуплена мной, но над воротами повисла «сова», — сообщил он мне и тут же объяснил, приняв мой недоуменный взгляд: — Сержант. Наверно, их расставили над всеми воротами с утра, перед самым началом казни. Король предчувствовал, что без неожиданностей такой праздник не обойдется.
«У него были на то основания», — хотел сказать я Сентилье, вспомнив о другом празднике, четырехлетней давности.
— Другого выхода у нас нет, — вздохнул Сентилья.
С этими словами он неторопливо вынул из-за пазухи плоский чехольчик из телячьей кожи. Я почти не удивился, когда он осторожно потряс его одной рукой и на ладонь другой руки выскользнула холодная звезда, каждый из шести лучей которой мог бы достать до самого сердца.
— Подарок той же «черненькой молнии», что вчера угодила в ваш дом? — полюбопытствовал я.
— Нет, — самодовольно покачал головой Сентилья. — Подарок одного старого рыцаря-иоаннита. Он учил меня еще в детстве играть с такой штучкой.
Мы, обойдя дом, по-лисьи подобрались к воротам и, когда оказались на пятачке, подневольном взору королевского сержанта, тот даже не успел крикнуть привратникам, чтобы они задержали пару подозрительных прохожих. Перед его глазами ясным весенним днем сверкнула звезда, и он остался наверху, безмолвно созерцая одним уцелевшим глазом это загадочное и страшное светило.
За воротами, уже в сотне спасительных шагов от стен Парижа, нас ожидали два черных коня, и я оглянулся назад, только отдалившись еще на целую милю от города, вероятно великолепного и вполне безопасного в любое время года, кроме зимы и ранней весны.
Я оглянулся и заметил над пиками Нотр-Дам дугу серого дыма, тянувшуюся все выше в небеса. Тогда я испытал горькую досаду и даже позавидовал Старому Жаку, хотя у того, наверное, больше не осталось на свете верных друзей.
К вечеру мы достигли некого селения, выбранного предусмотрительным Сентильей. Там мы снова сменили личины, превратившись из самодовольных городских цеховиков в двух крестьян среднего достатка, и, основательно подкрепившись, стали ожидать наших остальных «парижан».
У меня было много новых поводов для новых волнений, но я не стал задавать вопросов Сентилье, а он не стал задавать никаких вопросов мне, молча гордясь успехом своего грандиозного предприятия. Я подумал, что он, если бы имел на то сильное желание, смог бы освободить не только Старого Жака, но и всех заключенных тамплиеров. Больше всего мне хотелось задать Сентилье вопрос, только ли в благодарность за подаренное ему богатство решился он за эту опасную и весьма длительную затею или же его толкали на это дело еще какие-то неведомые силы и расчеты. Само собой разумеется, что именно этот вопрос я и не стал бы ни в коем случае задавать, ибо задеть честь человека, спасшего мне жизнь, я не посмел бы даже в обмен за самое тайное слово.
Вечер мы провели молча, с достоинством. Французская постель, на которой я ворочался всю ночь, сильно напоминала мне другую постель, итальянскую, на которую некогда выбросили меня бушующие волны Лигурийского моря. А к полудню следующего дня стал заметно волноваться и сам Сентилья. Когда солнце начало клониться к западу и во дворе как-то особенно тревожно заскулила собака, я сказал Сентилье, что пора возвращаться в Париж. Он только протестующе поднял руку и молча покачал головой. Я временно сдался, понимая, что предводителем здесь является он, а не я.
И вот, незадолго до полуночи, вдалеке глухо загремели копыта, и Сентилья, по-кошачьи вглядевшись во мрак, облегченно вздохнул:
— Это они! — И он тут же крикнул кому-то в сторону: — Огня не выносить!
Сердце мое заколотилось чаще перестука копыт.
— Зайдите в дом, мессер, — весьма строго потребовал Сентилья.
— Зачем? — слабо воспротивился я.
— За тем, мессер, — усмехнувшись, отвечал Сентилья, — что снаружи вашего соловья будет слышно до самого Парижа.
Убравшись в дом, хозяева которого сразу заторопились в конюшню и еще по каким-то ночным делам, я тут же прильнул к маленькому окошку. Затаив дыхание, я наблюдал за коловращением темных фигур, наполнивших двор, и наконец различил Фьямметту. Она вырвалась из того темного водоворота и легкими шагами побежала к дому, почему-то пригибаясь и зажимая руками рот.
Я отступил от окна, повернулся и успел подхватить ее на руки.
Мою драгоценнейшую Фьямметту объяла судорога, а спустя миг она забилась на моем плече в рыданиях.
— Гвидо! Гвидо! Гвидо! — захлебываясь плачем, восклицала она.
Оказалось, что простодушный, доблестный и, увы, бесшабашный Гвидо, исполнил свое обещание до конца и ради моего спасения сам лег костьми на холодные камни Парижа.
Внезапно Фьямметта затихла, и я тоже замер, уткнувшись ей в грудь своей головой, уже стоившей стольких жертв. Казалось, целую ночь провели мы, опустившись посреди комнаты на колени и крепко обняв друг друга.
— У вас белые волосы, мессер! — с нестерпимой мукой в голосе прошептала Фьямметта, затеяв для успокоения перебирать мои локоны.
— Но ведь их еще немного, моя королева? — прошептал я.
— Немного, мессер! — всхлипывая, отвечала Фьямметта.
— А ваши волосы, сударыня, стали еще прекрасней и мягче, чем в день нашей первой встречи, — сказал я моей Фьямметте. — Вы были прекрасны, сударыня, но стали так прекрасны, что я теперь боюсь поднять голову и ослепнуть после этих лет, проведенных без солнца.
Между тем, коловращение сильных и пропахших потом тел проникло в дом, глухо забурлив вокруг нас с Фьямметтой. Я слышал обрывки возбужденных разговоров, и кто-то, войдя, продолжал рассказывать Сентилье о том, каких трудов стоило вытащить смертельно раненого брата Фьямметты с поля боя и скрыться вместе с ним в лабиринте переулков, каких денег и новых опасностей стоило затем найти священника и устроить тайное и спешное погребение на кладбище Невинноубиенных младенцев. Из рассказа следовало, что бойкими могильщиками управлял какой-то смешливый старичок с серой вороной на плече.
Лишние траты, насколько я мог в те мгновения доверять своему чутью, не особенно огорчили Сентилью, зато он был встревожен другим обстоятельством.
— Куда девали священника? — мрачно спросил он.
Его подданный ответил, что священника на всякий случай прихватили с собой, и тогда Сентилья облегченно вздохнул и даже позволил себе отпустить шутку:
— Тем лучше. Святой отец — как раз та безделушка, которая может потребоваться еще до рассвета двум воркующим голубкам.
Всю ночь мы с Фьямметтой не могли насмотреться друг на друга, временами оплакивая нашего доблестного Гвидо, и только под утро она вспомнила остроту ехидного Сентильи, которая вовсе не рассердила ее.
— Мессер, — робко проговорила она, — может быть, и вправду святого отца нам послало само Провидение.
— Несомненно, моя дорогая Фьямметта, — ответил я, чувствуя, как у меня по спине бегут мурашки, — несомненно это — добрый знак.
Тут я вновь встал перед ней на колени и произнес торжественную клятву в том, что отныне отдаю ей свое сердце и всю свою жизнь в вечное владение.
— Когда святой отец спросит моего согласия, он должен будет назвать мое имя, истинное имя, — добавил я с дрожью в голосе, — иначе мое обязательство, данное вам, сударыня, перед Небесами, не будет скреплено самой главной печатью. Я более не нуждаюсь в своей утраченной памяти, ибо мне достаточно знать в своей жизни только вас, моя прекрасная Фьямметта, но имя, имя мне необходимо. Я обязан узнать его прежде, чем святой отец соединит наши руки.
— Но ведь я уже дала вам имя, — бледнея, прошептала Фьямметта, — и вы приняли его, мессер.
— У меня были отец и мать, Фьямметта, — с великим трудом выдавил я из себя. — Прежде, чем сочетаться с такой высокородной особой, как вы, сударыня, я должен узнать о них хоть самую малость, иначе до конца жизни буду чувствовать себя ублюдком. Вы должны меня понять, сударыня: я не смогу жить без настоящего имени.
— А я больше не смогу жить без вас, — мертвенным голосом проговорила Фьямметта.
Ее взор тоже стал безжизнен и отрешен, так что я даже не на шутку испугался и только хотел успокоить ее самыми искренними обещаниями верности, как она вдруг повалилась передо мной на пол, и от ее неистовых рыданий едва не закачался весь дом.
Я бросился к ней, обхватил ее и, оторвав от пола, изо всех сил прижал к себе. Когда судороги стали стихать, я сдул в сторону золотистую прядь ее волос и тихо проговорил, дыша прямо в ее прелестное ушко:
— Неужели вы подумали, сударыня, что я могу вас оставить? Тем более сейчас, когда у вас не осталось ни одного защитника, кроме меня. Мое имя скрыто где-то неподалеку, вернее всего — в Греции, у морейского князя. Обещаю вам, сударыня, уже никогда не влезать ни в какие опасные истории.
— Я ждала вас пять лет, мессер, — тихо отвечала мне Фьямметта. — Больше я не переживу без вас ни одного дня. Я умру.
Вдруг у меня в груди, рядом с сердцем, словно бы вспыхнуло загадочное, горячее светило. Слова, которые я сейчас напишу, вырвались у меня в то мгновение безо всякого трезвого расчета и благоразумия:
— Тогда ничего не остается, как только искать мое имя вместе.
Еще одно жаркое светило вспыхнуло прямо у меня в руках.
— Да! Да, мессер! — закричала Фьямметта и, вывернувшись, обхватила меня самого так, что я едва вздохнул. — Молчите! А то теперь начнете думать! Да! Берите меня с собой в любое самое ужасное место, в любую тюрьму! И будет прекрасно! Я хочу жить при вас и умереть вместе с вами на любом костре! Какая это будет радость!
Тибальдо Сентилья только махнул рукой:
— Да делайте теперь все, что хотите, — усмехнулся он. — Я свое дело уже сделал, и собираюсь домой. Одной десятой от процентов с тамплиерского золота хватит, чтобы отправить вас хоть в Индию.
— Никак вам удалось прихватить и все остальное золото Ордена, синьор Сентилья, — под стать ему усмехнулся и я.
— Считайте, что так и есть, мессер, — хитро подмигнул он.
— Тогда половину этих процентов отдайте святому отцу и не забудьте отпустить его в Париж, — сказал я Сентилье, — если только его уже не парализовало от страха.
— Через неделю, мессер, — уверил меня Сентилья. — Через неделю он вернется в Париж самым богатым священником Франции. Кстати, мессер, если вы теперь собрались в Морею, то на днях туда двинется из Парижа ваш старый знакомец, Бокаччино ди Келлино. Я укажу вам место по дороге на Марсель, где вам будет безопаснее всего присоединиться к нему. Там я и расстанусь с вами, имея надежду, что в услугах, оказанных друг другу, мы квиты.
— Не совсем, — заметил я. — Вспомните свое обещание, достопочтенный трактатор. — Суд над Орденом закончен. Все свидетельства получены. Приговор приведен в исполнение. Теперь я имею право узнать имя вашего отца.
Лицо Сентильи побледнело, губы его сжались, и он, справившись с собой, сказал:
— Что ж, я всегда выполняю свои обещания. Мой отец был французом. Его имя — Жиль. Жиль де Морей.
— Благодарю вас, брат, — ответил я ему, и он, не выдержав, отвел свой взор в сторону.
Наша новая встреча с веселым флорентийским торговцем началась с того, что мне пришлось увернуться от его могучего и громадного, как тыква, кулака. Мессер Бокаччино был очень обижен на меня за то, что я не удостоил его своим посещением в тот самый вечер, когда он столь любезно проводил меня на кладбище.
— Я думал, что вас черти проглотили, а вы преспокойненько грелись тут, — негодовал он, — и даже не вспомнили обо мне.
Вторая его тыква взлетела вверх, но замерла над моей головой, как только он встретился взглядом с Фьямметтой.
Всю оставшуюся дорогу он хвалился своим сыном, родившимся год назад в Париже.
— Джованни. Джованни Боккаччо, — повторял он. — Звучит звонко — будто герцог какой-нибудь.
И наконец он, громоподобно смеясь, добавил то, чего я больше всего боялся:
— Когда-нибудь я обязательно расскажу ему, мессер, историю вашего приятеля, которого веселая девица усадила по уши в дерьмо.
Взгляд Фьямметты, устремившийся в мою сторону, испепелил меня быстрее самого быстрого инквизиторского огня.
СВИТОК ПЯТЫЙ. МОРЕЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО. ОСТРОВ ПЕЛОПОНЕС. Весна 1314 года
Ослепительный Феб освещал дорогу, что вела нас на юг среди цветущих слив и белых развалин древней Эллады. Мраморные лепестки капителей и порталов осыпались на наших глазах, невесомо смешиваясь с лепестками цветов, а весенний ветер овевал бесконечные колоннады, которые уже не один век держали на своих венчиках и бутонах не тяжелые кровли, а сами небеса.
Навстречу нам по лепесткам слив и древних храмов двигался темный всадник в тускло и холодно сверкавшем на солнце доспехе, и я думал, что этот темный и холодный дух моего века…
От Издателя. К сожалению, Пятый свиток рукописи из Рас Альхага обрывается в самом начале. По свидетельству Жака Валадьена, почти весь Пятый свиток, а также начало Шестого, были изначально повреждены какой-то едкой жидкостью и рассыпались в прах, как только он извлек их из кувшина на свет.
СВИТОК ШЕСТОЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЭГЕЙСКАЯ МАГИСТЕРИЯ ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО. ОСТРОВ РОДОС
Конец весны 1314 года
…сотни ступеней. Белый иоаннитский крест, подобно необыкновенному светилу на ночном небосводе, сверкал передо мной на черном плаще Великого Магистра. Шаги Фулька де Вилларэ становились все медленней и все тяжелее, и наконец Великий Магистр иоаннитов замер против одной из башенных бойниц, сквозь которую золотистый свет закатного солнца озарял мрачную утробу этого гранитного столпа, воздвигнутого «черненькими» рыцарями посреди теплого моря.
Глубоко вздохнув и обратив свой взор к свету, обильно лившемуся с небес в это каменное окошко, Фульк де Вилларэ проговорил своим глубоким и печальным голосом:
— Дух бродит по безводным местам… Помните, граф, притчу из Писания?
Я коротко взглянул на Фьямметту: восхождение на эту упиравшуюся в эгейские небеса башню Ордена, казалось, не слишком утомило ее, однако титанические стены привели ее в трепет.
— Увы, монсиньор, — ответил я Великому Магистру.
Фульк де Вилларэ опустил веки и, несколько откинув голову, стал читать по памяти, как бы нараспев:
— «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; Тогда говорит: возвращусь в дом свой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым и убранным; Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Вы, граф, ищите ответа на вопрос, почему такое случилось с тамплиерами. Да, Гуго де Пейн был славным малым. Они хорошо начинали, слишком хорошо. Слишком хорошо, граф. Они не успели выслужить своей славы и своего богатства, как уже получили все. И не важно, кто ими занялся первый — итальянские купцы или ассасины. Они сами хотели всего, они сами сунули свои головы в мышеловки ассасин… Я полагаю, что объединение ассасин и тамплиеров против всего мира состоялось раньше того дня, когда был утвержден Устав Ордена, и еще не известно, кто из них первым придумал эту затею. По правде говоря, граф, я сомневаюсь в большем. Все чаще мне приходит в голову мысль, а существовал ли на самом деле этот Орден Соломонова Храма? Может быть, его не было вовсе, а нашим глазам представился только странный, угрожающий мираж.
Столь необыкновенная мысль в мою голову еще не приходила, а потому теперь, ворвавшись в крепость моего рассудка внезапным наскоком, вызвала среди «защитников» сильную панику.
— Но ведь вашим рыцарям, монсиньор, не раз приходилось сталкиваться с этим миражом в пустыне, — заметил я. — И, насколько мне известно, нести порой тяжелые потери.
— Что стоит одному богатому человеку одеть два десятка головорезов в одинаковые плащи и предложить им за пару динаров покрасоваться то там, то здесь… — без всякого смущения отвечал мне Фульк де Вилларэ. — Случай с «крестовым походом», который устроили за свой счет флорентийские торговцы на Акру, может послужить хорошим примером.
— А что тогда вы скажете, монсиньор, об Уставе Ордена, о множестве цитаделей, принадлежавших тамплиерам, наконец — об их несметных богатствах?.. — недоумевал я.
— То же самое, граф. Между Гуго Пайенским и палестинскими банками нет ничего общего, — твердо сказал Великий Магистр Ордена иоаннитов. — Кто содержал эти банки, кто прикрывался там, в Палестине, белым плащом и алым крестом, похожим на четырехглавого дракона? Кто? Я вам не отвечу, граф. Кто соблюдал Устав? Я не видел этих людей. Кому принадлежали замки? Это — любопытная загадка, граф. Вы копались в их архивах, не так ли. Удалось ли вам, граф, найти подтверждение тому, что все это огромное имущество принадлежало на протяжении двух веков одной и той же компании?
— Увы, монсиньор, — вынужден был признать я. — Однако мне известно, что они стремились установить свое, орденское, дворянство и даже установили таковое для всех семей, члены которых входили в Орден. Если бы появилась возможность собрать и сличить бумаги из семейных архивов…
Тут я запнулся, поскольку почувствовал, что в самом деле пытаюсь опереться на некий мираж, и глава иоаннитов тут же подтвердил мое опасение.
— Вся Европа давно поделена, — сказал он. — И вот сотня тщеславных семей затеяла основать собственную империю. Тому, кто затеял все это мошенничество, остается только протянуть им белый плащ и назвать свою цену.
Этот довод должен был загнать меня в дальний тупик лабиринта, однако именно в этом тупике я вдруг различил некий просвет.
— Значит, и вы, монсиньор, допускаете действие некой силы, движущей не только тамплиерами, но и ассасинами, и даже королями… — Затем, чуть помолчав, я решился на дерзость: — и порою даже вами, монсиньор, и вашим Орденом. Что это за сила? Неужели одни только хитрые флорентийские торговцы?
Фульк де Вилларэ посмотрел на меня взглядом мудрого змия.
— Граф, я могу допустить все что угодно, — тяжело усмехнулся он. — Когда черная кошка перебегает дорогу, я невольно испытываю желание плюнуть через левое плечо, потому что обучен этому с детства. Кто все это придумал? Может быть, в этом случае не только не следует плевать, но даже вспоминать о необходимости такого плевка вредно. Кто-то управляет всеми нами, граф, это верно. Но такие вопросы — хлеб теологов, а не воинов. Давайте поднимемся выше.
И снова белый крест, подобно странной путеводной звезде, появился перед моими глазами и повел нас с Фьямметтой вверх по гранитной спирали, то ли — в небеса, то ли, как мессера Данте Алигьери, из преисподней — к поверхности грешной земли.
Несмотря на пройденную в стенах Шинона школу терпения, я не сдержался и продолжил свои расспросы, не стыдясь того, что обращаюсь прямо в спину Великого Магистра.
— Мне неоднократно приходилось беседовать с Жаком де Молэ, — сообщил я Великому Магистру и этим, судя по всему, ничуть не удивил его. — Его верные воины в числе пятнадцати тысяч человек беспрекословно подчинились его приказу и сдались королю, наверняка зная, что такая затея может кончиться для них плохо. Разве этот факт не является признаком того, что Орден существовал? Если мне не изменяет память, были сожжены не только Великий Магистр и прецептор Нормандии, но и еще несколько десятков рыцарей, пытавшихся отстаивать Орден перед лицом суда.
Моя дерзкая болтовня в тылу у Великого Магистра иоаннитов вынудила его остановиться. Повернувшись, он вновь обратил на меня свой проницательный взгляд. Здесь, в промежутке между бойницами, было достаточно темно, и я раскаялся в своей нетерпеливости, поскольку рука Фьямметты крепко сжала мои пальцы: мрак на неведомой высоте пугал ее все сильнее.
— Граф, я давно ждал вашего появления перед вратами Ордена, по правде говоря даже не слишком веря в то, что вы существуете на самом деле, — любезно произнес Фульк де Вилларэ. — Сведения, которые вы сообщили мне, поистине бесценны. Уважая вашу доблесть и, если угодно, вашу любознательность, я считаю своим долгом приоткрыть перед вами завесу над некоторыми обстоятельствами, повлиявшими на вашу судьбу.
— Я глубоко благодарен вам, монсиньор… — был мой ответ, к которому я хотел было присовокупить предложение подниматься дальше, однако помедлил, а Великий Магистр снова заговорил, так и замерев посреди гранитного сумрака.
— Граф, я неспроста упомянул черную кошку. Здесь — ужасный клубок древних суеверий. Те, кто опутан им, несмотря на самую незаурядную крепость рассудка и воли, действуют подобно жертвам лунной, или сонной, болезни, и вы, граф, несомненно являетесь одной из жертв, угодивших в это хитросплетение. Старого Жака я хорошо знал. Он был простым неграмотным воином, достаточно земным, чтобы не бояться ни чертей, ни сарацинов, и достаточно суеверным, чтобы, отправляясь в дорогу, заранее поплевать через левое плечо.
— Он убеждал меня в обратном, — заметил я.
— Одно дело убеждать себя, другое дело — быть собой, — глубокомысленно ответил Великий Магистр: — Не исключаю, что он задался благородной целью очистить Европу от засевших в ней ассасинов. Недаром все эти египетские мудрецы, изгонявшие эту заразу со своих земель и несомненно опасавшиеся ее возврата, считали его своим человеком и даже называли его между собой «шейхом», а именно шейхом Якубом аль-Муалем.
— Якубом аль-Муалем?! — обомлел я.
— Именно так, граф, — подтвердил Великий Магистр иоаннитов. — По нашим сведениям, которые, конечно, не могут считаться полными, события развивались таким образом. Как известно, ассасины, обосновавшиеся в Ордене Соломонова Храма — будем пока считать, что этот Орден существовал в действительности — поклонялись какой-то голове золотого идола, которая якобы при выполнении неких магических действий начинала вещать человеческим голосом, раскрывая ассасинам тайны их врагов. Некогда попав в круг ассасинов, Жак де Молэ имел возможность убедиться в том, что это не досужие россказни. Вдохнув в себя дым каких-то дурманных трав, хранимых ассасинами для этих магических бдений, он услышал, как золотая голова выдавала своим хозяевам замыслы «северян», Великого Мстителя и Посланника Удара Истины, однако не сказала ничего о том, что рядом с ней находится враг ассасин, Жак де Молэ. Это неведение темного духа показалось Жаку де Молэ странным, но на следующий день его при каких-то необъяснимых обстоятельствах посетил некий старый дервиш, приехавший то ли из Египта, то ли из Рума, который и разрешил недоумение предводителя тамплиеров.
Оказывается, дервиши тоже не дремали и в помощь своим невольным союзникам в войне с ассасинами составили свой магический заговор. Старый дервиш сказал, что золотой голове известно «священное предание», но им, суфиям, удалось добиться непредсказуемого развития событий: теперь ни один оракул не сможет предсказать, кому суждено стать Великим Мстителем, поскольку его личность должна быть установлена случайным жребием в самое последнее, решающее мгновение, а личность Посланника лишена имени и памяти и потому тоже не попадет в магические сети ассасинов. Затем дервиш поведал Жаку де Молэ о том, что голова может изменить своим нынешним хозяевам и выдать их самих, так сказать с головой. Для этого необходимо устроить обстоятельства таким образом, чтобы в левой руке оказалась эта пресловутая голова, а в правой — Удар Истины, который остается только воткнуть в щель, расположенную на нижней стороне, в середине как бы отсеченной шеи. Раскрыв перед Старым Жаком магическую сторону дела, дервиш затем раскрыл перед ним и не менее существенную, торговую сторону. Он сказал, что Посланника возможно доставить во Францию без промедления, однако, чтобы это произошло, следует прежде возвратить на Восток содержащиеся в казнохранилищах Ордена вклады шейхов и других уважаемых сарацин.
Тогда Жак де Молэ и стал вынашивать замысел, о котором он поведал вам, граф, если только он не скрыл от вас какую-нибудь существенную его часть. Как вы догадываетесь, он ничего не сказал королю о том, для чего нужна в действительности золотая голова: тут и вправду дело запахло бы инквизицией. Однако он пошел на опасный, но верный шаг, тайно изъяв голову из Ордена и передав ее королю в личное владение.
Но как мы оба теперь знаем, граф, дервиши встречались и с королем.
Оказалось, что у каждого из сильных мира сего, кому казалось, что он может влиять на события, был свой особый замысел, в глубине которого скрывалось одно сокровище, одна печать — владение Святой Землей.
У Старого Жака был свой, у короля Филиппа от Капетингов — свой. Они дали друг другу слово, которое не смогли бы выполнить. И уж никто из них не ведал, не ведали даже дервиши, что у Посланника зародится свой собственный замысел освобождения из пут рока и суеверий и он сумеет на целый год спрятаться от всех, от тамплиеров — от дервишей и от иоаннитов.
Нам известно, что сделал король с золотой головой. Он повелел отлить две копии из бронзы и покрыть их позолотой. Настоящая же голова была подвергнута воздействию очистительного пламени и превращена в несколько слитков, помеченных королевской печатью. Только в том случае, если дервиши раскроют обман, король намеревался придать этим слиткам первоначальную форму.
Итогом этого хитросплетения замыслов стало то, что все остальное золото уплыло у короля из-под носа и по воле мудрецов Востока было вложено в торговые дела трех городов, не страдающих вожделением к Палестине и Храму Соломона, а именно — в торговые дела Флоренции, Генуи и Венеции.
Не трудно догадаться, граф, что дервиши вовсе не собирались возвращать деньги на Восток, в руки жадных недоумков-номадов, делящих между собой троны и дворцы.
— Значит, предчувствия меня не обманули, — вздохнул я, — и тамплиерское золото действительно досталось Сентилье.
— Не все, разумеется, — отвечал Великий Магистр иоаннитов. — Не все, но — большая часть. И нам, как вы догадываетесь, граф, удалось соблюсти свою собственную выгоду, ведь Сентилья — человек, так сказать, связанный с нашим Орденом кровными узами. В противном случае принадлежащее нам по праву угодило бы в карман Филиппа от Капетингов.
— Мне же при общем дележе достались только грехи, — еще тяжелее вздохнул безымянный граф де Ту. — Я чувствую себя виновным в том, что пятнадцать тысяч доблестных рыцарей провели долгие годы в застенке, а десятки угодили на костер.
— Вы, однако, — великий гордец, граф, — покачал головой Фульк де Вилларэ. — Пожалели бы хоть свою невесту.
Фьямметта, дрожа всем телом, еще сильнее сжала мою руку.
— У короля — хорошее чутье, поверьте мне, — продолжал Фульк де Вилларэ. — Он всегда подозревал, что под белым плащом скрывается какой-то опасный призрак, нечто, не доступное его пониманию. При любых обстоятельствах он поступил бы так, как поступил. Этого Ордена он боялся и рано или поздно нашел бы повод и способ уничтожить его и сжечь всякий предмет, который может послужить его новому воплощению. Теперь Гуго де Пейн оказался бы в числе осужденных на быстрый огонь. Заметьте, граф, погибли все те и только те, кто честно служил Ордену, веря в его существование и в его невиновность пред Небесами. Вот — любопытное обстоятельство, не правда ли?
Я молчал, желая теперь только одного: скорее спасти Фьямметту из этой темноты.
— Те же тамплиеры, которые признали все обвинения в богоотступничестве, получили у инквизиции помилование, а у короля — даже некоторую компенсацию за перенесенные тяготы заключения, — добавил Фульк де Вилларэ. — Незадолго до вашего появления, граф, я получил от короля весьма любопытное повеление. Как вы полагаете, какое?
— Мне кажется, при свете солнца, я сумел бы догадаться скорее, — учтиво проговорил я.
— Вы правы, граф, мы слишком задержались в этом сумраке, — к моей радости, согласился Великий Магистр «черненьких». — Пойдемте наверх.
Он преодолел еще несколько ступеней и заговорил на ходу, словно не утерпев раскрыть передо мной еще кое-какие тайны своего Ордена и тем самым сквитаться со мною.
— Однако я полагаю, граф, что и самого яркого солнца не хватит, чтобы просветить эту загадку. — Голос Великого Магистра, обращенный вверх, в башенные пустоты, звучал теперь подобно гласу демиурга. — Филипп от Капетингов повелел мне принять в Орден Святого Иоанна Иерусалимского всех бывших тамплиеров, которые изъявят на то желание. И более того, как только они изъявят такое желание, так сразу будут освобождены от всяких пут.
— Этим известием вы почти успокоили меня, монсиньор, — признал я. — И все же Филипп от Капетингов представляется во всей этой истории человеком гораздо более осведомленным, чем может показаться на первый взгляд. Я еще не успел пересечь пределов Рума, как он уже потребовал от вас расправиться с моим братом.
— С которым из ваших братьев, граф? — хладнокровно уточнил Фульк де Вилларэ, преодолевая ступень за ступенью.
— Я имею в виду Эда де Морея, — сказал я, разумеется, посочувствовав при этом и Тибальдо Сентилье.
— Это не простая история, граф, — тяжело вздохнул Великий Магистр не то от утомления подъемом, не то от превратностей судеб даже сильных мира сего. — Я уже говорил вам о клубке древних суеверий и не хочу повторяться. Каждый из нас — а я имею в виду всех, кто нам известен, включая короля — может похвалиться обладанием какой-то частью знания и власти, способной воздействовать на всех остальных, если подергать за одну из тысяч паутинок, из коих связана вся эта необъятная сеть. Вот мы достигли еще одного крохотного окошка, пробитого из нашей каменной клетки в таинственную бездну.
Перед нами открылась очередная бойница, располагавшаяся на восточной стороне башни, и теперь, на закате солнца, только бледная голубизна, предвестница ночи, слабо украшала мрачные камни.
— Посмотрите вниз, граф, — предложил мне Великий Магистр, — только будьте осторожны, не сорвитесь. Ваша внезапная смерть никак не входит в мои замыслы.
Поначалу я увидел густую синеву моря, отгороженную от земной тверди мощной крепостной стеною, а потом, опустив взор, обнаружил внизу крону кипариса, произраставшего посреди небольшого дворика, который был столь же тщательно уложен камнем, как и все владения Ордена Святого Иоанна Иерусалимского.
— Я понимаю вас, монсиньор, — сказал я Фульку де Вилларэ, когда, придерживая Фьямметту, дал и ей возможность сделать то же самое открытие, — и могу позволить себе лишь полюбопытствовать, в какой из минувших дней кора этого священного дерева была пробита стрелой с белым оперением.
— Полагаю, что это случилось на рассвете именно того дня, — доверительным тоном произнес Великий Магистр, — когда на пороге Парижского Храма появился дервиш, попросивший аудиенции у Старого Жака. Послание гласило: «Он пришел». В соответствии со «священным преданием», этот маленький кусочек пергамента нужно было передать в руки королю Франции. Это было сделано, и король немедля потребовал от Ордена исполнения приказа, который вы, граф, имели в виду.
— Итак, монсиньор, вы еще раз подтверждаете существование некой силы, издавна повелевающей всем миром — и королем Франции, и ассасинами, и самыми могущественными Орденами, и, возможно, даже всезнающими дервишами, — вновь заговорил я о том, что, кроме моего имени, волновало меня больше всего на свете. — Вы подтверждаете, монсиньор, что ваш Орден тоже подчиняется некому «священному преданию», то есть опутан паутиной древних суеверий. Поверьте, монсиньор, у меня нет большего желания, чем объединить свои усилия с вашими.
Мы оба невольно обратили свои взоры на Фьямметту, трепетавшую и от высоты, что открывалась в бойнице, и от сумрака, что властвовал внутри гранитного столпа.
— Прошу вас не беспокоиться за меня, — собравшись с духом, ответила она весьма твердым голоском. — Я сама увязалась за вами, хотя могла бы оставаться внизу.
— Я преклоняюсь перед вашей отвагой, сударыня, — сказал ей Великий Магистр, чуть опустив голову, и вновь обратился ко мне: — Как видите, граф, людьми могут двигать разные помыслы: любовь, обогащение, власть, наконец обретение магических способностей. Все эти разнообразные помыслы в конечном итоге сливаются в одну реку, сила которой вращает мельничное колесо некого необъятного заговора. Я признаю, граф, что этот заговор существует. И однако же я готов без всякого колебания признать, что никакого заговора нет и никогда не было.
— Но ведь кто-то знает, в какой день и в какое из деревьев, рассаженных по краям света, должна вонзиться стрела, — принялся нарочито недоумевать я. — Этот некто знает, что должно быть начертано на пергаменте, прикрепленном к древку. Наконец, таинственные стрелки исполняют чье-то повеление. Не пишут же они сами, что им вздумается. По крайней мере, им должен присниться какой-то демон, повелевающий затеять всю эту игру.
— Заметьте, граф, каждый из Великих Магистров не опускается с Небес на вершину орденской иерархии, — с особым вниманием выслушав мои слова, сказал Фульк де Вилларэ, — Он начинает «простым неграмотным воином», восходит снизу, проходя через сумрак и минуя крохотные бойницы, подобно нам. Поэтому каждый из них обязан подчиняться «священному преданию», хотя оно может показаться на первый взгляд неким языческим суеверием. Да, граф, я подтверждаю ваши слова: эта сила есть. Королевские дворцы и цитадели Орденов опутаны ею. Я не в силах раскрыть ее источника, и полагаю, граф, что вы, хотя бы ради устройства своей счастливой семейной жизни, тоже должны остановиться не на самой последней ступени.
Мы оба вздохнули и вновь посмотрели на Фьямметту. Я понимал, что мудрый Фульк де Вилларэ прав.
— И все же, граф, — улыбнувшись с необычайным добродушием, тут же сердито напустился на меня Великий Магистр, — вы очень удивляете меня своими тяжелыми вздохами. Я вовсе не вижу поводов для огорчений. Вы, граф, человек непоколебимой воли и теперь страшитесь какой-то таинственной силы? К чему ее страшиться, если она не страшнее рока? Если бы она действительно правила всем миром, ей не потребовалось бы посылать десяток убийц из всех известных государств, чтобы покончить с вашим братом. И при всем том, у меня лично до сих пор нет никаких подтверждений того, что Эд де Морей мертв. Было достаточно одного часа вашего откровенного неповиновения, чтобы дело основательно запуталось, а все подосланные убийцы, даже ассасины, оказались беспомощны. Не кажется ли вам это странным, граф?
Я признал, что результаты нашего с Эдом сопротивления, на первый взгляд, несколько превзошли расчеты «золотых голов», управляемых демонами.
— Действия этой таинственной силы порой весьма противоречивы, — продолжал Фульк де Вилларэ, — а смысл заговора, длящегося уже более двух веков, попросту невозможно разгадать. Я разгадать его не могу. Может быть, это удастся сделать вам, граф, но я вам по-прежнему не советую углубляться в эту бездну. Можно считать, что весь смысл заговора заключается в бесконечном перемещении золота, или в обладании какими-то магическими реликвиями, или во владении Святой Землей. Вы желаете возыметь власть над каким-то из упомянутых предметов?
Я только молча покачал головой.
— Вы стремитесь узнать свое имя, — заметил Великий Магистр. — Это — цель, достойная благородного человека. Но я вижу, что вам не терпится пойти дальше. Зачем?
— Я обещал своему брату переломать рычаги в этом проклятом механизме, который угрожал его жизни, — быстро проговорил я на франкском наречии, дабы Фьямметта, не слишком ясно понимавшая по-франкски, не успела уяснить до конца смысла моих слов.
— Не понимаю вас, граф, — развел руками Великий Магистр, — не постигаю вашей гордыни. Вы, песчинка, попавшая в механизм и уже одним своим падением в него основательно попортившая все рычаги и колесики. Вам мало этого даже теперь, когда механизм, по всей видимости остановился, исполнив свое предназначение. Орден Соломонова Храма растаял, как мираж. Золото Египта и Вавилона переместилось туда, куда должно было переместиться. Дьявольская голова перелита в мелкую монету французской казны. Вам не кажется, граф, что все кончилось? Что же теперь может угрожать вашему любимому брату-тамплиеру, кроме его собственной доблести? Ведь он тоже имеет право на свободу от ваших хлопот, не так ли? У этой истории — хороший конец, граф. Вы сделали свое дело и обрели все, что нужно благородному человеку — титул, богатство, прекрасную невесту. Имя вы вольны избрать себе сами. Вам остается только, как поют менестрели жить долго и счастливо.
— Я обрел все, кроме памяти, — вновь назло Великому Магистру вздохнул я.
— Спросите у прекрасной госпожи Фьямметты Буондельвенто, — предложил мне проницательный Магистр, — сколь необходимы ей ваша темная память, хранящая какие-то ассасинские тайны, и ваше имя, которое, возможно, вам дали где-то в горах сарацины, а вовсе не благородный флорентийский нобиль.
Очаровательные глаза Фьямметты светились любовью, не победимой никакими злыми духами, и я сказал себе: «Довольно! В самом деле пора выбросить из головы всю эту чепуху!»
— Я боюсь только одного, монсиньор, — сказал я вслух. — Того, что некто произнесет это тайное слово или имя. Вдруг я превращусь в послушное орудие?
— Насколько я помню, вас просветил на этот счет некий восточный мудрец, привидевшийся вам во сне, — сказал Великий Магистр.
— Это так, — кивнул я, — если не считать тайного слова, произнесенного некогда Сентильей и тайного слова, которое унес с собой в могилу Старый Жак.
— Мне кажется, что все эти стрелы, появляющиеся из стволов священных кипарисов подобны тем стрелам, которые убивали вас, граф, во сне, тем самым, так сказать способствуя вашему появлению наяву, — предположил мудрый предводитель иоаннитов. — Полагаю также, что Старый Жак или не знал никакого тайного слова, а только пытался обвести вокруг пальца короля, или же произнес десяток самых страшных, тайных слов, очень удивившись результату их действия, а вернее, полного бездействия.
— Что вы имеете в виду, монсиньор? — пожалуй, не менее Старого Жака удивился я.
Тут Великий Магистр коснулся указательным пальцем своих губ и вкрадчивым тоном проговорил:
— Чуть позже, граф, чуть позже. Позвольте вам показать один предмет, уже видимый с той высоты, которой мы достигли.
Поднявшись еще на пол-оборота, мы оказались у южной бойницы, и я увидел за крепостной стеной, посреди морского простора, островок, украшенный изящным замком, что горделиво возвышался на скалах.
— Посмотрите и вы, госпожа Буондельвенто, — любезно предложил Великий Магистр моей Фьямметте. — Прекрасный вид, не правда ли? Вскоре вы по праву сможете стать эгейской герцогиней.
И с удовольствием принимая наши недоуменные взоры, Великий магистр Ордена иоаннитов, «черненьких» рыцарей, весьма торжественно изрек:
— Доблестный граф! Настал тот час, в который я обязан вернуть вам долг чести. Я, Великий Магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, приношу вам искренние извинения за ущерб, нанесенный вашему дворянскому достоинству на корабле флорентийской торговой компании Большого Стола Ланфранко. К сожалению, в ту пору мы были вынуждены поступать в соответствии со сведениями, полученными с Востока. Все ваши последующие действия, даже те, которые мы не могли предсказать заранее, пошли на благо Ордену и его христианнейшей миссии. Я с уверенностью могу утверждать, что Удар Истины достиг цели, пронзив непостижимое хитросплетение тайн и недомолвок. Посему ныне я ввожу вас, граф, во владение наследством вашего отца, принадлежащим вам по праву. Оно перед вами, граф: остров, замок и две тысячи флоринов золотом ежегодного дохода.
Фьямметта ахнула и едва не лишилась чувств. Я поддержал ее за талию и, вдохнув неземной аромат ее волос, шепнул ей в ухо:
— Радость моя! Не пугайтесь. Может быть, перед нами — мираж.
Гранитная пустота башни усилила мой шепот, подобно иерихонской трубе, но Великий Магистр вовсе не обиделся, а, напротив, весело рассмеялся.
— Ваше остроумие, граф, мне очень по нраву, — сказал он.
Чему удивился я, так — известию о том, что Жиль де Морей, которого я теперь без сомнения считал своим отцом, имел желание и возможность столь усердно выслужиться перед иоаннитами. В моем воображении несметное богатство никак не вязалось с образом этого отважного рыцаря, бедствовавшего почти всю свою жизнь и славно окончившего свои дни посреди осажденной Акры.
Я так и признался Великому Магистру в своем недоумении:
— Вот еще одна жгучая тайна, монсиньор: ни в каких анналах не обнаружил я свидетельства великих заслуг рыцаря-тамплиера Жиля де Морея перед могущественным Орденом рыцарей-иоаннитов. И кроме того, я полагаю, что мой доблестный брат Эд де Морей тоже оказал вашему Ордену невольные услуги, каких он, скорее всего, не собирался оказывать. Однако, он не раз спасал мою жизнь и несомненно имеет право на часть наследства. Своего второго брата, Тибальдо Сентилью, я не упоминаю теперь по понятным причинам.
— Жиль де Морей? — задумчиво проговорил Великий Магистр и, немного помолчав, странно хмыкнул. — Это было бы любопытно. Вы уверены, граф, в своем линьяже?
— Полной уверенности нет, монсиньор, — ответил я, — как нет ее во всех остальных моих прозрениях и открытиях,
— В таком случае, давайте поднимемся на самую вершину Истины, граф, — сказал Фульк де Вилларэ, — и там, под вечными небесами, еще раз оглядим земные пределы от края и до края.
Поднявшись еще на два оборота гранитной змеи, мы, наконец, выступили из темного жерла под величественный купол вечернего небосвода, окрашенного ангельскими цветами: успокаивающим дух — синим, утешающим душу — весенне-зеленым и возвращающим ясность утомленному рассудку — матово-золотистым. Я возрадовался, увидев, что вавилонский столп Ордена не достал своей варварской твердью до просветленных сфер.
Солнце уже опустилось за гористый край острова Родос, и нам не пришлось щуриться, как летучим мышам, целый день просидевшим в своей убогой пещере. При том все пределы земли были еще хорошо видны.
Далекий край Азии теперь густо чернел на востоке между синим бархатом неба и синей парчою моря. Какие-то звездочки мерцали в той стороне, не выше темных, чужих берегов, но, как я ни приглядывался к ним, так и не смог различить, что это за раннее созвездие отразилось на спокойных эгейских водах.
Фьямметта, как завороженная, смотрела вдаль, на «замок Чудесного Миража», что возвышался на скале, внезапно ставшей моей родовой собственностью, до которой, однако, еще трудно было дотянуться рукой.
— Так вы, граф, признаете своим отцом Жиля де Морея? — с явным подвохом спросил меня Великий Магистр иоаннитов.
— Я не отказался бы от такого линьяжа, монсиньор, — осторожно ответил я, уже полностью, как мне показалось, приготовившись к любым неожиданностям. — Он был доблестным рыцарем и, полагаю, вовсе не ярым врагом вашего Ордена. О том, что именно он являлся моим отцом, мне указывали хартии из архивов морейского князя и Ордена Соломонова Храма. Впрочем, признаю, что эти указания довольно туманны.
— Вероятно, вы огорчитесь, граф, вновь потеряв такого отца? — как бы с искренней грустью проговорил Фульк де Вилларэ.
— Вероятно, так оно и случится, — выдавил я из себя, чувствуя, как неведомая сила сжимает мою грудную клетку.
— Я покажу вам, граф, хартии с более достоверными сведениями, — теперь уже твердым, повелительным голосом изрек Великий Магистр. — Наверно, вы удивитесь, узнав, что отцом Жиля де Морея был не кто иной как Умар ибн-Хамдан аль-Азри, сарацин, владелец несметных богатств Египта, а затем — умалишенный бродяга, ставший одним из ассасинов в Аламуте?
— Удивлюсь, — подтвердил я, борясь с ознобом, хотя до последнего мгновения вечер казался мне удивительно ласковым и теплым. — Хотя, по чести говоря, теперь больше удивляюсь тому, что эта догадка не пришла мне на ум раньше. Ясно, как Божий день: раскаленная пустыня и благородная госпожа-христианка, пересекающая этот безжизненный простор со своим маленьким сыном, гонимая неведомой силой неведомо куда.
— Однако нам известна конечная цель ее пути, — сказал всезнающий Магистр. — Флоренция.
— Вот только знала ли госпожа Иоланда об этой цели? — усомнился я.
— Нет, не знала, — кивнул Великий Магистр. — Однако вынужден признать и наше неведение того, что доблестный рыцарь Гуго де Ту, сын графа Робера де Ту, попытается стать нашим врагом.
— Вы, монсиньор, намекаете на то, что граф Робер де Ту был тайным иоаннитом, преданным вашему Ордену, и на то, что именно этой тайной миссией объяснялись его поступки, включая константинопольский мятеж? — вывел я.
Тем временем, очертания земных пределов — азиатского берега на востоке и возвышенностей острова Родос на севере и западе — стали постепенно таять и пропадать в сгущавшихся сумерках.
— Я не устану повторять, граф: вы удивительно прозорливы, — усмехнувшись вновь, заметил Фульк де Вилларэ. — Однако неумолимое время стало нашим союзником. Гуго де Ту был убит при взятии Аламута и, возможно, был сражен стрелой того самого ассасина, возлюбленную которого он похитил из Флоренции. Но это был, так сказать первый Удар Истины. Второй пришелся прямо в сердце сына Гуго де Ту и госпожи Иоланды. Этот человек исправил все ошибки отца. Он оказал неоценимые услуги Ордену, хотя, как ни странно, предпочел окончить свои дни под знаменем своего отца. Этот рыцарь носил красивое имя. Его звали Милон.
— Всемогущий Боже! — прошептал я, а не будь рядом Фьямметты, воскликнул бы в полный голос. — Жиль де Морей и Милон Безродный были братьями и, погибая плечом к плечу в осажденной Акре, не знали, что они братья!
Мне уже начинало казаться, что все земные пределы вот-вот растают в моих глазах.
— Знали они об этом или нет, сказать трудно, — почти равнодушно пожал плечами Фульк де Вилларэ. — Во всяком случае у них появился повод скрывать друг от друга многое, когда они узнали, что с разницей всего в четыре года посещали один и тот же дом во Флоренции.
— Непостижимо! — только и выговорил я, ожидая от судьбы любого подвоха и любого совпадения, но уж не столь немыслимого, как это.
— Полагаю, граф, что вы уже догадались, кто ваш отец? — учтиво осведомился Великий Магистр иоаннитов.
— Но ведь у Милона Безродного родилась девочка! — теперь уже громко воскликнул я, не в силах сдержать своего смятения.
— Девочка? — искренне изумился Фульк де Вилларэ. — Еще и девочка? Неужели в Акре?
— Именно так, монсиньор, — подтвердил я, немного успокоенный ни чем иным, как изумлением Великого Магистра. — В Акре. За год или два до ее падения.
— Поздняя новость, — глубокомысленно изрек Великий Магистр, подняв взор в темнеющие небеса. — Что и говорить, рыцарь Милон был непредсказуемым человеком. Как, впрочем, и все вы — из рода Ту.
Я вдруг почувствовал сильную усталость. Ночь поглощала землю и море, и, хотя изящный замок, властвовавший над грозной скалой, был еще хорошо виден, мне вовсе не хотелось опираться — даже взглядом — на этот поздний пьедестал рода Ту.
— Итак, монсиньор, вам известно имя моего отца, но до сих пор не известно мое собственное имя, — подвел я очередной итог своего беспросветного дознания.
— Увы, граф, так оно и есть на самом деле, — развел руками Великий Магистр и в своем черном плаще стал еще больше похож на ночную птицу. — Это довольно странная история, граф, и не мы ее придумали. Во всяком случае Флоренция недаром показалась вам родным местом, граф.
— Сударыня! — тихо позвал я Фьямметту, учтиво отстранившуюся от разговора мужчин; она стояла немного поодаль, все еще любуясь замком, морем и темными небесами. — Сударыня! Перед вами стоит безымянный граф де Ту, сын Милона Безродного. Любопытное сочетание, не правда ли? Вроде как глухой сын немого.
Сделав шаг навстречу и посмотрев мне в глаза, Фьямметта протянула ко мне руку и, не стесняясь, погладила меня по щеке своими божественными пальчиками.
— Успокойтесь, мессер, — сказала она, — и не преувеличивайте.
Я поцеловал ее руку и, осторожно сжав ее пальцы в своей руке, снова обратился к Великому Магистру, ибо не мог больше медлить с ответом, которого он ожидал.
— Это действительно странная история, монсиньор, — согласился я с ним. — У меня с моим братом Тибальдо Сентильей одна мать, но разные отцы, которые погибли в один день и на одном и том же месте, в Акре. У меня с моим братом Эдом де Мореем одна бабка, но разные деды, которые, вероятно, тоже погибли в один день и на одном пятачке земной тверди, в Аламуте. Неужели еще можно сомневаться в существовании всевластного Ордена, столь искусно свивающего петли судеб?
— Как раз в этом-то сплетении судеб я и не вижу ничего странного, — покачал головой Великий Магистр. — Оно — итог противоборства двух сил, соразмерных друг другу. Белого плаща и черного плаща. Несуществующего Ордена Соломонова Храма, который можно уподобить хаосу морских вод — хотя чередование волн прибоя и представляется одним из воплощений строгого порядка, — и Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, подобного крепкому замку на скале, омываемой грозными волнами. Я имею желание сообщить вам, граф, кое-какие подробности, многие из которых могут быть подтверждены древними пергаментами, хранящимися там. — И с этими словами Великий Магистр указал перстом себе под ноги, намекая на подземелья Ордена, отдаленные от нас высотою, как бы увеличенной невидимым зеркалом вдвое.
И вот мое необыкновенное наследство пополнилось кое-какими подробностями, бережно хранившимися до того дня в тайниках Ордена иоаннитов.
Эти драгоценные — а может, и поддельные — сведения я собрал в отдельную небольшую «шкатулку».
РАССКАЗ ФУЛЬКА ДЕ ВИЛЛАРЭ, ВЕЛИКОГО МАГИСТРА ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО
Граф Робер де Ту тайно принял обеты и присягу нашего Ордена в году одна тысяча двести четвертом от Рождества Христова, незадолго до дня взятия Константинополя.
Нет сомнения, что на этот поступок его подвигли именно богохульные ритуалы и безобразия, насажденные среди тамплиеров их предводителями, среди которых к тому времени появилось немало ассасин-исмаилитов.
Мы убедили графа не менять плаща и оставаться, так сказать нашим «посланцем в земли проклятых».
Орден имел договор с властителями Рума: мы обещали им выкрасть и переправить в Конью сельджукскую принцессу, бывшую пленницей в Константинополе, а в качестве платы мы ожидали получить новую румскую крепость, расположенную на восточной границе государства, совсем недалеко от Палестины. Мы надеялись, что цитадель станет для нас важной ступенью к Святой Земле. Всемогущий Господь судил иначе, но это уже отдельная история.
Мы поручили графу Роберу похитить принцессу, и он блестяще исполнил наш замысел, к тому же прихватив из Константинополя кое-какие древние реликвии известные вам, граф, и целый отряд преданных ему воинов.
Дальнейшие обстоятельства оказались уже во власти не хладнокровного расчета и выгоды, а любви.
Да, граф Робер де Ту всем сердцем полюбил сельджукскую принцессу, и у них родился сын, который был назван франкским именем Гуго. Можете догадаться, граф, какие сложные переговоры нам пришлось вести с правителями Рума по этому деликатному поводу, и все же цитадель, которую возводили мы, нам удалось сохранить.
Спустя двадцать лет началась война, так сказать, война за «египетское наследство», потребовавшая от нас неимоверных усилий. В году одна тысяча двести сороковом мы надолго потеряли Жиля де Морея, а спустя четыре года нам изменил тот, на чью верность мы возлагали самые большие надежды.
Когда мы направили Гуго де Ту во Флоренцию, к госпоже Иоланде, он уже был сорокалетним молчуном, седобородым и невозмутимым, немало повидавшем на своем веку. Мы были обмануты его внешним видом. Необходимо было помнить о слабостях его отца.
Он без ума влюбился в Иоланду, саму ее свел с ума и пропал вместе с ней. Каким приворотным зельем опоили его тамплиеры и на каком летающем ковре унесли они эту парочку из Флоренции, мы, признаюсь честно, так и не смогли узнать.
В Рас Альхаге бывший тайный иоаннит, а затем тайный тамплиер Гуго де Ту больше не появился.
Мы начали трудные поиски обоих: Жиля де Морея, которого тамплиерам удалось услать на край света, и самого рыцаря Гуго. В конце концов нам пришлось обратиться за помощью к дервишам из разных суфийских орденов, с которыми мы имели давние связи на Востоке и которые неоднократно служили нам посредниками в переговорах с Румом и Египтом. Замечу, что шейхи этих суфийских орденов были очень обеспокоены распространением ассасинов.
Жиля де Морея мы разыскали и сами вернули в доступные области. Юношу Милона дервиши обнаружили у подножия Аламута. Его отец сражался с ассасинами — не известно, по велению сердца или же по какому-то расчету: рыцарь Гуго был способен круто менять свои духовные устои, — а его сын был неплохо осведомлен о «внутреннем круге» тех, кто убедил или опоил отца.
Нам же хватило только силы убеждения. Милон де Ту вернул свой род на путь истинный и поклялся быть верным Ордену.
За свои услуги дервиши потребовали довольно необычную плату.
Этой платой стали вы, граф.
Мы не слишком доверяли Жилю де Морею, чем-то он напоминал нам своего дядю Гуго. С другой стороны, дервиши признались нам, что стремятся во что бы то ни стало сокрушить «внутренний круг» тамплиеров, состоящий из ассасин и скопивший богатство, размер которого уже стал чреват земным могуществом.
Именно дервиши-джибавии, «целители безумия», раскрыли перед нами замысел, в средоточии которого оказалась племянница госпожи Иоланды.
Ее сын от Жиля де Морея, он же внук Умара аль-Азри, Тибальдо Сентилья, стал главным наследником египетского золота, а вы, граф, будучи внуком, увы, Гуго де Ту и сыном его сына, Милона де Ту, по велению дервишей не получили при рождении никакого имени и были переданы им в руки. Как повествует «священное предание» вы были завернуты в тамплиерский плащ, когда вас принимал старый дервиш, быстро унявший ваши младенческие рыдания какой-то диковинной восточной песнью.
Дервиши клятвенно обещали Ордену, что сын Милона де Ту вернется в христианские земли с великой миссией: он сокрушит не только «внутренний круг» опасных ассасинских магов, но и весь Орден, в своей гордыне отступивший от Единого Бога.
Дервиши не солгали, граф.
«Здравствуй, Хасан Добрая Ночь!» — мысленно приветствовал я тьму, окончательно покорившую весь мир вокруг башни.
— Стрелам не дают имен! — вырвалось у меня.
— О чем вы, граф? — в третий раз за этот вечер удивился Великий Магистр.
— Лук порой получает имя, стрелы — никогда, — безнадежно усмехнулся я. — Полагаю, монсиньор, что вам более не придется навещать заветный кипарис на заднем дворе. Вы видите перед собой последнюю стрелу, пущенную искусной рукой некого суфия-джибавии, «целителя безумия». Оперение этой стрелы кажется постороннему глазу то белым, то черным. Это зависит только от того, с какой стороны смотришь. Где стоит тот кипарис, в который я должен был попасть? Вот что остается для меня загадкой.
— Вы, граф, выражаетесь куда изысканней всех придворных поэтов, которые мне известны, — с неким сомнением проговорил Великий Магистр.
— Это от усталости, — сказал я, ничуть не покривя душою. — С вашего позволения, монсиньор.
— Разумеется, я не могу удерживать вас более, граф, — теперь уже огорченно произнес Фульк де Вилларэ. — Но сожалею об этом. Я пригласил вас сюда не только для того, чтобы показать вам ваши владения и провести время в очень приятной беседе с вами, но и для того, чтобы вы вместе с госпожой Буондельвенто смогли стать свидетелями редкостного зрелища.
Увы, мне ничего не оставалось, как только проявить любезное любопытство. Великий Магистр иоаннитов подвел нас вплотную к мощным зубцам башни и предложил обозреть с высоты орлиного полета то, что происходило далеко внизу, на краю родосского берега.
Если Великий Магистр, подобно ночному хищнику, был способен разглядеть все мелочи кипевшей там муравьиной возни, то мы с Фьямметтой ясно различали только мельтешение каких-то багровых огоньков и по доносившимся звукам могли догадаться, что вся эта суета связана со стоявшими у пристани кораблями.
— Мы получили сведения, граф, что венецианским толстопузам не терпится прибрать к рукам Родос, — сообщил Фульк де Вилларэ. — Представьте себе, они тешат себя надеждой, что нас можно согнать отсюда, как ворон. Рума больше нет, граф. Сельджуки выродились. Они растащили свое царство по кусочкам и стали продавать толстопузам из Венеции и Генуи. Теперь венецианцы снарядили двадцать пять кораблей, посадили на них этих варваров и, пообещав им пару тысяч золотом, отпихнули от румского берега в сторону Родоса.
— То самое золото? — усмехнулся я.
— Возможно, — невозмутимо ответил Великий Магистр. — Оно живет своей собственной жизнью. Итак, граф, мы ждем гостей. С часу на час флот сельджуков подойдет достаточно близко, чтобы получить достойный прием. Мы готовим для них смесь китайских огней с греческим огнем. С высоты этой башни вы увидите незабываемое зрелище. Наступает добрая ночь, граф. А кроме того, вы увидите исход последних тамплиеров в адскую бездну пламени и воды. Замечу особо, граф: последних настоящих тамплиеров, тех, которые двести лет вподряд не снимали со своих белых плащей алого креста, очень похожего на изображение китайского дракона.
— Что с вами, мессер? — испуганно прошептала Фьямметта, почувствовав, как весь я содрогнулся и тут же застыл, словно окаменев на месте.
— Каких тамплиеров вы имеете ввиду, монсиньор? — большим усилием придав своему голосу непринужденный тон, вопросил я Великого Магистра.
— Кого же, как не тамплиеров Румской капеллы, — отвечал Великий Магистр иоаннитов, — этих древних титанов, уже отчаявшихся взять приступом божественные высоты и теперь готовых воевать со всем миром. Венеция надеется на силу этой дюжины больше, чем на силу трех тысяч сельджуков.
— Вам дурно, мессер? — еще сильнее испугалась Фьямметта.
— Там мой брат, — шепнул я ей, взметнув своим порывистым дыханием прядь ее волос.
Ровно одно мгновение молчала Фьямметта.
Ровно одно мгновение я оставался пленником «Доброй Ночи».
Взор Фьямметты воспламенил мою душу. С этим жгучим пламенем не сравнился бы никакой греческий огонь, и никакая китайская смесь не смогла бы вспыхнуть ярче.
— Значит, мессер, мы будем вдвоем спасать вашего брата, — тихо, но непоколебимо проговорила Фьямметта.
— Я вынужден предположить, монсиньор, — обратился я к Великому Магистру, вздохнув с нарочитой грустью, — что мой брат Эд де Морей никогда не был тайным иоаннитом.
— Однако, в отличие от своего дяди Гуго, он никогда не надевал сразу два плаща, один поверх другого, — разгадав мое настроение, сказал Великий Магистр.
— Хочу передать своему брату эти ваши слова, монсиньор, — сказал на это я.
— Вот как! — последний раз удивился Великий Магистр.
— Клянусь вам, монсиньор, тем, что у меня нельзя отнять никакой силой, — торжественно изрек я, опустившись перед Великим Магистром на одно колено. — Я клянусь, что не подниму руку ни на одного из ваших братьев-рыцарей.
Огромная ночная птица безмолвно замерла надо мной.
Спустя несколько мгновений я услышал голос Великого Магистра, донесшийся словно бы издалека:
— Вам что-либо еще будет угодно, граф?
— Если позволите, монсиньор, — отвечал я, поднимаясь. — В счет моего годового дохода: лодку, парус, двадцать пять локтей пеньковой веревки, один боевой топор, пару бурдюков пресной воды, два десятка простых лепешек, два щита и кольчугу. Две кольчуги, монсиньор. Самого маленького размера.
И вот мы с Фьямметтой, окруженные мельтешением факелов и живых светляков, устремились во тьму — сверху вниз.
В сотне шагов от пристани, кишевшей воинами и их оружием, мы снарядили свой собственный флот и наконец, укрывшись между грозными тушами боевых галер Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, покинули родосский берег.
Договорившись пред тем с одним из знатных рыцарей, я прицепил лодку веревкой к корме корабля, и мог теперь без всяких забот копить силы для главного дела и любоваться при свете звезд и молодой луны моей прекрасной невестой, красовавшейся, как самый настоящий рыцарь-крестоносец. Мерцание ее кольчуги и равномерный плеск весел на галере убаюкивали меня, и я, стараясь не заснуть, начинал-таки грезить наяву. Перед моими глазами вдруг проносились кони, потом я различил и всадников, пестрых, белых, черных. И вот в хаос этого безмолвного, призрачного сражения ворвался доблестный Эд де Морей, предводительствуя своими верными братьями-тамплиерами. Их белые плащи парили над полем битвы, их алые кресты рассекали ряды неприятеля, а впереди возвышался голубой дворец, «украшенный» безобразной черной башней, что дерзко упиралась в небеса.
— Мессер, положите голову мне на колени, — раздался ласковый голос Фьямметты. — У вас будет тяжелая ночь. Я разбужу вас, как только что-нибудь начнется.
«Боже мой! — обомлел я, очнувшись, как от удара. — Куда же я потащил это хрупкое создание?! Что же я делаю?!»
— Боже мой! — воскликнул я вслух. — Как же у меня хватило ума посадить вас в лодку! Вы просто околдовали меня своей отвагой! Ведь мы можем погибнуть оба! Но если погибнете вы, я буду обречен на вечную муку! Не будет мне прощения ни на земле, ни на небесах!
— Успокойтесь, мессер! — твердо сказала Фьямметта. — И не преувеличивайте.
— Еще не поздно, Фьямметта! — встрепенулся я. — Повернем! Я высажу вас на берег и благополучно успею туда и обратно.
— Одного я вас больше не отпущу никуда, — по-королевски властно изрекла Фьямметта. — Жизнь нужна мне только для того, чтобы видеть вас, мессер. Если вы хотите от меня отделаться, то бросьте меня в воду немедля.
Я схватился за голову, зарычал, подобно загнанному льву, и принялся учить Фьямметту, как следует обращаться с широким пехотным щитом и как укрываться им от падающих сверху стрел.
Не прошло и часа, как мы покинули земную твердь и углубились в морской сумрак, — и вот на возвышавшихся над нами кораблях начали раздаваться тревожные голоса и команды, а весельные рывки стали сильнее и беспокойней.
Кровь застучала у меня в висках. Я ополоснул лицо соленой водою и до боли вгляделся в сумрак. Оттуда, из тьмы, со стороны азиатского берега, на нас надвигалась какая-то невидимая тяжесть, и вскоре мне показалось, что мы приближаемся к развалинам крепостной стены. Так выглядел издалека, в ночной тьме, флот сельджукских наемников. Вскоре я смог различить паруса, ибо слабый ветер тянул нам навстречу с востока.
Неверные тоже заметили нежданных противников, и с их кораблей донеслись гортанные крики и звон оружия.
Я увидел, как на галерах иоаннитов стало вспыхивать то там, то здесь маленькое зарево — и вдруг первый огнедышащий змей, шипя и роняя с хвоста багровые искры, понесся высоко над водами.
Первый удар был очень метким, гораздо более удачным, чем последующие, и, может быть, сразу решил исход сражения, ошеломив неприятеля.
Глиняный снаряд с огнедышащей утробой угодил прямо в вершину мачты и, расколовшись, изрыгнул сноп багровых искр и вихрь раскаленной лавы, и эта лава потоком обрушилась вниз, на корабль, как на Содом и Гоморру, жгучим дождем, испепеляющим все живое или бывшее некогда живым. Парус превратился в сплетение огненных змей, которые теперь извивались и вслед за страшным дождем устремлялись вниз, довершая картину «казни египетской». С корабля донеслись душераздирающие вопли, и вот уже огромные факелы из живой человеческой плоти стали валится с него в темную воду.
— Помоги нам, Господь! — взмолился я, поднимаясь в лодке.
— Помоги нам, Господь! — робким эхом ответила за моей спиной Фьямметта, ужаснувшись «редкостному зрелищу», обещанному Великим Магистром иоаннитов.
— Сударыня! Теперь я вам приказываю! — строго изрек я, ибо с этого мгновения становился военачальником, а Фьямметта — всей моей армией. — Ложитесь на дно, прикройтесь щитом, как я вас учил, и не высовывайте головы, пока я вам не позволю сделать это.
Мысленно я вознес еще одну краткую молитву и, ухватившись за веревку, изо всех сил потянул лодку к боевой галере.
Фьямметта тихо загремела щитом, и я не стал оборачиваться, чтобы не обижать ее своим недоверием.
Как только раздался глухой стук и лодка содрогнулась, я тут же ударил топором по боку галеры и, перерубив конец веревки, что было мочи оттолкнулся от этой плавучей крепости.
Повернувшись назад, я поначалу даже испугался: Фьямметта укрылась так старательно, будто вовсе исчезла с моего утлого суденышка.
Я налег на весла, и вскоре мог обозреть всю картину этого необычайного морского сражения под покровом ночи.
Боевые галеры иоаннитов, выстроившись узким клином, уже рассекали наемный сельджукский флот, двигавшийся в сторону острова Родос беспорядочной стаей. Хвостатые звезды проносились по небу и падали вниз, ослепительно вспыхивая и растекаясь пламенем. Огонь, союзник иоаннитов, уже взял приступом полдюжины вражеских кораблей, и еще полдюжины их спешили отойти в сторону, уклоняясь от сражения и только оглашая поле боя, словно птичьим гамом, бранными криками.
Я опасался только каких-нибудь шальных стрел, поскольку неверные в злобном отчаянии беспрестанно стреляли из луков, и большинство пущенных жал не долетало до галер, щелкая вокруг нас по воде.
Один из сельджукских кораблей с обожженным бортом, с которого в воду так и стекали струйки горючей жидкости, тем не менее смело двигался вперед, явно избрав для поединка ту самую галеру, что любезно дотащила нас до жерла вулкана, извергавшегося посреди моря.
Я снова вспенил веслами темную воду и успел обогнуть чужой корабль в те самые мгновения, когда он другим своим боком уже сошелся с врагом. Раздался глухой удар, корабль вздрогнул, заскрипев своими деревянными ребрами, и как бы замер на месте.
Моя лодка, разогнавшись, храбро ткнула его в бок, но этот «рыцарский наскок», как я того и желал, остался незамеченным.
Размахнувшись топором, я вонзил его глубоко в плоть корабля над своей головой, крепко обвязал топор веревкой, после чего использовал его также в качестве лестницы, состоявшей из одной единственной ступени. Благодарю Бога за то, что Он, создавая мое тело, поберег тесто.
Забравшись наверх, я увидел, что праздник огня и крови уже в разгаре. Мечи ярко сверкали и оглашали мир своей древней песнью.
Я не ошибся в догадке: на этом корабле среди пестрого сельджукского сброда сражались румские тамплиеры. Их белые плащи, озаренные пламенем, светились как крылья ангелов. Наткнувшись на труп и подобрав кривую саблю, я ринулся в битву. Разумеется, моя память крепко удерживала все произнесенные ранее клятвы.
Мне приходилось отбивать удары со всех сторон, ибо теперь никто не мог догадаться, откуда я взялся и чью сторону держу. Впрочем, эту свою независимость я был вынужден нарушить. Пробившись к двум грозным рыцарям, которые сошлись в равном и смертельном поединке, я невольно повернулся лицом к иоанниту, став плечом к плечу с тамплиером и даже — в надежде, что он уже узнал меня, — выступив на шаг вперед. Иоаннит же естественным движением меча решил убрать прочь внезапную помеху. Я подставил мечу изгиб сельджукской сабли, меч весьма учтиво скользнул по ней в сторону, и в тот же миг я с размаху ударил рыцаря ногой прямо в срамное место. Он издал настоящий бычий стон и согнулся передо мной в самом любезном поклоне.
— Вы узнали меня, брат? — спросил я тамплиера, казавшегося древним седобородым богом войны, сошедшим на землю.
— Узнал, мессир, — глухо ответил тот. — Годы прошли.
— Где комтур? — с душевным трепетом вопросил я.
— Там! — указал тамплиер. — Смотрите, мессир.
Я посмотрел и ужаснулся: корабль, на который указывал старый рыцарь, был весь, от носа до кормы, охвачен пламенем.
— Благодарю вас, брат, — сказал я, но вместо прощания у меня вырвались горькие слова, — Зачем вы ввязались в эту грязную затею?! Вы здесь погибнете все!
— Я знаю, мессир, — хладнокровно ответил рыцарь. — За этим мы сюда и пришли.
— Помоги вам Бог, — только и оставалось сказать мне.
— Помоги Господь и вам, мессир, — отвечал один из последних настоящих тамплиеров, не поднимая меча и все еще честно дожидаясь, пока его благородный противник не оправится от гнусного и позорного удара. — Помолитесь за всех нас.
— Я помолюсь, — искренне пообещал я и ринулся обратно.
Прихватив с собой кривую саблю, я соскочил обратно в лодку и, напрягши все силы, вырвал топор из тела корабля.
— Вы нашли своего брата, мессер? — донесся из-под щита робкий голосок Фьямметты.
— Нет, — отвечал я, — но теперь знаю, где он.
— Я могу посмотреть? — с облегчением спросила Фьямметта.
Несколько мгновений я колебался, но потом, скрипя сердце, позволил своей черепашке высунуть головку из панциря.
— Милосердный Боже! — в неописуемом ужасе воскликнула она, увидев посреди моря жаркий костер. — Там же все горит!
— Я надеюсь именно на милосердие Господне, — твердо сказал я и вновь повелел ей спрятаться под щитом.
Весла стали горячими — такую я задал им работу, да и ладони мои уже пылали, точно обожженные греческим огнем.
Я немного не успел достичь цели, когда черная лапа морского чудовища вдруг ухватилась за край лодки. Одним махом сабли я отсек эту лапу и услышал крик, захлебнувшийся спустя пару мгновений. И вдруг со всех сторон потянулись ко мне бородатые чудовища, сверкавшие глазами и скалившие пасти. Выглянув из-под щита, Фьямметта завизжала от ужаса.
Теми чудовищами были обожженные сельджуки, которые попрыгали с пылавшего корабля в воду. Я бросил весла и теперь размахивал саблей, с хрустом разрубая головы, ибо больше мне ничего не оставалось делать. Наконец их всех поглотила пучина, но, опасаясь мести изувеченных утопленников, я еще долго приглядывался к темной глади, поблескивавшей призрачными багровыми огоньками, отражениями губительных огней.
Когда я поднял голову, зарево, охватившее половину неба, поднималось над злосчастным кораблем.
Уцепившись топором за его бок, я на этот раз решил-таки поднять из укрытия Фьямметту.
— Сударыня! — грозно произнес я. — Вот вам моя сабля. Если кто-нибудь, кроме меня и брата, полезет в лодку, лишайте его жизни без жалости. Иначе придется отдать свою собственную жизнь.
Я вложил рукоятку сабли в дрожавшие пальцы моей возлюбленной, сжал их и благословил коротким поцелуем.
Фьямметта не проронила ни слова, когда я снял с себя кольчугу, потом прыгнул с лодки, чтобы основательно намокнуть и остыть, а потом, уже без промедления, полез наверх, в огнедышащее пекло.
Оказавшись на корабле, я решил, что угодил прямо в преисподнюю на раскаленную жаровню с углями.
Посреди ослепляющего пламени возвышалась мачта, напомнившая мне позорный столб парижского эшафота.
«От одного медленного огня я спасся, чтобы по своей воле залезть в другой», — думал я, чувствуя, как, высохнув за один вздох моей груди, уже спекается с кожей холщовая одежда.
— Эд! Брат мой Эд! — крикнул я и с трудом вновь наполнил свою грудь обжигающим плоть эфиром.
И Господь проявил к нам, грешным, свою милость. Я услышал слабый отклик и, бросившись в ту сторону, увидел наконец комтура. Он сидел, бессильно вытянув ноги и привалившись спиною к борту корабля.
Мне показалось, что он ничуть не изменился за семь лет, даже седины не прибавилось в его роскошной, завитой по краям бороде.
— Брат мой Эд! — в несказанной радости воскликнул я, подскакивая к нему и невольно пытаясь загородить его от огня.
— Это вы, мессир! — со слабой улыбкой проговорил комтур, не выказывая никакого удивления. — Хороший сон.
Мой брат Эд был ранен. Левое плечо и шея у него так и светились алой охрой.
— Не зовите меня мессиром! — потребовал я. — Мы — кровные братья. Я узнал, что мы одного рода.
Взгляд комтура просветлел.
— Хорошая новость, — более живым голосом произнес он и присмотрелся ко мне. — Вы сильно изменились, мес… брат мой.
Губы его плотно сжались, и он решил подняться на ноги. Доски за его лопатками оказались все в потеках крови. Бросившись помогать брату с правой стороны, я заглянул ему на спину. Удар кинжалом явно был нанесен самым предательским образом: сзади, в шею. Но острие прошло мимо позвонков и, по счастью, не рассекло жизненных жил.
Кольчуга рыцаря Эда показалась мне не холодней стенки закипающего котла.
— Какой-то негодяй из османов, — скрежеща зубами от боли, проговорил комтур. — Я не заметил его. Когда они увидели иоаннитов, то подумали, что мы с ними заодно. Проклятье!
Мой брат, в отличие от меня, весил немало и еле передвигал ногами, однако нам удалось-таки пересечь этот «адский мост», хотя и слегка поджарившись с боков. Дважды его белый плащ загорался с краев, и я едва успевал сбивать пламя, пытавшееся отнять у ком-тура последнее сокровище Ордена.
— Откуда ты взялся, брат? — вдруг мрачно спросил Эд де Морей, когда мы добрались до борта. — Ты кто, иоаннит?
— Никогда не считал себя тем, кем ты меня называешь, — довольно грубо ответил я и так же грубо, не говоря более ни слова, стал обвязывать его вокруг пояса веревкой.
И вот, наконец, надрываясь от натуги и обугливаясь с боков, я опустил своего нелегкого братца в лодку. Оставив веревку, я взглянул на свои ладони: они пылали еще жарче наступавшего на меня пламени, на них совсем не осталось живой кожи.
Более не вытерпев жара, я прыгнул прямо с корабля в темное море, стараясь только не угодить в лодку, и, как мне показалось, в воде сразу зашипел весь, как головешка.
Я содрогнулся, когда вынырнул перед лодкой: какой-то неверный уже успел перевалиться в нее, и только его ноги еще свешивались вниз, в воду. Я ухватился за них и изо всех сил потянул на себя. Безвольное тело обвалилось мне на голову, едва не потопив. Это был труп.
Заняв его место в своей лодке, я обнаружил в ней целую лужу крови. Кровь я обнаружил и на нежных пальчиках Фьямметты, все так же судорожно сжимавших рукоятку сабли. Прелестное лицо моей красавицы, даже несмотря на красные отсветы огней, казалось белее тамплиерского плаща. Не меньших усилий, чем спустить своего брата вниз, стоило мне разжать ее оцепеневшие пальчики и освободить из них саблю, которой она так умело воспользовалась в мое отсутствие. Я набрал полную горсть воды и плеснул ей в глаза. Фьямметта вскрикнула и затряслась всем телом. Тогда я обхватил ее руками и стал гладить самую дорогую мою кольчугу, покрывая холодные щечки Фьямметты вовсе не уместными посреди великого сражения поцелуями.
— Представь меня этой столь же отважной, сколь и прекрасной даме, брат мой, — раздался окрепший голос доблестного комтура.
Не успели мы отплыть и на десяток взмахов весел, как Фьямметта уже хлопотала вокруг моего брата, устраивая ему более удобное ложе, промывая его рану, поднося к его губам бурдюк с пресной водой и нанося моему сердцу едва заметные уколы ревности, впрочем весьма приятные.
Вся западная половина ночи пылала невиданными кострами. Вся восточная половина ночи была темна и безвидна.
— Теперь наш путь — туда! — указал я на восток.
— Разве не к нашему острову?! — поразилась Фьямметта.
— Любовь моя! Всему свой черед, — ответил я ей. — На нашем острове мы будем жить долго и счастливо, но пока наш путь лежит на восток. Там — спасение моего брата. Там — Хасан Добрая Ночь, у которого в руках мое главное наследство. Молитесь, чтобы подул западный ветер.
Западный ветер подул на следующий день, после полудня. Я установил небольшой парус, и с наслаждением открыл свои спекшиеся ладони солнцу. Фьямметта в ужасе отводила от них глаза.
Освободившаяся от кольчуги, одетая юным пажом, отдохнувшая от тревог и опасностей минувшей ночи, порозовевшая на солнце, она была так обворожительна, что у меня перехватывало дыхание и слабли колени.
Когда вновь опустились теплые сумерки, а рыцарь Эд крепко заснул на корме, я переманил Фьямметту на нос своего замечательного корабля и опустил парус ниже, так что материя как бы загородила от нас соблюдавшего монастырские обеты комтура.
— Мессер! — опасливо прошептала Фьямметта.
— Моя госпожа! — взмолился я, уткнув голову ей в колени. — Знаю, что вы обещали доброму святому отцу вплоть до нашего венчания целовать меня только в лоб. Пусть так и будет! Я же подобных обещаний не давал, и признаюсь вам, что сопротивляться моей любви к вам у меня более нет никаких сил. Так поцелуйте же меня в лоб, а там будь что будет!
Дрожащими руками Фьямметта обхватила мою голову и потянула к себе. Весь я превратился в единый порыв любви, и весь двинулся к ее губам, и ноги ее тоже дрогнули, допуская меня всего к этому священному поцелую. Я обнял мою прекрасную Фьямметту, и вот она коснулась своими горячими губами моего лба. Что был пылающий флот в сравнении с огнем ее губ!
Если сказано в Писании: «и будут одна плоть» — то более нерасторжимого сплава, что закипел в маленькой деревянной плошке посреди темного моря, нельзя было бы найти в ту ночь ни в одной из кузниц и плавилен всего поднебесного мира.
Утром же нового дня мы увидели близкий берег.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕКИЙСКИЙ ЭМИРАТ И КАРАМАНСКИЙ БЕЙЛИК
Конец весны — начало лета 1314 года
Каменистое мелководье Азии встречало нас ясным утром, вселявшим в душу самые радостные надежды.
Я пригляделся к берегу и, выбрав себе «пристань» с небольшим гротом, в котором можно было временно укрыться от обещавшего жаркий полдень солнца, и чужих недобрых глаз, грозивших опасной полночью, направил лодку к тому убежищу. Я отталкивался веслом от дна, обернув нестерпимо саднившие ладони кусками ткани.
Мой брат Эд де Морей очнулся, когда лодка вздрогнула от столкновения с крупным камнем, что лежал на самом краю сухой тверди. Он открыл глаза, удивленно осмотрелся вокруг и сказал:
— Хорошие новости.
Уже когда мы повели его по круглым окатышам, мягко шуршавшим под ногами, в тот тенистый грот, он стал рассказывать нам свой сон, увиденный минувшей ночью, которая для нас с Фьямметтой оказалась вполне бессонной.
— Мне привиделось странное событие, — признался мой брат-тамплиер. — Будто бы я поднимался по темной лестнице на какую-то очень высокую башню. И там, по пути, я видел моих братьев-рыцарей, защищавших бойницы. Все они были мертвы. А некоторые из них выглядели и вовсе иссохшими скелетами. То восхождение длилось невыносимо долго, и вот наконец я вошел в какое-то сумрачное помещение на самой вершине башни. Там стоял уставленный роскошными блюдами стол, за которым могло бы уместиться не менее двух дюжин пирующих. Но за столом сидел всего один человек, маленький и в какой-то невзрачной одежде или, если припомнить, вовсе без нее. По своему виду он совсем не казался опасным, однако мне было открыто, что именно он коварно захватил цитадель Ордена, погубил всех доблестных рыцарей и теперь празднует здесь свою победу. Тогда я вынул из ножен свой меч и, пылая гневом, двинулся прямо на него…
— А он стал убегать от тебя, братец, — весело проговорил я. — Он был юрким, как мышь. Верно?
— Верно, — изумленно подтвердил Эд де Морей.
— Ты сокрушил мечом стол того нечестивого пиршества, но так и не достал негодяя, — с усмешкой продолжал я. — Он дал от тебя деру. Ты спустился за ним в подземелье, но и там он ускользнул от тебя. Если не ошибаюсь, прыгнул в реку.
— Ты мне всегда казался колдуном, брат, — глухо пробормотал комтур.
— Я тоже видел этот сон, — признался я, — только немногим ранее. Приглядись ко мне, славный комтур, и припомни, как выглядел тот негодяй. Ты обнаружишь в нас много сходства.
Когда Фьямметта устроила для комтура подходящее ложе и мы помогли ему опуститься навзничь, он перевел дух от боли, снова подступившей к нему, и вперил омраченный взор в темный каменный свод.
— Там, во сне, на меня обрушилась вся башня, а потом поднялись воды и поглотили меня, и я проснулся, — грустно проговорил Эд де Морей. — Все мои братья-рыцари погибли. В том нет сомнения. Я, как комтур, обязан был остаться с ними. Меня слишком ошеломил тот предательский удар. Меня слишком удивило твое появление, брат. Я поддался на твои уговоры и проявил малодушие и глупость.
— Скажи-ка мне, Эд, — сдерживая гнев, обратился я к нему, — чем же разумнее была вся эта гибельная затея: вместе с наемниками-иноверцами напасть на острова иоаннитов?
— А что нам оставалось делать? — мрачно усмехнулся комтур.
— Как это «что оставалось делать»? — поразился я.
— Румская капелла Ордена исполнила свое предназначение семь лет тому назад, — отвечал Эд де Морей. — Кому еще нужны мы были в Руме, рассыпавшемся в прах? Монголам? Караманцам? Никаких христианских паломников давно уже нет на этих путях. Где нам оставалось искать пристанище? Во Франции, где тамплиеров гонят, как самых отъявленных еретиков? У кого искать службу? Грезы о Святой Земле давно растаяли. За доставку на Родос платила Венеция — только и всего. Нам нужно было уйти достойно, встретившись с достойным противником — только и всего. Иоанниты — наши старые недруги, но на поле битвы они нам равны.
— Большинство тамплиеров, признавших обвинения в богоотступничестве и потому помилованных королем, вступило в Орден Иоанна, — поведал я комтуру горькую истину. — Вполне возможно, что вы плыли в ночи сражаться со своими бывшими «братьями».
— Тем лучше, — поморщившись, изрек Эд де Морей. — Но ведь ты, брат, был Посланником. «Священное предание» гласит, что Орден пройдет очищение. Что же ты можешь сказать мне, брат?
Полным тревоги и сомнения взором комтур Румской капеллы смотрел на меня.
— Я могу сказать, что Орден прошел истинное очищение, — твердо ответил я ему. — Теперь ты, брат мой Эд, и есть истинный Орден тамплиеров. Потому-то я и послан Провидением уберечь твою жизнь.
Глаза Эда де Морея несказанно расширились. Некоторое время он пребывал в оцепенении, и я сидел перед ним, не отводя взгляда.
Наконец он опустил веки, и черты его отразили слабое успокоение.
— Что впереди? — едва слышно прошептал он.
— Конья! — напротив, громогласно изрек я. — Румская капелла Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма. Славные подвиги и Святая Земля.
Ясное утро, попутный ветер и мои добрые предчувствия не обманули меня. Оставив свою маленькую армию в пещере, я спустя всего половину часа отыскал дорогу, покрытую теплой и мягкой пылью, а другую половину часа потратил на то, чтобы найти на ней нищего странника, который еще издали ответил мне на все тайные знаки, известные суфийским последователям всех многочисленных братств. Я узнал, что ветер пригнал нашу лодку к берегам маленького эмирата Теке, столица которого, Атталия, находилась всего в десяти милях от места нашей дерзкой высадки.
К полудню я обзавелся приличной повозкой и достаточным количеством провизии. Сабля и обе кольчуги превратились в пару крепких жеребцов, и, как только солнце стало клониться к закату, а жара спала, мы двинулись в путь.
Несмотря на все наши хлопоты, рана, нанесенная не только плоти доблестного рыцаря-тамплиера Эда де Морея, но и его душе, угнетала его все сильнее, и за один дневной переход до Коньи, недавно захваченной воинственным племенем караманцев, он наконец надумал умирать. Я накинулся на него с братскими упреками и все-таки сумел убедить его, что комтуру Ордена никак не престало отдавать Богу душу за пределами капеллы, посреди земель, подвластных неверным.
Привратники были уж не те. У ворот Коньи стояли четверо хмурых караманских варваров, и я уже было решил проститься с последними динарами, вырученными от продажи нашего воинского снаряжения. Но тут славный комтур нашел в себе силы — я сразу догадался, что жизненных сил в нем скрывается больше, чем казалось ему самому — и, поднявшись, вытянул из повозки руку, державшую на цепочке особый медальон — тангэ. Привратники узнали и медальон, и самого рыцаря Эда и, рассыпавшись в частых, мелких поклонах, пропустили нас в город. Видимо, доблесть великана-иноверца уже стала преданием на этих землях.
У приора румской капеллы Ордена за прошедшие годы прибавилось и седины, и испуга.
— Комтур не слишком легко ранен, — сообщил я ему по въезде во двор. — Распорядитесь, мессир приор, о всем необходимом в таком случае.
— Святая Дева! — воскликнул добрый приор, крестясь и тараща глаза. — Где же все остальные братья?
— Заупокойную мессу по всем остальным братьям вы будете служить после того, как устроите все дела с живым, — сказал я ему.
— Иисус милосердный! — задрожал приор.
И в третий раз он призвал небесных покровителей христианского мира, увидев Фьямметту, появившуюся из-за полога повозки.
— И такая знатная госпожа не побоялась таких дорог! — пробормотал он, узнав, что встречает на пороге капеллы невесту Посланника.
Когда мы наконец уложили комтура в его прохладной келье, напитанной ароматом церковного воска, он крепко — чересчур крепко для испускавшего дух человека — взял меня за плечо и привлек близко к себе.
— Мне пора уходить, брат мой, — тихо проговорил он. — За мной остался долг: окончить свой рассказ, начатый в Халдии, и передать тебе последний привет ее наместника.
— Благодарю. Хотелось бы узнать, как поживает теперь этот веселый Архимед, — с беззаботной улыбкой проговорил я, как бы пропустив мимо ушей мрачное предупреждение комтура.
— На нашей грешной земле он более не поживает, — отвечал Эд де Морей. — Скоро минет семь лет с того дня, вернее той ночи, когда он вознесся в лучший мир и сделал это в полном согласии со своим достоинством. Ему можно позавидовать. Вспомни, брат, ночь нашего пути в Кигану. Вспомни высокую гору и крепость на ее вершине. А теперь вообрази себе огнедышащую пасть огромного вулкана, в которую превратилась вся эта гора. Пылающий корабль показался бы тебе попросту горящим перышком, если бы ты увидел то ужасное и величественное зрелище. На два своих годовых жалования Лев Кавасит купил лучшей китайской смеси селитры с серой и наполнил ею отопительные трубы, проложенные в стенах крепости. Когда во Дворце узнали о его неповиновении, Лев Кавасит был тотчас лишен наместничества, но явиться во Дворец он наотрез отказался. Тогда за ним был послан отряд личной стражи императора. Лев Кавасит не стал губить подневольных душ. Напротив, он заранее выпроводил всех своих воинов и слуг вон из крепости и выпустил из клеток на волю всех диковинных птиц, а из водоема — в речку всех рыбок. Затем он устроил себе самое роскошное пиршество, на которое только был способен и, совершив возлияние за здоровье всех своих живых друзей и за упокоение всех усопших, поджег пропитанную маслом веревку, которая тянулась к ближайшей трубе. Все его великолепные покои, которым позавидовали бы и римские цезари, обратились в огненный вихрь. Тот огненный вихрь затмил половину звезд. Грохот раздался такой, что кони, стоявшие на дальних перевалах, не могли устоять на ногах. Поговаривали, что вспышку над горами заметили даже в Трапезунде.
— Тебе довелось увидеть этот последний фокус Архимеда? — вопросил я.
— Да, — ответил комтур. — Он пригласил меня еще той ночью, когда мы были у него, точно рассчитав день императорского гнева. Он даже указал мне перевал, с которого можно подивиться этому невиданному зрелищу в полной мере. Я обещал ему, что приду. Я встретил на перевале одного из его доверенных людей, который тут же отправился в крепость. Мне кажется, что Лев Кавасит даже задержал свое представление на один день, дожидаясь меня.
Тут-то Лев Кавасит, бог механики и точных расчетов, оказал и мне неоценимую услугу!
— Вот и теперь, брат, как раз появился повод к тому, чтобы ты выполнил еще одно обещание, — сказал я и навис над комтуром грозной тучей. — Я приложил немало трудов, чтобы довезти тебя живым до капеллы Ордена, боясь, что твой труп останется в чужих пустынях. Ты обязан исполнить мою просьбу.
— Я готов, брат, — тяжело вздохнул комтур. — Если это дело мне будет по силам.
— По силам, — уверенно подтвердил я. — Обещай мне… нет, обещай нам обоим, брат, — с этими словами я привлек к ложу Фьямметту, стоявшую на шаг позади, — что ты не станешь умирать еще двенадцать дней. Ты должен продержаться еще ровно двенадцать дней. Затем ты узнаешь кое-какую новость, кое-что увидишь и тогда окончательно решишь, оставаться ли тебе на этой грешной земле до конца отмеренного вовсе не тобою срока или же, проявив своеволие, отказаться от воли к жизни. Обещай мне, брат.
— Что ты задумал, брат? — с тревогой спросил комтур.
— Раз тебя еще беспокоят чужие замыслы, значит, ты еще оглядываешься назад и в настоящие покойники совсем не годишься, — с усмешкой заметил я. — Обещай.
Рыцарь Эд де Морей закрыл глаза и, немного помолчав, произнес то, что я и хотел от него услышать.
Без промедления выйдя из кельи в темный коридор и выведя вместе с собой Фьямметту, я прошептал ей на ухо:
— Я должен отлучиться из капеллы, как рассчитываю не более, чем на двенадцать дней. Я надеюсь, что мне удастся поднять брата на ноги. Я хочу привезти этому старому, уставшему от жизни холостяку хорошую невесту.
— Невесту?! — обомлела Фьямметта. Несказанное удивление Фьямметты мне тоже было на руку.
— Невесту! — решительно подтвердил я. — Редкостную, скажу я вам, сударыня, невесту. Может быть, мне удастся пронзить одной стрелой двух уток — и я смогу встретиться с дервишем в тех же местах, где водятся невесты рыцарей-тамплиеров, дающих обет безбрачия.
В любом из глаз Фьямметты я мог бы утонуть, как в морской пучине, такими огромными и бездонными сделались они в эти мгновения.
— Мой брат должен продержаться двенадцать дней, — продолжал я. — Радость моя, вы тоже должны выдержать двенадцать дней моего отсутствия. Иначе невозможно. Кто еще здесь сможет ухаживать за раненым так же искусно, как это делаете вы? Кроме того, Эд давал обещание нам обоим, и потому, видя вас постоянно перед глазами, он просто посовестится умереть, даже в мгновение крайней слабости. Такие рыцари, как он, своего слова не преступают.
Скорее безумная затея с невестой, чем необходимость попечения о раненом, полностью обезоружила Фьямметту. Она только поцеловала меня в лоб и тихо, покорно проговорила:
— Я буду непрестанно молиться о вас, мессер.
— Молитесь о нас обоих, сударыня, — ответил я ей.
Не прошло и часа, как Румская капелла Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма превратилась в маленький камешек, затерянный на краю земного предела, да и сама Конья уже смогла бы поместиться на моей ладони.
Я гнал коней во всю мочь и гораздо раньше, чем рассчитывал, достиг того самого места у реки, где вернул меня в явь, а, возможно, и в земную жизнь мудрый дервиш Хасан по прозвищу Добрая Ночь. Здесь я, действительно провел еще одну ночь, оказавшуюся не слишком доброй, поскольку мои надежды не сбылись и дервиша я так и не дождался. Признаюсь, что я не сошел бы с того места еще неделю, если бы мне удалось выторговать у брата месячный срок.
Я оставил обоих коней выше в горах, в небольшом ущелье, что было покрыто скупым кустарником, а сам двинулся дальше.
Три дня я прыгал по утесам, как горный козел, и на исходе третьего дня уже был готов впасть в отчаяние. В полном изнеможении я уселся на самом краю одной из пропастей и стал смотреть, как солнце медленно скатывается в ложбину между двумя заснеженными, не доступными для человека, вершинами.
Позади меня раздался стук камня, сорвавшегося со склона горы. Тотчас вскочил я на ноги и повернулся — и замер, пораженный тенями, словно выведенными на склонах китайскими чернилами. Я видел зубчатые стены грозной цитадели, неприступные башни и отверстия бойниц.
Опрометью повернувшись на другую сторону света, я обнаружил и каменное воплощение цитадели, которую еще несколько мгновений назад не мог отличить от нагромождения скал. Эта цитадель возвышалась прямо надо мной по другую сторону пропасти.
— Рас Альхаг! — содрогнувшись, прошептал я.
Итак, на закате дня мне помогло солнце, а ночью мне пришла на выручку луна. Она проложила по камням свои серебристые дорожки, которые и перевели меня через пропасть прямо под стены цитадели.
Зная, что грядущий день моего путешествия. по горам Тавра будет труднее и опаснее всех предыдущих, взятых вместе, я укрепил свои силы непродолжительным сном, свернувшись по-собачьи под самой высокой и неприступной кладкой.
С первыми лучами дневного светила я встал на ноги, и, пока солнце поднималось к вершине небосвода, я, словно торопясь следом за ним, карабкался вверх по крепостной стене. Я благодарил Бога за то, что некогда Он надоумил меня не унывать в темнице и не терять там времени даром. Теперь безо всяких кинжалов, посредством всего двадцати пальцев, я взбирался по отвесной круче с быстротою напуганного таракана.
Мне показалось, что я даже обогнал солнце. Двор крепости был так знаком, что на одно мгновение меня охватило чувство, будто я вернулся домой. Я видел ту самую башню с дверцей, приоткрытой не менее десятилетия тому назад. Видел травинки, которыми та дверца обросла, и даже какие-то голубые цветочки, в прошлый раз отсутствовавшие, поскольку тогда уже начиналась осень. Я видел тот самый колодец, вокруг которого до сих пор валялись восемь мертвых тел, восемь скелетов, облаченных в истлевшие лохмотья.
Без всякого страха я пересек двор цитадели, не решившись, однако, заглядывать в колодец, а затем без всякого страха протиснулся через щель при оцепеневшей дверце и стал вновь подниматься наверх. Ступени были усеяны костями и ржавым оружием.
В ту самую комнату, где происходило мое неудачное пиршество, я заглядывать тоже не стал, а сразу поднялся на верхнюю площадку, властно оглядел весь ослепительный горный простор и, повернувшись лицом на Восток, возгласил на ассасинском наречии:
— Акиса! Я пришел! Я жду тебя!
И к этому призыву я добавил одно слово, то самое тайное слово, которое было произнесено мною во Дворце Филиппа от Капетингов, слово высшей власти в братстве ассасинов, очень короткое слово, которое в переводе на язык простых смертных могло бы прозвучать так: «Я, песчаная змея, опускаю свою голову в воду».
Вслед за тем я спустился на несколько ступеней вниз и безо всякого страха толкнул знакомую дверь. С тяжким скрипом она отворилась, и я вошел внутрь.
За минувшие годы ничего не изменилось и здесь, будто я оказался единственным человеком, попавшим сюда с тех самых пор, когда здесь происходил удивительный поединок, случившийся, по всей видимости, как во сне, так и наяву. Я увидел перерубленный стол, разбросанные блюда, косточки плодов и некогда искусно изжаренных фазанов. Я подумал, что семь лет назад мой собственный голод изготовил все эти яства во сне, а затем вынес их с кухни сновидения в опасную явь.
Я уселся на самый конец длинной лавки, взяв в руки серебряный поднос, отшлифованный до зеркального блеска. и отвернулся от двери к стене. Свет из высокого окошка широкой полосой опускался вниз позади меня, прямо к самой двери.
Мне пришло в голову, что там, наверху, я совершенно напрасно тратил силы на крик. Можно было позвать Акису самым тихим шепотом — и она пришла бы без промедления.
Мое сердце не успело ударить и тысячи раз, как в проеме двери беззвучно появилась хрупкая фигурка, похожая на юного герольда, отражение которой я заметил на глади подноса.
Я был уверен, что у Акисы нет ни желания, ни приказа убить меня в этот час. Я знал, что она, однако, бросит в меня одну из своих смертоносных звезд. Я знал, что она сделает это, дабы обезвредить мою правую руку. И молниеносно прикрыл подносом правое плечо.
Серебряный поднос содрогнулся таким громким звоном, что у меня заложило уши. Жало отлетело прочь и царапнуло стену.
Спустя одну четверть мгновения я уже стоял лицом к Акисе, прикрывая подносом грудь.
Голос, мною услышанный, несомненно принадлежал уже не какой-нибудь злой и пронырливой девчонке, а настоящей повелительнице ассасин, царице недоступных вершин, окружавших эту призрачную цитадель.
— Ты звал меня, Посланник, — выказывая совершенное спокойствие, промолвила Акиса. — Я пришла. Что тебе?
— Ты осталась в дверях, — коварно заметил я. — Ты опасаешься меня?
Не отвечая ни слова, Акиса Черная Молния сделала три шага навстречу.
Она стала еще прекрасней! Губы ее стали еще спелее, черные пропасти ее глаз стали еще глубже.
Я с великим трудом сдержал порывистый вздох и твердо сказал самому себе: «Сейчас перед тобой злой демон — и не более того. Злое и опасное искушение — и не более того. Будь начеку».
— Ты нужна мне, — властно произнес я. — Есть человек, который должен умереть от твоей руки. Но я сомневаюсь в тебе. Я слышал сказки о твоем коварстве, но мои глаза видели только твои промахи — три промаха и ни капли крови.
Акиса Черная Молния сделала еще один шаг навстречу. Быстрым движением она сорвала с головы темный тюрбан — и по ее плечам рассыпался, а вернее сказать, прямо-таки обрушился на плечи водопад роскошных волос черноты воронова крыла. И я увидел тонкую косичку, протянувшуюся вниз через ее висок и щеку. Не менее дюжины узелков из золотых нитей было вплетено в нее, и по этим узелкам, принятым среди высшего круга ассасин, можно было сосчитать число смертей, принесенных Черной Молнией в шатры, дворцы и караваны.
Медленно подняв руку, Акиса указала пальцем на один из узелков.
— Султан Масуд, — коротко назвала она бедную душу, некогда вылетевшую из тела и запутавшуюся в ее густых волосах.
— Где было место Филиппу от Капетингов? — спросил я, ничуть не удивившись такой новости.
— Здесь, — коснулась Акиса середины косички.
— Почему же ты не пришла за ним снова? — задал я еще один вопрос.
— На пути встал Посланник, — был мне ответ. — Старец признавал твою волю, а срок ее печати — вечность. Ты вставал на моем пути. Там, куда ты не приходил, ты мог бы найти след имама.
И с этими словами Акиса быстро пропустила всю косичку между пальцами.
— Тогда покажи мне, где место франка Эда де Морея? — повелел я.
Акиса Черная Молния непоколебимо стояла на своем месте, но что-то дрогнуло перед моими глазами: не то прозрачный эфир, не то солнечный свет, исходивший вниз из высокого окна.
— Ему место — первому, — глухо ответила она, более не притрагиваясь к своему богатству — золотой грозди мертвецов.
— Ныне в твоей воли оставить его последним, — изрек я. — Я приведу тебя к нему. Он не станет защищаться. Я сойду с твоего пути и сниму печать своей воли.
Акиса отступила на шаг назад, и я подумал, что никак нельзя подпустить ее к двери. Тогда я осторожно двинулся в правую сторону, намереваясь хотя бы отчасти обойти ее с «фланга».
— Нет, — услышал я тихий голос, который не мог принадлежать злому духу.
— Обстоятельства таковы, — сказал я на простом арабском наречии, продолжая переступать вправо, — что он получил двойное ранение — в плоть и душу. Теперь нужен искусный удар, который разом прекратит его муки.
— Нет, — донесся до меня едва слышный стон.
— Тогда я ставлю перед тобой выбор, Акиса, — громогласно изрек я, вообразив себя повелителем ассасин, самим Старцем Горы. — Убить франка Эда де Морея или стать ему женой.
Хрупкая фигурка черного «герольда» содрогнулась, а луч солнечного света остался непоколебим.
— Нет! — неосязаемо шелохнулся эфир, наполнявший мрачную башню.
Я вовремя воспользовался смятением гордой Акисы и совершил один из тех необыкновенных прыжков, которым был обучен в непроницаемом сумраке своей прошлой жизни. Я оттолкнул от себя каменные плиты пола, перевернулся в полете через голову и, уже падая вниз, ударил ногой по двери и с треском захлопнул ее. Я хотел, чтобы на внутренней стороне двери оказался засов — и мое желание исполнилось наяву. Одной десятой части мгновения мне хватило, чтобы плечом задвинуть его и вновь укрыть свою бренную плоть зеркальным подносом. Яркая искра мелькнула в луче света — и новая смертельная звезда оглушительно ужалила мой щит.
— Убей франка Эда де Морея или стань ему женой! — властно повторил я свое повеление.
— Нет!
Тогда я вновь произнес ассасинское слово власти, которым владел по праву, данному мне, как я был теперь уверен, едва ли не самим Старцем Горы в ночной тьме моей неведомой жизни.
И даже на это священное слово Акиса ответила отказом, тем самым отрекшись и от своего смертоносного братства. Это ее неповиновение было добрым знаком, но таило в себе и новую опасность.
«Вот еще одна маленькая песчинка упала в утробу дьявольского механизма», — подумал я и весело проговорил:
— Значит, мне придется сделать то, что не удавалось еще ни одному из смертных: поймать настоящую молнию голыми руками.
Вечности предстояло вместиться в ближайшие два-три мгновения. Чтобы обезвредить Акису, нужно было первым делом обхватить ее, обнять крепче, чем обнимал я когда-то в райском уголке Флоренции мою прелестную Фьямметту, придавить к полу. В этих объятиях и таилась для меня самая страшная опасность. Заключив в объятия Акису, я мог бы превратиться в кусок теплого, а потом и остывшего теста.
Однако в своей новой жизни я был уже не одинок, а потому цена моей смерти была очень высока, слишком высока, покрыть ее не хватило бы никакого египетского наследства.
Потому я помолился и превратил свое сердце в камень.
Я знал, что смогу поймать Акису только ястребиным наскоком, только посредством одного из своих жонглерских прыжков.
Я стал отходить от двери, снова двигаясь по кругу, как бы оставляя взору Акисы дверь, несомненно ставшую для нее более вожделенной целью, чем смерть всех ее врагов.
Она тоже стала двигаться по дуге, огибая разрубленный стол и прижимаясь спиной к стене.
Я поймал подносом солнечный луч, на одно мгновение направил его прямо в глаза Акисе и тут же отвел его в сторону, как бы обнажая свой левый бок.
Я успел-таки подставить поднос против пущенного в меня жала, оно клацнуло по его краю, и я глухо вскрикнул, сделав вид, будто оно, отскочив, сумело укусить меня за руку.
Черная тень метнулась к двери, а спустя одну сотую часть мгновения я уже летел ястребом над остатками древнего пиршества. И не успела Акиса сдвинуть засов на ноготь в сторону, как я обрушился на нее всем телом, вмял ее в дверные доски, вцепился руками ей в плечи, а коленями обхватил бедра, и, тут же оттолкнувшись от двери, опрокинулся вместе с ней навзничь.
Первый удар был так силен, что ворот ее плотной холщовой одежды втиснулся под край засова и при падении с треском разорвался, раскроив легкую ассасинскую амету от плеча до самого пояса.
Смягчив падение Акисы своим собственным телом, я тут же перекатился на живот, пытаясь придавить ее к полу, но она, сумев-таки извернуться, оказалась передо мной лицом к лицу и вцепилась мне когтями в шею. Ее великолепные волосы черным вихрем разметались по полу — теперь смотреть бы на них и любоваться, но куда там!
Освободиться от ее хватки не составляло труда — мои руки мне подчинялись вполне, да вот только глаза и сердце были не слишком стойкими воинами. Невольно отступили мои глаза от злобных глаз Акисы и не утерпели — приметили-таки матовую гладь прекрасной груди и темную округлость соска, способную поглотить все силы самого Антея.
Я дрогнул всего на одну сотую мгновения, но, хвала моей обновленной памяти, я хорошо помнил, что должно последовать за этой мимолетной потерей сил.
Акиса извернулась подо мной, как кошка, но не успел ее сапожок коснуться моей скулы, как я уже откинулся назад, перехватывая обеими руками ее ногу. Увесистую зуботычину я получил-таки, но, отброшенный в сторону, успел прихватить с собой и само метательное орудие.
Итогом броска оказалось то, чего я и хотел: мне удалось обхватить Акису сзади и прижать ее лицом к полу. Теперь требовалось вытрясти все оставшиеся у нее в запасе шипы и ядовитые зубы, но змея все еще шипела под ястребом и шипела так злобно, что я решил ради своей целости обойтись с ней более грубо. Я успокоил себя тем, что ассасинов учат терпеть боль в сотни раз более жестокую.
Быстро перевернувшись вместе с Акисой на спину, я ударил ее согнутым большим пальцем руки в нижнее соединение ребер и тут же вновь придавил лицом к полу.
Акиса сразу обмякла подо мной и захрипела. Теперь уже безо всякого труда я вывернул ей руки за спину, достал у себя из-за пояса приготовленную для этого мгновения цепочку и легко стянул ее запястья этими необременительными кандалами.
Оставалось только проявить в последний раз всю полноту моей власти над нею. Я запустил левую руку в ее волосы, густые, шелковистые, такие великолепные, что сердце мое дрогнуло — но я взнуздал свое сердце, как норовистого жеребца; я нагнал на себя злости, вспоминая про все железные зубья, готовые пронзить мою грудь; я надавил Акисе коленом на хребет между лопатками; я достал из-за пояса маленький кинжал, припасенный мною еще на текийских дорогах; я немилосердно потянул за волосы ее голову назад и приставил острие кинжала к ее гортани.
— Ты слишком долго охотилась за рыцарем-франком! — свирепо прорычал я. — Ты слишком долго ненавидела его, чтобы не полюбить. Отвечай мне: любишь ты его?!
Акиса отвечала тем же злобным шипением.
— Говори же! — требовал я и с еще большей жестокостью тянул ее за волосы и еще немилосерднее давил острием кинжала на ее шею. — Любишь его?!
Акиса издала слабый стон, и такая же слабая судорога пробежала по ее телу.
— Можешь не отвечать, — уже с полным хладнокровием изрек я и отвел от ее шеи острие, и разжал левую руку. — И так знаю: ты любишь его.
Затем я быстро отскочил в сторону и, достигнув двери, опустился на пол. Я сел, бессильно вытянув ноги, и, привалившись спиной к дверным доскам, стал наблюдать за Акисой.
Поначалу она лежала без движения, потом повернулась на бок и, подтянув ноги к животу, стала бесцельно глядеть куда-то в сторону.
Через некоторое время она с большим трудом поднялась на колени, встала на ноги и, пошатываясь, направилась к противоположной стене. Там она бессильно опустилась на пол, прижалась спиной к мрачной гранитной кладке и, гордо закинув голову, вперила в меня взор поверженной, но не побежденной принцессы ассасин.
— Освободи мне руки, — донесся ее слабый, но повелительный голос.
Край аметы сполз с ее плеча и обнажил ее последнее, но и теперь самое действенное оружие.
И я оцепенел.
Но вовсе не прекрасная округлость ее груди остановила мой взор, обратив меня в камень.
Прямо под грудью я заметил большое родимое пятно звездообразной формы, пятно, которым был помечен и я, безымянный граф де Ту.
Моя сестра!
Акиса Черная Молния — моя сестра!
Принцесса ассасин — моя сестра!
Урожденная графиня де Ту! Дочь Милона Безродного и арабской невольницы по имени Гюйгуль! Тот самый младенец, который побывал на руках великого мастера ловушек Льва Кавасита и удивил даже самого дервиша Хасана по прозвищу Добрая Ночь!
О, как я возрадовался! Какие тяжкие кандалы упали разом с моего сердца, измученного любовью к двум красавицам, «беленькой» и «черненькой»!
Кровь вскипела в моих жилах. Останься я тем же юнцом, не изведавшим жестокого бесстрастия казематов Шинона, вскочил бы и пустился бы в пляс. Но теперь я умерил свою радость, взнуздал ее, как норовистого жеребца, и только своего облегченного вздоха не успел удержать за хвост.
Я не торопясь поднялся на ноги и, еще не сделав ни одного шага к своей, так жестоко обиженной мною сестренке, бросил к ее ногам свой кинжал.
— Я освобожу твои руки, — пообещал я ей, — и тогда ты сможешь посчитаться со мной. Только целься в одно место.
Тут я с наслаждением сбросил с себя пропитавшуюся потом рубашку и ткнул пальцем в темную звездочку на моей груди:
— Вот сюда!
Акиса вскрикнула, вскочила на ноги, опрометью бросилась мне навстречу, замерла в двух шагах от меня и, покачнувшись, едва не упала.
Я успел поддержать ее.
— Брат! — прошептала она. — Брат! Ты пришел!
Она рухнула на колени и, напугав меня тем, что со всего маху ударила лбом об камни пола, тут же затряслась в рыданиях.
Я кинулся на пол и обхватил ее всю руками, обнял мою вновь обретенную сестренку — но уже вовсе не той ястребиной хваткой.
— Успокойся, сестра! Успокойся! — зашептал я ей в ухо, сомневаясь, слышит ли она меня сквозь такие густые локоны. — Теперь все будет хорошо! Успокойся! И прости меня. Я признал тебя только сейчас, увидев родимое пятно. Мы могли убить друг друга.
О последних словах я пожалел, поскольку моя младшая сестренка Акиса заревела пуще прежнего. Так я узнал, что даже страшные ассасины способны плакать, но, может быть, на это был способен только один, самый непобедимый ассасин, и то — лишь в тот час, когда освободился от колдовских чар всех тайных слов.
Я стал гладить ее по шелковым волосам со всей нежностью, которую только мог вычерпать из своей души. Крохотные искорки-молнии сверкали с легким треском под моими пальцами, и я теперь гордился тем, что, хоть у меня и нет еще никакого имени, зато я — брат Черной Молнии, поражающей вершины неприступных скал.
Акиса затихла, дыхание ее стало ровным и спокойным, и вот я обомлел, заметив, что она просто-напросто заснула, пригревшись в моих руках.
Так я сидел, боясь шелохнуться не менее получаса, пока у меня совершенно не онемели, мертвенно похолодев, обе ноги. Тогда я подумал, что никак нельзя больше терять время, и легонько потряс мое новое сокровище.
Акиса испуганно встрепенулась, открыла глаза и, увидев меня, надумала всплакнуть еще раз.
— Довольно, сестренка! — прикрикнул я на нее. — Нам пора торопиться!
— Брат! — блаженно прошептала она. — Ты пришел! Я ждала тебя всю жизнь. Я думала, что тебя нет.
— Вообрази, что такая глупость приходила и мне в голову, — признался я и, пристально посмотрев ей в глаза, грозно вопросил: — Станешь женой франка?
— Я сделаю все, что ты мне прикажешь, брат, — блаженно улыбаясь, ответила Акиса.
Тут-то до меня дошло, что по сути дела мы все представляем из себя довольно необычную семейку.
— Дело в том, Акиса, что он в определенной степени приходится братом и нам обоим, — унимая растерянность, заметил я. — Однако в нашем семействе между тобой и рыцарем Эдом де Мореем родственная связь является наиболее протяженной. У тебя и него общий предок — только одна единственная бабка. Всего-то одна бабка. Так что если и возникнут временные трудности, то они будут скорее духовного, нежели кровного рода.
— Я сделаю, как ты скажешь, брат, — глядя на меня слегка помутневшими и, я бы даже сказал, пьяными глазами, промолвила Акиса.
— Но признайся наконец! — возмутился я. — Если он согласится, а не согласиться он уже не может, ты готова стать ему женой по своей воле?
Акиса сладостно вздохнула и, сильно зажмурившись, прошептала:
— Я думаю, что никогда бы не смогла его убить. Разве только ранить. В плечо или в бедро… Нет, только в руку, только в левую руку… Хорошо бы ты освободил мне руки, брат.
Я не нашел ничего лучшего, как только глупо расхохотаться, и смех стал разбирать меня все сильнее и сильнее, так что из глаз моих обильно потекли слезы, а пальцы мои задрожали, отчего я долго не мог распутать цепочку, пленившую мою опасную сестру.
Я долго трясся, как одержимый болезнью «опившихся шакалов», что случается с этими хищниками, когда они лакают воду из луж на маковых лугах во время цветения.
Тем временем, наконец избавившись от цепи, Акиса неторопливо убирала волосы и накручивала на голову тюрбан. Она не обращала никакого внимания на приступ «шакальей болезни», случившейся со мной, вероятно, посчитав ее естественной отдушиной от всех опасностей, которые мне пришлось перенести, защищая свою жизнь маленьким подносом для одного винного кувшина.
Мой смех прервался, когда я вновь увидел перед собой настоящего ассасина с холодным взглядом и плотно сжатыми губами.
Акиса пособирала с пола свои шипы, бросив только один, изрядно погнувшийся об мой «рыцарский щит», и решительным шагом двинулась к двери.
Я хотел было обогнать ее, но она выставила руку, удержав меня на шаг позади:
— Нас могут ждать, — сухо сказала она, а ее глаза вновь были ясны и грозили ударами молний. — Я знаю это место лучше, чем ты.
«Вряд ли кто-нибудь остановит нас теперь, — подумал я, — всех таившихся здесь врагов я перебил еще в прошлом сне, а рыцарь Эд нам теперь не опасен».
Я оказался прав: мертвое безмолвие повелевало этими покинутыми стенами и бойницами. Одно вызывало смутную опаску — тот самый колодец в нижнем дворе цитадели. Но Акиса стремительно повела меня стороной от него, шагах в двадцати от всех оставшихся в его глубине тайн, и я был тому только рад.
Спустя еще немного времени на краю одного из скалистых обрывов я помог Акисе спуститься вниз с помощью веревки и невольно вспомнил о самой первой встрече с сестренкой. Оказавшись вместе с Акисой на дне ущелья, я спросил сестру, для чего ей потребовалось тогда выдавать себя за одну из рабынь, которых водят по улицам, как коз, на поводке.
— Наш Старец Горы слишком поздно узнал о готовящемся в Конье мятеже, — отвечала Акиса, — и о том, что султана Масуда собираются «свергнуть живьем», дабы добиться от него при свидетелях отречения в пользу племянника, одного из заклятых недругов ассасин. Поэтому султан Масуд должен был умереть не позднее, чем за мгновение до своего свержения. Нам было известно также, что визирь приказал с полудня предыдущего дня не пускать в город чужаков. Войти можно было разве что под покровительством Хасана Добрая Ночь или другого шейха. Конийских торговцев рабами, однако, пропускали, не чиня препятствий.
— Если бы рыцарь-тамплиер Эд де Морей был поражен твоим шипом на площади, то не известно, проникла бы ты во Дворец со своей смертоносной целью или нет, — заметил я.
— Он был неудержим, — с блаженной улыбкой на губах проговорила Акиса и подняла глаза к небу. — Он мог упредить даже меня. Я хотела придержать его, замедлить его движение. Не думай, что я могла тогда убить его, хотя мне приказывали сделать это. Он был так красив и несокрушим на своем коне.
«Оказывается, эта песчинка, попала в дьявольский механизм гораздо раньше моей», — усмехаясь, подумал я.
В первую же ночь, проведенную нами в предгорьях Тавра, Акиса поведала мне свою историю. Я дал ей клятву не раскрывать тайны ассасин, которые мне стали известны с ее слов, поэтому я и оставил в ее рассказе упоминания только о тех событиях, которые были в какой-то мере связаны с моими собственными необычайными похождениями.
РАССКАЗ АКИСЫ ЧЕРНОЙ МОЛНИИ, АССАСИНА ДЕВЯТОЙ СТУПЕНИ
Меня назвали по имени древней аравийской царицы, славившейся своей мудростью и красотою, а также умением побеждать злых демонов.
Мне не ведомо, от кого я получила это имя — от отца с матерью, которых я никогда не знала, или же по воле и прихоти иного человека. Старец Горы сказал, что получил меня из рук некого кутба, то есть мудреца, освобожденного от дней и дорог и способного пребывать сразу в нескольких местах. Тот кутб говорил Старцу, что из меня выйдет искуснейший фидаин, достойный самого высокого посвящения.
У меня было еще множество недолговечных имен: одни появлялись, цвели целое лето и потом бывали брошены в огонь, подобно полевой траве, другие появлялись на закате и на рассвете исчезали, подобно бабочкам-поденкам.
Когда меня, только оторвав от груди кормилицы, вместе с другими малолетними ассасинами высшего круга планет, уже учили подражать бегу пауков и их умению прятаться в щелках, — тогда я звалась Глазком Каракурта. Когда я освоила искусство ползать по-змеиному, то в продолжение целого месяца именовалась Эфой Сухого Русла.
Четырьмя годами позже меня часто сажали между двумя чужестранными торговцами, которые разговаривали то на одном непонятном мне языке, то на другом, то на третьем. Не разбирая ни слова, а только успевая приглядываться к их лицам, я должна была догадаться, о чем они ведут речь. «Шерсть!» — громко кричала я, а в другой раз: «Лошади!» или «Масло!» — и тут же меня награждали куском сладкого лукума. Если же случалась ошибка, тогда я оставалась без всякого лукума, а за шиворот бросали колючку, которую приходилось терпеть до первой звезды. А кроме того, я должна была поднимать руку, как только торговцы, не подавая вида, начинали говорить обо мне и называть имя, которое они загадывали между собой и произносили среди прочих слов в эти мгновения.
Учителя древней мудрости греков называли меня Эринией, проповедники от манихеев — Зрачком Зона, а индийские факиры — Чакрой Кали.
Когда мне в первый раз удалось поразить Зубом Кобры солнечный зайчик от маленького зеркальца, повешенного на ивовой ветке, которую неистово теребил пустынный ветер хамсин, меня нарекли Соколом-С-Горы-аль-Джуди.
Черной Молнией я стала с того дня, когда по воле Старца Горы совершила одно из жертвоприношений и, оказавшись со всех сторон окруженной мстителями, поднялась на вершину минарета. Оттуда, с высоты минарета, мне пришлось прыгнуть на купол мечети. Я расправила свою черную накидку, развела руки в стороны и стремглав кинулась вниз, чудом оставшись в живых и сломав только два пальца на левой руке.
И все мы, «бессмертные фидаины высшего круга планет», именовались «ангелами имама», грядущего в мир со знаками и силой верховного властителя судеб. В промежутках между исходами в нижние селения простых смертных мы пребывали в райских садах, овеваемых ласковым ветерком. Мы наслаждались изобилием чудесных плодов и бившими из-под земли ключами козьего молока и алого вина. Мы вдыхали ароматы волшебных благовоний, открывавших нашим глазам недоступные сферы звезд.
Мое сердце билось в полном согласии с волей Старца Горы до того самого дня, когда я увидела франкского рыцаря на белом коне.
В тот день я нарушила обет.
Фидаин, даже из высшего круга, не может иметь имущества. У меня появилось имущество: жизнь этого франка. Я припрятала ее в самый глубокий тайник своего сердца.
На исходе того же дня мне привиделся во сне мудрый и добрый дервиш, который сказал мне: «У тебя есть брат».
Я ответила ему: «Все фидаины — мои братья». Тогда дервиш ласково улыбнулся мне и сказал: «Холодный эфир вершин, которым все вы дышите — вот что роднит тебя с братьями-фидаинами. Теплая кровь, цена которой тебе известна, — вот что роднит тебя с твоим истинным братом».
«Он — фидаин?» — спросила я, познав второе из чувств, какие мне еще никогда не были знакомы. Это чувство было ни с чем не сравнимой, блаженной теплотою, какой не бывает в горах.
«Он — Посланник Истины», — отвечал дервиш. «Истина — в имаме, — сказала я. — Значит, он — Посланник имама?»
Дервиш с улыбкой покачал головой и промолвил: «Истина в том, что ты изменилась. Значит, мир не стоит на месте».
Я почувствовала страх и спросила волшебного старца:
«Что же мне теперь делать?»
«Оставайся прежней, — отвечал дервиш, — ибо сон легче яви, как ветер легче воды и камня, и потому сновидение достигает души быстрей, чем события достигают плоти. Твоему брату будет грозить опасность, но тебе удастся помочь ему».
«Каким образом?» — вопросила я. «Ответ — в тебе самой, — отвечал дервиш. — Ответ скрыт в том же тайнике, куда ты припрятала жизнь неверного».
Я, безродная сирота, была обязана Старцу Горы всем своим знанием и всей своей властью над низшими смертными. Прилежней, чем раньше, стала я исполнять его волю.
Однажды он сказал мне:
«Пришел тот, кто поразит всех наших врагов, скрывающихся в полуночных странах, где среди неверных наши братья возводят неприступную цитадель. Ты отнимала жизни тех, кто не достоин ее. Теперь ты должна сохранить жизнь того, кому она принадлежит по праву и кому суждено стать Ударом Истины».
В тот день, когда ты, брат мой, на дворцовой площади в Конье оградил франка от моей руки и напал на меня, ты всего на один час стал моим заклятым врагом. О, как была удивлена я потом во Дворце, когда, расправившись с султаном, вышла по тайным проходам в приемные покои и по знаку на твоей руке, Удару Истины, открыла, что ты и есть тот самый Посланник, о котором говорил Старец. Мне было ведено вывести тебя из Коньи и поместить во Дворец Чудесного Миража. Ты сидел перед кувшином, который принес во Дворец верный нам серхенг и пребывал в блаженном состоянии, не замечая вокруг себя ничего. Мне не составило никакого труда поднять тебя за руку с ковра и утянуть за собой в скрытые от простого глаза дворцовые ходы.
Теперь я обладала еще одной собственной тайной: радостью. «Если Посланник Истины защитил франка, — говорила я себе, — то и я, оставляя ему жизнь, не преступаю закона Истины».
Я и не предчувствовала, что Посланник может оказаться моим братом, о котором вещал удивительный дервиш!
Тот, который становился моим братом в сновидениях и которого я в своих ночных грезах не раз спасала от страшных казней и нападений, был не слишком похож на тебя. Он больше напоминал франкского рыцаря-тамплиера, был высок и гораздо старше.
Однажды мне приснилось, что его должны казнить за убийство султана. Я спасла его от мучительной смерти и очнулась со слезами радости, которые поспешила стереть со щек.
Первый раз в своей жизни я опасалась за чужую жизнь, оставляя Посланника в тех проклятых стенах, среди развалин Чудесного Миража. Вряд ли он мог постоять за себя: глаза его были мутны, блаженная улыбка не сходила с его губ, он шел за мной, как покорное дитя, так пробудив в моем сердце третье чувство, не ведомое мне до того дня. Дурманное вино владело его душой. Посланник изумленно оглядывался по сторонам, наслаждаясь видом райских садов и красотой прекрасных гурий. Я не могла ослушаться своего повелителя и покинула тебя в том самом месте, где мне было указано.
Не прошло и трех дней, как Старец призвал меня в горы и, хмуря брови, сообщил, что Посланника повели в Трапезунд по ложной дороге и теперь ему грозят новые опасности. И тогда я едва не отважилась на непозволительную дерзость. «Ложный путь начался еще раньше, — хотела было сказать я Старцу, — когда Посланник был оставлен в проклятом месте на произвол звезд. Хитрый враг мог упредить их благоприятное расположение».
Старец тем временем говорил мне о том, что Посланник не ведает о своем истинном предназначении, и, если он уклонится от верного пути; то его поступки будет нелегко предсказать даже с помощью звезд. С этими словами он вручил мне веточку пещерной омелы.
Что произошло с этой веточкой, тебе известно, мой дорогой брат.
Рыцарь Эд дважды вставал на моей дороге: тем памятным тебе утром, а потом — ночью, когда я спешила в Трапезунд, надеясь захватить Посланника наскоком, хотя бы на самой пристани. Я петляла на коне франка по перевалам в объезд Киганы, окруженной тысячами ловушек, и столкнулась с рыцарем в расщелине, всего в двух фарсангах от моря. Мне удалось легко ранить его и, оставив ему коня, которого он так любил, — обойти верхом, по крутому склону. Однако встреча с франком-тамплиером стоила мне одного драгоценного часа. Когда я наконец добралась до пристани, корабль флорентийцев уже пропал во тьме.
Я не боялась гнева моего повелителя, хотя ожидала, что гнев этот будет велик и сотрясет горы. Однако Старец, узнав о том, что флорентийский корабль уже покинул Трапезунд, напротив, довольно улыбнулся и сказал, что звезды исполнили предназначенное и Рас Альхаг, «Голова заклинателя змей», покровительствует Посланнику.
В ночь последнего новолуния той осени брови моего повелителя снова сошлись, подобно темным тучам на перевале. Помню, как я стояла перед ним, а он в молчании грел руки над железной жаровней с горячими углями и тени от пальцев затмевали его лицо. Наконец он сказал мне, что, поскольку я из числа высших фидаинов, то должна обладать знанием. Он сказал, что случилась беда хуже прежней: Посланник уклонился от пути и пропал. Он сказал, что его не могут найти ни на одном из трех путей, указанных звездами.
Старец опасался, что враги вызнали тайное слово, имеющее власть над Посланником и, похитив его, выжидают теперь часа, когда можно будет его использовать в качестве смертельного оружия против «внутреннего круга» Ордена. Старец сказал, что французский король хочет обладать слишком многим: как двуглавый дракон, он тщится проглотить разом двух жертвенных быков, забыв, что в желудке может поместиться только один. По словам Старца, король Филипп получил весть с Востока: «Отдай золото Египта — и тогда к тебе придет человек, который сокрушит Орден Соломонова Храма». Старец, зная об этой вести, предупредил фидаинов «внутреннего круга» и теперь, по его расчетам, удар должен был пасть только на тех, которые называли себя «северянами» и были нашими главными врагами. Однако король Филипп сумел при помощи Великого Магистра Ордена захватить священные реликвии Востока и теперь пытался повысить цену, требуя право на временное владение Палестиной. В том случае, если дальнейшие переговоры с королем Франции зашли бы в тупик, мне и предстояло одним движением руки прервать его царствование.
Одному из кипрских цирюльников было куплено дворянское достоинство, и тотчас у меня появилось еще одно имя, которое тебе известно, мой дорогой брат.
— Маркиза д'Эклэр, — кивнул я. — Маркиза «Молнии». Как же мне тогда сразу не пришло в голову истинное значение этого слова?!
Накануне того вечера, когда я встретила тебя, мой дорогой брат, Вильям Ногарэ сообщил мне, что король как будто окончательно склонился к обману и хочет обвести вокруг пальца и нас, и египетских шейхов, для чего вошел в сношения с иоаннитами, которые были готовы припрятать часть золота в своих подвалах.
Когда я увидела тебя, мой дорогой брат, я подумала, что Посланник совершил измену или действует под властью тайного слова.
Потом произошло то, о чем тебе известно, мой брат. Я готовилась повторить покушение каким-нибудь иным способом, но на третий день получила известие, что король принял условия Старца и готов вернуть ему «золотую голову», священную реликвию, принадлежавшую первому шейху ассасин, благословенному ас-Сабаху, «голову», обладание которой утверждало превосходство Старца над тремя другими шейхами нашего братства, скрывавшимися в горах Персии.
Когда я вернулась на Восток, Старец сказал мне, что звезды уберегли короля Филиппа, дав ему время исправиться, и заставили Посланника исполнить свою миссию в совершенстве.
В ту же ночь мне приснился добрый дервиш. Он сказал мне: «Спаси того, кто спас тебе жизнь».
На утро я встала пред глазами повелителя и сообщила ему, что мне приснился благословенный ас-Сабах и приказал спасти жизнь Посланника. Впервые в жизни я увидела изумление на лице Старца. Он пригляделся ко мне и задумчиво проговорил: «Расположение невидимых нашим глазам звезд до сих пор оказывалось полезным для нас».
То, что произошло спустя четыре года, тебе известно, мой дорогой брат.
Вскоре Старец умер, и среди высших учителей нашего братства некоторое время продолжались распри и всякие нестроения.
В эту пору мне все чаще снился мой кровный брат. Иногда в миг пробуждения мне казалось, что надо скорее открыть глаза — и тогда я успею увидеть его наяву. Еще мне казалось, что он возьмет меня за руку и уведет в тот истинный рай, которого жаждет фидаин, до конца исполнивший свое предназначение. По числу жертв я давно превзошла своих «эфирных братьев».
И вот три дня тому назад я встретила того доброго дервиша наяву и поначалу не поверила своим глазам. Он сидел на берегу реки около маленького костра, на котором грелся медный чайник.
Я спустилась с коня, подошла к нему и осторожно потрогала его за плечо, все еще думая, что вижу призрака.
Он улыбнулся мне и приветствовал словами:
«Здравствуй, славная победительница драконов».
«Где же мой брат?» — только и нашлась я вопросить его.
«Скоро он придет за тобой и освободит от всех обетов, которые стали слишком тягостными для твоего проснувшегося сердца, он поведет тебя в тот неприступный замок, о котором ты тайно мечтаешь, — ласково проговорил дервиш. — Между тобой и твоим братом осталось одно препятствие».
«Какое?!» — так и встрепенулась я.
«Посланник Удара Истины», — отвечал дервиш.
«Он спас мне жизнь, а я, по твоему велению, святой человек, спасла жизнь ему», — в недоумении отвечала я дервишу.
«Всему свой черед», — усмехнулся дервиш и рассказал мне историю о человеке, который ночью испугался на дороге приближавшихся к нему всадников.
— Мне тоже известна эта история, — уведомил я Акису.
«Я укажу тебе место, где ты сможешь найти Посланника, — сказал, завершив ту смешную историю, дервиш. — Рас Альхаг. Он скоро придет туда».
Сомнение все еще владело мною, и я вновь обратилась к тому необыкновенному суфию:
«Свет мудрости, ты назвал Посланника „препятствием“ между мною и братом, которого я давно чаю увидеть наяву. Что я должна сделать с Посланником? Прервать его жизнь?»
«Близится день, когда тебе придется поступить только по своей собственной воле, по велению своего собственного сердца, — изрек дервиш, — ничего не зная о расположении звезд, ибо в тот день наступит долгожданное затмение твоей звезды. Когда Посланник увидит тебя наяву и произнесет приветствие, не торопись с ответом. Запомни, что ты первый раз идешь исполнять свою волю. Исполни ее — и последнее препятствие между сном и явью рухнет. Тогда ты встретишь своего брата».
То, что произошло спустя три дня и три ночи, тебе известно, мой дорогой брат.
— И все же, сестренка, ты поторопилась! — со смехом упрекнул я Акису. — Ты перепутала волю с упрямством, что едва не стоила жизни обоим, а вернее, даже всем троим.
Акиса побледнела и потупила взор.
— Ты, конечно же, прав, мой мудрый и бесценный брат, — покорно проговорила она.
На исходе десятого дня мы достигли ворот Коньи.
Я показал стражникам тангэ, данное мне рыцарем Эдом на подержание. Они мрачно переглянулись между собой, и старший изрек:
— Ты проезжай, а за этого воробья, — и он указал копьем на маленького «герольда», сидевшего позади меня на моем коне, — два дирхема.
— Два дирхема за «Сокола с горы аль-Джуди»! — вознегодовал я. — Да упадет небо на мою голову, если я отдам два дирхема! Ему цена — все золото Египта! Бери коня!
И я потянул за уздечку второго жеребца.
— Коня?! — обомлел привратник. Когда мы въехали в город, Акиса, обернувшись назад, крикнула юношеским голосом:
— В первую стражу мой господин принесет два дирхема и купит твоего коня!
Признаюсь, что так я и поступил, но до того часа произошло еще немало важных событий.
Сначала железный крест Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма разделился надвое, пропуская нас во двор обезлюдевшей капеллы: в кузнице и других службах уже не горело огней, и ниоткуда не доносилось звуков мирного вечера.
— Как здоровье контура? — задал я приору единственный и самый главный вопрос.
— Благодарение Всевышнему, жив, — крестясь и вздыхая, отвечал приор, — жизнь теплится в нем, как огонек на фитиле, но, опасаюсь, мессир, что масла осталось только на донышке.
— Я привез того, кто наполнит светильник до краев, — твердо обнадежил я приора.
— А кто этот человек? — шепотом спросил приор. — Он слишком молод для искусного врачевателя.
— И тем не менее, он — лучший целитель ран, нанесенных в сражениях доблестным рыцарям, — уверил я его.
Фьямметта встречала нас на пороге братского жилища, раскрыв от изумления свой прелестный ротик.
Без всяких слов я дал ей понять, что здесь не место для радостных приветствий, и мы поспешили наверх, в отведенную для Фьямметты келью.
Раскрыв свой прелестный ротик еще шире, Фьямметта наблюдала за тем, как Акиса снимала свой ассасинский тюрбан, обнажая лицо и черное богатство своих волос, украшенных золотыми нитями смерти.
— Знакомьтесь, сударыня, с моей кровной сестрой, — невольно сдерживая улыбку, сказал я.
Ошеломленная Фьямметта переводила взгляд то на Акису, то на ее новоиспеченного братца, то — на мою расцарапанную шею и опухшие губы, то — на украшенный ссадиной лоб Акисы.
— Кровная сестра? — наконец пролепетала она. — Вы никогда не говорили мне, мессер, что у вас есть сестра.
Акиса не понимала по-тоскански, но зато, по старой привычке, быстро, куда быстрее меня, догадалась, что надо делать, и, распустив тесемки аметы, обнажила грудь. Я торопливо задрал вверх свою сорочку.
Тут Фьямметта встрепенулась и обхватила голову руками.
— Вот так чудеса! — радостно воскликнула она.
— Это еще только полчуда, — заметил я, — а настоящее чудо нам только предстоит устроить и — чем скорее, тем лучше.
— Значит, вы, мессер, хотите сразу представить невесту жениху? — озабоченно спросила меня Фьямметта. — Тогда ее нужно поскорее одеть достойным образом. Я думаю, вашей сестре мое новое платье будет как раз впору.
— Какое «новое платье»? — пришла и моя очередь изумиться второй половинке чуда.
Оказалось, что Фьямметта уже успела побывать у венецианских торговцев и — в счет моего годового дохода порядком разорить и без того разоренную капеллу.
Пока дамы, «беленькая» и «черненькая», занимались самыми важными и самыми тайными женскими делами, я проник в оружейный подвал капеллы и не обнаружил там ничего, кроме копий и луков, составлявших обычное вооружение тюркоплиеров. Лук-то мне и был нужен. При свете масляного огонька я тонким каламом начертал на крохотном кусочке пергамента две звезды и два арабских слова: «ЗАТМЕНИЕ МИНОВАЛО». Затем подобрал стрелу с белым оперением и, привязав к ней пергамент, незаметно для приора выбрался на задний двор.
От такой беззлобной лжи, которую вполне можно было бы считать правдивее многих королевских, тамплиерских и ассасинских правд, священный кипарис, как мне показалось, даже не содрогнулся.
Лук я вернул на место и, зайдя на обратном пути к усердно молившемуся приору, еще раз бесстыдно встревожил его сердце, теперь — такими словами:
— Мессир приор, я слышал какой-то стук на заднем дворе, но никого там не заметил. Как вы думаете, что бы это могло быть?
Зато мое собственное сердце едва не выскочило из груди, когда я увидел своих дам, «беленькую» и «черненькую», блиставших красотой и роскошными одеждами.
— Пора, — еле переведя дух, сказал я им. — Комтур, конечно же, услышал, что я вернулся и вернулся в срок. Лишние волнения могут плохо отразиться на его здоровье.
Сдерживая самый греховный смех, мы подобрались к келье умиравшего комтура, и я, гордо и важно распрямившись, вошел к нему твердым шагом.
Рыцарь Эд де Морей был бледен и худ, но я не мог позволить себе никакого сочувствия.
— Брат комтур, я рад, что ты сдержал свое слово, — громогласно изрек я. — Он пришел.
— Кто? — с трудом вздохнув, тихо вопросил комтур.
— Посланный к тебе ангел, — отвечал я.
И с моим последним словом в келье появилась Акиса, накрытая с головы до самых колен легкой пеленою.
Глаза комтура блеснули, и он, в изумлении подняв голову, спросил меня внезапно окрепшим голосом:
— Ангел смерти?
— Его назначение, брат, зависит от твоей собственной воли, — весело проговорил я и быстрым движением сорвал с Акисы пелену.
Комтур содрогнулся. Его лицо внезапно побагровело и покрылось крупными каплями пота. Он откинулся на войлочное подголовье и шумно вздохнул, а вернее зарычал, словно утомленный тяжелой охотою лев.
— Мессир Посланник! — донесся из-за двери испуганный голос приора.
— Мессир приор, прошу вас подождать всего несколько мгновений! — отвечал я ему и, придав себе еще более величественный вид, для чего я даже подтянулся на носках, возгласил: — Ныне ввиду отсутствия Великого Магистра Ордена я, как Посланник Удара Истины и явленный Великий Мститель, волею, данною мне «Священным преданием» братьев, чаявших Истины, объявляю Румскую капеллу Ордена бедных рыцарей Соломонова Храма достойно исполнившей свое предназначение и потому подлежащей окончательному исходу из области временного земного устроения в область вечного духа. Волею Посланника Удара Истины и властью «Священного предания» я объявляю рыцаря Эда де Морея освобожденным от звания комтура Конийской, или Румской, капеллы Ордена Соломонова Храма, а также от обета безбрачия.
— Святые исповедники! — раздался за дверью дрожащий голос приора. — Мессир Посланник, умоляю вас! Великая новость!
— Что ты делаешь, брат?! Что ты делаешь?! — обливаясь жарким потом человека, уже побеждающего смерть, шептал тем временем рыцарь Эд де Морей.
— Волею Посланника Удара Истины, — непоколебимо продолжал я, — объявляю помолвку рыцаря Эда де Морея с госпожой Акисой, урожденной графиней де Ту, принцессой ассасин Черной Молнией, маркизой д'Эклэр.
И с этими словами я наконец совершил то, что мечтал совершить уже много лет: я наклонился и с самым искренним почтением поцеловал самую опасную руку всего поднебесного мира.
— Мессир Посланник! — вскричал за дверью приор, будто ему приставили к шее Большой Зуб Кобры.
— Войдите, святой отец, — любезно позволил я священнику.
Оказалось, что он совсем недавно проявил невиданную смелость: древко белоперой стрелы торчало из его кулака, хотя и трепетало, как огонек свечи на сильном ветру.
— Вот, мессир Посланник! — пробормотал приор, бросая испуганные взгляды то на рыцаря Эда, то на прекрасную Акису. — Священный кипарис вновь принял весть предания.
С самым невозмутимым видом я развернул кусочек пергамента, который был влажен от рук бедного приора, и показал его содержание рыцарю Эду. Тот, услышав о всех титулах Акисы и осознав свое новое предназначение, молча глядел на пергамент и на весь мир, как человек, нечаянно уцелевший при Ноевом потопе и выброшенный волнами на неведомый берег.
— Весть «Священного предания» подтверждает волю Посланника, — как ни в чем ни бывало заявил я. — Все концы сошлись, брат. Ничего не поделаешь.
— Что ты делаешь, брат?! — еще тише прошептал рыцарь Эд де Морей.
Однако я и слушать не желал его причитаний. Я обернулся и хитро подмигнул Фьямметте, которая появилась на пороге кельи, желая засвидетельствовать великое событие, свершавшееся посреди Коньи.
— А теперь, сударыня, — повелительно обратился я к Акисе, — удостоверьте печатью помолвки уста вашего жениха.
Царственной походкой Акиса подошла к ложу рыцаря Эда и, грациозно склонившись над ним, коснулась губами его уст.
— Что-то не верится мне, — с ехидством проговорил я, — что не учили ассасин высшего круга планет убийственным поцелуям гурий.
Тут Акиса вцепилась в рыцаря Эда, как ястреб, и так страстно припала к его устам, что он содрогнулся всем телом и, освободившись на миг, вздохнул с жадностью воскрешенного покойника.
С того дня мой брат пошел на поправку, а на следующий вечер он поведал мне небольшую историю. Она служила как бы окончанием истории, начатой еще в приятном обществе наместника Халдии Льва Кавасита. Мой брат назвал эту историю «не имеющей более никакого значения», но я, стремясь к полноте своего повествования, теперь оставляю ее на пергаменте в виде высохших чернил как
ТРЕТИЙ, ПОСЛЕДНИЙ И САМЫЙ КОРОТКИЙ РАССКАЗ ЭДА ДЕ МОРЕЯ, РЫЦАРЯ ОРДЕНА СОЛОМОНОВА ХРАМА, БЫВШЕГО КОМТУРА КОНИЙСКОЙ КАПЕЛЛЫ
В Акре незадолго до ее падения отец однажды сказал мне:
«Вся моя долгая жизнь и все мои бесконечные странствия убедили меня только в одном: нельзя верить ни королям, ни Папе, ни Великим Магистрам. Все они — невольники какой-то страшной тайны, которой лучше не знать никому из нас, простых смертных. Послушай, сын. Я хочу, чтобы ты отправился в Рум, в Конийскую капеллу Ордена и служил ее цели верой и правдой. Мне открыто „Священное предание“.
Он поведал мне это «Священное предание», и оно, конечно же, показалось мне самой неправдоподобной историей из всех, которые мне были известны.
«Отец! — с изумлением обратился я к своему родителю. — Ты только что сказал, что нельзя никому верить. Как же можно верить этой странной истории? Она похожа на явный обман, на явную ловушку».
«Именно поэтому я и предлагаю тебе поверить в нее всей душой, — проникновенно отвечал отец. — Цель, провозглашенная „Священным преданием“ чиста, как луч солнечного света. Ради этой цели можно жить и умереть. Если „Священное предание“ обернется чистым обманом, то грех останется на том, кто сделал его таковым. Ты же честно исполнишь свой долг прежде, чем предстать перед Высшим Судией. Ты будешь давать ответ за твердую веру и честь, за верность истинному пути, а не за ловушки, которые расставлены на нем злыми силами. Уверяю тебя, сын, нужно верить в Бога, Который на небесах, а на грешной земле не остается ничего, во что можно было бы без оглядки поверить, кроме „Священного предания“, которое вовсе не скрывает того, что в него поверить очень трудно. Я не сомневаюсь, сын, что твой путь должен вести тебя в Конью. Здесь же, в Акре, мы скоро станем свидетелями самого чудовищного обмана со времен Иуды Искариотского. Я не желаю, чтобы ты, мой дорогой сын, стал жертвой этого предательства. Ты совершил еще слишком мало в своей жизни. Достигнув Коньи, ты войдешь в число тех рыцарей, которые останутся ближе к Святой Земле, чем все остальные воины Христовы, принявшие обет Креста и сохранившие свои жизни. Дервиши, которым я доверяю, помогут тебе добраться до столицы Рума».
«Дервиши? — и вовсе изумился я. — Ты доверяешь иноверцам?»
«Я привык доверять тем, — отвечал отец, — кто не пытается стать моей тенью, заговаривая со мной на моем языке и укрываясь тамплиерским плащом».
Спустя три года я стал комтуром Конийской капеллы.
Невеста бывшего комтура Конийской капеллы покинула своего жениха только один раз. Случилось это, когда она узнала, что наши собственные с Фьямметтой странствия должны завершиться последней встречей с дервишем Хасаном по прозвищу Добрая Ночь, которому несомненно было известно мое имя и который несомненно владел моей утраченной памятью.
Она вновь надела ассасинскую амету, взяла коня рыцаря Эда, исчезла и появилась на другое утро.
— Ты говорил, брат, что Хасан Добрая Ночь — из братства джибавиев? — переспросила она и, получив утвердительный ответ, сообщила: — В этом году джибавии будут проводить обряд попирания в Иерусалиме. Это должно случиться в середине следующего месяца.
— Святая Земля! — воодушевился я. — Мне суждено наконец обрести себя на Святой Земле! Добрый знак!
— Прости меня, я не смогу поднять меч и облегчить ваш путь, — сказал мне на прощание мой брат, Эд де Морей. — Мне остается только помолиться за тебя нашему Господу.
— Все рыцари из нашего рода жили долго, — отвечал я ему. — Теперь и тебе остается жить долго и счастливо, брат. Я тоже помолюсь за тебя, как умею.
— Я буду молиться о вас и госпоже Буондельвенто, — сказал на прощание добрый приор.
— А у вас, брат приор, в ближайшие дни будет много богоугодных хлопот, — сказал я ему.
— Ассасинам запрещено возносить молитвы, — сказала Акиса, прощаясь с нами последней. — Но я тоже помолюсь за ваши жизни тому Богу, Которому повелит мне молиться мой будущий муж.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЕГИПЕТСКИЙ СУЛТАНАТ МАМЛЮКОВ. ПАЛЕСТИНА
Лето 1314 года
Разогретые жарким солнцем холмы Святой Земли трепетали и переливались, как волны небывалого золотистого моря, и на этих волнах мерно покачивался вдали, подобно ковчегу, благословенный Иерусалим.
Не привыкшая к такому властному зною, моя светловолосая Фьямметта целыми днями пряталась в душном сумраке повозки и обмахивалась страусиным веером, еле шевеля то одной рукой, то другою.
— Только одно воодушевляет меня, — говорила она, так же едва шевеля губами. — То, что мы достигли Святой Земли, где жил и страдал Спаситель. Я надеюсь, что здесь мои молитвы будут услышаны быстрее, и Христос подвигнет вас, мессер, скорее принять таинство крещения. Тогда, наконец, мы сможем стать мужем и женой по закону.
Признаться, еще добрый приор Конийской капеллы уговаривал меня принять крещение, но я оставался упрям: я хотел во что бы то ни стало узнать поначалу свое имя. К тому же, если бы дервиш назвал его мне, то, окажись оно христианским, это имя означало бы, что я уже был крещен в прекрасной Флоренции и потому в повторном, третьем уже по счету рождении, как бы лишающем всякой законной стоимости мою утраченную память, вовсе не нуждаюсь.
Провидение благоволило нам. Еще в Конье, накануне отъезда, мы случайно повстречались со старым знакомым, армянским купцом Варданом. Он как раз собирался в Палестину и с радостью взял нас с собой, хотя, взглянув на мою светловолосую невесту и выразив на ее счет всякие опасения, долго качал головой.
В дороге они часто беседовали между собой, и уже в предместьях Иерусалима, совсем замученная жарой, Фьямметта тихо пожаловалась многомудрому Вардану на мое упрямство в решении самого важного дела.
— Не слишком сетуйте, сударыня, — успокоил ее торговец. — Принять крещение, а затем вступить в законный брак посреди земель, захваченных неверными, — это такой подвиг, который можно вполне приравнять к Крестовому походу.
Его караван остановился у Яффских ворот Святого Города, и он, отправившись в него, вернулся в тревожном расположении духа.
— Обстановка в городе неблагоприятна, — сообщил он нам. — Наместник неделю назад поднял втрое залоги на всех находящихся в плену христиан. Это значит, что всех приезжающих в город иноверцев, в том числе и свободных торговцев, могут ожидать неприятности. Я опасаюсь, что все мои повозки подвергнутся тщательному обыску, и, если эти варвары увидят такую красавицу, которую слишком трудно выдать за татарскую служанку, то я никогда не прощу себе ту опрометчивость, с которой я отозвался на вашу просьбу. Мой старый приятель, купец Сулейман из Басры, стоит сейчас со своим караваном у Ворот Источника. Я поговорю с ним. Он — честный человек и не откажется помочь. Я полагаю, что безопасней всего вам будет проникнуть в город под видом христианских невольников Сулеймана, которого знает наместник.
Так мы с Фьямметтой, сменив одеяния, стали «рабами» Сулеймана из Басры. Однако, едва оказавшись внутри городских стен, торговец Сулейман тоже тревожно нахмурил брови.
— Кто-то напугал наместника ассасинами из Персии, проникшими в Иерусалим вместе с какими-то торговцами, — сообщил он нам, ненадолго отлучаясь. — А я как раз везу оттуда лучшие беширские ковры. Опасаюсь, что все мое имущество будет тщательно обыскано, и вас могут ожидать неприятности. Есть у меня один знакомый, лекарь Авраам, который однажды вылечил меня от язвы на ноге. Он — добрый человек. Его несомненно оставят в покое. Я поговорю с ним, и, полагаю, он не откажется укрыть вас в своем доме хотя бы на один день и одну ночь.
Так мы оказались в доме лекаря Авраама, который, действительно, оказался добрым человеком. Однако и этому доброму человеку мы доставили недобрые хлопоты. Вернувшись под вечер с базара, он долго вздыхал, а потом поведал нам, что всем иудеям предписано три дня не выходить из дома, потому как наместник, подобно царю Ироду, затеял их перепись.
— Мне известен только один человек, который при нынешних обстоятельствах сможет безнаказанно укрыть вас, — сказал лекарь. — Этот человек — иерусалимский патриарх христиан. Мы с ним оба — гонимые люди, патриарх и старый Авраам, потому мы всегда безо всякой корысти оказывали друг другу посильные услуги. Недавно патриарх сумел вернуть мамлюкам нескольких знатных мусульманских пленников, попавших в руки ваших единоверцев, а потому он теперь выгодно пользуется недолговечным расположением наместника. К тому же его храму до конца года дано право неприкосновенности укрывшихся в нем людей. Я поговорю с патриархом.
Незадолго до полуночи мы, долго пропетляв по каким-то тайным улочкам Иерусалима, оказались перед домом патриарха. Высокий человек в черной рясе встретил нас в воротах и сообщил, что патриарх благоволит оказать нам помощь, но сделает это только в том случае, если нежданные гости исповедуют веру Христову.
Впервые за день Фьямметта вздохнула с облегчением. Это случилось, когда я сказал, что готов немедленно принять крещение и при том — вовсе не из страха перед опасностью.
Но едва мы ступили на порог, как я вдруг услышал стук копыт и невольно оглянулся.
Вдали, на перекрестке, слабо освещенном факельным огнем откуда-то со стороны, я вдруг заметил на стене, покрытой известью, темную тень коня, а затем — и самого всадника, появившегося между двумя другими стенами улицы всего на одно мгновение.
Я так и остолбенел.
Я мог поклясться, что увидел на коне не кого иного как самого дервиша Хасана по прозвищу Добрая Ночь.
— Это он! — воскликнул я. — Дервиш Хасан!
— Темно. Вы могли ошибиться, мессер, — затрепетав, вымолвила Фьямметта.
— Это он! — ни на миг не усомнился я. — Любовь моя, ждите меня здесь. Нельзя упустить его. Я вернусь тотчас же.
— Мессер! — донесся до меня полный страдания голос Фьямметты, когда я уже успел достичь перекрестка.
Оттуда, кроме тревожного возгласа Фьямметты, я услышал только удалявшийся стук копыт и бросился за ним вдогонку. Так, на слух, я петлял по улочкам Иерусалима до тех пор, пока в ночном эфире не растаял последний след таинственного всадника. Теперь только громко стучало мое сердце, а сам я, привалившись к ближайшей стене, предался грусти и отчаянию.
Но внезапно над моей головой, подобно гулу ветра в ущелье, раздался гул голосов:
— Алла хайй! Алла хайй!
Я встрепенулся и, оглядевшись, увидел, что над стеной, которая только что служила мне последней опорой, вздымается в ночное небо багровое зарево.
Ящеркой я взлетел на стену — и тогда моему изумленному взору открылась страшная и величественная картина дуса, или попирания. Освещенная факелами площадь была плотно уложена живыми, сально блестевшими телами, и дервиш-джибавия Хасан Добрая Ночь уже неторопливо двигался на своем черном жеребце по спинам своих покорных учеников. Здесь, как догадался я с первого взгляда, еще никто не стал жертвой, раздавленной тяжелым копытом, и черный жеребец, осторожно продвигаясь по кругу, уже приближался к самой сердцевине этого телесного единства ордена джибавиев.
И тогда я, повинуясь неожиданному порыву души, спрыгнул вниз, на площадь, и, легко перескакивая через лежавших последователей суфийского учения, в два мгновения достиг той сердцевины, где оставалось одно неживое место — голые мраморные плиты, предназначенные для последнего шага коня и остановки шейха, которая должна была свидетельствовать об окончании обряда.
Я лег прямо на это место — лицом вверх, в отличие от всех джибавиев. Я увидел полное звезд небо, которое тут же затмилось тяжестью огромного тела. Я увидел лицо дервиша: его мудрые глаза, его полную благости и добродушия улыбку, освещенную багровым светом факелов. И вот я увидел огромное копыто коня, украшенное зловещей железной «омегой».
И тогда я вдруг вспомнил святого отца Угуччоне Лунго и сделал то, что он советовал делать в таких случаях: я призвал того Бога, Которого знал по имени, как простого смертного.
И страшная тяжесть, обрушившаяся на мою грудь, словно бы проломила не только мои ребра, хребет, и всю насквозь мою жизнь, но даже мраморные плиты подо мною. И я рухнул вниз, в бездонный колодец забытья.
СВИТОК СЕДЬМОЙ. НЕВЕДОМОЕ МЕСТО
Неизвестное время
Свет солнца, появившегося из-за горных вершин, так нестерпимо слепил глаза, что я не только опустил веки, но еще и невольно загородил их рукою.
«Вот еще одно затмение», — безо всякой грусти подумал я, с легкой и ничем не объяснимой радостью вдыхая прохладный утренний эфир.
— Какое доброе утро, — раздался позади меня тихий старческий голос, который я не мог не узнать.
— Здравствуй, ведающий все пути, — сказал я, повернувшись спиной к востоку и смело позволив глазам увидеть то, что им видеть было по силам.
Как обычно старый дервиш сидел в десяти шагах от реки, рядом с маленьким, едва теплившимся дорожным камельком и своим медным чайником, блестящий бок которого, как мог, подражал солнцу.
— Здравствуй, славный истребитель драконов, — отвечал шейх джибавиев.
Он сидел неподвижно, плотно закутавшись в свой священный плащ, и, говоря со мною, казалось, продолжал дремать.
— Я исходил весь свет, но нигде так и не пригодилось мое ремесло, — заметил я.
— Как знать, — отвечал старец, так и не поднимая на меня глаз. — Может статься, только потому что ты, мой храбрый эмир тысячи дорог, научился побеждать драконов, они и не появились на земле. Обычно в своем небытие они обладают прекрасным чутьем того, можно ли безнаказанно проявлять свою силу или пора еще не настала.
— Ты всегда говорил загадками, глас мудрости, — не сдерживая своего недовольства, изрек я. — Ключи к дюжине замков мне удалось найти самому. Но сегодня я пришел к тебе, визирь горы аль-Джуди, за ключом, который принадлежит мне по праву и который ты хранил бережней всех прочих, за что и возношу тебе самую искреннюю благодарность.
— Ты пришел за именем, — промолвил дервиш таким голосом, каким более не задают никаких загадок. — Чтобы снять этот ключ со связки, придется долго и внимательно перебирать все остальные. Я думаю, что у меня хватит сил сделать это, если ты поможешь мне, мой настойчивый следопыт Истины. Дай мне питья.
Немедля я подошел к дорожному камельку странника, испускавшему едва приметный дымок, налил в плошку из медного чайника горячего настоя каких-то душистых трав и поднес питье старцу.
Только теперь я заметил, что цвет его лица ничуть не живее окружавшей нас каменистой земли, а щеки так иссохли, что обтягивали скулы, подобно пергаменту.
— Тебе плохо, Учитель? — с сокрушенным сердцем спросил я.
Дервиш с трудом улыбнулся, словно боясь, что пергамент на скулах может порваться, и сказал:
— Ко мне такой вопрос не может теперь относиться. Его следует задавать разным частям и составам по отдельности — душе или телу, печени или желудку. Наступает день, когда все части должны разъединиться, чтобы вскоре соединиться вновь в единстве стихий — земли и воды, воздуха и огня. С каждым мгновением число отдельных частей в моей разъединяющейся целостности становится все больше, и задавать вопросы каждой из них означает потерять слишком много времени, все еще драгоценного для тебя, мой славный ловец звезд на утреннем небе. Итак, вернись к тому, за чем ты пришел. Ищи только там, где светлее. Вопрос, с которого надо начать: кто был настоящим отцом Умара ибн Хамдана аль-Азри. Задай его мне — и ты попадешь прямо в цель.
Руки дервиша были так слабы, что я помог ему поднести плошку к губам. Когда он осилил пару глотков и дал мне понять, что можно оставить плошку, я сел рядом с ним на землю и спросил:
— Кто же был настоящим отцом Умара ибн Хамдана аль-Азри?
Дервиш снова ласково улыбнулся и тихо ответил:
— «Молчащий последователь», доблестный франкский воин Рубур.
— Робер де Ту?! — вскричал я, едва не лишившись чувств.
— Так именовался он у франков, — подтвердил дервиш.
— Как же это могло случиться? — не в силах привести свои мысли в порядок после такого ужасного вихря, вымолвил я.
— Разве так трудно догадаться? — с некой тенью удивления сказал дервиш. — Множество вещих снов дается человеку, лишенному памяти. За полтора десятка лет до похода на столицу греков Рубур был пленником Салах ад-Дина. Он пришел завоевать Палестину вместе с тремя королями полуночных стран. В отличие от королей, ему удалось достичь Иерусалима, но местом его пребывания стала не крепость, некогда воздвигнутая его предшественниками на развалинах Соломонова Храма, а темница аль-Баррак.
— И вскоре в той темнице, согласно вашему замыслу, появилась красавица-аравийка, — не утерпев, продолжил я рассказ дервиша. — Вполне вероятно, что она была глухонемой, и также вполне вероятно, что она носила имя Гюйгуль.
— Не совсем в темнице и не совсем уж по нашему замыслу, — отвечал шейх джибавиев, — но в остальном ты, меткий истребитель теней, с лихвой покрыл свою былую недогадливость. Теперь ты увидел необычайное древо твоего рода. Возьми палочку и начерти на земле расположение всех ветвей и плодов. Тогда твоим глазам откроется еще более удивительное чудо.
Я последовал указанию старца и, вычертив на земле родовой узор, различил скорее не древо, а цитадель:
— Итак, у пяти потомков по мужской линии, — продолжал дервиш, — также всего пять потомков. Для полного соответствия с изначальным планом твоя сестра, мой юный погонщик замыслов, должна была родиться мальчиком, однако, по всей видимости, невольница Гюйгуль чем-то очень напоминала отважному Милону его собственную мать. Тот франк в черном плаще, с которым ты имел беседу на Родосе, недалек от истины: даже рабом, несущим носилки своего господина, могут, двигать вовсе не те причины и силы, которые можно заметить при первом взгляде. Теперь я открою тебе, зодчий вещих сновидений, одну тайну: главных рычагов в этом механизме тоже пять, причем два последующих рычага лишь повторяют действие предыдущих, или наоборот. Теперь попробуй соединить эти рычаги в единый механизм.
И тут я догадался, почему могли умереть все, кроме нас с Тибальдо Сентильей.
Я провел новые линии, и на земле появился узор, магическая сила которого была известна всем посвященным от гор Куньлуня до холодных берегов полуночных царств:
— Ты попал в цель, великий стрелок земли и гор! — казалось, оживившись на одно мгновение, громко изрек дервиш. — Звезда царя Сулеймана, или, как именуют его в полуночных странах, Соломона. Знак и оружие власти над стихиями неба и земли.
— Рыцарь Эд де Морей и Акиса Черная Молния должны были убить друг друга, — проговорил я, разглядывая «рычаги» этой немыслимой ловушки, явно расставленной для каких-то надмирных духов, или, как я подумал вначале, для тех «ангелов», которым поклонялись ассасины. — Я должен был убить Акису. Тибальдо Сентилья должен был убить Эда де Морея. Возможно, Эду де Морею было назначено убийство своего брата Иоанна, родившегося, как и он на земле русов. Кто-то мог подбить его на это злодеяние, опоив каким-нибудь колдовским зельем. В конечном итоге должны были остаться только двое. Может быть, эти ужасные события еще впереди. Вам нужно, чтобы мы стали подобием детей Адама и Евы, подобием Авеля и Каина. Ради чего?
— Ты прозреваешь большую глубину, искатель духовных жемчужин, — проговорил дервиш. — Так могло случиться, и уже случилось бы. Но итог — здесь. Ты сидишь на этом месте, и подаешь мне чашку с живительным питьем. Это — уже полезный итог. Но времена Авеля и Каина миновали. Если бы в твоем роде брат должен был убить брата, убийство произошло бы неотвратимо. Тем не менее, по твоей воле все живы и, как говорится в добрых преданиях, «живут долго и счастливо». Значит, главное действие рычага следует искать в другом. Хотя отчасти ты прав: при первом же взгляде на этот узор легко определить, что механизм мог быть приведен в движение только после смерти брата франкского воина. Этот рус как бы нарушал внешнюю, явленную гармонию узора.
— Мой брат, монах Иоанн, уже умер? — невольно вопросил я.
— Умер, — подтвердил Хасан Добрая Ночь, ничуть не пожурив меня за излишний вопрос. — Умер в своих далеких землях, своей собственной, вполне блаженной смертью, дожив до вполне почтенного возраста. Как легко догадаться, это вполне радостное для него событие произошло в день нашей первой встречи.
— Насколько я способен уразуметь, этот невиданный механизм, изобретенный вашим братством, стоял в бездействии со дня моего рождения до дня смерти моего далекого брата Иоанна, — заметил я, — то есть восемнадцать лет, годом больше или меньше. Однако на его постройку ушло больше столетия. Вы создали франкский Орден Соломонова Храма или его видимость, вы соединили его причудливыми перекладинами с братством ассасинов, вы связали их крепкими веревками флорентийской торговли. О всяких диковинных узлах, крючках и колесах я и говорить не стану, поскольку ничего о них не знаю. И весь этот великий механизм понадобился только для того, чтобы в урочный час я поднес тебе, мой дорогой Учитель, плошку с горячим питьем.
— Ты не растерял по дороге жемчужин своего остроумия, Посланник, — слабо улыбнувшись, проговорил шейх джибавиев. — Но я надеюсь, что ты хорошо знаешь стоимость этих жемчужин и не попросишь за них цену ограненных алмазов. Если бы все великие деяния, о которых ты упомянул, были бы действительно совершены нашим братством, то оно перестало бы таковым быть, совершенно превращаясь в невидимую стихию. Ассасины, стремящиеся к ангелоподобию, несомненно позавидовали бы нам, и все, от шейхов до низших фидаинов, стали бы дожидаться, смиренно стоя на коленях перед нашими вратами, того часа, когда их впустят внутрь. Между тем, зная истинную цену человеческой воле, мы всегда старались оставаться простыми смертными. Могущество подобно змее; всякий заклинатель змей знает, что обладает опасной собственностью. Лучший способ уберечь себя от смертельного укуса собственного могущества — это вырвать из него все ядовитые зубы и, значит, лишить его истинной силы. Даже разбойники, собравшиеся ограбить тебя, будут издали опасаться змеи, лежащей у твоих ног, хотя и начнут успокаивать себя тем, что, возможно, она уже лишена своего оружия.
— Признаюсь, Учитель, я мало что уразумел из твоей многомудрой речи, — вымолвил я, как только дервиш замолк, чтобы перевести дух.
— Это случилось оттого, что ты снова, как и в годы своей юности, торопишься догадаться обо всем сразу, — без гнева отвечал дервиш. — История еще не начиналась. Я только приступаю к ней. Потерпи немного и узнаешь, что позволило тебе сделать вовремя такое доброе дело, как позаботиться о не имеющем крова старике в день его кончины.
И тогда дервиш стал неторопливо раскрывать древние тайны, которые и сложились теперь, в конце моей летописи, в
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДНИЙ РАССКАЗ ХАСАНА ДОБРАЯ НОЧЬ, ШЕЙХА СУФИЙСКОГО БРАТСТВА ДЖИБАВИЕВ
Древнее предание гласит: однажды таинственный и бессмертный покровитель дервишей Хидр явился сразу двенадцати шейхам разных суфийских братств, которые в тот день пребывали на разных концах земли. Он открыл им, что недалеко время, когда в полуночных странах поднимется буря, и та великая буря обрушится на благословенные земли Востока.
«Что же нам делать, чтобы избежать этой беды?» — вопросили шейхи.
«Зачем избегать бури, если можно использовать ее силу на свое же благо? — со смехом отвечал вопросом на вопрос мудрый Хидр. — Можно даже обратить ее вспять некой силой, имеющей противоположные свойства. Но стоит ли с помощью конницы разгонять тараканов? Вот дело достойнее: взнуздав эту чужеродную силу, возможно овладеть гармонией стихий, соткать из них драгоценную пелену и, как легкий полог поднимают на шестах над местом дневного отдыха каравана в пустыне, так возможно и смертных привлечь под пелену рукотворной гармонии стихий. Увидев спасительную тень в пустыне, все поспешат в это благословенное место, которое станет царством истинного блаженства».
«Каким же образом нам следует использовать силу бури?» — задали шейхи новый вопрос.
«Вы — мудрость мира, используйте силу вашего рассудка, изучите свойства противодействующих сил, — уклончиво отвечал Хидр. — В одном помогу я вам — в закладке фундамента, а стену вы будете возводить сами. Великие умы Китая в продолжении десяти тысячелетий искали состав гармонии стихий и нашли его поднебесное отображение в глубине чистых вод, в брачной игре двух маленьких рыбок».
С этими словами Хидр достал чернильницу, калам и чистый лист китайской бумаги и быстрым движением руки вывел на нем удивительный рисунок:
«Пусть будет одно хорошее царство с плохим правителем, который по своей природе окажется добрым человеком, — продолжал Хидр, — и пусть будет другое царство — с дурными подданными, но хорошим правителем, который может оказаться злодеем. Наконец свяжите эти царства между собой одним человеком, одним Посланником, принадлежащим обоим царствам и остающимся подданным двух правителей, сообщив ему всю силу бури, и тогда стихии, властвующие смертными, подчинятся вашему действию. Таков образец использования противодействующих сил».
Вот что сказал Хидр шейхам три века тому назад.
Хасан Добрая Ночь протяжно вздохнул и вдруг задрожал всем телом, как будто от сильного холода. Я поспешил вновь поднести к его губам плошку с горячим питьем.
— Первое царство могло быть Румом, который мне привиделся во сне, — как бы самому себе тихо проговорил я, пока дервиш сидел в молчании, впитывая своими стынущими жилами тот живительный настой. — Вторым, как я понимаю, можно было избрать или Французское королевство, или Флоренцию в день Золотого Осла, когда ею правил разбитной ослиный Папа.
— Не торопись с третьей догадкой, мой таинственный делатель царств, — донесся до меня голос дервиша, который продолжал сидеть с закрытыми глазами. — И уверен ли ты, что король франков и кривой лудильщик были истинными злодеями?
— Нет, не уверен, — отвечал я.
— Тогда ты можешь смело считать, что видел сочетание двух царств с противодействующими силами, — сказал дервиш и продолжил свой рассказ.
Когда буря, поднявшаяся в полуночных странах, двинулась в сторону Палестины, мы стали изучать силу этой бури. Воинство железных храбрецов пророка Исы на три четверти состояло из последышей, младших братьев, которые, согласно наследному праву, были лишены земель и могущества в пользу первенцев, то есть своих старших братьев. Некогда, подобно хищникам, они сбивались в стаи, ища службы у разных правителей, а порой слонялись из одной стороны в другую, наводя страх на свой же народ и вызывая беспокойство во дворцах и замках. Тогда мудрецы тех стран и нашли вполне достойное приложение этой необузданной силе, направив ее в дальний конец поднебесного мира.
Какой противодействующей силой иного свойства могли мы пропитать этот поток, дабы он затвердел на месте или, напротив, обратился бы в невесомый пар? Младшие сыновья стали воинством безродных отщепенцев. Следовательно, нам предстояло создать внутри этого воинства род, отличающийся особо крепкими кровными связями и к тому же состоящий из полукровок. В этом воинстве была достаточной сила оружия, а порою — и сила высокого духа. Значит, нам предстояло использовать силу земной любви.
То был нелегкий замысел. Мы терпели неудачи — одну за другой — до тех пор, пока в захваченном франками Иерусалиме не стали появляться воинские братства. Поначалу мы обратили внимание на «черненьких», но их истинная сила стала быстро иссякать в дележе прав, земель и недвижимого имущества. Но вскоре появились девять доблестных воинов, сила отваги и мощь духа которых едва ли не превосходила силу всей бури, обрушившейся на Восток.
И как только этот вихрь поднялся над развалинами Соломонова храма, мы тотчас же применили недостающие противосилы, кои, в отличие от родовых связей, можно было применить незамедлительно: золото и ассасин, которых пора было вытянуть из их горных нор приманкой несбыточной власти.
Однако затем мы в продолжение долгих лет тщетно подыскивали основателя рода, который бы соединил все противодействующие царства и ордена, став тайным Орденом крови. Одни избранники внезапно заражались проказой, другие гибли в сражениях, третьи не обладали той неукротимой силой земной любви, которая могла бы скрепить родовые связи хотя бы на три поколения вперед.
И тогда, как повествует предание, таинственный Хидр явился вновь и сказал:
«Вы тщитесь все рассчитать и предсказать заранее. Гармония стихий не терпит расчета. Вы повторите судьбу древних жрецов, которые наконец точно рассчитали движение всех небесных светил — и в тот же миг небеса обрушились на их головы, отчего и случился великий потоп. Пути дальнейшего претворения вашего замысла должны стать непредсказуемы, тогда у вас останется надежда достичь искомого».
«Как же управлять, не управляя?» — задумывались шейхи, но Хидр более не давал ответа.
И вот вспомнили о двух событиях, происшедших много веков назад, еще во времена праведных халифов.
Однажды некий отшельник, который по старости уже начал терять память, нашел терновый куст, ягоды которого были на удивление сладкими. Чтобы не забыть этого места, он выдолбил на камнях большими буквами слова «СЛАДКИЙ ТЕРН», которые можно было увидеть из хижины, стоявшей в стороне, в четырехстах шагах. Случилось так, что куст вскоре засох, а отшельник умер. Какой-то человек, попавший затем в эти края и заметивший надпись, долго ломал голову над тем, что бы она могла означать. Он так и не разгадал ее смысла и был этим очень раздражен. Увидев змею, проползшую около его ног, он не нашел ничего лучшего, как только высечь на камнях надпись «ПОГАНАЯ ЗМЕЯ», и, видимо, успокоив свое сердце этой нелегкой работой, удалился. Затем какой-то глупец, бродивший по горам, присел отдохнуть около надписей и, громко пустив ветры, решил увековечить свой подвиг подобающим письмом. Так, менее, чем за полстолетия, на вечных скалах появилась загадочная книга, которую стали использовать для различного рода гаданий, а затем скала с надписями стала местом паломничества, где, как утверждают, даже происходили чудесные исцеления. Такова первая история.
В те же времена один недобрый человек, желавший подшутить над соседом, разыскал кусок редкого халдейского пергамента, на котором написал следующее: «ПРОКАЖЕННЫЙ МАГРИБИНЕЦ НЕ ПРИДЕТ К ТЕБЕ В ПОЛНОЧЬ, ЕСЛИ ТЫ СТО СОРОК СЕМЬ РАЗ ПЕРЕПИШЕШЬ ЭТИ СЛОВА НА СТО СОРОК СЕМЬ КУСКОВ ПЕРГАМЕНТА И РАЗБРОСАЕШЬ ИХ НА БАЗАРАХ». Затем он подбросил это письмо соседу в окно. Тот, будучи весьма рассудительным торговцем, хотел поначалу выбросить глупую записку, но затем почувствовал на душе некую смуту. Противясь искушению, он две ночи провел без сна и наконец сдался. Утром третьего дня он разогнал всех своих домочадцев, переломал со злости десяток каламов и, изведя две полных чернильницы, избавился раз и навсегда от непрошеного гостя, хотя и направил его в десяток других городов и полторы сотни чужих домов. У многих людей хватило душевных сил победить эту страшную тень; многие письма пропадали, не доходя до глаз невольных читателей; и все же число прокаженных магрибинцев, являющихся без спроса посреди ночи, выросло с тех пор до размеров самого грозного в мире войска, и доныне ходят слухи, что некоторые бедняги, получив письмо от магрибинца, вскоре заболевали проказой.
Мы воспользовались услугами того страшного Магрибинца. Он-то и написал на листе самого ценного халдейского пергамента «Священное предание», которое оказалось потом в руках наиболее достойных и разумных воинов, носивших белые плащи с алыми крестами. Он насадил в потайных дворах капелл и цитаделей священные кипарисы, которые становились мишенями для его стрел. Каждая из таких стрел, подобно гонцу, несла загадочное послание, содержавшее одно из слов с горы Сладкого Терна. Он же, тот неуловимый полуночный Магрибинец, отлил волшебную золотую голову и научил пользоваться ею ассасинов, а затем выточил самое непобедимое оружие — Удар Истины.
Мы передали Прокаженному Магрибинцу власть над всеми событиями и обстоятельствами, и даже сами как бы стали его верными слугами, выбирая жребием ночь, когда священному кипарису настает пора принести плод в виде священной вести.
Бессмысленные повеления и слова, разбросанные по базарам, как ни странно двинули события в благоприятном для нас направлении и причем уже тогда, когда Палестина была освобождена Салах ад-Дином, а сила новой бури начинала созревать за морем, в полуночных странах, та сила, которая была необходима нам для покорения стихий мира.
И вот короли полуночных стран снова двинулись на Палестину, но не сумели достичь Иерусалима, зато мы получили достойного основателя Ордена крови, отважного и страстного воина Рубура. В битве под Арсуфом он прикрыл от удара копья короля норманнов и саксов, носившего прозвище Львиное Сердце, а затем бросился в одиночку против целого войска самых грозных львов Салах ад-Дина, был ранен, пленен и стал одним из немногих франков, которые все же достигли цели своего похода, а именно — стен Святого Города.
Несколько лет он провел в сумрачной тесноте аль-Баррака, тщетно дожидаясь выкупа, но не пал духом, что и привлекло к нему наши взоры. Наконец, помня о доблести Рубура, Салах ад-Дин смилостивился над ним и позволил жить в городе наравне с его свободными обитателями, взяв с него слово не совершать попыток к бегству. Проходили годы, а франкский воин даже после смерти великого Салах ад-Дина продолжал честно держать свое слово, каждый раз возвращаясь ночевать в подземелья аль-Баррака. Дважды греческие торговцы предлагали ему помощь в деле бегства, надеясь на последующее вознаграждение, и дважды он отвечал отказом. Когда же в Иерусалиме случилось сильное землетрясение, он мог и сам, без чужой помощи, покинуть город, однако предпочел остаться и спасать погребенных под развалинами людей. Тогда мы решили, что этот человек несомненно подходит для великого дела.
Один сирийский торговец, наш последователь, предложил Рубуру свой дом для ночлега. Там он познакомился с дервишами и постиг некоторые основы нашего учения. Пищу ему носила глухонемая служанка торговца. Однажды Рубур, выпив сладкого вина, принесенного ею, не выдержал ее молчания и, дерзко подняв полог ее хиджаба, был поражен чертами безмолвной красавицы. Сам воин Рубур был статен и красив лицом, и не будет ошибки сказать, что между ними возникла взаимная и никакими законами не удержимая страсть.
Затем в Иерусалиме появился некий флорентийский торговец из дома Ланфранко, который издавна вел торговые дела на Востоке. Он предложил эмиру хороший выкуп за воина Рубура, но сам Рубур, на удивление эмира вновь ответил отказом. На прямой же вопрос о причинах такого странного решения воин Рубур отвечал, что хотел бы, с позволения торговца, передать эти деньги на выкуп глухонемой служанки Гюйгуль, а деньги же на собственный выкуп, в том же размере, он, несмотря на свое высокое происхождение, готов заработать собственным трудом или же — что более подобает его достоинству — мечом, если только этот меч не придется направлять против своих единоверцев.
Для основания Ордена крови воин Рубур подходил как не кто иной.
За три месяца до рождения первенца Рубура хозяин дома направился по делам в Наблус, прихватив с собой и служанку, но вернулся обратно без нее, без товара и в порванных одеждах. Оказалось, что он подвергся нападению каких-то свирепых кочевников, которые вместе с другим имуществом похитили и служанку.
Воин Рубур сильно горевал, но делать было нечего, и спустя еще год он, не дождавшись никаких вестей о своей возлюбленной, согласился на выкуп, а, вернувшись в свое государство, покрыл себя белым плащом братства Соломонова Храма, понуждавшим его владельца к безбрачию.
Выкуп был пущен в выгодный оборот и спустя годы составил часть богатства, переданного нами его сыну, который, родившись уже в Египте, получил имя Умар и был усыновлен одним из султанских сановников, который также был нашим последователем.
Сила крови воина Рубура была так велика, что его сын, ничего не зная о своем истинном отце и к тому же без всякого принуждения с нашей стороны, едва ли не повторил в точности судьбу своего отца.
Судьбы всех остальных потомков воина Рубура тебе уже известны, мой упорный собиратель имен. Все эти судьбы имели между собой много сходства.
— Все, кроме моей собственной, — без малейшего сомнения заметил я.
— Воистину твоя догадливость превосходит по ценности твою утраченную память, султан прорицателей! — усмехнувшись, проговорил старый дервиш. — Надеюсь, ты так же легко догадался, почему Посланником суждено было стать тебе, а не твоему брату-флорентийцу.
— Египетское наследство? — предположил я.
— Верно, странствующий налегке, — кивнул дервиш. — Богатство висело на его ноге, как железная гиря невольника. Теперь осталось только рассказать о назначении и судьбе Рас Альхага, а уж об остальном ты успеешь догадаться сам, даже если я не успею ответить на твой последний вопрос.
Всякий Орден зиждится на собственных камнях. Всякому Ордену приходится возводить собственную цитадель. И кто, как не Прокаженный Магрибинец, мог избрать лучшее место для твердыни, откуда надлежало прийти в мир Посланнику Истины?
Этой крепости предстояло стать легендой в самый кратчайший срок. Эта крепость должна была сниться тем, кто готовился жить надеждой на приход Посланника. Надежда — самая далекая и призрачная цитадель сновидений: она стоит среди облаков, на краю далеких, неведомых земель, на краю чужой веры.
Именно по этой причине в день пробуждения Посланника, в ней не должно было остаться ни одной живой души.
Когда умерла Иоланда, а твой дед вместе с твоим отцом двинулись по велению «священной вести» на войну с утвердившимися на поднебесной тверди ассасинами, Орден крови покинул затерянную среди облаков крепость.
Для укрепления легенды в крепости потом осталась некая тень беспорочного братства Соломонова Храма: на протяжении четверти века в ее стенах обитали бангариты, безымянные воины в белых плащах с алыми крестами. Сами «освобожденные от тени», они были совершенным созданием ас-Сабаха: люди без родины и без имен, они легко перевоплощались в кого угодно, до последних глубин памяти, до последней буквы обычая или устава. Ас-Сабах получил за них от Прокаженного Магрибинца волшебную голову, отлитую из золота. Эти полулюди-полудухи населяли Рас Альхаг, творя разные подвиги и укрепляя легенду.
«Скажи, око мудрости, можно ли найти хоть одного властителя, которого вам так и не потребовалось опутывать обманом?» — хотел было я задать вопрос дервишу.
— Обманом именуется явление, когда заведомо несбыточную надежду объявляют единственно верной целью, — проговорил дервиш. — Разве надежда, которую мы отдали в мир, была такой уж несбыточной?
Я заметил, что подвигаюсь к старому шейху все ближе и ближе — то означало, что все тише и тише становился его голос. Продолжая рассказ, он терял силы.
— Как он вышел, мне известно, — сказал я чуть погодя, внезапно уяснив, что дервиш окончил свой рассказ, начатый некогда в туркменском шатре. — Я хочу узнать, как он вошел.
— Эта история гораздо короче, — прошептал дервиш. — Я принял тебя на руки и отдал ассасинам. До пятнадцати лет ты пребывал вдали от своей сестры: тебя воспитывал в горах Персии один из лучших учителей перевоплощения, помнивший самого ас-Сабаха. Затем в продолжении одного года тебя испытывали в нашем братстве джибавиев, где ты был подготовлен к обряду попирания, и еще два года ты провел в одном из замков тосканского государства, где был принят сразу во «внутренний круг» Ордена Соломонова Храма. Тебя посвятил в воины Соломонова братства тот самый рыцарь высших степеней, кости которого ты, в соответствии с его завещанием, перенес с одного места на другое. Наконец ты был отправлен в Рас Альхаг, и на одной из дорог, около бурной реки, я нашел тебя.
— Значит, я так и не достиг ворот Рас Альхага? — вопросил я старца.
— Но твоя душа достигла той цитадели, — отвечал дервиш. — Ты свершил первое деяние Посланника — соединил сон с явью, ты вырвал ядовитый зуб из пасти рока. Стихии были готовы соединиться под твоей властью — и тогда блаженство разлилось бы по миру. Блаженный сон объял бы страждущих и обремененных. Жадность, тщеславие и прочие пороки нашли бы свое полное воплощение в приятных сновидениях, а потому в том мире, в котором можно по-настоящему упасть и разбиться, эти пороки перестали бы таить опасность, потеряв свое явное значение.
— Не стало бы и человеческих грехов, — прозрел я замысел мудрецов или самого Хидра, их таинственного покровителя.
— Простая, чистая мысль, зиждитель Истины, — едва слышно подтвердил шейх джибавиев. — Даже убийство не стало бы злом, ибо во сне все оставались бы живыми, свободными от страдания и боли. Явь соединилась бы со сном — и тогда никто не остался бы голодным или вдруг оказался бы укушенным настоящей змеею в своем блаженном сне. Ты был избран, чтобы соединить несоединимое. Царство гармонии наступило бы на земле. Все успели бы напиться из того колодца в пустыне прежде, чем раздался бы удар подноса, упавшего на пол, и время двинулось вспять — к мигу пробуждения.
— Весьма горького пробуждения, — заметил я. — В прошлый раз падение подноса вызвало всемирный потоп. Спасся только один человек, который нашел в себе силы не предаться коварному сну и не утонуть блаженно спящим — то был Ной.
— В прошлый раз древние жрецы пытались достичь гармонии обратным действием — разъединением стихий, ибо каждая стихия сама по себе становится обителью покоя. В том была их ошибка. — Вот какую древнюю тайну раскрыл передо мной дервиш.
— В чем же ваша ошибка? — дерзко спросил я.
— Ошибки не было, — отвечал дервиш.
— Значит, царство сонной гармонии во главе с Прокаженным Магрибинцем наступило? — спросил я, желая ужаснуться, но почему-то вовсе не ужасаясь.
— Нет, — спокойно ответил дервиш. — Ты, Посланник Истины, не захотел гармонии стихий. Ты поступил по своему выбору, на который имел право. Ты просыпался всякий раз за мгновение или час до того, как искомое соединение стихий в твоей душе должно было произойти.
— Мне помогали проснуться мои братья, — заметил я, — а больше всех — моя сестра. Мы все любили друг друга, даже не зная о своем родстве. Любовь оказалась вернее памяти.
— Одна из великих истин, — бескровно улыбнулся дервиш. — Теперь я надеюсь, что ты не осудишь меня понапрасну.
И тогда я прозрел — и увидел великую тьму.
Признаюсь, я испытал сильное огорчение, но — только от той мысли, что зря подвергал опасностям мою дорогую Фьямметту, что зря таскал ее по морским волнам, пустыням и пыльным дорогам. «Зато я увидела с тобой весь мир и узнала твою храбрость, отчего люблю тебя вдвойне», — вот что скажет потом моя Фьямметта.
Я прозрел, что мне были оставлены только две памяти — память тела и память чистого рассудка; память же души, которую мы считаем обычно истинной памятью, была стерта навсегда, подобно тому, как пемзой стирают надпись на пергаменте. Какой был бы прок в том, если бы я узнал название страшного зелья, примененного для того, чтобы лишить меня воспоминаний и тем самым даровать свободу — свободу от всех тайных слов и знаков, которыми могли меня держать в повиновении ассасины, тамплиеры, иоанниты, духи горы Сладкого Терна и сам Прокаженный Магрибинец со своим «Священным преданием»? Только мой брат Тибальдо Сентилья имел право проявить надо мной свою власть один единственный раз — и только для того, чтобы основание нашей родовой звезды Соломона не перекосилось в мою сторону.
Следовательно, и никакого настоящего имени, которое также могло быть использовано в качестве приказа, порабощающего мою волю, я носить в своей жизни не мог.
Посланнику Удара Истины полагалось быть свободным от всех обстоятельств, кроме одного — своего рождения в нижнем острие пятиугольника. Ценой памяти была свобода, и надо заметить, весьма призрачная свобода: выбирать между сном и явью.
Только этой свободой я и отличался от своих братьев, жизнь которых мне была теперь известна гораздо лучше моей собственной.
— Значит, я не узнаю о своей жизни ничего, кроме тех слов, на которые ты был не слишком щедр, Учитель? — почти равнодушно пробормотал я.
— Не жалей об утрате, — еще тише проговорил дервиш. — Она не имеет значения. Один час той краткой жизни, которую ты помнишь, стоит всех тех лет, которые ты провел в беспрекословном подчинении у великих сил мира сего, у земли, воды, огня и воздуха. Имя ты сможешь избрать себе сам. Это великая честь для ученика.
— Богачи вернули из Европы свое золото с прибылью, ассасины получили волшебную голову, которая обманет их и приведет к окончательной гибели, султаны и эмиры благословенной земли пророка обрели спокойствие. Что же из этого векового заговора извлекли вы, владетели знаний? — вопросил я.
— Хотя бы то, что небо на этот раз не упало нам на головы, — отвечал дервиш, давно уже не открывая глаз и едва шевеля губами. — Можно считать, что на наши головы в конце концов упал ты, подобно тому человеку, который некогда упал с крыши на голову моему Учителю. Мы наблюдали за твоим падением, предполагая, что в худшем случае ты свернешь себе шею. Однако ты остался цел и невредим, а нам же придется теперь немного отлежаться. Хороший урок всегда идет на пользу.
— Из твоих слов, Учитель, следует, что великими мудрецами, Великими Магистрами, великими воинами, короче говоря всеми — и тамплиерами, и ассасинами, и королями, и даже вами, дервишами — в продолжении этих веков управляли вовсе не всемогущие духи из таинственного «круга змеи», а всего лишь несколько бессмысленных слов, начертанных на дорогом халдейском пергаменте, — проговорил я, с каждым своим словом все больше поражаясь своему открытию. — Вся мудрость заключалась только в том, чтобы умело и незаметно разбросать их «по базарам».
— «Круг змеи» — это один-единственный человек, воплощение могущества, глава змееносцев, — отвечал дервиш. — Не гадай, кто он. Он есть ты.
— Почему ты не дал мне догадаться об этом самому, Учитель? — вопросил я.
— Потому что поднос вот-вот упадет на пол, — медленно проговорил дервиш.
— Кто же теперь управляет стихиями, кто заставляет писать на пергаменте слова, не имеющие смысла, если и Прокаженный Магрибинец, и таинственный Хидр, и Великий Мститель, и даже настоящий Посланник Истины — одна и та же бесплотная тень, вызванная заклинанием, начертанном на горе Сладкого Терна? — задал я вопрос, который посчитал про себя последним.
Дервиш покачнулся, и я поддержал его руками. Он с трудом сделал глубокий вздох, и я посчитал этот вздох последним.
— Один добрый человек шел по ночной дороге и увидел впереди приближавшихся всадников… — начал говорить дервиш свистящим шепотом, так что едва можно было разобрать слова.
Громким возгласом я перебил его:
— Я знаю! Я знаю эту историю, Учитель! Ты уже рассказывал ее! Не трать времени! Скажи: кто !
— Не помню… — словно издалека донесся голос дервиша.
— Кто водил твоим каламом?! — крикнул я в ухо дервишу.
— Есть только ночная дорога, вечный странник и всадники, — пробормотал шейх. — Эти всадники уже приближаются навстречу.
И тут нестерпимый гнев объял мою душу.
— Учитель! — воскликнул я. — Ты теперь говоришь, как ассасин, не верящий в Бога и Его промысел! Будь проклят твой Магрибинец! Будь проклята твоя ночная дорога! Будь проклят мир, который ты создал! Если я и хочу гармонии стихий, то такой, в средоточии которой воссядет Живой Человек, а не тень. И я смогу назвать его своим братом, а лучше — Отцом и Создателем. И Он будет помнить меня и всю мою жизнь вечно и будет всегда любить меня таким, каким я появился на свет. Другой мир мне не нужен. Ты сможешь сделать его таким?
Дервиш молчал, и я, поддавшись недоброму порыву, оттолкнул его от себя.
— Будь проклят и ты, творец обмана! — воскликнул я.
Старый шейх повалился на бок и, стукнувшись головой об твердую землю, испустил предсмертный хрип.
Я ужаснулся своему поступку и, бросившись к старцу, положил его голову себе на руки.
— Прости меня, Учитель! Прости меня! — в муках раскаяния восклицал я.
— Иди, — донеслось до меня последнее слово, в котором я не услышал гнева.
Уложив тело старого шейха среди камней, я огляделся по сторонам и невольным движением снял с запястья мое священное оружие, Удар Истины. Поглядев на этот маленький невесомый кинжал, я подумал, что весь мой разговор с дервишем несомненно происходил во сне.
Я подошел к реке и по щиколотки вступил в быстрый поток. Стоя в воде, я совершил то, чего ни разу не совершал до сих пор, а ныне мог наконец совершить по праву. Я вынул кинжал из ножен и увидел, что весь он, от рукоятки до кончика острия, искусно выточен из куска кипариса.
Я опустил руку и увидел, что протягиваю священный кинжал своему зыбкому отражению, которое тоже протягивает мне снизу ту же самую назойливую и бесполезную деревяшку. И тогда я размахнулся и изо всей силы бросил ее по течению реки — как можно дальше.
От этого резкого движения мои ступни соскользнули с округлых камней, я пошатнулся и упал навзничь в водяной поток, вспыхнувший перед моими глазами снопом солнечных лучей.
Затем я, отняв руку от глаз, приподнял веки. Солнечный свет был уже не так ослепительно ярок: золотистым потоком он лился в окно, озаряя маленькую, тщательно выбеленную комнату, в углу которой я и лежал на кровати.
Поначалу мне показалось, что время действительно обратилось вспять и я вновь очнулся на берегу Лигурийского моря, в домике рыбака Пьетро. Я не испытал ни малейшего сожаления о новых потерях.
«По крайней мере, теперь я не заставлю мою дорогую Фьямметту долго ждать, — пришло мне на ум, — и я избавлю ее от пыли бесконечных дорог. Пожалуй, у меня теперь появится возможность как-нибудь избежать выгребной купальни».
С такими мыслями я легко поднялся с ложа, любезно предоставленного мне какими-то добрыми силами, и подойдя к окну, высунулся наружу.
Я увидел прокаленные зноем, бесплодные горы, как если бы выглянул из бойницы Рас Альхага.
Я увидел вдали, на одном из Перевалов, тонкие струйки пыльных дымков и мерцание темных звездочек.
«Всадники приближаются», — вспомнил я последние слова старого шейха джибавиев.
Опрометью выскочив из комнаты и побежав вниз по узенькой каменной лестнице, я прямо в дверях наткнулся на человека в черной длиннополой одежде.
— Тебе уже лучше, брат ! — без всякого удивления спросил он меня.
— Гораздо лучше. Благодарю тебя, брат , — торопливо ответил я и задал на новом месте первый вопрос. — Где я?
— В монастыре Святого Иоанна Крестителя, — был мне ответ.
— Где вы нашли меня? — задал я второй вопрос.
— Там, — взмахнул рукою монах, указывая куда-то высоко в горы. — У реки.
— Далеко ли до Иерусалима? — задал я третий вопрос, уже держа наготове четвертый.
— Неблизко, — своей добродушной улыбкой свидетельствуя о весьма значительном расстоянии, отвечал монах.
— Ты можешь крестить меня? — скорее потребовал, нежели спросил я.
— Я не могу, — покачал головой молодой монах. — Отец Авель может.
— Где он? — спросил я, примечая, что пыльные вихри над перевалом стали гораздо виднее и, значит, ближе.
— У нижнего колодца, — отвечал монах. — Ты уже стоишь на дорожке, брат, иди по ней и никуда не сворачивай.
Я не пошел, а помчался во всю прыть, и, миновав ворота, в несколько прыжков достиг круглого колодца и старца, немало удивленного моей резвостью и моим решительным видом.
— Святой отец! Умоляю вас, крестите меня без промедления! — воззвал я к нему, видя, что маленький колодец полон воды едва не до краев. — Я верую в Господа Иисуса Христа! Прошу вас, свершите великое таинство прямо здесь.
— Сын мой, — изумленно отвечал монах, — я с радостью приму тебя в лоно истинной веры и Церкви Христовой, но желал бы предварительно поговорить с тобою, узнать о тебе хоть немного. К чему такая спешка?
Пыльные вихри поднялись из-за переката, и полдюжины черных всадников явились прямо над нашими головами на расстоянии всего в тысячу ударов взволнованного сердца.
— Святой отец, мне угрожает смертельная опасность, — стараясь овладеть своими чувствами, хладнокровно сообщил я монаху. — Страшная отрава проникла в мое сердце. В любой миг бездна может разверзнуться подо мною, и моя душа навеки затеряется во тьме. Я умоляю вас не медлить.
Наконец старый монах поддался на мои уговоры, и я, произнеся Догмат веры, прыгнул с его позволения прямо в колодец.
— Если ты начнешь тонуть, сын мой, я, чего доброго, не успею удержать тебя, — озабоченно заметил старик.
— Я нырял в колодцы всю свою жизнь, — отвечал я, не в силах сдержать радость.
И вот монах властной рукой дважды погрузил меня в холодные воды, произнося священные слова:
— Во имя Отца… и Сына…
Но едва он собрался погрузить меня в третий раз, как рука его дрогнула, и я похолодел не от подземных вод, а от ужаса, заметив черное оперение стрелы, вонзившейся ему в шею.
Губы монаха немо выговаривали последнее слово Истины — и тогда я крепко прижал обеими руками его ладонь к своему темени и, погружаясь в воду, громко изрек своими собственными устами:
— …и Святого Духа… я нарекаю себя именем Джорджио. Аминь.
Рука благочестивого старца соскользнула с моей головы, и я, выскочив в тот же миг из водяного столпа, увидел всех шестерых, чьи вороные кони, окружив колодец, уже остановили свой страшный бег.
Их предводителем был не кто иной, как мой брат Тибальдо Сентилья.
Старый монах уже был мертв.
Я бережно обхватил руками его голову и поднял глаза на моего флорентийского родича.
— Что же ты сделал, брат мой?! — только и проговорил я.
— Увы, брат, — тяжко вздохнул он, спустившись с седла; искреннее помрачение духа было отражено на его лице, — непростительная оплошность. Я получил известие, что ты в большой опасности. Мы торопились сюда и в спешке предположили, что тебя смирили тайным словом и хотят утопить. Эти проклятые камни, — со злостью добавил мой брат, указывая на гранитные глыбы, громоздившиеся поодаль. — Они мешали глазам. И этот проклятый колодец не понравился мне, как только я увидел его издалека. Мне показалось, что я сам когда-то уже тонул в нем то ли во сне, то ли наяву.
— Тонул, спасая ближнего своего, не так ли? — вопросил я, более ничему не удивляясь.
— Не помню, — пожал плечами Тибальдо Сентилья, кусая губы и присматриваясь к старику, пораженному стрелой. — То был неясный сон. Кажется, так оно и было. Я покаюсь, брат. Я закажу для него самую дорогую гробницу и пожертвую монастырю весь свой годовой доход. Им хватит этих денег, чтобы не голодать еще двести лет.
Мысленно я попросил прощения у старого монаха, а потом вырвал из его шеи смертоносное жало и переломил древко пополам.
— О Фьямметте не беспокойся, брат, — виноватым голосом добавил Сентилья. — Я уже избавил ее от всех опасностей.
Мы с Фьямметтой часто молимся, чтобы Господь пощадил душу моего гордого и несдержанного брата. Может быть, на Страшном Суде ему в пользу зачтется хотя бы то, что вел он все свои денежные дела, если порой и запутанно, то всегда честно.
Великое египетское богатство не принесло ему счастья. Спустя три года, миновавшие с того дня, когда мы встретились у последнего колодца, мой брат Тибальдо Сентилья поднял в родной Флоренции мятеж, намереваясь узурпировать власть и водрузить на свою горячую голову корону флорентийского правителя. Однако рукою палача его голова была отсечена от тела. Казнь произошла на площади, перед собором Санта Мария дель Фиоре.
Ту часть египетского наследства, которой я мог воспользоваться с позволения шейхов, иоаннитов и прочих тайных сил мира сего, мы с Фьямметтой пожертвовали на постройку двух монастырских домов призрения — одного для сирот, а другого для душевнобольных, — ибо мы теперь хорошо знали, что можно прожить без памяти и даже без имени, но нельзя прожить без любви и молитвы.
Спустя семь лет после дня моего радостного, но печального крещения, в один из тихих вечеров раздался стук в двери нашего дома.
Привратник сообщил нам, что внизу дожидается какой-то человек, по одежде иноверец, со свертком в руках.
Мы вместе с Фьямметтой спустились вниз, и, как только дверь открылась передо мной, я невольно приветствовал пришельца словами арабского наречия:
— Здравствуй, средоточие мудрости, Хасан Добрая Ночь!
Старец, удивительно похожий на шейха джибавиев, совершил учтивый поклон и ответил:
— С того священного дня, когда великий шейх Хасан Добрая Ночь, да снизойдет на его душу благословение Аллаха, соединился с Единым, прошло уже семь лет.
— Посмотри, какой прелестный ребенок! — привел меня в чувство возглас Фьямметты.
Только теперь я заметил, что старец, пришедший с Востока, держит на своих руках младенца.
— Вот сын твоей сестры, господин мой, и твоего двоюродного брата, — изрек он.
Великая радость и великая тревога, словно китайская гармония стихий, поделили поровну мое сердце. Мне было известно, что выкованное и закаленное ассасинами тело Акисы никак не могло смириться с новым предназначением: уже шесть лет они с рыцарем Эдом ждали ребенка, и вот несколько месяцев от них не поступало никаких вестей.
— Твоя сестра, господин мой, умерла спустя день после родов, — от кровотечения, — спокойно сообщил чужестранец.
Фьямметта вскрикнула и закрыла лицо руками.
Тяжелое предчувствие не обмануло меня. Я обернулся к Фьямметте и тихо сказал ей:
— Они прожили вместе семь лет. Они жили долго и счастливо.
— Долго и счастливо, — сдерживая рыдания, повторила за мной Фьямметта.
— Твой двоюродный брат, господин мой, просил тебя принять их ребенка, — добавил джибавия.
— Какое имя дано ему? — спросил я.
— Твой двоюродный брат, господин мой, — отвечал старец, — просил тебя дать имя младенцу. Он также просил передать, что, если ты, господин мой, захочешь отыскать его, то следует держать путь на Рас Альхаг.
— Он похож на тебя, Джорджио, — услышал я голос Фьямметты и принял на руки самое драгоценное сокровище нашего Ордена.
И вот, ощутив руками крепкую ткань, я невольно присмотрелся к ней и наконец постиг, что младенец завернут в белоснежный, хотя и сильно обгоревший по краям, плащ рыцаря-тамплиера.
ПРИМЕЧАНИЯ
акынджи — отряды налетчиков из кочевых племен Малой Азии, в средние века грабившие селения и караваны.
Алаэддин Кейкубад (ум. 1236) — султан румского государства сельджуков, при котором оно достигло наивысшего процветания.
альбигойцы — участники еретического движения, охватившего в основном ремесленные круги Южной Франции в XII — XIII веках и частично распространившегося на местную аристократию. Политическая идеология секты, доступная для широких масс — борьба с католической церковью, отмена церковного землевладения и десятины, — являлась внешним проявлением духовной идеологии ее тоталитарного руководства, исповедывавшего дуалистические взгляды о равенстве сил Добра и Зла и видевшие свободу личности прежде всего в уничтожении всех человеческих норм общежития в материальном мире, который находится во власти демонических сил. Секта осуждена Вселенским собором 1215 года и разгромлена в Альбигойских войнах.
амета — одна из форм одежды ассасинов (см.), своего рода трикотажный или холщовый «комбинезон».
ассасины — наиболее военизированная часть шиитской секты исмаилитов (см.), практиковавшаяь физическое уничтожение лиц, препятствовавших распространению исмаилизма, а в пору своего расцвета (конец XI — середина XIII веков) создавшая на севере Персии собственное государство.
барбетт — женский головной убор XII—XV веков, возникший в эпоху крестовых походов как подражание головному и шейному покрытию рыцарских доспехов; явился прообразом головных уборов католических монахинь.
бейт — двустишие в поэзии народов Ближнего и Среднего Востока, как правило, содержащее законченную мысль.
Бернар Клервосский (1090—1153) — французский богослов-мистик, аббат монастыря в Клер-во, оказавший большое влияние на церковно-политическую жизнь Западной Европы, вдохновитель 2-го крестового похода; один из наиболее почитаемых святых католической церкви.
бехадуры — наименование наиболее сильных и грозных видом воинов в сельджукском государстве (соответствуют «богатырям» русских сказаний).
Ваий праздник (Вход Господень в Иерусалим, в славянской традиции: Вербное воскресенье) — праздник, отмечаемый христианами за неделю до Пасхи в память о торжественном въезде Иисуса Христа на осленке в Иерусалим, когда горожане признали Его за Мессию, Спасителя израильского народа, и почтили приношением пальмовых ветвей (на Руси для праздника используют веточки вербы).
василевс, или басилевс ( греч. «царь») — один из титулов императора Византии.
Вергилий Марон Публий (70—19 гг до н.э.) — римский поэт, автор эпоса «Энеида», вершины римской классической поэзии. Данте Алигьери (см.) использовал образ Вергилия в «Божественной комедии» в качестве проводника и своего рода ангела-хранителя в путешествии по кругам преисподней.
газель — вид лирического стихотворения в восточной поэзии, состоящего из 5—12 бейтов (см.).
гулямы — наемные воины, в частности, отряды султанской гвардии.
дага — кинжал для левой руки, обычно применявшийся при поединке в паре с мечом или иным видом ручного оружия.
Данте Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. Автор сонетов, философских и политических трактатов, автобиографической повести «Новая жизнь» (1292). Вершина его творчества — поэма «Божественная комедия» (1307—1321) в трех частях («Ад», «Чистилище», «Рай») и ста песнях, ставшая поэтической энциклопедией средних веков.
дервиш — член суфийского братства (см. «суфизм»), в широком смысле — нищий, человек, живущий подаянием.
джибавии (или саадии) — приверженцы ордена джибавия, одной из ветвей суфизма (см.), основанной в начале VIII века в Дамаске Саад ад-Дином Джибави. Практиковали обряд дуса, или попирания, описанный в свитках из Рас Альхага, и длительные медитации с повторением формул «Аллах вечно живой» и «О, вечный». Сохранились доныне в Египте, Турции и Сирии.
доминиканцы — члены нищенствующего католического ордена, основанного в 1215 году испанским монахом Домиником. В 1232 году папство передало в ведение доминиканцев суд инквизиции. Ныне численность ордена составляет около 20 тысяч монахов и монахинь.
духан (араб. , «дуккан» — лавка) — небольшой трактир на Ближнем Востоке.
епитимия (греч. «наказание по закону») — добровольное исполнение исповедавшимся священнику, по назначению последнего, тех или иных дел благочестия, как то продолжительная молитва, милостыня, усиленный пост, паломничество.
заборолы — защищенные каменной кладкой или бревенчатым бруствером площадки, идущие поверху крепостной стены, на которых защитники крепости находятся во время боевых действий.
ильхан (тюрк. , «повелитель народа») — титул монгольских ханов из династии Хулагуидов, правившей в XIII—XIV веках в государстве, включавшем Иран, большую часть современной территории Афганистана, Туркмении, Ирака, Закавказья и восточную часть Малой Азии. Основатель династии: внук Чингис-хана — Хулагу.
имам — здесь: духовный руководитель мусульманской общины или секты.
иоанниты (госпитальеры) — члены духовно-рыцарского ордена, основанного крестоносцами в Палестине в 1070 году. Первоначальная резиденция — иерусалимский госпиталь (дом для паломников). После вытеснения ордена с Востока резиденция размещалась, в частности, на Кипре, на Родосе (Эгейская магистерия; 1306—1308), на Мальте (1530—1798), в Риме (с 1834 года).
исмаилиты — последователи одной из крупнейших сект мусульманского шиизма (см.), обладающей всеми основными признаками тоталитарной секты: жесткая иерархическая система с беспрекословным подчинением высшему руководству и физической расправой с отступниками, система тайных посвящений, основанная на «промывании мозгов» полным отрицанием знаний и принципов, внушенных члену секты на предыдущей ступени. Секта образовалась в VIII веке в результате раскола между имамами (см.) шиитов и в X веке через династию Фатимидов обрела политическую власть на территории всей Северной Африки, в Палестине и Сирии. К началу XI века Фатимидский халифат распался, и секта потеряла былое влияние. Одной из ветвей исмаилизма, низаритам, в лице Хасана ас-Саббаха, в конце XI века удалось создать независимое государство с центром в Аламуте (Иран). Террористическая практика низаритов, сочетавшаяся с употреблением гашиша, породила их новое прозвище: «хашишийа», которое в искаженном виде — «ассасин» — проникло в европейские языки со значением «убийца». Общины исмаилитов сохранились до настоящего времени в различных странах Азии и Африки: в основном в Индии, Пакистане, Иране, Йемене, Кении и Танзании. Есть они и на территории бывшего СССР, в частности, в Азербайджане. Идеологическая система секты, достаточно полно описанная в свитках из Рас Альхага, включает элементы оккультизма и основана на тайной доктрине о фактически безличном Боге-абсолюте, выделяющем из себя творческую субстанцию в виде Мирового Разума, а также на аллегорическом понимании священных текстов Корана, что позволяет говорить о секте как об одной из форм рационалистического язычества, замаскированной под разновидность ислама. Своего рода «языческий атеизм» особенно заметен в идеологии ассасинов: посвященный высшей ступени воспринимал мир как механическую систему, над которой при известном умении вполне можно установить личную власть.
кади — духовное лицо в мусульманском мире, исполняющее также роль светского судьи и решающее дела на основе Корана и священных преданий.
кадуцей — жезл Папы Римского.
Калам — 1) восточное перо, пишущая принадлежность; 2) мусульманское богословие, опирающееся на формально-логические доводы для обоснования религиозного учения.
камаи — в средние века кольчужный подшлемник, закрывавший шею и плечи.
капелла — здесь: местная организация Ордена тамплиеров.
Караманский бейлик — небольшое государство, образовавшееся в начале XIV века после распада Румского (Конийского) султаната (см.) сельджуков в результате захвата бывшей его столицы Коньи племенем караманцев; фактически находилось под властью монгольских ильханов (см.), а затем было поглощено в результате османских завоеваний в Малой Азии.
кефал (греч. «голова») — здесь: наместник одной из областей Трапезундской империи.
котарди — узкая, плотно облегающая фигуру парадная одежда знати в XIV — начале XV веков, с застежкой по центру переда и низко расположенным поясом из чеканных пластинок. Короткие и узкие рукава закрывали локти, а длинные заканчивались на запястье. Воротник имел форму капюшона. Женское котарди — узкое до середины бедер — сильно расширялось книзу и часто заканчивалось шлейфом. Рукава иногда делали откидными от локтя.
линьяж — здесь: основной «ствол» генеалогического древа дворянского рода.
Лот — в Библии племянник Авраама; благодаря благочестивости Лота, его семья была спасена при уничтожении города Содома, наказанного Богом за грехи его жителей огненным дождем, и только жена Лота погибла при бегстве, оглянувшись назад и превратившись в соляной столб.
Людовик IX Святой (1214—1270) — король Франции с 1226 года. Провел реформы по централизации власти. Возглавлял 7-й (1248) и 8-й (1270) Крестовые походы; умер во время последнего в Тунисе. Благодаря благочестивому образу жизни, имел огромный нравственный авторитет в Европе; правители различных государств приглашали его в качестве третейского судьи решать политические споры.
Макабра пляска — одно из карнавальных действ, распространенных в средневековой Европе, участники которого, наряженные мертвецами, изображали триумф Смерти над грешниками.
мамлюки (араб. «невольники») — войны-рабы, составлявшие личную гвардию династии Айюбидов, в основном выходцы из Среднего Востока, Грузии, частично из Руси. В 1250 году командиры мамлюков свергли египетскую ветвь Айюбидов и основали династию мамлюкских султанов, правившую до 1517 года в государстве, включавшем Египет и Сирию.
мессир (фр. от «монсиньор» — «мой господин») — форма обращения к лицу благородного происхождения, более высокому по титулу или чину; итальянский «вариант» мессер — имел более широкое сословное применение.
Мидас — царь Фригии в 738—696 годах до н.э. По греческому мифу бог Дионис наделил его способностью обращать в золото все, к чему он прикасался.
народный капитан — должностное лицо в средневековой Флоренции, избиравшееся на годовой срок и контролировавшее действия коммунальных властей.
несториане — христианская секта, созданная Несторием в начале V века. Была распространена в Персии, Индии, Китае. Учение несториан было принято частью монгольских завоевателей в XIII веке. Ныне немногочисленные общины существуют в Турции, Ираке. Основа учения — признание Иисуса Христа не Сыном Божиим, а простым человеком, явившимся, по наитию Святого Духа, лишь орудием Божьей воли.
неф — в архитектуре вытянутое помещение, ограниченное с одной или двух продольных сторон рядом колонн или столбов.
облат — обычно юноша, отданный родителями в услужение Ордену тамплиеров.
огланы — личная гвардия сельджукского султана.
оммаж (лат. «человек» в значении «вассал») — в средневековой Западной Европе церемония, оформляющая заключение вассального договора. Вассал — коленопреклоненный, с непокрытой головой и без оружия — вкладывал свои сложенные руки в руки сеньора с просьбой принять его службу. Сеньор затем поднимал вассала и обменивался с ним поцелуем.
орифламма (фр. «золотое пламя») — штандарт французских королей, поднимавшийся только в битве, объявленной как «священное сражение с иноверцами».
османцы — здесь: обозначение выходцев с северо-запада Малой Азии, из бейлика Османа, образовавшегося после распада Румского султаната (см.) и превратившегося впоследствии в могущественную Османскую империю.
пардус — древнее название барса.
перване — в Румском султанате (см.) придворный, доставлявший по назначению султанские послания.
Праведные халифы — первые после пророка Мухаммада (570—632) главы мусульманской общины, соединившие в себе духовную и светскую власти: Абу Бакр, Омар, Осман и Али (7—8 вв).
приор — настоятель небольшого католического монастыря; в духовно-рыцарском ордене второй человек после Великого Магистра или, на местном уровне, комтура; в Северной Италии — глава цеха, входящий в правительство городской коммуны.
пурпуэн — средневековая одежда, стеганная на вате и надеваемая под воинские доспехи. К концу первой трети XIV века становится — при изменении покроя — одним из видов светской верхней одежды.
Руми Джелаладдин (1207—1273) — персоязычный поэт, исповедывавший суфизм (см.) и оказавший большое влияние на культуру Среднего Востока. Основную часть своей жизни провел в столице Румского султаната (см.) Конье.
Румский (Конийский) султанат — государство в Малой Азии, образовавшееся в результате завоеваний сельджуками (см.) византийской территории. Названо Румом, поскольку сельджуки считали себя правопреемниками Римской империи. После нашествия монголов (1243) превратилось в вассала монгольских правителей Ирана и в 1307 году распалось на небольшие самостоятельные области — бейлики, одна из которых — бейлик Османа — явилась ядром образовавшегося в XIV веке Османского государства (Турция).
Салах ад-Дин, Юсуф ибн Аиюб (1138—1193) — султан Египта с 1171 года. Курд по происхождению. Укрепил военно-ленную систему государства, снизил налоги. Вел успешные войны против крестоносцев. В 1187 году взял Иерусалим, в ту пору столицу христианского королевства.
Самсон — в библейской традиции великий силач из евреев, мощь которого как бы таилась в его длинных волосах. Его возлюбленная филистимлянка Далила предательски остригла спящего Самсона и отдала его, обессилевшего, в руки воинов из своего народа, враждовавшего с евреями.
Святой Престол — образное наименование средоточия папской власти в Риме.
сельджуки — ветвь племен тюрок-огузов, названная по имени их предводителя Сельджука (X — нач. XI вв.). В XI веке контролировали большие территории в Средней Азии, Иране, Армении, Грузии. Могущество сельджуков угасло к началу XIV века.
сенешаль — здесь: чиновник капеллы (см.) духовно-рыцарского ордена, ведающий внутренним распорядком ее деятельности.
серхенги — начальники отрядов телохранителей султана.
сутана — нижняя одежда католических клириков и священнослужителей; начиная от пояса и до пят, она облегает нижнюю часть тела наподобие юбки.
суфизм — мистическое направление ислама. Классические проповедники суфизма были аскетами, жили подаянием, странствовали. Основа учения: возможность личного познания Бога, слияния с Ним через приобретение некой высшей благодати. Основные пути стяжания благодати: отказ от мирской жизни и выполнение особых упражнений, несколько напоминающих буддийскую и даосскую практику и приводящих к особому мистическому экстазу, при котором у последователя, кроме не доступного описанию слияния с Единым, открываются паранормальные способности. К системам таких упражнений относятся особая молитвенная практика, создание при межличностном общении особых парадоксальных ситуаций, ведущих к разрушению стереотипов поведения, умелое применение наркотических средств, выполнение особых движений. Благодаря тому, что в расширении сознания важная роль отводилась искусству, учение охватило высшие круги восточной «творческой интеллигенции». Продвинутыми суфиями признаны многие великие поэты средневековья — Руми, Хайам, Хафиз, Саади и другие. Социально учение оформилось в виде тайных и открытых братств, практиковавших те или иные методики постижения высших истин. Вследствие «внутренней веротерпимости», развилось множество различных направлений учения, охватывавших те или иные слои общества в различных государствах. Возникнув, а вернее, оформившись в виде определенных доктрин на основе более древних мистических практик к концу VII века, суфизм пережил расцвет в XI—XII веках. В отличие от мистических учений Индии и Китая, он был более тесно связан с обществом, особенно городским. Некоторые суфийские братства сохранились до нашего времени; их доктрины и практика известны в основном по трудам Идриса Шаха.
сюрко — средневековая верхняя одежда. Мужское сюрко было коротким, женское — длинным, часто без рукавов. По виду напоминало широкое платье.
Тавр — горы на юге Турции. Протяженность — около 1000 км. Высота — до 3726 м.
Текейский эмират — маленькое государство на юго-западе Малой Азии, появившееся в начале XIV века в результате распада Румского султаната (см.). К концу века поглощено государством османских турок.
Тосканское маркграфство — средневековое государство на северо-западе Италии, с XVI века — Великое герцогство. Такие крупные торгово-промышленные города, как Флоренция и Пиза, находившиеся на территории Тосканы, обладали полной политической независимостью. Тосканский диалект «народной латыни» стал основой литературного итальянского языка.
Трапезундская империя — православное греческое государство, образовавшееся в XIII веке на юго-восточном побережье Малой Азии в результате распада Византии. С распространением владычества сельджуков эта территория оказалась отрезанной от остальных византийских областей Румским султанатом (см.). Периодически правителям Трапезунда удавалось добиваться полной независимости от властей бывшей метрополии. В 1461 году османский султан блокировал столицу империи с суши и моря, и со сдачей главного города она прекратила свое существование.
фидаин, или фидаи (араб. «жертвующий собой во имя веры») — мусульманский фанатик, готовый погибнуть ради исполнения порученного ему дела.
Филипп IV Красивый (1268—1314) — французский король с 1285 года. Расширил территорию личных королевских владений. Поставил папство в зависимость от королевской власти Франции. Создал своего рода первый европейский парламент — Генеральные штаты (1302). Умер при невыясненных обстоятельствах вскоре после произведенного им разгрома Ордена тамплиеров, что привело к возникновению устойчивой версии о свершившейся над ним мести.
Фридрих II Штауфен (1194—1250) — германский король и император Священной Римской империи с 1212 года. С 1197 года король Сицилии, которая была превращена им в централизованное государство. Боролся с папством и независимыми торговыми городами северной Италии. Отлучен от Церкви. Признан одной из самых неординарных личностей средневековья, был широко образован, щедро поддерживал науки и искусства, считался самым коварным правителем своего времени. Воинствующий атеист, предполагаемый автор известного анонимного пасквиля на основателей трех мировых религий — Иисуса Христа, Мухаммада, Будду, — ходившего под названием «Три обманщика».
фарсанг (фарсах) — восточная мера длины, равная от 6 до 8 км в различных странах.
хиджаб (араб. «преграда», «завеса»; также чадра, паранджа) — покрывало, надеваемое женщиной-мусульманкой при выходе на улицу и скрывающее лицо и фигуру.
Xидр — мифический покровитель суфиев (см. «суфизм»), некое высшее существо, являющееся последователям учения в моменты особого прозрения.
чанг — восточный струнный ударный инструмент, род цимбал; звук яркий, долго не затухающий извлекается ударами по струнам двух бамбуковых или деревянных палочек.
шиизм — общее название различных движений и сект в исламе, признающих Али ибн Аби Талиба, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммада, мужа его дочери Фатимы, и соответственно потомков Али единственно законными преемниками Мухаммада. В то время, как у последователей классического ислама, суннитов, духовный руководитель, или имам, избирается общиной, шиитский имам является таковым в результате родового обладания «божественной благодатью», переходящей от одного имама к другому. Таким образом шиизм несет ряд основных признаков тоталитарной секты, что подтверждается ее особой агрессивностью к любым формам инакомыслия.
Эгейская Магистерия Ордена Святого Иоанна Иерусалимского — см. «иоанниты».
Эринии — в греческой мифологии богини мести.
Вместо послесловия
Досточтимый читатель!
Почти 700 лет остаются в тени истории гордые и таинственные рыцари-монахи, в белоснежных плащах с красным восьмиконечным крестом над сердцем…
Наше издательство приступило к работе над проектом «ТАМПЛИЕРЫ» в феврале 1994 года, когда, по случайному стечению обстоятельств, в издательство попала рукопись «Великого Магистра». Позднее состоялось знакомство с представителями Октавиана Стампаса и был подписан контракт. Следует сказать, что Октавиан Стампас посвятил Тамплиерам девять романов. Пять романов мы опубликовали, причем отбирал романы для публикации и определял очередность их издания сам автор. На наши просьбы предоставить все романы, мы получали вежливый, но решительный отказ. Еще одним условием контракта стало обязательное издание «Семи свитков из Рас Альхага» рукописи из архивов Стампаса. Автор придает особое значение этой рукописи. Нам остается только привести полную библиографию Исторических Хроник:
1. Рыцарь Христа
2. Великий Магистр
3. Бо Сеан!
4. Цитадель
5. Тайна Рен-ле-Шато
6. Древо Жизора
7. Проклятие
8. Золото Тамплиеров
9. In hoc signo vinces!
Мы сочли уместным и вполне оправданным привести ниже отрывок из сопроводительного письма Октавиана Стампаса, пришедшего в издательство вместе с рукописями:
Господа издатели!
Вашим читателям трудно представить то, с чем им придется столкнуться на страницах Хроник. Еще труднее будет принять за свершившийся факт то, что не в глубине тысячелетий, а по историческим меркам совсем рядом, сокрыта от глаз, огромная и сокрушающая сознание тайна. Тайна, густо замешанная на переплетении трех великих религий и древних знаний. Тамплиеры и история Ордена не эпизод раннего средневековья, они намного больше и сложнее. Меня всегда поражало как просто и легко Тамплиеры, 200 лет определявшие судьбы народов и государств, ушли в тень истории, не оставив ничего, кроме легенд о сказочных сокровищах, которые простаки и глупцы тщетно разыскивают до сих пор. Кем и для чего была тщательно спланирована и блестяще осуществлена грандиозная мистификация, главными действующими лицами которой были назначены Филипп Красивый и его слуги? Достаточно сложно представить, что руководители Ордена, хранители Знаний и Посвященные, воители, обладающие самым организованным, дисциплинированным и обученным войском в Европе, опытнейшие и изощреннейшие интриганы, не смогли быстро и по-тамплиерски красиво, чужими руками, подавить заговор против Ордена. По всем канонам военной науки, отступательная операция 15-ти тысячного войска (приблизительно столько рыцарей насчитывал Орден к моменту «разгрома»), при которой потери составляют десятки воинов, может считаться крайне успешной. Это конец видимой истории Ордена. А где начало? И тут начинается очень скользкий путь домыслов, догадок и версий. Зачем был создан Орден? Что первые крестоносцы нашли в Святой Земле? Какую Тайну или, если хотите, Знания оберегали храмовники? Какую цель видели перед собой, можно только догадываться. Хотя, учитывая мощь и влияние Ордена в христианском и мусульманском мире, можно предположить, что Тамплиеры вплотную подошли к идее объединенной Европы… в XIII веке. Не буду заострять внимание на проклятии Жака де Моле, которое сбылось: Филипп Красивый не прожил года с момента смерти Великого Магистра, и «исчезновении» золота Тампля. Орден Бедных рыцарей Храма Соломонова смог сделать невозможное на вершине славы и могущества еще глубже спрятал Нечто, ушел в небытие, но от Цели не отказался. А непосвященные продолжают с завидным упрямством грезить золотом тамплиеров…
Теперь и Вы, досточтимый читатель, можете судить прав или не прав Октавиан Стампас. Вы прочли романы, страницы которых наполнены живыми людьми, историческими личностями, самыми противоречивыми персонажами, фактами и версиями, интригами и заговорами. Возможно, у Октавиана Стампаса есть ответы на вопросы, которые он с такой легкостью подбрасывает заинтересованным издателям и читателям, однако, это остается за рамками данного проекта.
Нам остается искренне поблагодарить Александра Сегеня, Александра Трапезникова, Михаила Попова и Сергея Смирнова, которые проделали огромную работу по переводу Хроник.
Благодарим всех наших читателей за отзывы и многочисленные добрые пожелания.
In hoc signo vinces!
(«Сим победишь!» Девиз Тамплиеров)
Издательство «ОКТА ПРИНТ», 1997
Note1
Я воспою отдаленные царства, пределы коих — над безднами вод…
(обратно)



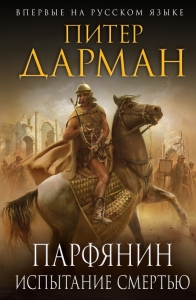

Комментарии к книге «Семь свитков из Рас Альхага, или Энциклопедия заговоров», Смирнов
Всего 0 комментариев