Константин Георгиевич Шильдкрет Розмысл царя Иоанна Грозного
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
Часть первая
Глава первая
Точно у вздернутых на дыбы людишек, скрипели старые кости леса. Ледяными слезинками стыл на помертвелых сучьях подтаявший было за день снег.
Скулили северы.
Васька поплотнее запахнул епанчу и в раздумье остановился.
– Ишь, хлещет, склевали бы тебя вороны! – выругался он, отворачиваясь от лютого порыва ветра, запорошившего глаза пригоршней снежной жижи. – Токмо бы ему потехами тешиться!
Какая-то тоска, так часто наседавшая в последние дни, уже закрадывалась в сердце Васьки, вызывая тупую боль и раздражение.
– Кат его ведает, коликой дороги держаться!
Он хмуро оглядел лес и прицыкивающе сплюнул.
Зимой, в северы, Ваське было все равно, куда идти. Зимой и лес, и дороги, и жилье человеческое на один лад обряжены: куда ни кинься – опричь волчьей песни да хороводов и плясок, что ведут непрестанно под вой метели лешие с беспутными ведьмами, – ничего не услышишь. А и хороводы те только поначалу как будто пугают крещеную душу. Обживешься же в берлоге медвежьей, попривыкнешь к метельному говору – и ничего. Свой не свой, а чуешь в тех песнях и говоре, прости господи, нечестивые думки, такую же сиротскую жалобу, какую от мала одинокий человек в груди своей носит. Видно, не зря земля разметала от края до края седые космы свои и, точно мертвая, застыла в неуемной кручине. Нет уж, как ни вертись, а ей, старенькой, все, что выносила она в чреве своем, – родное дитя!
И в долгие месяцы стужи шел беззаботно Васька по дремучим трущобам; жил, где придется и чем попотчует лес; одинокой белой тенью скользил по занесенным дорогам вдоль городов и затерянных деревушек, теряя счет дням-близнецам.
Еще когда он покинул родимый погост, кукушка-вотунья, как и допрежь, в детскую пору, посулила ему многое множество годов впереди. Но от такого посула была ли Ваське корысть? Все едино: колико не прикидывай к ноше, легко болтающейся покуда за спиной двадцатью с небольшим годами, новых дней и недель, а не дойти до той межи, где зарыта доля холопья.
Кого другого, а Ваську не проведешь присказками бабьими о доле счастливой.
Зря болтают людишки: не бывало доли той отродясь на земле и не будет.
Так все чаще царапалось в усталом сердце бродяги и нарушало покой.
Распахнулась Васькина епанча. За усталью и думками темными, навеянными не видимыми еще, но уже близкими весенними вестниками, не чувствует он, как лехтают[1] больно сучья его голую грудь. Из-под высокой бараньей шапки, опушенной желтыми волдырями облезшего лисьего меха, выбилась прядь, цвета спелой пшеницы, волос.
Васька то и дело жмурится и раздраженно встряхивает головой. А ветру и любо потешиться: еще глубже запускает он студеные пальцы свои за шапку, норовит добраться до самой макушки, и другой лапой шарит уже, повизгивая задорно, по жилистой, широкой спине.
– Охальник! – плюется бродяга, не зло грозит в гулливую мглу кулаком и идет к едва видной прогалине.
Позади, где-то тут, рядышком, кажется, лязгнул кто-то зубами.
Васька насторожился и, уловив слабый вой голодного волка, взялся было за оскорд, но тут же раздумал и пошел дальше своей дорогой.
Уже за полночь выбрался он на опушку. Свернув в сторону от жилья, облюбовал поглубже байрак и устроился на ночлег.
Под снегом было тепло и уютно. Приятно покалывало лицо и ноги. На глаза ложилась баюкающая истома.
Ощупав оскорд, бродяга прижал его к себе.
«Тебя что не станет, оскорд мой, – что руку мою отшибут. Иль бывает тако, чтобы рубленнику срубы рубить без оскорда?»
И, нахлобучив на глаза шапку, притих.
Его разбудили частые удары, доносившиеся откуда-то из-за реки.
«Никак оскорды загомонили? – приподнялся на локте Васька. – Так и есть – рубленники», – оживленно подтвердил он свою догадку и решительно пошел на стук.
За рекой, при свете факелов, копошились у бревен и недостроенных срубов людишки.
Васька подкрался к крайней избенке.
Рубленники заметили его и выжидающе остановились.
– Спаси бог хозяев добрых!
– Дай бог здравия гостю желанному!
Согнутый старик придвинулся к гостю вплотную.
– Ежели с добром – покажи милость, подмогни людишкам работным, а ежели, – он добродушно хихикнул, – таловень[2] – не обессудь: опричь блох, все добро у ветра да в тучках небесных хороним.
Рубленники весело, точно по уговору, присвистнули.
Достав из-за спины оскорд, бродяга поплевал на ладонь.
– Сказывайте, хозяева, чего робить.
– Да откель тебя ветром в наш починок[3] снесло?
– Оттель же, где тому ветру положено подле добра вашего с дозором держать помело!
– Ишь ты, балагур какой выискался! – довольно причмокнул старик и строго насупился. – А и поболтали, да за робь не срок ли нам вышел?
Ловко помахивая оскордом, Васька увлеченно пригонял бревно к бревну и сколачивал низенький сруб.
Перед рассветом старик осмотрел деловито работу и, перекрестясь, разрешил рубленникам идти в избу отдохнуть.
В клети пахло овчиной, сосной и едким потом. Жадно закусывая чесноком и пустой похлебкой, гость любовно поглядывал на окружающих и скалил тупые крепкие зубы в блаженной улыбке.
– Прямо тебе не то из лесу, не то из темницы, – перешептывались сочувственно рубленники. – Словно сорок сороков годов людей не видывал.
– Да, почитай, и не менее, – поддакнул Васька, уловив шепот.
Он вдруг поднялся и развел удивленно руками.
– Пошто тако бывает? Покель северы дуют – ништо тебе. И волк лютый – брат, и дубрава – изба родимая. А колико подует весной, осеренеет[4] колико самую малость, тужить человек зачинает.
Глубокий вздох вырвался из его груди, и синим теплом засветились большие, задумчивые глаза.
– Тако тужить зачинает и такая на сердце ложится туга, что горазд душу отдать, токмо бы сызнов к людишкам прийти да человеческий голос услышать.
– Поди, и волка к волку тянет, и пчелу к пчеле, – степенно поглаживая бороду, ответил старик и, натруженно выпрямив спину, улегся на ворохе прелой соломы.
Остальные последовали за ним.
Не спалось Ваське на земляном полу в душной клети. Едва все стихло, он неслышно поднялся и подошел к волоковому оконцу.
Хозяин подозрительно поднял голову.
– Аль замыслил чего?
От неожиданности гость вздрогнул и схватился за оскорд.
– Ты спи, старик, – выдохнул он тотчас же уже спокойней и болезненно улыбнулся. – Не приобычен аз к избяному духу. Крышку затеял с окна сволочить.
Хозяин поманил Ваську к себе.
– Ляг. С дороги-то оно эвона како отдышаться надобно человеку.
И, с отеческой лаской:
– Бродишь-то, небось и сам срок потерял?
– Не счесть, старина!
– То-то ж и аз мерекаю… А звать тебя как?
– Васькой звать. Бобыль аз – Выводков Васька.
– Так, так, – зажевал беззубыми челюстями хозяин. – А меня, мил паренек, Онисимом кличут.
Выводков помолчал; удобнее улегся и, сквозь сдержанный зевок, процедил:
– А вы чьи будете людишки?
Гордо откашлявшись, Онисим отставил указательный палец.
– Живем мы за могутным господарем, за самим князь-боярином, Симеон Афанасьевичем Ряполовским.
– Могутный-то – спору нет, а невдомек мне, пошто ночами починок робите, яко те тати.
Хозяин удивленно оттопырил нижнюю губу.
– Коли ж и робить, мил человек? Аль не русийской ты, – не ведаешь, что положено Богом да господарями шесть дней робить холопям на князь-бояр?..
Он причмокнул и покровительственно потрепал соседа по крепкому и упругому, как шея молодого коня, плечу.
– Тут и пораскинь ты умишком. Токмо и наше, что единый день да семь темных ночей.
Один из рубленников перекатился поближе к Выводкову и, не то серьезно, не то со скрытой усмешкой, вставил:
– Оно бы жить можно. Пошто не жить? Одно лихо – кормиться нечем.
– И отпустил бы, выходит, боярин, избыток людишек-то, – зло дернулся Выводков.
Онисим и рубленник улыбчато переглянулись.
– Чудной ты, гостюшек! И не разберешь, откель занесло тебя. Како князь-боярину без тьмы холопьей? Поди, зазорно ему перед суседями.
Хозяин ткнулся холодными губами в ухо гостя.
– Вот и нынче пригнал отказчик рубленников. Утресь кабалу писать будут. Хоромины князю новые поставить запритчилось.
Выводков сладко потянулся и, чувствуя, что сон властно сковывает все его существо, почти бессмысленно хлюпнул горлом:
– Лют?
– Кто?
– Боярин.
– Како положено ему родом-отечеством. Не худородного семени сын, а от дедов князь-вотчинник.
И снова нельзя было понять, говорит ли серьезно рубленник или подсмеивается над своими словами.
Онисим же твердо прибавил:
– На то и поставлены Богом господари над людишками, чтобы через лютость и миловать другойцы.
И, сочно зевнув, отвернулся к стене.
– Спи. Не за горами и утро.
* * *
Васька проснулся, когда никого в клети уже не было. Накинув на плечи епанчу, он сунул за пояс оскорд и вышел на двор.
Починок был пуст. Только на краю узенькой улички, в куче щебня, возились полуголые ребятишки, да чахлый кутенок обиженно выл, тщетно гоняясь за неподатливым вороненком.
Вдалеке, на раскисшей серым месивом пашне, копошились, разрывая навоз, холопи. Пригретый солнцем туман медленно расползался гнилыми клочьями овечьей шерсти и таял, теряясь в мреющих прогалинах розовато-бурого леса. По взбухшей спине реки, по тысячам синих жилок льда, точно согревшаяся кровь, скользили золотые лучи, неся с собой весть воскресающей жизни.
Бобыль постоял в раздумье у двери. Беседа с Онисимом не выходила из головы. Хмурый взгляд тяжело шарил по недостроенным избам, пытливо устремлялся за черед осевших, кривогорбых курганов, в сторону боярской усадьбы, и стыл на ворчливой чаще леса.
«Уйти! – тряхнул он решительно головой. – Без нас рубленников достатно хоромины ставить господарям!»
Но тяга к людям была сильнее, и мысль, что здесь ждет его работа рубленника, по которой он истомился, как надолго запертый в клетке кречет, приученный к охоте, гнали его упрямо и властно к хоромам князя-боярина.
С пашни шел какой-то мужик.
«Уж не отказчик ли?» – испугался Выводков и юркнул в сарайчик.
В полумраке он разглядел охапку соломы и на ней серую тень девушки.
– Занедужилось нешто?
Тень заколебалась, поднялась на локте и удивленно уставилась на вошедшего.
Васька приоткрыл шире дверь и шагнул в глубину. На него, не мигая, глядели глубокие сапфировые глаза.
– Аз – не лих человек. Лежи, коль недужится.
Она едва кивнула и смежила веки. От ресниц двумя трепещущими венчиками легли на подглазицах прозрачные стрелочки.
– Испить бы!..
И потянулась исхудалой, полудетской рукой к глиняному ковшику.
Бобыль подхватил ковшик, поддержал голову девушки и не передохнул до тех пор, пока вся вода не была выпита.
– Занедужила?
– Вся-то поизвелась.
Мягким дыханием ветерка прошелестел ее слабый голос, порождая в груди непонятную тревогу и жалость.
Чтобы чем-либо проявить сочувствие, он неловко взбил слежавшуюся солому, спешно забегал по сарайчику, сгребая ногами сор и поднимая тучи удушливой пыли; потом, с медвежьей ухваткой, повернул девушку на бок и ухнул рядом на подгнившую чурку.
– Так-то вольготнее будет, – разодрал он в широкой улыбке рот.
Больная благодарно коснулась плечом его колена и чуть приоткрыла сухие губы.
– Отказчик доставил?
Выводков, стараясь изо всех сил не причинить боли девушке, осторожно провел тяжелой ладонью по ее матовой щеке.
– Точно листок рябины по осени… алый и жалостный…
Она не поняла и передернула покатыми плечиками.
– Про кой ты листок?
– Про губы твои. А замест зубов – иней на елочке.
Лицо больной стыдливо зарделось.
Васька виновато потупился и, чтобы перевести разговор, торопливо шепнул:
– Сам пришел… без отказчика. А ты давно маешься?
– С Васильева дня. Думка была – не одюжу.
Помолчав, она робко спросила:
– Далече путь у тебя?
Бобыль скривил губы.
– Далече.
Он горько улыбнулся и двумя пальцами пощипал русый пушок едва пробивающейся бородки.
– А по правде ежели – сам не ведаю, где тому пути край.
И, устремив опечаленный взгляд в пространство, процедил сквозь зубы:
– Земли, доподлинно, многое множество, а жить негде одинокому человеку.
Больная недовольно поморщилась.
– Грех. Каждому творению свое место положено. Каково бы и кречету быть, ежели бы дичина вся извелась? Да и падаль на то Богом сотворена, чтобы было ворону что поклевать.
Волчьими искорками вспыхнули раздавшиеся зрачки бобыля. Забываясь, он шлепнул изо всех сил ладонью по спине девушки.
– Ан, вот горло перекушу, да не дамся тем воронам!
Больная в страхе перекрестилась.
– Сплюнь! Через плечо в угол сплюнь! Туги не накликал бы ты себе словесами кичливыми.
В ее голосе звучала пришибленная покорность.
– Гоже ли черным людишкам с долею свар затевать?
Васька ничего не ответил и свесил голову на выдавшуюся колесом грудь. Сразу стало тоскливо и пусто, по телу разлилась безвольная слабость.
Девушка с немой грустью погладила его руку.
– Аль лихо какое приключилось с тобою, что кручину великую держишь в очах своих?
Он поднялся и, остановившись у выхода, заломил больно пальцы.
– От лиха и на свет холопи родятся, по лиху ходят да с лихом и в землю ложатся. На то и холопи.
И, точно жалуясь самому себе, тяжело перевел дух.
– И пошто ты, туга, камнем на сердце лежишь?!
Рука потянулась к двери.
– Прощай, болезная.
– Куда же?
В голосе больной прозвучала такая глубокая ласка, что Выводков почувствовал, как глаза его застлались соленым туманом.
Неожиданно, не думая, помимо своей воли, он решительно объявил:
– Куда – пытаешь? К подьячему… кабалу писать на себя.
– Выходит, у нас будешь жить?
– А выходит!
Наклонившись над ожившим в мягкой улыбке лицом, он провел рукой по кудели пышных волос девушки и вздрогнувшим голосом спросил ее имя.
Она почему-то потупилась.
– Клашею звать… Онисима дочка аз, Клаша. А тебя?
– А аз – Выводков Васька.
Шагнув за порог, бобыль с шутливой торжественностью воздел к небу руки.
– Отныне Васька бобыль да Кланька Онисимова – одного князя холопи!
И скрылся.
Собрав все свои слабые силы, Клаша ползком добралась до порога и долго не сводила странного, полного тайной тревоги и восторженности взгляда с богатырской фигуры Выводкова, твердо шагавшего к кривогорбым курганам, к нахохлившимся низким хоромам князя-боярина Симеона.
Глава вторая
Подьячий встал, вытер перо о сивые остатки волос на затылке и, тряхнув кабальной записью, строго поглядел на бобыля.
– Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Васька негромко повторил возглас и, повинуясь немому приказу, перекрестился.
Гнусаво и нараспев, отставив два пальца правой руки, подьячий читал кабалу:
Се аз, Васька, сын Григорьев, по прозвищу Выводов, дал есмы на себя запись государю своему, князь-боярину Симону Афанасьевичу Ряполовскому, что впредь мне жити за государем своим, за Симеоном, во крестьянех, где он меня посадит в своем селе, или сельце, или деревне, или починке, на пустом жеребью, или пустоши, и, живучи, хоромы поставить и пашни пахати, поля огородити, пожни и луги расчищати, и смолу курити, и лубья драти, как у прочих жилецких крестьян, и с живущие пашни государевы всякие волостные подати платити, и помещицкое всякое дело делати, и пашни на ней пахати, и денежной оброк, чем он изоброчит, платити, и со всякого хлеба изо ржи и из яри пятинное давати ежегод, и жити тихо и смирно, корчмы и блядни не держати и никаким воровством не воровати и с его поместной деревни, где он, князь-боярин Симеон меня посадит, не сойти и не сбежати, а во крестьянство и в бобыльство ни на котору землю, ни за монастыри, ни за церкви, ни за помещики, никуда не переходити. А нечто аз, Васька, нарушу сие, и где меня князь-боярин Симеон с сею жилецкою записью сыщет, и аз, Васька, крепок ему во крестьянстве в его поместьи, на тое деревню, где он меня посадит, да ему ж взяти на меня заставы четыре рубли московских.
Выводков рассеянно слушал и сочно зевал.
Подьячий передохнул и сунул ему в руку перо.
– Аминь!
– Аминь! – выплюнул сквозь зубы холоп и склонился над кабалой.
– Об этом месте крестом длань свою закрепи, – нетерпеливо притопнул подьячий.
– Мы и граматичному учению навычены, не токмо крестам!
И с огромным трудом Васька вывел:
Васька сын Григорьев Выводков рубленник.
Подьячий присвистнул от удивления:
«Разрази мя Илья-пророк, ежели видывал аз грамоте навыченных смердов!»
Он оттопырил тонкие губы и таинственно шепнул на ухо ухмыляющемуся кабальному:
– Уж доподлинно ль бобыль ты? Не из соглядатаев ли худородных?
Васька испуганно отступил.
– Живу, како дал Господь живота. Про свары господаревы не разумею и в языках не хожу. – И, стукнув себя в грудь кулаком: – А токмо, к жалости своей, опричь подписа, не навычен был тем юродивеньким.
Он прямо поглядел в недоверчивые щелочки глаз подьячего.
– Живал аз однова в лесу с блаженным Иовушкой.
Подьячий сморщил открытый, выпуклый лоб и шумно вздохнул.
– Обман ежели, памятуй, не миновать тебе в железы обрядиться. За удур[5], не будь я Ивняк, у нас – во!
В избу вошел надсмотрщик за работами.
– Кланяйся спекулатарю, – ткнул Ивняк Выводкова ногой и передал надсмотрщику кабальную запись.
– Рубленник тебе новый.
Выводков отвесил спекулатарю низкий поклон.
– Разумею и пашню пахати и срубы ставити.
– А и хоромины князь-боярам?
– На том и живу.
Ваську увели на постройку.
На обведенном тыном лугу рубленники ставили повалушу[6]. Глухой подклет уже был почти готов.
Староста долго опрашивал Выводкова, пока, наконец, задал ему несложный урок.
К полудню пришел на постройку боярин. Работные людишки побросали топоры и, распростершись ниц, трижды стукнулись о землю лбами.
Симеон хлестнул в воздухе плетью.
– Робить!
Васька первый вскочил. Князь с приятным изумлением поглядел на статного рубленника.
– Пядей[7] то сила в холопьих плечах! – распустил он в улыбку толстые губы и намотал на палец край волнистой каштановой бороды.
Спекулатарь приложился подобострастно к поле княжеского кафтана.
– По господарю и людишки. Аль вместно князь-боярину Симеону, опричь богатырей, иных холопей на двор свой вводить?
Польщенный князь самодовольно заложил руки в бока.
– Нынче гости ко мне пожалуют.
Он подошел поближе к холопу и деловито оглядел его.
– За столом ходить в трапезной будешь. Пускай бояре поглазеют на богатырей моих!
И, подавив двумя пальцами, в багровых жилках, нос, прибавил, обтирая пухлые руки о полы кафтана:
– Волю аз зрети ныне в хороминах единых могутных холопей!
Сторож на вышке ударил в колокол. Ряполовский вгляделся в расползающуюся тягучей кашицей дорогу.
– Скачут никак?
До слуха отчетливо доносилось чавкающее жевание копыт. За выгоном показались подпрыгивающие колымаги.
Князь развалистой походкой пошел к крыльцу.
Прежде чем сойти с колымаг, гости намеренно долго возились, медлительно складывали на руки согнутым в дугу холопьям шубы и осанисто разглаживали встрепанные бороды.
– Дай бог здоровья гостям желанным! – прогудел Симеон.
– Спаси бог хозяина доброго! – в один голос ответили бояре и подошли к крыльцу.
Ряполовский ответил поклоном на поклон и искоса поглядел, чья голова склонилась ниже.
Дмитрий Овчинин почти коснулся рукою земли. Михаил Прозоровский и Петр Щенятев ткнулись за ним ладонями в грязь. Симеон разогнулся и снова, тяжело отдуваясь, по-бычьи мотнул головой. Овчинин согнул правую ногу и сделал вид, что собирается стать на колени. Тотчас же остальные согнули обе ноги.
Так, стараясь из сил выказать почтение и перещеголять друг друга, долго пыхтели и кланялись хозяин и гости.
Холопи лежали в густом месиве из снега и грязи, не смея пошевельнуть коченеющими пальцами.
Наконец, Ряполовский кивнул тиуну.
Широко распахнулась, повизгивая на ржавых петлях, резная дверь. Гости по одному прошли в сени. Позади всех грузно шагал, вскидывая смешно короткими чурбаками ног, хозяин.
В трапезной все строго уставились на образа и степенно перекрестились.
– Показали бы милость, посидели б с дороги, – предложил Симеон, показывая рукой на обитую алой парчой долгую лавку.
Чинно усевшись, они молча уставились перед собой и вытянули шеи так, как будто что-то подслушивали. У двери, готовый по первому взмаху броситься сломя голову куда угодно, стоял, затаив дыхание, тиун.
Прозоровский заерзал на лавке.
– Аль молвить что волишь? – услужливо подвинулся к нему князь.
– Убери тиуна того.
– Изыди! – тотчас же брызнул слюной Симеон и плотно прикрыл дверь за холопом.
– Язык не притаился бы где? – подозрительно оглядели гости полутемную трапезную.
Хозяин уверенно прищелкнул пальцами и постучал в дубовую стену.
Тиун тенью скользнул в сенях и сунул голову в дверь.
– Слыхать, будто в хороминах людишки хаживают?
Приложив к уху ладонь, Антипка в страхе прислушался.
– Не можно человеку в хороминах быти, коли не было на то твоей милости.
Князь угрожающе взмахнул кулаком.
– Ежели запримечу…
И, легким движением головы отпустив тиуна, раздул чванливо обвислые щеки.
– Без воли моей не токмо человек – блоха не прыгнет!
Овчинин протяжно вздохнул. Ему эхом отозвались Щенятев и Прозоровский.
Симеон Афанасьевич грузно опустился на лавку.
– Сдается мне – невеселы вы.
Щенятев похлопал себя по бедрам и разгладил живот.
– А и не с чего ликовать, Афанасьевич. Слыхивал, поди, каково на Москве?
Хозяин широко раскрыл рот и встряхнулся, точно пес, которого одолели неугомонные блохи.
– Слыхивал. Токмо кручиною не кручинюсь.
Он гулко вздохнул и сверляще пропустил сквозь желтые тычки редких зубов:
– Не бывать тому николи. Краше на Литву податься, нежели глазеть, как хиреет сила земщины.
Овчинин закрыл руками лицо.
– А в остатний раз, егда сидел в думе с бояры, тако и молвил: «Самодержавства, дескать, нашего начало от Володимира равноапостольного; мы, дескать, родились на царство, а не чужое похитили!»
Щенятев заткнул пальцами уши и с омерзением сплюнул через плечо.
– Сухо дерево, завтра пятница… А не той молвью молвить, а не тому ухосвисту вещать.
И, с неожиданной гордостью:
– А мы чужое похитили? Не от дедов ли в вотчинах, како Бог издревле благословил, господарим?
Его рябое лицо подернулось синей зыбью, и багровые лучики на мясистом обрубочке носа зашевелились встревоженным роем паутинных червей.
– А еще да памятует, да крепко пускай памятует великой князь: обыкли большая братья на большая места седати. Не прейти сего до скончания века.
Туго натянутой верблюжьей жилой звучал его голос. И были в нем жестокая боль и упрямая, жуткая сила.
– Да памятует Иоанн Васильевич!
Что-то зашуршало в подполье. Прозоровский торопливо сполз с лавки и приложился щекой к полу.
– Мыши! – выдохнул он и в суеверном страхе перекрестился. – Не к добру, Афанасьевич. Сдается мне – тут под полом и гнездо мышиное.
Овчинин хрустнул пальцами.
– Не к добру. Высоко мышь гнездо вьет – снег велик будет да пути к спокою сердечному заметет.
Симеон Афанасьевич приподнял гостя с пола и затопал ногами.
– Кш, проваленные! По всем хороминам тьмы развелись!
Но тут же хитро прищурился.
– Да и мы не лыком шиты. Не мудрей меня лихо. Ухожу аз в хоромины новые.
Щенятев расчесал пятерней мшистую бородку свою и крякнул.
– Оно, при доброй казне, от лиха завсегда уйти можно.
Заплывшие глаза хозяина полыденно сверкнули.
– Не обидел бог казною, Петрович. В подклете-то во – коробов. – Он широко развел руками и поднял их над головой. – Токмо казною и держимся.
Они снова уселись, успокоенные.
Прозоровский скривил в ехидной улыбке толстые губы.
– А поглазеем, како без высокородных поволодеет великой князь! Како без земщины устоит земля русийская!
И к Ряполовскому, полушепотом:
– Репнин Михайло намедни в вотчину ко мне колымагою заходил.
Симеон насторожился.
– Сказывал, будто в Дмитрове, Можайске да Туле и Володимире по всем вотчинам ропщут бояре.
Щенятев не вытерпел и перебил Прозоровского:
– Дескать, покель время не упустили, – посадить бы на стол Володимира Ондреевича, князь Старицкого.
Кровь отхлынула от лица Симеона. Обмякшие подушечки под глазами взбухли черными пузыречками, а на двойном затылке завязался тугой узел жил.
– А ежели проведает про сие от языков великой князь?
Гости задорно причмокнули.
– Ни един худородный про то не ведает. А среди земщины покель нет языков.
Низко свесилась голова Ряполовского. Зябко ежились тучные плечи его, и испуганные глаза робко прятались в тараканьих щелках своих.
Щенятев раздраженно забарабанил пальцами по столу.
– Аль боязно стало, боярин? – Улыбка презрения шевельнула напыженные усы и шмыгнула в бородку.
Симеон кичливо выставил рыхлое брюхо.
– На ляхов не единыжды хаживал. Противу арматы[8] татарской с двумя сороками ратников выходил. Не страха страшатся князья Ряполовские!
Князь Михайло прищурился.
– Не страха, сказываешь? Так не князя ль великого, Иоанна Васильевича?
Мучительное сомнение охватило хозяина. Ему начинало казаться, что гости, которым он всю жизнь доверял, как себе самому, затеяли против него что-то неладное и пытаются нарочито втянуть в разговор о великом князе. Но больше, чем сомнения, терзала мысль действительной возможности заговора. Если бы нужно было, он не задумываясь стал бы лицом к лицу перед Иоанном и без утайки поведал ему все, что накопилось в душе за последние годы, когда великий князь заметно стал уходить от влияния Сильвестра и Адашева и приблизил к себе родичей жены своей Анастасии Романовны. Но тайно замышлять противу Рюриковичей, богом данных князей великих, но при живом государе отдаться другому владыке – было выше его сил.
Гордо запрокинув голову, он раздельно, по слогам, отчеканил:
– Отродясь не бывало у Ряполовских, чтобы израдою[9] душу очернить перед Господом.
Бояре молча поднялись и потянулись за шапками.
Хозяин растерянно засуетился:
– Негоже тако, хлеба-соли нашего не откушавши. Петрович… и ты, Михайло, да ты, сватьюшко Дмитрий…
Гости отвернули головы и решительно шагнули к двери.
– Негоже нам неподобные словеса твои слухом слушати.
– Сватьюшко! Да нешто звяги аз молвлю? Откель ты те непотребные звяги-словеса спонаходил?
И, заградив своей, колышущейся студнем, тушею выход, вцепился в руку Овчинина.
– Не было воли моей гостей окручинить…
Прозоровский зло передернул плечами.
– А кто израдою окстил нашу затею?
– И не окстил, а по-божьи волил размыслить.
Страх, что бояре покинут его, оставят одного среди назревающего спора земщины с великим князем, заставил смириться на время и заглушить в себе возмущение.
– Поразмыслить волил с другами верными. Нешто же тем согрешил?
Овчинин откинул шапку.
– А поразмыслить и пожаловали мы в хоромы твои.
Усевшись удобней, он прислонился спиной к стене и сурово спросил:
– Пораскинь-ко, Афанасьевич, умишком своим: не израда ли Господу Богу стол московской окружить Юрьиными, а на земщину и не зрети?
Прозоровский стукнул изо всех сил кулаком по своей ладони.
– Попамятуете меня! Лиха беда сызначалу! А и опала не за лесами, а и грамоты наши вотчинные скоро не в грамоты будут.
Уставившись немигающими глазами в хозяина, он приложил палец к губам.
– Затем и пожаловали к тебе, чтобы ведать… – рука мотнулась перед лицом, творя меленький крест, – чтобы ведать, волишь ли ты под заступника стола московского и древних обычаев, под Володимира Ондреевича, аль любы тебе Юрьины?
Ряполовский вобрал голову в плечи и отступил, точно спасаясь от занесенного над ним для удара невидимого кулака. Выхода не было. Приходилось или сейчас же порвать с боярами и отдаться на милость ненавистных родичей Анастасии, или войти в заговор и этим, может быть, удержать в своих руках силу и власть земщины, против которых, несомненно, замышлял великий князь.
– Волю! – прогудел он вдруг решительно. – Волю под Старицкого!..
И по очереди трижды, из щеки в щеку поцеловавшись с гостями, хлопнул в ладоши.
На пороге вырос тиун.
– Пир пировать!
Антипка метнулся в сени.
Ожили низенькие хоромы боярские неумолчным шепотом, звоном посуды и окликами боярских стольников. Долгою лентою построились холопи от поварни и погребов до мрачной трапезной. Людишки ловко передавали от одного к другому кувшины, ведра, братины, полные вина, пива и меда. Стольники расставляли по столу ендовы, ковши и мушермы, жадно раскрытыми ртами глотали вкусные запахи дымящихся блюд и покрикивали на задерживавшихся людишек.
Симеон зачерпнул из братины корец двойного вина боярского и подал старшему гостю – Овчинину. Прозоровский и Щенятев сами налили свои кубки.
Хозяин с укором поглядел на гостей.
– Нынче сам всем послужу.
Отодвинув кубки, налил братину и передал ее князьям.
По долгой холопьей стене беспрестанно скользили новые блюда.
– Пейте, потчуйтесь! – усердно кланялся хлебосольный хозяин. От толокна борода его побелела, а по углам губ золотистыми струйками стекал жир.
Симеон то и дело обсасывал усы, размазывал ладонью потное лицо и вытирал пальцы о склеившиеся стоячими сосульками рыжие свои волосы. От недавнего возбуждения он быстро охмелел и раскис. Гости уже не дожидались приглашения, а молча и усердно пили, закусывая пряжеными пирогами с творогом и яйцами на молоке, в масле, и рыбою, изредка подливая вина в овкач Ряполовского.
Низко склонившись перед Щенятевым, Васька держал на весу огромное ведро гречневой каши.
Князь осоловело уставился на холопя.
– Пригож ты, смерд. В пору тебе не в холопях, а в головах стрелецких ходить.
И, пощупав внимательно, как щупают на торгу лошадей, руки, грудь и икры рубленника, похлопал хозяина по плечу.
– Ты бы, Афанасьевич, меня наградил холопем своим.
Князь приподнял голову со стола, залитого вином, подкинулся всем телом от распиравшей его пьяной икоты и промычал что-то нечленораздельное.
Выводков угрюмо уставился в подволоку и, стиснув зубы, молчал.
Стольники убирали посуду и расставляли новые блюда с курником, левашниками, перепечами и орешками тестяными.
– А к зайцу вместно двойного боярского! – загудел неожиданно Ряполовский и сделал усилие, чтобы встать, но, потеряв равновесие, рухнулся на заплеванный пол.
Овчинин, как сват, принял на себя хозяйничанье и поклонился в пояс гостям.
– Аль у нас потрохи под зваром медвяным не солодки?
Прозоровский с омерзением пресытившегося зверя отодвинул от себя звар и припал распаленными губами к братине.
Князь не отставал. Еле держась на ногах, он кланялся в пояс и упрашивал заплетающимся языком:
– Свининки отведали бы. А то бы гуська да блинов. Ей-пра, отведали бы.
Щенятев тыкался в агатовое блюдце, тщетно пытаясь подхватить щелкающими зубами неподдающийся блин.
– Песню бы, что ли, сыграть? – предложил Прозоровский и, с завистью взглянув на всхрапывающего хозяина, улегся подле него. – Пой, играй, друга, песни веселые! – размахивал он руками и удобней устраивался. – Про славу князей русийских пой песни, други!
И в полусне загнусавил что-то тягучее и бессмысленное.
В окно тыкался серенький и чахлый, как голодный кутенок, выброшенный на дождь, мокрый вечер. В светлице боярыни запутавшимся в паутинную вязь золотым жучком трепетно бился огонек сальной свечи.
Из каморки в подклете, что под трапезною боярскою, крадучись, на четвереньках, выползала чья-то робкая тень.
Глава третья
Тихо в светлице. На полу возится с кичным челом сенная девушка. У ног боярыни измятым грибом прилепилась шутиха. Из-под холщовой рубахи выбилась кривая нога, обутая в расписной серый сапог, и голова на тоненькой шее, в пестром, смешном колпачке, беспомощно вихляется надломленной шапочкой мухомора. В лад движениям чуть вздрагивают бубенцы, каждый раз вызывая недоуменный испуг в злых, раскосых глазах.
У стрельчатого оконца боярышня лениво перебирает в золоченом ларце давно приглядевшиеся забавы. Сонно позевывая, она одной рукой крестит рот, другая безучастно поглаживает сердоликового мужичка.
Боярышне скучно и неприветно в постылом полумраке до одури знакомой светлицы. Чтобы разогнать наседающее раздражение, которое, как всегда, разрядится долгими, обессиливающими слезами, она с неожиданною поспешностью принялась передвигать и расставлять по-новому столы и лавки. Но и это не успокаивало. Глухой шум говора и пьяного смеха, долетавший из трапезной, переворачивал вверх дном всю ее душу, порождал непереносимую зависть и ненависть.
– Матушка! – позвала она сдавленно и, щупая воздух широко расставленными руками, точно слепая, пошла бочком от оконца.
Грузная мамка, бывшая кормилица боярышни, неслышно таившаяся до того в темном углу, подскочила к девушке и привычным движением смахнула с ее краснеющих глаз повиснувшие слезинки.
Шутиха потерлась подбородком о горб и тоненько заскулила.
Боярыня очнулась от забытья и истово перекрестилась.
– Не про нас, не про вас, – вся напасть на вас!
И больно ткнула горбунью ногой в бок.
– Не ведаешь, проваленная, что изгореть может нечто, колико воет пес?
Горб шутихи заходил ходуном от скулящего смеха.
– И доподлинно, боярыня-матушка, проваленная. Токмо кручины тут нету твоей: крещеная аз.
Боярыня сурово сдвинула густо накрашенные брови. Дочь схватила ее руку и задышала страстно в лицо.
– Отбывают, должно.
– Кои там еще отбывают?
Но, догадавшись, подошла тотчас же к оконцу.
На крыльце хозяин лобызался с гостями.
Боярыня с нескрываемой злобой следила за обмякшим после пьяного сна мужем. Улучив минуту, сенная девушка оторвалась от кичного чела и с наслаждением потянулась.
Шутиха потрепала ее костлявыми пальцами по щеке и шушукнула на ухо:
– Передохни, горемычная, покель ворониха наша слезой тешиться будет.
С трудом оторвавшись от оконца, боярыня повалилась на лавку и, сквозь всхлипывания, выталкивала:
– Небось и вино солодкое с патокою лакали. И березовец, окаянные, пили. А чтобы нас с Марфенькой гостям показать – николи, видать, не дождаться.
Марфа обняла мать и хлюпнула в набеленную щеку:
– То-то у меня нынче с утра очи свербят. Ужо чуяла – к слезам неминучим.
Шутиха взобралась на лавку и, как сломанными крыльями, замахала искривленными ручонками.
– Ведут!
Боярыня с дочерью наперебой бросились к оконцу. Гнилою корягою стукнулась об пол сброшенная с лавки горбунья.
Осторожно и благоговейно, как драгоценные хрупкие сосуды, полные заморским вином, несли холопи на руках пьяных гостей. Симеон, поддерживаемый за спину тиуном, отвешивал поклон за поклоном.
Наконец, бояр уложили в колымаги. Застоявшиеся кони весело понеслись к едва видным курганам. Людишки, с факелами в руках, бежали за гостями до леса. Изжелта-красными бороденками струились и таяли в мглистой тиши курчавые лохмы огней.
Ряполовский в последний раз ткнулся кулаком в свой сапог и, повиснув на тиуне, тяжело зашаркал в опочивальню.
Боярыня со вздохом присела у крыни[10].
– Ты бы, Марфенька, в постельку легла бы.
Девушка прижалась щекою к липкой от слез и румян материнской щеке.
– Не люб мне сон. Краше с тобой посидеть.
И, выдвинув ящик, нежно провела рукой по шуршащей тафте.
Мамка достала волосник[11]. Боярыня с гордостью примерила его дочери.
– Твой, Марфенька. А бог приведет, будешь боярыней – эвона, добром коликим отделю.
Любовно и сосредоточенно перебирали пальцы вороха шелка, обьяри, тафты и атласа.
– Все тебе, светик мой ласковый.
Увлекаясь, Ряполовская выдвигала ящик за ящиком.
– Не показывала аз тебе допрежь. Тут и летники, и опашни, и телогреи.
Марфа жадно прижимала к груди приданое. Шутиха, стараясь казаться подавленной обилием добра господарского, то и дело всплескивала руками и тоненько повизгивала.
– Херувимчик ты наш, – чмокала он икры боярышни, – ты к волоснику убрус[12] подвяжи.
Вытянувшись на носках, горбунья повязала убрус узлом на раздвоенном подбородке зардевшейся девушки и застыла в немом восхищении.
– Да тебе не в боярышнях, а в царевнах ходить, – вставила мамка и, считая, что выполнила все требующееся от нее, безразлично уставилась в подволоку.
Молочные лучи месяца улыбчато пробрались в светлицу и легли кружевным рушником на желтом полу. По краям рушника странным зверком кралась густая тень от горба шутихи.
Боярыня встрепенулась:
– Эк, полунощницы мы.
И кликнула негромко постельницу.
* * *
Тиун неподвижно стоял у низкой двери опочивальни. Боярин сел подле окна, налил корец кислого, как запах бараньей шерсти, кваса и залпом выпил.
Антипка грохнулся на пол.
– Князь-боярину на здравье, а нам, смердам, на утешение.
Симеон тупо прислушался.
– Ты, что ли?
– Аз, господарь мой.
Тиун несмело поддался на брюхе поближе к князю.
– Отказчик на дворе сдожидается.
Ряполовский надоедливо отмахнулся.
– Недосуг мне… Утресь.
Поднявшись с пола, Антипка остановился на пороге.
– Сказываю, утресь!
– Тешата охальничает, господарь мой. Отказчика того со двора погнали.
Ряполовский вскочил и по-бычьи согнул багровую шею.
– Абие[13] ко мне доставить!
Тиун шмыгнул в сени. В заплывших глазах боярина сверкнули звериные искорки. Стиснув до боли зубы, он стал у порога.
Отказчик робко склонился перед ним.
– Не моя вина. Не токмо надо мной – над твоим именем глумится! – Он возмущенно подергал кончик жиденьких усов своих. – Тако и лаял: «Ныне, дескать, страдники не ниже высокородных».
– Не ниже?!
Точно клещи, впились в горло отказчика жирные пальцы боярина.
– Убогой сын боярской, Тешата, не ниже вотчинников Ряполовских?!
– Тако и сказывал, господарь! – прохрипел задыхаясь отказчик: – «Мы хоть и малым володеем, а холопей не продаем. Самим надобны нынче».
Симеон на мгновение разжал пальцы, отступил и, размахнувшись, с плеча, изо всех сил ударил покорно стоявшего перед ним человека.
– Добыть! Доставить!
Тиун бочком подвинулся к боярину.
– Дозволь молвить смерду.
И, коснувшись рукою пола:
– Не в диво нам тех людишек у Тешаты отбить. Токмо бы воля твоя.
– На коней! – топал исступленно ногами князь, не слушая Антипку.
– Абие оседлаем. Токмо дозволь молвь додержать.
Широко раздув ноздри, Ряполовский надвинулся на тиуна.
– Не по дыбе ль соскучился?
– От твоей милости, князь, и дыба мне, смерду, великая честь!
Льстивый голос холопя смягчил боярский гнев.
Симеон присел на лавку и, уже почти спокойно, кивнул:
– Сказывай.
– Не смирится Тешата. С тяжбой пойдет на тебя. То ли дело – подьячего, Ивняка Федьку, кликнуть. Умелец подьячий наш ссудные кабалы пером наводить.
Хитрая усмешка порхнула на одутловатом лице Симеона, оживив сморщенные подушечки под глазами. В багровых прожилках нос шумно обнюхал воздух, точно учуяв неожиданную добычу.
– А и горазд ты на потварь, смерд.
– Не потварь, князь, а, коли пером настряпано будет, истинной правдой опрокинется.
И, не дожидаясь разрешения, побежал за подьячим.
Федька спал, когда к нему в избу ворвался Антипка.
– К боярину! – услышал он сквозь сон и обомлел от жестоких предчувствий.
Узнав по дороге, зачем его звали, подьячий облегченно вздохнул и сразу проникся сознанием своей силы.
В опочивальню он вошел неторопливым и уверенным шагом.
Ряполовский не ответил на его поклон и только промычал что-то под нос.
Федька закатил бегающие глаза, деловито уставился в подволоку и размашисто перекрестился.
– Стряпать ту запись, боярин?
– На то и доставлен ты.
Подьячий чинно достал из болтавшегося на животе холщового мешочка бумагу, фляжку с чернилами и благоговейно, двумя пальцами вынул из-за оттопыренного уха новенькое гусиное перо.
– А не будет ли лиха? – полушепотом спросил князь, почувствовав вдруг, как что-то опасливо заныло в груди.
– В те поры казни, господарь.
Ивняк лихо тряхнул остренькой своей головой и накрутил на палец ржавую паклю бородки.
– Не бывало такого, чтоб Федькины грамоты без толку в приказах гуляли.
– Пиши.
– Колико, князь-боярин, долгу на нем у тебя?
Ряполовский хихикнул и махнул рукой.
– Коли умелец ты, сам умишком и пораскинь. Токмо бы ему, смерду, не приведи господь, расчесться не можно бы!
Подьячий почесал пером переносицу и лукаво мигнул.
– Пятьсот, выходит.
– Пиши.
Расправив усы и откашлявшись, Ивняк запыхтел над бумагою.
Окончив, он вытер рукавом со лба пот и торжественно прочитал:
Се аз, сын боярский, Тешата, занял есмы у князь-боярина Симеона Афанасьевича Ряполовского пятьсот рублев денег московских ходячих от Успения дня до Аграфены купальщицы, без росту. А полягут денги по сроце, и мне ему давати рост по расчету, как ходит в людех, на пять шестой. А на то послуси Антип, Тихонов сын, да Егорий, Васильев сын. А кабалу писал подьячей Федька Ивняк.
Князь выправил колышущуюся, как вымя у тучной коровы, грудь и кулаком погрозился в оконце.
– Ужотко попамятует, каково не ниже сести вотчинников высокородных!
Он спрятал кабалу в подголовник и указал людишкам глазами на дверь.
Федька маслено улыбнулся.
– Пригода приключилась какая со мной, осударь!
– А нутко?
– Был боров у меня, яко дубок, да, видно, лихое око попортило того борова.
Симеон неодобрительно крякнул.
– Экой ты жаднющий, Федька!
И, с милостивой улыбкой, перевел взгляд на тиуна.
– Жалую подьячего боровом да ендовой вина двойного.
Отказчик и Ивняк, отвесив по земному поклону, ушли.
Тиун сложил молитвенно на груди руки и задержался у двери.
– Дозволь молвить смерду.
– Ну, чего неугомон тебя в полунощь взял?
– Воля твоя, господарь, а токмо не можно мне утаить.
Мохнатыми гусеницами собрались брови боярина.
– Сказывай.
– Како милость была твоя, неусыпно око держу аз за боярыней-матушкой.
– Не мешкай, Антипка, покель бороденкою володеешь!
– Перед истинным, князь… Глазела… Очей не сводила с гостей твоих… А допрежь того, чтоб приглянуться, колику силу белил извела – и не счесть. – Он огорченно вздохнул и свесил голову на плечо. – И еще тебя в слезах поносила.
Ряполовский раздул пузырем щеки и выдохнул в лицо тиуну:
– Доставить! Принарядить и немедля доставить!
* * *
Трясущимися руками обряжала постельница перепуганную боярыню. Тиун поджидал в сенях. Когда скрипнула дверь и на пороге показалась Ряполовская, он поклонился ей в пояс.
Постельница смахнула гусиным крылышком пыль с широкого красного опашня господарыни и оправила пышные, свисающие до земли, рукава.
– Сказывал боярин – принарядилась бы ты, матушка.
Постельница пожала плечами.
– Чать, очи-то глазеют твои?
И, точно расхваливая перед недоверчивым покупателем свой товар, чмокающе обошла вокруг закручинившейся женщины.
– Опашень и ко Христову дню не соромно казать: эвона, два череда пуговиц из чистого золота да серебра чеканного. Да и под воротом нешто худ другой ворот? Поди, половину спины покрывает. А шлык на головушке – поищи-ка рубинов таких! Про шапку земскую уж и не сказываю. Парча золотая то, да и жемчуг с бирюзою – како те слезы у боярышень перед венцом.
Покачивая двумя золотыми райскими яблочками серег, боярыня медленно поплыла по полутемным сеням. У двери опочивальни она больно стиснула пальцами грудь и разжала накрашенные губы.
– Господи Исусе Христе, помилуй нас!
– Аминь! – пчелиным жужжанием донеслось в ответ.
Боярыня шагнула через порог и, чувствуя, как подкашиваются похолодевшие ноги, ухватилась за плечо тиуна.
– Садись, Пелагеюшка!
Она поклонилась низко, но не смела сесть.
Оскалив белесые десны, Симеон подавил по привычке двумя пальцами нос и взъерошил бороду.
– А не слыхивала ль ты, Пелагеюшка, от людей, что негоже боярыням на чужих мужьев зариться?
Женщина вздрогнула и попыталась что-то сказать, но только покрутила головой и прихлебывающе вздохнула.
– Нынче поглазеешь, а тамо и до сговора с потваренной бабою[14] недалече.
– Помилуй! Не грешна аз!
Симеон стукнул по столу кулаком.
– Все-то вы одной думкою бабьей живы.
И бросил жестко тиуну:
– Готовь!
Антипка бережно снял с боярыни опашень, летник и земскую ферязь. Остальные одежды сорвал сам боярин и, когда нагая женщина в жутком стыде закрыла руками лицо, бросил ее на лавку.
– Вяжи!
Долго и размеренно хлестал Симеон плетью, скрученной из верблюжьих жил, по изодранной спине жены. Она ни единым движением не выказывала боли и сопротивления, только зубы глубоко вонзились в угол крашеной лавки и ногти отчаянно скребли трухлявое дерево.
Наконец, болезненно хватаясь за поясницу, князь повесил на гвоздь окровавленную плеть и развязал веревки, крепко обмотавшие руки и ноги жены.
Тиун, накинув на боярыню ферязь, вывел ее из опочивальни.
У двери Ряполовская, теряя сознание от невыносимой боли и бессильного гнева, задержалась на мгновение и трижды поклонилась.
– Спаси тебя бог, владыка мой, за то, что не оставляешь меня заботой своей.
– Дай бог тебе в разумение, заботушка моя, женушка! – нежно прогудел князь и подставил жене для поцелуя потную руку свою.
Уже светало, когда Симеон приготовился спать.
Девка придвинула лавку к лавке, расклала пуховики. В изголовье набухла пышная горка из трех подушек.
Покрыв постель шелковой простыней и стеганым одеялом с красными гривами[15] и собольими спинками, девка раздела боярина и без слов шмыгнула под одеяло.
Князь лениво перекрестился. Усталый взгляд его остановился на образах.
– Соромно! – сокрушенно буркнул он в бороду и снова перекрестился.
– Ты мне, господарь?
– Нешто ты разумеешь, сука бесстыжая!
Он суетливо поднялся, снял с себя крест, занавесил киот и, успокоенный, полез в постель.
– Тако вот… Не соромно перед истинным, – широко ухмыльнулся он, облапывая покорную девку.
Глава четвертая
Вечерами медленно поправлявшаяся Клаша с трудом выползала из сарая на двор и нетерпеливо дожидалась возвращения Васьки.
Похлебав пустой похлебки, Выводков забирал свою долю лепешки, луковицы и чеснока и выходил на крылечко.
– Сумерничаешь?
Она отводила взор и, стараясь скрыть волнение, приглашала его побыть подле нее.
Холоп протягивал застенчиво луковицу и лепешку.
– Откушай маненько.
В мягкой улыбке глубже проступали ямочки на матовых щеках девушки, и в наивных глазах светилась материнская ласка.
– Сам бы откушал.
Но Васька строго настаивал на своем и насильно совал лепешку в плотно сомкнутую алую ленточку губ.
– Эдак, не кушавши, нешто осилишь хворь? Ты пожуй.
И прибавлял мечтательно:
– Молочка бы тебе да говядинки.
Она близко подвигалась к нему и не отвечала. Холодок тоненькой детской руки передавался его телу странной, не ведомой дотоле истомой, а едва уловимый, прозрачный запах волос напоминал почему-то давно позабытый лужок на родном погосте, где в раннем детстве он любил, зарывшись с головой в ромашку и повилику, слушать часами баюкающее дыхание земли.
Осторожно, точно боясь спугнуть сладкий сон, Васька склонял голову к ее плечику. Губы неуловимым движением касались перламутровой шеи и потом, оторвавшись, долго пили пьянящие ароматы ее тела.
Так просиживали они, не обмолвившись часто ни словом, до поздней ночи, пока Онисим, незлобиво ворча, выходил из избы и гнал их спать.
С каждым днем уменьшался вес лепешки. В черное тесто все больше подсыпалось толченой серединной коры, и вскоре вовсе исчезли лук и чеснок.
Лишь у немногих холопей оставался еще малый запас мороженой редьки.
На Крестопоклонной боярин в последний раз отпустил людишкам недельный прокорм и наказал больше не тревожить его просьбами о хлебных ссудах.
Пришлось нести в заклад все, что было в клети, на немногочисленные дворы крестьянские, пользовавшиеся особенными милостями Ряполовского.
В каждой губе были свои счастливцы: и дьяки, и князья усердно поддерживали небольшую группу крестьян и пеклись об их благосостоянии.
Так обрастали вотчины преданными людишками, представлявшими собой род крепостной стены, которая, при случае, должна была служить боярам защитой от неспокойных холопей.
В канун Миколина дня, после работы, людишки упали спекулатарю в ноги.
Спекулатарь хлестнул бичом по спине выползшего наперед Онисима.
Старик взвизгнул и, сжав плечи, чуть поднял голову. По землистому лицу его катились слезы; седая лопата бороды, жалко подпрыгивая, слизывала и бороздила дорожную пыль.
– Не с лихим мы делом, а с челобитною.
Глухим, сдержанным ропотом толпа поддержала его.
– Невмочь робить доле на господаря. Измаял нас голод-то.
Один из холопей поднялся и прямо посмотрел в глаза спекулатарю.
– Пожаловал бы князь-боярин нас милостию, да дозволил бы хлеба добыть в слободе аль в городу.
Спекулатарь раздумчиво пожевал губами.
– Доведешь ты, Неупокой, холопей до горюшка.
Резким движением Неупокой провел пальцем у себя по горлу.
– Ежели единого утресь недосчитаешься, – секи мою голову.
Холопи ушли за курганы дожидаться решения князя.
Ваське пришлись по душе слова Неупокоя и смелое поручительство его за целость людишек.
Он отозвал товарища в сторону.
– А что, ежели и впрямь кто не вернется? Отсекут голову – не помилуют?
Неупокой самоуверенно улыбнулся.
– Ежели нету в человеке умишка, буй[16] ежели человек, тому и голова ни к чему.
И, ухарски заломив баранью шапку, присвистнул.
– А моя голова при мне будет. Не зря аз во дворянах родился.
Притопывая и напевая какую-то непристойную песенку, он отошел от рубленников и смешался с толпой.
Васька недоверчиво ткнулся губами в ухо Онисима:
– Дворянин?
Старик разгладил бороду и прицыкивающе сплюнул.
– Дворянин. За долги поддался к нашему боярину в кабалу. – Он понизил голос до шепота и подозрительно огляделся: – На словеса солодкие умелец тот Неупокой. Токмо, сдается мне, не зря князь его примолвляет. Не в языках ли держит его.
На дороге замаячила тощая, как высохшая осокорь, тень спекулатаря. Сдержанный говор толпы сразу оборвался и перешел в напряженное ожидание.
Остановившись у кургана, спекулатарь высоко воздел руки и молитвенно закатил бегающие рысьи глаза.
– От господаря нашего, князь-боярина Симеона, благословение смердам.
Холопи упали ниц.
– Внял боярин челобитной. Жалует вас прокормом, кой измыслите сами себе на слободе.
Весело поднялись людишки и поклонились спекулатарю в пояс.
Вечерело. Брюхо неба разбухло черными, слегка колеблющимися облаками. Из леса, цепляясь за сучья и оставляя на них изодранные лохмотья, тяжело ползла на курганы мгла. С Новагородской стороны зашаркал по земле мокрыми лапами промозглый ветер, с неожиданным воем взвился и распорол брюшину неба. На мгновение сверкнула серебряная пыль Ерусалим-дороги[17] и снова задернулась черным пологом. В приникшей траве о чем-то тревожно и быстро зашушукались частые капли дождя. Редкие кусты при дороге обмякли, поникли беспомощно и стали похожи на отшельников, творящих в сырой и тесной пещере бесконечные моления свои.
У починка Васька отстал от товарищей и ощупью пробрался в сарайчик.
Вздремнувшая Клаша испуганно очнулась от прикосновения холопьей руки.
– Ты никак?
И, услышав знакомый шепот, с облегчением перекрестилась.
– Со сна почудилось – домовой соломкой плечо лехтает мое.
Выводков по-кошачьи ткнулся и мягко провел головой по ее шее.
– Вечеряла, Кланя?
Девушка сердито фыркнула и отодвинулась.
– С кем гулял, того и пытай.
Горделивою радостью охватили сердце холопа неприветливые слова.
– Выходит, не любы тебе поздние гулянки мои? – И порывистым движением привлек ее к себе.
– Уйди ты, не займай.
Она зарылась головой в солому и смолкла.
Выводков приложился губами к теплому плечику. Клаша не двигалась. Раздражение ее уже улеглось, сменяясь неожиданно охватывающей все существо истомною слабостью.
– Да не с девками аз гулял, а с иными протчими сдожидался боярской воли в слободу идти за прокормом.
Залихватски присвистнув, он до боли сжал покорно поддающуюся прохладную руку.
– Обойди меня леший в лесу, ежели не сдобуду для сизокрылой моей молочка да и жиру бараньего на похлебку!
Лицо девушки ожило в мягкой улыбке. Насевшие было сомнения растаяли, как на утреннем солнце туман.
– Ничего мне не надобно… Токмо бы…
Клаша стыдливо примолкла, но тут же закончила торопливо:
– Токмо бы ты в здравии домой обернулся.
Рубленник поцеловал ее в щеку и встал.
– Прощай. Не отстать бы от наших.
Он приложил руку к груди и тряхнул головою.
– Ежели б ведомо было тебе, Кланюшка, колико ношу аз в сердце своем к тебе…
И, не договорив, побежал из сарая вдогон толпе, крадущейся в кромешном мраке к слободе.
Холопи остановились у заставы для короткого отдыха.
Дождь прошел, но тьма, окутанная могильною тишиной, казалась еще плотнее и непрогляднее. Напряженный слух не улавливал ни единого шороха жизни. Не тревожили даже шаги дозорных стрельцов, укрывшихся в вежах[18] от непогоды.
Первым поднялся Неупокой.
– Абие и починать! – объявил он решительно и разбил людишек на три отряда. – Како станем по середу и краям, тако свистом первую весть возвестим. А по второму свисту жги, не мешкая!
Промокшие насквозь холопи послушно поползли в разные стороны.
Короткий свист прорезал настороженную мглу.
Сбившиеся в кучку стрельцы мирно дремали в веже. Один из них лениво встал, но, выглянув на улицу, вернулся поспешно к товарищам. Зябко поеживаясь от пронизывающей сырости, он нахлобучил на глаза шапку, сочно и протяжно зевнул.
– А? Кличут никак? – сквозь сон промычал сосед и тотчас же стих.
Черными призраками неслышно сновали холопи, ощупью добывая солому.
Неупокой переждал немного и дважды оглушительно свистнул.
Стрельцы вскочили и, толкая друг друга, выбежали из вежи. Но предупредить пожар уже было поздно. В разных концах слободы, низко над землей, поползли зловещие алые змейки. Они вытягивались истомно, набухали, прыгали игриво все выше и дальше, переплетаясь чудовищными, живыми жгутами. Соломенные крыши смачно запыхтели искрящимися трубками, высоко выплевывая в небо клубы черного дыма.
– Горим!
Отчаянными криками, воплями детей, голосистыми бабьими причитаниями загомонила слобода.
В диком страхе метались по улице, точно загнанные в ловушку звери, теряющие рассудок люди.
С улюлюканием, свистом и гоготаньем бросились холопи в охваченные полымем избы.
* * *
Нагруженные слободским добром, людишки боярские возвращались лесом домой. Васька отказался от своей доли полотна, кож, полуобгоревшей утвари и одежды, променяв это добро на огромного барана, мушерму молока и пышную ковригу ржаного, медвяно пропахнувшего хлеба.
Ночную темь то и дело рвали сухие выстрелы и песни стрел. Но в лес стрельцы не решались идти.
В ближайшую губу скакал с донесением ратник.
В глухой чаще головной отряд холопей, под воеводством Неупокоя, расположился на пир. Устроившись в медвежьей берлоге, людишки вкатили туда три бочонка с вином.
Неупокой ударил обухом оскорда по днищу.
– Пей, душа разбойная!
Шапками, пригоршнями, лаптями, перепачканными в глину и грязь, черпали холопи и с веселыми прибаутками пили вино. Изголодавшиеся рты жадно тянулись к хлебу, салу и луку. Зубы по-волчьи разрывали истекающее теплою кровью сырое мясо. Ничего не выбросили из берлоги пирующие: требуха, копыта, изглоданные кости, все бережливо набивалось за пазухи и в рогожи, про запас на близкие черные дни.
– Пей, веселись! – орал пьянеющий Неупокой и тыкался головой в бочонок.
Кто-то завертелся на одной ноге и вдруг ударил шапкою оземь.
– Песню, други, сыграем!
И затянул разудало:
Уж как бьют-то добра молодца на правеже! Что на правеже ево бьют, Что нагова бьют, босова и без пояса…Остальные подхватили с присвистом и дружно:
Правят с молодца казну да монастырскую!..Неупокой вскочил на опрокинутый пустой бочонок и залился тоненькой трелью:
А случилось ехать посередь торгу Преславному царю Ивану Васильевичу!..Затопали молодецки холопи, понеслись в пляске разгульной и вдруг остановились, притихли. По щекам потянулись пьяные слезы. Они угрюмо затянули на один надоедливый лад:
Уж како смилостивился надежа-царь, Утер слезы добру молодцу на правеже: – Не печалься, не кручинься, смерд, Свобожу тебя словом царскиим…Неупокой взмахнул рукой. Оборвалась тягучая песня. Людишки осовело уставились на темный лес.
– Не, должно почудилось, братцы, – успокаивающе подмигнул коновод и снова рассыпался звонкою трелью:
Жалую тя, молодец, во чистом поле, Что двумя тебя столбами, да дубовыми, Уж как третьей перекладинкой кленовою…И тихим шелестом кончил, уронив на грудь голову:
А четвертой, четвертою тебя – петелькой шелковою…Уверенно, гуськом, шли стрельцы на голоса.
Неупокой первый услышал подозрительный хруст; с бесшабашной песней, пошатываясь, выбрался он из берлоги и приник ухом к земле. До него отчетливо донеслись сдержанные шаги и шепот.
«Нешто упредить смердов? – порхнуло неохотно в мозгу. Острые глаза трусливо зажмурились. – Упредишь всех, выходит, сызнов искать почнут. Краше, сдается мне, самому шкуру-то свою унести!»
И, юркнув за деревья, исчез.
Только когда совсем проснулся день, Неупокой остановился на отдых.
Ощупав за пазухой каравай и увесистый кусок сала, он выбрал место поглуше и улегся.
«До городу только дойти бы! – шевельнулись насмешливо губы. – А тамо сызнов хозяин яз».
Он зло стукнул по земле кулаком.
«И не токмо дворянством сызнов пожалуют. Будет час добрый – такой чести дождусь: сам боярин в пояс поклонится».
Мысли переплетались беспорядочно, путались и тонули в баюкающей пустоте.
«Ужотко, потешу вас Володимир Ондреевичем, Старицким-князем».
Тело вытягивалось и млело. Глаза смежал крепкий, запойный сон.
Глава пятая
Васька так обрядил нутро повалуши, что сам Ряполовский, в награду, допустил его при всех рубленниках к своей руке.
Это была великая честь для холопя и сулила ему большие корысти. Сам спекулатарь в тот день не только пальцем не тронул Выводкова, но после работы удостоил его несколькими дружескими словами.
Людишки стали искоса поглядывать на товарища.
– Уж не в языки ли пошел к боярину? – шептались одни. – Не зря господарь примолвляет кабальных. Ведома нам его ласка!
Другие восхищенно показывали на повалушу.
– Сроби-кась чудо такое! Да за эту за творь не токмо к руке – в тиуны не грех умельца пожаловать!
И подлинно: было на что поглядеть и полюбоваться: подволока шла не в причерт с вытесом, не ровно и гладко, а кожушилась затейливыми узорами и то собиралась розовым, в коротеньких завитках, барашковым облачком, то стремительно падала и стыла над головой бирюзовыми волнами. Из присек, за исключением красного угла, расправив крылья, выглядывали головы херувимов, точь-в-точь такие, как на фряжских[19] картинках; а на крыльце, по обе стороны двери, на кирпичных подставах, выкрашенных под тину, тянулись к небу два белых лебедя.
В воскресенье у повалуши собрались вотчинные людишки. С ними, опираясь на посошок, пришла и Клаша подивиться затеям рубленника.
Васька, сияющий, объяснял увлеченно толпе, как нужно вытесывать из камня и дерева фигуры зверей и птиц.
Увидав девушку, он, позабыв осторожность, бросился к ней и увлек на дальний луг.
– Попадись спекулатарю аль тиуну, – живым манером уволокут тебя к боярину постелю стелить!
Клаша покорно свесила голову:
– Выпадет долюшка человеку – нигде от нее не схоронишься.
И, меняя неприятный разговор, упавшим голосом поделилась последнею новостью:
– Спосылает меня тятенька с девками нашими за милостыней в губу.
Выводков оторопело захлопал глазами.
– Где же тебе покель дорогу держать? Не дойти тебе!
Она подняла на рубленника с глубоким чувством признательности глаза и, ничего не ответив, повела его в починок.
За трапезой Васька почти не коснулся похлебки и все время неприязненно хмурился.
Когда людишки ушли из избы, Онисим скривил насмешливо губы:
– Не допрежь ли сроку кичишься?
– Христарадничать?! Хворой?! – процедил сквозь зубы с присвистом рубленник.
У старика отлегло от сердца.
– А аз было на милость своротил господарскую. Эвона, пошто и не глазеешь на меня, старика! – С ласковой грустью он погладил Выводкова по широкой спине. – Нешто аз для своей лихвы? Нешто краше ей станется, коли на пашню погонят?
Васька присел на край лавки и в мучительном сомнении потер ладонью висок.
– А ежели челом бить князь-боярину?..
Старик понял, о чем хочет сказать холоп.
– Авось и подаст господь. Сказывают, старостой замыслил поставить тебя князь над рубленниками. – И, помолчав, нерешительно прибавил: – Доробишь хоромины – замолвь словечко. Может, и впрямь пожалует боярин без греха побраться вам с Кланькою.
Васька вызывающе поглядел на Онисима.
– Утресь ударю челом! А тамотко поглазеем про грех!
Обратившись к иконе, старик набожно перекрестился и потом зашамкал:
– Особный ты, Васька. Поперек жизни норовишь все идти. Слыханое ли дело, чтобы лицом пригожая девка из-под венца напрямик в господареву постелю не угодила?
Оба притихли, подавив тяжелый, полный безнадежности вздох.
* * *
С той поры, как ушла Клаша с девками христарадничать, Выводков так усердно работал, что вскоре Ряполовский пожаловал его старостою над рубленниками.
От повалуши к будущим хоромам протянулись обширные сени, а вертлявая, как ручей за починком, кленовая лесенка под тесовой кровлей вела в сенничек.
Ввечеру как-то, с соизволения Симеона, боярыня повела дочь поглядеть постройку. За нею потянулись сенные девки и мамка. Впереди, на четвереньках, весело лая, подпрыгивала шутиха.
Широко раздув ноздри, Марфа слушала рассказы матери. В сенничке она сложила руки крестом на груди и стыдливо зажмурилась. Боярыня молитвенно уставилась ввысь.
– Благословит Господь сыном, – тут ему и постеля брачная будет с молодою женой.
Она привлекла к себе дочь.
– И у него, у суженого твоего, ряженого, тако же все содеяно. Поглазей-ко на подволоку.
Мамка поучительно пробасила:
– Та подволока завсегда тесовая деется, без сучка и задоринки.
Горбунья шлепнула себя гулко ладонями пониже спины и радостно завизжала:
– А на подволоке ни пылинки земли. Ни тебе духу земляного не сыщешь.
И, став на голову, забила в воздухе кривыми ногами.
Несильным ударом кулака боярыня повалила на пол горбунью и обратилась таинственно к дочери:
– Николи на подволоку в сенничке земли не сыпят. Чтоб, выходит, в первую ноченьку не углазели молодые над головами праха земного да, не приведи царица небесная, на смерть думушка не опрокинулась.
Из сенничка женщины прошли в подклет.
Боярыня изумленно остановилась на пороге и приказала кликнуть старосту, дожидавшегося со спекулатарем на дворе.
Васька трижды поклонился и, по обычаю, отвел лицо.
– А не люб мне подклет, холоп!
Задетый за живое, Выводков гордо взглянул в лицо Ряполовской. В то же мгновение спекулатарь наотмашь ударил его.
– Не ведаешь, смерд, что псам да смердам непригоже в очи глазеть господарские?!
Холоп слизнул языком хлынувшую из носа кровь и, чтобы сдержать гнев, изо всех сил впился ногтями в кисть своей левой руки.
Боярыня деловито огляделась по сторонам.
– Больно много простору в подклете твоем.
Сдушенно, по-чужому, заклокотали слова в горле старосты:
– Не казне тут положено князь-Симеоном быть, а людишкам жити.
Горбунья прыгнула к холопу и впилась зубами в его колено.
Марфа по-детски забила в ладоши и залилась счастливым смешком.
– Ты перст ему отхвати! За перст тяпни умельца-то!
И, когда горбунья, кувыркнувшись в воздухе, на лету захватила хряснувшими челюстями руку Выводкова и повисла на ней, боярышня застыла оцепенело. Яркая краска залила ее вытянувшееся лицо. Под опашнем часто и высоко вздымались дразняще пружинящие яблоки-груди. Перед повлажневшими глазами, точно в хмелю, запрыгал и закружился подклет.
Ряполовская прицыкнула сердито на дочь и пнула ногою шутиху.
– А видывал ты, чтобы подклет для людишек теремом ставился?
И, уже визгливо, задыхаясь от гнева:
– Видывал, чтобы кречет с выпью во едином гнезде гнездились?!
Сплюнув гадливо, она важно выплыла из подклета.
Поутру князь вызвал к себе холопа.
Васька узнал от спекулатаря, что боярыня виделась с мужем, и решил взять хитростью.
Смиренно выслушав брань, он чуть приподнялся с пола и заискивающе улыбнулся.
– Нешто не ведаю аз, что токмо господаревым разумением земля держится?
– А пошто смердам терема ставишь?
– Дозволь молвить, князь-господарь! – И – молитвенно: – По хороминам и подклет. Таки хоромины сотворю, – ни у единого другого князя не сыщешь! – С каждым словом он увлекался все более. – Самому великому князю не соромно таки хоромины на Москве ставить!
Симеон, захватив в кулак бороду, мерно раскачивался. Речь холопя пришлась ему по душе. Он уже отчетливо видел и гордо переживал восхищение соседей перед будущими хороминами, их зависть и несомненное желание купить или каким угодно средством выманить у него рубленника.
– Гоже! Роби, како сам умишком раскинешь.
Васька стукнулся об пол лбом и отполз к выходу.
– Токмо памятуй: не потрафишь – на себя, умелец, пеняй!
Еще усерднее прежнего принялся Выводков за работу.
К концу месяца вернулась из губы Клаша.
Прежде чем поздороваться с гостьей, рубленник с гордостью объявил:
– Не зря хоромины ставлю.
Она обиженно надула губы.
– А мне и невдомек, что ты, опричь хоромин, не поминал никого.
Васька сжал девушку в железных объятиях своих.
– Ничего-то ты, горлица, не умыслишь! По хороминам и доля наша с тобой обозначится.
Он увлек ее в сарайчик и с воодушевлением рассказал о своей затее.
– Колико раз зарок давал рушить темницы холопьи…
– Ну и…
– Ну и рушу!
Девушка пытливо заглянула в его глаза.
– Не поднес ли тиун вина тебе ковш?
Выводков набрал полные легкие воздуха и шумно дыхнул в лицо Клаше.
– Опричь воды, и не нюхивал ничего. – Голос его задрожал. – Не можно мне глазеть на подклет и хоромины в вотчинах господарских. В хороминах и простору и свету, колико хощешь…
Клаша сочувственно поддакнула:
– Нешто не ведаю аз, что в тех подклетах впору не людишкам жить, а мышам гнезда вить?
Он высоко поднял голову и заложил руки в бока.
– И запала мне, Клашенька, думка таки хоромины сотворить, чтобы подклет с терем был, а терема чтобы вроде звонницы держались да и не рушились.
Девушка тревожно поднялась и перекрестилась.
– А не ровен час – рухнут хоромины?
Рубленник уверенно прищелкнул пальцами:
– Тому не бывать. Все по земле мною расписано.
Раздув торопливо лучину, он провел палкою по земле несколько линий.
– Ежели к тоей балке вторую таким углом приладить, вдвое крат выдержит на себе ношу. Потому аз тако разумею: не силы страшись, а ищи ту середку, куда сила падает.
Один за другим обозначались на земле затейливые узоры и стройный ряд кругов и многоугольников.
По-новому, властно и вдохновенно звучали его слова.
Клаша ничего не понимала. Но она и не пыталась вслушиваться в смысл речей. Ей было любо не отрываясь глядеть в затуманенные глаза, отражавшие в себе такую безбрежную глубину, что захватывало дыхание и от сладкого страха падало сердце. Чудилось, будто уносилась она куда-то в неведомый край, где воздух синь, как глаза вошедшего в ее душу этого странного, так не похожего на других человека, где не видно земли и со всех сторон из-за прихотливых звездных шатров льются прозрачные звуки неведомых песен, таких же желанных, смелых и гордых, как его неведомые слова.
Васька неожиданно рассмеялся:
– Да ты никак малость вздремнула?
Она вздрогнула и прижалась к его груди.
– Сказывай, сказывай… – И, одними губами: – Радостно мне, Вася, и страшно…
– Страшно пошто?
– Памятую аз, еще малою дитею была. Приходил к нам умелец однова. Горазд был на выдумку особную – выращивать яблоки. А еще умел на воду наговаривать: покропишь той наговоренной водою кустик, николи мороз не одюжит его. Боярин заморские кусты держал, и ништо им: никаки северы не берут.
Выводков любопытно прислушался.
– И каково?
Она печально призакрыла глаза.
– Из губы приходили. Да суседи, князь-бояре с монахи, пожаловали. Дескать, негоже холопям больше господарского ведати. И порешили, будто умельство у выдумщика того от нечистого.
– Эка, умишком раскинули, скоморохи!
– Про умишко ихнее аз не ведаю, а человека того огнем сожгли.
Болезненно морщился огонек догоравшей лучины. На стенах приплясывали серые изломы теней. В щели скудно сочилась лунная пыль, в ней таял любопытно подглядывавший из-за кучи тряпья на людей притихший мышонок.
Васька взял девушку за подбородок.
– Авось меня не сожгут.
Она отстранила его руку.
– Не гадай ты, Васенька, долю.
И всхлипнула неожиданно.
Растерявшийся рубленник подхватил ее на руки и, как с ребенком, забегал с ней по сараю.
– Мил аз тебе аль не мил?
– Милей ты очей мне моих. И то, все думаю-думаю, каким приворотным зельем душу ты мою опоил?
Он сел на чурбачок и коснулся губами ее щеки.
– Поставлю хоромины – челом ударю боярину. – И с глубокою верою выдохнул: – За умельство мое отдаст мне князь тебя в женушки без греха.
Обнявшись, они трижды строго поцеловались, как будто сотворили обрядное таинство.
Выводков неохотно пошел из сарая. У выхода он задержался и поманил к себе застыдившуюся девушку.
– А ежели не отдаст без греха, – мне все дорожки в лесу – родимые. Уйдем мы с тобой в таки чащи дремучие, ни един волк не сыщет.
Он тревожно заглянул в ее глаза.
– Аль не пойдешь?
И уловив ответ по преданной, детской улыбке, победно тряхнул головой и скрылся.
Глава шестая
Сын боярский Тешата изоброчил своих людишек двумя сотнями локтей[20] холста, контырем[21] воску, батманом[22] ржи и двадцатью рублями денег московских ходячих.
Воск холопи собрали за один день в лесу, в пчелиных дуплах. На другое утро людишки разбились на два отряда: женщины и малые дети ушли за подаянием на погосты и в город, а мужики двинулись к Хамовничьей слободе и, дождавшись тьмы, ринулись на грабеж.
Чем изоброчил Тешата своих холопей, тем и выплатили ему без остатка в недельный срок.
В убогой колымажке, нагруженной собранным добром, уехал сын боярский по вызову к недельщику[23].
Он не знал, зачем его вызывают, но, на всякий случай, запасся гостинцами.
Далеко от погоста Тешата остановил лошадь, выпрыгнул из колымажки и пошел сутулясь к серединной избе.
– Господи Исусе Христе, помилуй нас! – нараспев протянул он, низко кланяясь в двери.
– Аминь! – донесся в ответ сиплый басок.
Гость вошел в избу, трижды перекрестился на образа и коснулся рукою пола.
Хозяин сидел, уткнувшись кулаком в жиденькую бородку свою, и на поклон не ответил.
«Лихо, – болезненно скребнуло в сердце Тешаты. – Не зря, кат, закичился».
Однако он ни одним намеком не выдал своего беспокойства и, сохраняя достоинство, отступил к выходу.
– Мы, доподлинно, невысокородные будем, а и не в смердах рожденные.
Недельщик подергал бороденку свою и, подобрав рассеченную губу, захватил ею в рот жесткую щетинку усов. Сын боярский пристально вглядывался в лицо недельщика, тщетно пытаясь прочесть в бегающих паучках чуть поблескивающих зрачков причину вызова его на погост.
После длительного молчания хозяин пошевелил, наконец, в воздухе отставленным указательным пальцем.
– Быть тебе, человек, на правеже.
Он вздохнул и безучастно зажевал заслюнявившиеся усы.
Гость по-собачьи прищелкнул зубами.
– Не боязно мне. Жил аз до сего часу по правде, и ни един человек не должон изобидеть меня.
Недельщик осклабился:
– Ежели по правде живешь, князь-Симеону пятьсот рублев оберни.
Гость от неожиданности шлепнулся на лавку.
– Пятьсот?! Окстись, Данилыч!
Лицо его посинело, как у удавленника, и покрылось коричневыми пупырышками, а концы пальцев заныли, точно окунули их в ледяную воду. Перед ним предстал весь ужас грядущего.
Недельщик потянулся за шапкой.
– К окольничему[24] идем, человек.
Дружелюбная улыбка не сходила с лица.
– Быть тебе, человек, на правеже. Еще по Великой седмице болтали люди про пятьсот рублев.
Тешата ожесточенно растирал онемевшие пальцы и шумно пыхтел.
Едва недельщик взял шапку, он быстрым движением сполз с лавки и стал на колени.
– Данилыч! По гроб жизни молитвенником буду твоим. – И, слезливым шепотом: – В колымажке аз по-суседски гостинчик доставил.
Лицо хозяина сразу стало серьезней и строже. В сиплом баске послышался оттенок участия:
– Ты сядь, человек. Потолкуем по-божьи.
Пошарив за пазухой, сын боярский достал узелок.
– Не взыщи.
Он отсчитал десять рублей и положил их на стол.
– А в колымажке холст, да колико воску, да ржица.
Данилыч недовольно покрутил носом.
– А холст-то, выходит, твои людишки разбоем у хамовников взяли?
– Что ты, Данилыч!
Тешата повернулся к иконам.
– Прими… Зернышка для себя в избе не оставил… Токмо что для окольничего приберег. – И, отставив два пальца, клятвенно прошептал: – Ежели одюжу боярина, всех людишек продам, до денги[25] тебе принесу, да еще две чети[26] пашни твоих.
Горько вздохнув, недельщик примиренно махнул рукой:
– Ладно уж… Токмо для тебя чем сила будет, ужо послужу.
К вечеру Тешата и Данилыч приехали в город.
У окольничего в избе, низко согнувшись, стоял отказчик из вотчины Ряполовского.
Окольничий пересчитывал сложенные в стопочки деньги. Холоп отвесил земной поклон.
– Не трудись, господарь. Денга в денгу – тридцать рублев.
Но окольничий только зло покрутил головой и продолжал кропотливый счет.
Недельщик взглянул в оконце и замер от зависти и восхищения. Тешата робко терся подле холопей, перетаскивавших из колымаги в подклет гостинцы.
Стрелец просунул голову в полуоткрытую дверь:
– Боярского сына приволокли.
Не отрываясь от денег, окольничий приказал позвать недельщика.
Данилыч шагнул через порог и сочно причмокнул.
– Ты бы подсобил, Данилыч, чем зря глазеть. – И, с таинственною улыбкою: – Слюни-то подбери. Чай, и тебе доля тут полегла.
Покончив со счетом, окольничий выделил несколько стопочек для недельщика, а остальные сгреб в мешочек и хлопнул в ладоши.
– Веди подьячего и сына боярского, – бросил он сонно появившемуся у двери стрельцу.
Заломив больно руки, слушал Тешата, как читает подьячий ссудную запись. На его выпуклом лбу проступил крупными каплями пот. По короткой шее вертляво скользила вздувшаяся синяя жила.
– Повинен ты в том, что по сроце не вернул ссуду князю-боярину.
– Облыжно, осударь, оговорил меня тот Симеон. Николи ссудной кабалы мы с ним не писали.
Подьячий хихикнул в кулак и неожиданно плюнул в лицо Тешате.
– Не вели печенегу[27] бесчестить меня!
Стрелец и отказчик схватили Тешату за руки.
Окольничий топнул ногой.
– Ежели перстом шевельнешь, в железы обряжу!
Подьячий обиженно сморщился.
– Бесчестить честного можно. А сей по делом своим, яко та блудница. Глаголет же мудрость: плюй в очи блуднице, она же рече: се в очесах моих плювия[28] Божия.
Пришибленный взгляд сына боярского тщетно бегал по лицам, ища защиты. Но никто не обращал на него больше никакого внимания. Взоры всех были устремлены на подьячего, выводившего на твердой волокнистой бумаге постановление.
Окольничий, прежде чем подписать грамоту, повернулся к образам и прочел молитву. Остальные молча перекрестились. Тешата стоял, прислонившись бессильно к стене, и ждал решения. Точно продолжая молитву, в один скорбный лад, окольничий объявил, что с должника взыскивается вся ссуда с приростом.
Лютый гнев охватил оговоренного.
– Отдай мшел[29], христопродавец! – заревел он и вцепился в горло недельщику.
Данилыч ловким движением вырвался, юркнул за спину стрельца и смиренно опустил глаза.
– Не гневаюсь аз на сего человека за потварь. Се он не от умишка, а от кручины потварит на меня.
В ту же ночь Тешата пошел колымагою на Москву с челобитною.
Но в Москве, в приказе, его не приняли. Изо дня в день приходил он к порогу приказной избы и простаивал там до позднего вечера.
Наконец, над ним сжалился один из подьячих и, отозвав в сторонку, полюбопытствовал, какие привез он с собою дары.
Жалобщик воздел к небу руки.
– Видит бог, все отдал недельщику и окольничему!
Подьячий присвистнул.
Ожесточенно дергая головой, Тешата горячо рассказывал о сотворенной над ним неправде.
Сложив руки крестом на груди, подьячий строго прищурился.
– Да ведомо тебе будет до скончания живота, что всяк окольничий в губе от московского приказа поставлен творить волю великого князя.
Махнув рукою на все, оговоренный вернулся с сопровождавшим его стрельцом в губу.
Окольничий не пожелал слушать его и выслал на двор подьячего.
– Волю аз по обычаю древлему тяжбу нашу с Симеоном разрешить единоборством, – вызывающе объявил Тешата, глядя куда-то в пространство.
– Добро, – похвалил подьячий и оттопырил презрительно губы. – Охоч аз поглазеть, како поборются худородный с боярином.
* * *
Тешата продал все, что было в его усадьбе. Однако, подсчитав деньги, он понял, что на них не удастся ему подкупить бойца. Его людишки несколько раз пытались нападать на посады, но их всюду ждала неудача. Стрелецкие головы обыкновенно, из боязни вызвать гнев вотчинника, смотрели сквозь пальцы на грабежи боярских холопей. Тут же они отдали строгий приказ неотступно следить за деревушкой Тешаты и не допускать разбоя.
Пришлось скрепя сердце продать часть людишек и добрую половину земли.
Накануне борьбы оговоренный передал бойцу все свои деньги и ссудную кабалу, по которой обязался выплатить в два года двести рублей.
Боец сунул деньги за пазуху и сжал, как тисками, в своей руке руку Тешаты.
– Не кручинься и веруй.
Он хвастливо выгнул железную грудь и так стукнул ногой, что на голову хозяина упала сорвавшаяся с гвоздя икона и с шумом, точно от порыва буйного ветра, широко распахнулась дверь.
– Не бывало такого, чтоб уж орла одолел!
* * *
В Ольгин день торжественно служили попы молебен о даровании победы князь-Симеону.
Сам Ряполовский с женой не поднимался во все время службы с колен и ревниво бил поклон за поклоном.
Перед выходом из церкви боярыня передала протопопу парчовую плащаницу, расшитую ею самой.
– А ну-ка-тко, пускай Тешата такою жертвою пожалует Сына Божьего, – шепнула она с кичливой улыбкой мужу и набожно перекрестилась.
– Пошли, Господи, ворогам погибель.
На лугу, перед палатами Ряполовского, собрались людишки со всех деревень и починков. В стороне, тесно держась друг около друга, неуверенно переминались холопи Тешаты. Посреди луга, на высоком помосте, убранном медвежьими шкурами, на резном кресле работы Выводкова важно развалился князь Симеон. Ниже его уселись двое соседей-бояр, за ними – окольничий, а по краям – дьяк и подьячие.
Бойцы, дожидаясь сигнала, не спускали глаз с тяжущихся.
Едва боярин взмахнул плетью, окольничий вскочил и громовым голосом обратился к бойцам:
– Колико ведомо всем, по обычаю древлему, егда не по мысли кому, каково тяжба в приказной избе утвердилась, дадено тому царевыми милостями соизволение стребовать с того приказу бойцов. И бысть тако: кой боец одолеет, той тяжебщик и прав перед Господом. И положил приказ двух бойцов: Шестака – Тешате, князь же Симеону – Беляницу. А одолеет Шестак – правда Тешаты, а по Белянице – за князем верх.
Непривычный к долгим речам и чувствуя, что весь запас слов истекает, он сдвинул брови и погрозил бойцам кулаком:
– Вы, псы смердящие! Ужо аз покажу! Нелицеприятно, верой боритесь!
Ряполовский во второй раз хлестнул плетью. То же проделал Тешата.
По толпе прокатился нетерпеливый гул и оборвался.
Бойцы схватились. Лица их налились кровью. На бритых затылках багровыми канатами переплелись тугие жилы.
Тешата лязгнул зубами и пробился вперед.
– Кадык перекуси проваленному! Хрясни его по харе богопротивной!
При каждом удачном ударе он подпрыгивал высоко, хлопал исступленно в ладоши и пугал окружающих похрюкивающим хохотком обезумевшего человека.
– Кадык проваленному!
Из-под изодранных красных рубах бойцов проглядывали окровавленные клочья мяса. На изуродованных лицах страшною черною маскою запеклись сгустки крови.
Беляница вдруг зашатался и, вскрикнув, выплюнул сквозь раздувшиеся пузырями губы два зуба.
Шестак уловил мгновение и пригнулся, готовый нанести противнику решительный удар.
Ряполовский схватился за голову. Окольничий подошел к нему и с таинственной улыбкой что-то шепнул.
Но князь, начинавший терять веру, обдал его едкой слюной.
– Да эдак Шестак Беляницу моего одолеет! Да кат вас всех побери, неужто мой мшел мене Тешатинского?!
Дьяк испуганно подвинулся к боярину.
– Не велегласно, господарь, – негоже. – И, с твердой уверенностью: – Не печалься, боярин. Все по чести идет. А знаменье покажу – Шестак абие ниц упадет.
Бойцы катались по земле, тянулись ногтями в глаза, тыкались пальцами в зубы, стремясь разодрать друг другу челюсти. Толпа выла и рокотала, каждым суставом своим подражая движениям бойцов. Казалось, стоило подать сигнал, и все эти возбужденные до последних пределов люди ринутся и на бойцов, и на господарей, не пощадят ни чужих, ни своих.
Симеон потерял остатки терпения. Он отчетливо видел, что Беляница с каждым мгновением задыхается.
– Знаменье! – властно запрыгали мясистые губы его. – Знаменье! Каты!
Дьяк торопливо сбежал с помоста и, вырвав из рук стрельца ведро с водою, облил бойцов.
– Остудитесь, угомон вас возьми! – улыбнулся он, отступая.
Беляница вскочил неожиданно и ударил противника ногой под живот.
Шестак заревел, заметался по кругу и пал на колени.
– Виноват, казни, князь-боярин! – взмолился он, протягивая окровавленные руки в сторону Ряполовского.
Тешата со стоном рухнул наземь.
Симеон ликующе сошел с помоста.
– Одеть его в железы! – приказал окольничий, ткнув плетью в Тешату.
Под бурный смех хозяина и гостей сына боярского уволокли в подвал.
Князь на радостях шлепнул ладонью тиуна по голове:
– Готовь пир пировать да кликни в трапезную боярыню с дочкой.
Глава седьмая
Скованного Тешату уволокли в посад, на торговую площадь, и поставили в одну линию с преступниками, приговоренными к правежу.
Дьяк повернулся к восходу, осенил себя широким крестом и, перелистав судебник, прочел:
«А кто виноват, солжет на боярина, или на окольничего, или на дворецкого, или на казначея, или на диака, или на подьячего, а обыщется то вправду, что он солгал, и того жалобщика, сверх его вины, казнити торговою казнию (бити кнутьем) да вкинути в тюрьму».
Узник понурился и молчал. Дьяк ударил его по лицу кулаком.
– Реки аминь, басурмен!
Лицо сына боярского перекосилось от ненависти.
– Не ведаю в том вины за собой, что боярин облыжно потварь возвел.
Дьяк подал знак и отошел.
Два ката внимательно оглядели батоги, пощупали их так, как гусляр пробует гусли, прежде чем ударить по струнам, и полоснули по обнаженным икрам Тешаты. В то же мгновение зловеще свистнул в воздухе лес батогов.
Горячими жалами впились ремни в ноги людей, поставленных на правеж.
К месту казни не спеша сходились посадские. Они привычно следили за головокружительными, едва уловимыми взлетами бичей и батогов, не выказывая никакого участия к совершаемому, и только когда стоны казнимых становились невыносимыми, немногие незаметно крестились под однорядкою и уходили.
При первых же криках из клетей с веселым гиканьем высыпали полуголые ребятишки. Обгоняя друг друга, спотыкаясь и падая, они неслись по широким, вонючим улицам к торговой площади.
Подьячие расталкивали локтями толпу и пропускали детвору наперед.
– Тако со всяким сотворят, кой кривдой живет, – поучительно обращались они к ребятишкам и многозначительно поглядывали на взрослых.
На краю торга орава подростков затеяла игру в правеж. Толпа позабыла об избиваемых и с наслаждением любовалась потехой.
Шуточные камышовые батоги весело посвистывали в умелых руках и сухо чавкали по ногам.
– Реви! – подбивали посадские.
– Без боли не заревешь! – хохотали подростки.
Мужики бросили на круг горсточку медяков.
Жадно разгоревшимися глазами щупали играющие деньги, но не решались поднять их.
Наконец, выступила небольшая группка ребят.
– Токмо не дюже! – предупредили они, сжав медь в кулачки.
Потешные каты откинули камыш и взялись за настоящие батоги.
– Не дюже! Не дюже! – уже в самом деле ревели избиваемые не на шутку подростки.
Истомившаяся от повседневной скуки толпа надрывалась от хохота.
– Секи на весь мой алтын! В мою голову вали, пострелята!
Дьяки с пеной у рта набросились на ребят и разогнали их.
– Из-за гомону вашего со счету мы сбились, сороки! – И, к катам: – Сызначалу почнемте!
Икры Тешаты разбухли колодами. Отвратительными клочьями висела на них побуревшая кожа. Казнимый не мог уже держаться на ногах; его подвязали к козлам и продолжали порку до тех пор, пока не выполнили полностью положенное число ударов.
К концу обедни пытка окончилась. Бесчувственного сына боярского вновь заковали и уволокли в боярскую вотчину.
Ряполовский, выспавшись, по незыблемому обычаю русийскому, после обеда, приказал вывести заключенного из подвала.
– Изрядно пьян ты, Тешата, коли великое ноги твои имут кривлянье!
И, грозно, холопям, поддерживавшим узника за локти:
– Пустите, смерды, сына боярского!
Тешата зашатался беспомощно и упал кулем под ноги князя.
– А и впрямь добро попировал.
Отступив, Ряполовский шутливо поклонился до самой земли.
– Не покажешь ли нам милость – пятьсот рублев с приростом по чести отдать?
Узник с трудом уперся ладонью в землю и чуть приподнялся.
– Тучен ты больно, боярин! Не разорвало бы тебя от рублев моих.
– На дыбу его!
Короткая шея боярина до отказа втянулась в плечи.
– На дыбу! – И забился в удушливом кашле. Тающим студнем подплясывали обвислые щеки, подушечки под глазами от напряжения взбухли подгнившими сливами, а из носа, при каждом выдохе, с присвистом вылетали и лопались мыльные пузырьки.
Холопи стояли позади, не смея пошевельнуться. Обессиленный князь перевел, наконец, грузно дух.
– Квасу!
Тешату потащили в подвал. Вскоре оттуда донесся сухой хруст костей.
Ряполовский оттолкнул поднесенный холопем ковш и истомно зажмурился.
К нему подошел отказчик.
– Не пожаловал бы ты, господарь, людишек сына боярского к себе на двор согнать?
Боярин погрозился шутливо:
– Гоже бы по чести творить.
Он расплылся в самодовольной улыбке и оскалил желтые тычки зубов.
– Чуешь, хрустит?
– Чую, осударь.
И с трудом выдавил на лице угодливую усмешку.
– Были бы косточки, а хруст для тебя, князь-боярин, завсегда обретется.
Симеон расчесал короткими пальцами бороду, взял ковш и, гулко глотая, опорожнил его.
– Погожу, покель сам в ножки поклонится! – нарочито громко крикнул он, чтоб было слышно в подвале, и, заложив за спину руки, пошел вразвалку к достраивающимся хороминам. – Бери, дескать, все с животом[30], токмо помилуй! Ху-ху-ху-ху!
Васька встретил боярина, распластавшись на крылечке, подле сеней.
– Скоро ли, староста, палаты поставишь?
Выводков поднялся с земли.
– Почитай, готовы без малого. – И, сделав движение к хоромам, согнулся дугой. – Не покажешь ли милость на кровлю взглянуть?
Ряполовский поднялся по винтовой лесенке на кровлю. За ним скользили тенями спекулатарь и староста.
С нескрываемым восхищением любовался князь шатрами-башнями, осторожно ощупывая причудливую резьбу по углам.
Рубленник скромненько потупился.
– С благословения твоего, господарь, сведем мы шатры бочками да окожушим решетинами мелкими.
– Роби, како помыслишь.
Они прошли в терема. Староста с каждой минутой все более смелел, забывая разницу между своим положением и боярским, и держался почти как равный.
– Тут, в чердаках[31], мы окна сробим. А для прохладу твоего – гульбища[32], балясами огороженные. Таки, князь, хоромины будут – малина!
Уходя, Симеон милостиво протянул старосте руку для поцелуя и, сосредоточенно уставившись в небо, тупо обдумывал, какой бы подать холопю, хотя бы для видимости, совет. Он уже начинал сердиться и, чтобы как-нибудь вывернуться, топнул ногой.
– Все ли упомнил?
Едва скрывая презрительную усмешку, Выводков отвел лицо и приложил руку к груди.
– Все, господарь.
Князь неожиданно щелкнул себя по лбу и сразу заметно повеселел.
– Эка, упамятовал! Ты прапорцы[33] сроби на краях чердачных!
Рубленники кончали работу. Завидя боярина, они дружно упали ниц.
Князь устало спустился в подклет.
– А пошто скрыни не сроблены?
Староста собрал морщинками лоб.
– Ни к чему скрыни холопям.
– Хо-ло-пям?
Глыба живота Ряполовского ходуном заходила от смеха.
– Смердов хоромами жаловать?!
Чувствуя, что вместе с нарастающим раздражением к груди подступает порыв кашля, боярин присел на чурбак и осторожно, открытым ртом, вобрал в себя воздух.
Спекулатарь бросился из подклета и тотчас же вернулся с ковшом, полным кваса.
– Испей, господарь!
Симеон пригубил ковш и натруженно встал.
– Завтра же скрыню поставить!
Невеселый шел Васька в починок. Сиротливо болтался за спиною оскорд и глухо звякали на поясе большие ножи.
Клаша поджидала рубленника на огороде. Он присел на меже подле девушки и закрыл руками лицо.
– Об чем ты?
Выводков согнул по-старчески спину.
– Зря палаты те ставлю…
Голос его задрожал и оборвался.
– Аль не любо боярину?
При упоминании о Ряполовском рубленник точно очнулся от забытья и, вскочив, неожиданно разразился жестокой бранью.
Клаша гневно рванула его за плечо.
– По костре стосковался?
Он грубо ее оттолкнул.
– Спалю, а тамо пускай со мною творят, чего пожелают!
Ткнувшись подбородком в ладонь, девушка молча пошла к избе отца. В склоненной на полудетское плечико голове ее, в медлительности шага и чуть вздрагивающей, точно от скрытых рыданий, спине, в тонких изломах всей стройно вылепленной фигурки было что-то до того скорбное и умильное, что у Выводкова, помимо воли, сразу растаял гнев.
– Клаша!..
Лицо его вытянулось и потемнело. Пальцы судорожно щипали русый пушок бороды.
– Не гневайся на меня, бесноватого!..
И, двумя прыжками догнав девушку, благоговейно приложился к шелковому завиточку, непослушно выбившемуся из-под холщовой косынки.
– Не гневаешь ты меня, а кручинишь.
Васька уселся на землю и привлек к себе слабо упиравшуюся Клашу.
– В подклете-то не людишкам быть, а казне. Эвона, како князь обернул.
Она безразлично пожала плечами.
– По моему бы, по девичьему умишку, не все ли едино, где холопю голодную ночь ночевать?
Выводков растерянно захлопал глазами. От простых и спокойных слов девушки ему стало вдруг как-то не по себе.
– А и впрямь, – глухо вытолкнул он из груди, – подклет аз подгонял под хоромины, а пузо холопье не сдогадался замуровать.
– И не кручинься, выходит.
Они умолкли, задумчиво уставившись в тихие сумерки. Над головами неслышно закружилось воронье и устало облепило серую тень придорожной черемухи. Сквозь раскинутый по небу прозрачный покров там и здесь желтыми бабочками ложились звезды.
– Ишь, добра колико! Чать, всю губу прокормишь горохом тем, – болезненно усмехнулся рубленник.
– Грезится тебе, Вася!
– Кой грезится! Ты поглазей, колико пораскинуто в небе золотого горошку.
Клаша укоризненно покачала головой и незло пожурила:
– Охальник ты!
Над вздремнувшим ручьем мирным стадом овец клубился туман. Из-за леса, шурша примятой травой, подкрадывался влажно вздыхающий ветер.
– В избу пора, – поежилась от сырости девушка.
Васька неохотно поднялся.
– Пошел бы аз в лес, да николи не обернулся сюда.
Она ласково прижалась к нему.
– Аль попригожей место сыскал?
– И сыщем! Неужто с тобой доли не сыщем?
И, снова усевшись, Выводков спрятал голову у нее на груди.
– Возьмем мы с тобою на Волгу путь. Слыхивал аз, живут там холопи при полной волюшке да веселье.
Клаша перебирала длинными, тонкими пальцами, пропахнувшими землей и свежей зеленью, его шершавые кудри и о чем-то мечтала.
– Чуешь, девонька?
– Чую, Васек… Токмо… с отцом како быть?.. За нас с тобой забьет князь отца-то…
Васька присвистнул:
– Како, выходит, ни кружи, а дале курганов-то этих нету нам, холопям, дороги.
Неуверенно, точно рассуждая вслух с самой собой, Клаша предложила вполголоса:
– Нешто прикинуть отца подсуседником к твоим старикам?
Губы Васьки передернулись горькой усмешкой.
– Были старики, да все вышли…
– Померли?
– Мать померла, а отец…
Он махнул рукой.
– Да чего тут и сказывать!..
Но сейчас же горячо зашептал:
– Живали мы под Муромом-городом. А пожгли нас татары, отец, с нужды, закабалил сестренку мою за сыном боярским Колядою. Ну, после того подался со мной в будный стан отец смолу варить да лубья драть. Токмо не вышло: перехватил нас отказчик боярской. А прослышал тот отказчик, что не охочи мы в кабалу идти, а и наказал холопям вязать нас. Тут и грех недалече. Отстоял аз свою волю оскордом. Почитай, от головы отказчиковой и следу-то не осталось.
Клаша передернулась от скользнувшего по душе острого холодка.
– Тако и загубил человека?
– Загубишь, коли тебя, яко волка, норовят закапканить. – Он встал и строго уставился в небо. – Негожий обычай спослал Господь кабалою людишек кабалить.
Не помня себя от ужаса и возмущения, девушка истово перекрестилась:
– Не вмени ему, Господи Сусе… Не вмени ему в грех!
Резким взмахом руки Выводков отстранил ее от себя.
– Нету тут греха перед Господом! Не хулу возвожу, а печалуюсь! Поглазел бы он, показал бы нам милость, на холопей своих!
Из груди рвались полные горького возмущения слова. Он не слушал умолявшую его остановиться девушку и ожесточенно кричал в далекое звездное небо, выкладывая немой пустоте все накипевшее горе.
По дороге поползли какие-то странные тени. Клаша зорко вгляделась в мглу.
– Гомонят… – шепнула она испуганно и припала к меже.
Рубленник взялся за оскорд.
– Никак тятенькин голос? – удивленно пожала плечами девушка.
– Не подходи! – замахнулся староста.
Старик попятился в сторону.
– Онисим аз. Аль не признал? – И, поддразнивающе: – Милуетесь, голубки? А аз упрел, вас, охальников, сдожидаючись. – Он подошел ближе. – Людишки наши в посад задумали путь держать, для прокорма, а вы тут челомканьем кормитесь.
Васька заторопился:
– Коль идти, и мы не отстанем.
Губы старика коснулись уха холопя:
– Отказчик, сказывают, веневской тут бродит. Пытает, не охоч ли кой пойти в кабалу к вотчиннику Михаилу.
Охваченный неожиданным сомнением, рубленник судорожно стиснул в руке оскорд.
– Ужо не Клашу ли ты затеял продать?
Старик зло окрысился:
– Пораскинь-ко умишком, соколик. Хлеба-то второе лето нюхом не нюхали – раз; продавали допрежь зерно алтын за четверть, а ныне князь-бояре положили тринадцать алтын – два, выходит… – Он хлопнул себя по бедрам и сплюнул. – Да чего тут и сказывать. Нешто счесть все недохватки холопьи?!
Выводков пронизывающе взглянул на девушку.
– За тобой, Клаша, молвь.
Она растерянно переминалась, не решаясь высказать свое мнение.
– А ежели отказчик тот девок ищет для опочивален боярских? – с присвистом процедил рубленник. – Ежели на погибель дочь отдаешь?
Онисим перекрестился:
– Чему Богом положено быть, то и сбудется. – И с пришибленной покорностью покачал головой: – Да и не все ли едино, где постелю стелить: в Веневе ли аль у князь Симеона.
– Замолкни!
И Васька упал в ноги Онисиму.
– Бога для потерпи. Дороблю хоромины – челом ударю боярину. Авось обойдется, да отдаст он мне Клашеньку без греха…
Обливаясь слезами, Клаша припала к сухой руке отца:
– Перегодил бы, отец…
Онисим растроганно прижал к себе дочь.
– Пошто и не перегодить.
Выводков вскочил, сгреб в объятья старика и трижды поцеловал его из щеки в щеку.
Глава восьмая
Лица Тешаты не было видно – оно обросло дремучею бородой. Клочья волос торчали во все стороны, точно утыканные репейником колючки бурьяна. Из черных провалов под мохом бровей мертво проглядывали пустые зрачки. Под железными обручами, туго перехватившими шею и руки, копошились белые зерна могильных червей. Перегнившие остатки потерявшей цвет епанчи обнажали перебитые ребра и бурые язвы на волосатой груди. Узник был прикован к стене и мог двигать лишь головой и едва касающимися земли разбухшими колодами ног.
Каждое утро сына боярского расковывали и волокли в посад на правеж. Трупный запах приводил в исступление катов. Чтобы поскорее избавиться от пытаемого, они озверело били его по икрам и то и дело, будто невзначай, изо всех сил наносили удары по голове.
Наконец, Тешата не выдержал.
– Все отдаю… И себя… и живот… – задыхаясь объявил он пришедшим за ним катам.
Был праздник. Князь собирался в церковь, к обедне. Тиун и полдесятка холопей помогали ему обряжаться.
На крыльце дожидалась толпа людишек, сопровождавших постоянно боярина в церковь.
Ряполовский надвинул на брови высокую шапку из черно-бурой лисицы с тиарою, поправил на голой шее ожерелье и расставил широко руки. Тиун напялил на него шелковый зипун до колен и торопливо взял с лавки кончиками пальцев кафтан.
Обрядившись в подбитую мехом и разукрашенную золотыми галунами земскую ферязь, Симеон надел камлотовый охабень, накинул поверх него однорядку и, постукивая серебряными подковами расшитых жемчугом сафьяновых сапог, вышел на двор.
Едва появился он на крыльце, холопи пали наземь.
Отказчик стал на колени.
– Тешата челом тебе бьет, осударь.
– Неужто не издох еще гад проваленный?
– Жив, господарь. Сохранил Господь душу для покаяния.
Боярин нахмурился. Жирная складка на багровом затылке свисла на ожерелье, полуприкрыв верхний ряд изумрудов.
– Не Господь, а лукавый!
Отказчик стукнулся оземь лбом.
– А аз холопским разуменьем думку держал, что сжалился Господь над смердом для тебя ради, князь. Чтобы можно ему быть в холопях твоих да зреть силу твою могутную.
Симеон дернул носом и, польщенный, забрал в кулак бороду.
– Не басурмены и мы. Для ради Христа – снимаю железы с Тешаты и жалую его холопем своим.
Подумав, он прибавил твердо:
– Людишек его нынче же согнать ко мне на двор!
Узника спустили с желез и унесли в починок, в избу Онисима.
В тот день не пошла Клаша к обедне. Она остригла больного, вымыла горячей водой и, изодрав единственную рубаху свою на длинные полосы, кропотливо перевязала раны.
Сын боярский доверчиво поддавался девушке и, несмотря на невыносимую боль, не проронил ни единого стона.
Онисим натаскал в сарай свежего сена и, с помощью дочери, уложил Тешату на душистой постели.
В первый раз за долгие месяцы больной поверил в возможность выздоровления. Об утерянной воле и разорении как-то вовсе не думалось. Да и можно ли еще чего желать, когда каждым мускулом и суставом своим чувствуешь, как радостно бежит по жилам согревшаяся вдруг кровь и как заморским вином вливается в душу и воскрешает ее пьяный аромат неподдельного, так недавно еще казавшегося навеки утраченным, чистого воздуха.
На просвечивающемся лице, точно солнечные лучи в застоявшейся лужице, скользнул бледновато-грязный румянец, а ввалившиеся глаза подернулись мягким счастливым теплом.
Встать бы сейчас, стремглав броситься в широкое поле, захлебнуться в вольных просторах и кричать так, чтобы вся земля клокотала, как могуче клокочет в груди радость жизни!
Тешата сжал кулаки и приготовился крикнуть. Он не заметил, что, вместо крика, в горле бурлит какой-то странный и жуткий смешок, и только тогда пришел в себя, когда очнулся от надрывных рыданий.
Онисим ушел в церковь, а Клаша принесла Тешате ломтик заплесневелой лепешки, поднесенной ей накануне рубленником.
– Откушай. В воде помочи и откушай. Настоящая, изо ржи.
Он отстранил ее руку и взволнованно перекрестился.
– Воистину херувима зрю средь смердов!
Хмельной от воздуха и разморенный после еды, Тешата заснул. Девушка на носках ушла из сарая и занялась по хозяйству. Для праздника она решила попотчевать рубленников гусем, добытым в последний набег на посад.
Зажав в кулак голову птицы, Клаша заглянула в сарай. Сын боярский болезненно взвизгивал и тяжко стонал во сне. Она вышла, растерянно оглядываясь по сторонам. На уличке не было ни одного мужика: все разбрелись по окрестным посадам за милостыней и в церковь.
Гусь трепетно бился в руках, рвался на волю. Клаша сунула за пазуху нож и уселась в лопухе у дороги. Вскоре она увидела медленно шагавшего к ней из леса Ваську.
– С гусем тешишься? – улыбнулся рубленник, поравнявшись с девушкой, и бросил к ее ногам зайца. – Тепленькой. Прямехонько из силка.
– Зарезать некому гуся того. Ушли мужики, – пожаловалась Клаша, протягивая полузадохшуюся птицу.
Он подразнил ее языком.
– Неужто гусенка не одолеешь?
Клаша надулась.
– Все-то вы до насмешек охочи. Моя ли вина в том, что опоганится живность, ежели ее не человек, а девка или баба заколет?
Выводков звонко расхохотался.
– Аль и впрямь опоганишь?
– Отстань ты, охальник!
И сунула ему в руки птицу.
– Покажи милость, приколи ты его, Христа ради.
Холоп облапил тоненький стан девушки и увел ее за поленницу.
– Держи-ка его, милого, промеж колен. А подол эдаким крендельком подбери.
Подав свой нож, он шутливо притопнул ногой.
– Секи!
Клаша зажмурилась и упрямо затрясла головой.
– Не можно… Избавь… От древлих людей обычай тот – не резать бабе живности.
Рубленник помахал двумя пальцами перед лицом своим, творя меленький крест.
– Заешь меня леший, коли единый человек про то проведает.
Нож вздрагивал в неверной руке, пиликая залитое кровью горло гуся. Жалость к бьющейся в предсмертных судорогах жертве и страх перед совершенным грехом смешивались с новым, доселе неведомым чувством к рубленнику.
Вытерев о лопух руки, Клаша почти с гордостью запрокинула голову. То, что мужчина, в первый раз за всю ее жизнь, дерзко насмеялся над обычаем старины и что она, с относительной легкостью, попрала этот обычай, – вошли в нее шальным озорством и неуловимым осознанием своего человеческого достоинства.
К полудню вернулись из церкви рубленники и тотчас же уселись за стол.
Клаша подала лепешек из коры и пригоршню лука.
Наскоро помолясь, холопи набросились на еду.
– Погодите креститься, – лукаво предупредила девушка, – еще для праздника похлебку подам с гусем да зайцем.
Ее вдруг охватило мучительное сомнение.
«Абие набросятся на меня!» – подумалось с ужасом.
Васька ободряюще подмигнул и показал головой на рубленников, вкусно прихлебывающих похлебку.
После трапезы холопи вышли на двор и, зарывшись в сене, заснули.
* * *
Прямо из церкви Симеон прискакал в новые хоромы свои с гостем, князь-боярином Прозоровским.
Гость, пораженный, замер на пороге обширной трапезной.
– Каково? – кичливо шлепнул губами хозяин.
– Доподлинно велелепно! Мне бы умельца такого – ничего бы не пожалел.
И с опаской провел по крышке стола, на которой были вырезаны искусно стрельцы, преследующие ушкалов[34] татарских.
– А не сдается тебе, Афанасьевич, что смерд твой с нечистым спознался?
Ряполовский вобрал в голову плечи и подавил, по привычке, двумя пальцами нос.
– Споначалу сдавалось. Токмо у того оплечного образа крест целовал холоп на том, что споручником ему – един Дух Свят.
Он развалился в дубовом кресле и ткнул с важной небрежностью пальцем в ларец.
– Трех холопей наидобрых отдам, коли откроешь потеху.
Насмешливая улыбка шевельнула гладко приглаженные усы Прозоровского. Он уверенно рванул крышку, но тотчас же отскочил в страхе.
– Пищит!
Князь побагровел от гордого самодовольства и заложил победно руки в бока.
– И мне сдается – пищит!
Гость вытянул шею и приставил к уху ладонь.
– Пищит, Афанасьевич!
– И то, Арефьич, пищит!
Хозяин придвинул к себе ларец, отогнул нижнюю планку и нажал пружину. Что-то зашипело внутри по-гусиному, попримолкло и разлилось мягким, бархатным звоном. Из приподнявшейся крышки ящика высунулась игрушечная голова скомороха.
Прозоровский бросился в сени. В суеверном ужасе он зачертил в воздухе круги и, не помня себя, закричал:
– Не нам, не вам, – диаволовым псам, а нашему краю – яблочко рая! Унеси! Богом молю… Не нам, да не вам… Христа ради сгинь, окаянный!
Симеон захлопнул крышку.
– Мы еще и не такие умельства умеем. Ты бы показал милость, Арефьич, в опочивальню б зашел.
Гость просунул голову в дверь и угрожающе сжал кулаки.
– Не унесешь антихристовой забавы – абие скачу к себе в вотчину!
И отпрянул в угол, когда Симеон, не скрывая торжествующей радости, поплыл с ларцем из трапезной.
– Садись, Арефьич. В скрыню потеху упрятал аз. Да ты опамятуйся.
Унизанная алмазами тафья сползла на оттопыренное ухо хозяина. В беззвучном смехе вздрагивали дрябленькие подушечки под глазами и волнисто колыхалась убранная серебристою паутинкою борода.
Они уселись на широкую лавку, наглухо приделанную к стене.
Арефьич приподнял тафью и вытер ладонью лысину.
– Был Щенятев у Курбского.
Симеон торопливо приложил палец к губам.
– Неупокой-то у меня сгинул. Думка у меня – не он ли в подклете в те поры шебуршил.
Прозоровский поджал желтые тесемочки губ.
– Других холопей сдобудешь.
– Не про то печалуюсь. Боязно – вот что. Не подслушал ли молви он нашей да на Москву языком не подался ли?
Гость вылупил бесцветные глаза и крякнул от удивления.
– Ты и не ведаешь ничего? – И, рокочущим шепотком: – Пришел тот Неупокой к Матвею Яковлеву, дьяку.
Симеон вздохнул так, как будто только что миновал неизбежную, казалось, погибель.
– К Яковлеву, сказываешь, дьяку? – Он откинулся к стене и по-ребячьи подбросил ноги. – Эка ведь могутна Москва и колико в ней разных дорог, а угодил так пес куда положено.
Прозоровский степенно разгладил бороду и с расстановкой откашлялся:
– А и к Мирону Туродееву угораздил бы, – одна лихва. А и у Кобяка да у Русина – тоже не лихо нам. Что пчел в дупле, то и людей наших на той Москве. – Хихикнув, Арефьич уже громко прибавил: – Взяли в железы Неупокоя да на дыбе косточки разминали. Чать, уставши с дороженьки молодец. А и с дыбы спустивши, порадовали: дескать, ходит слух от людишек – спознался ты, смерд, со языки татарские.
Они по-заговорщичьи переглянулись и, кривляясь, прищелкнули весело пальцами.
– Будет оказия – спошлю Матвею в гостинец мушерму чистого серебра.
Арефьич дружески похлопал хозяина по колену.
– Будет оказия! Така, Афанасьевич, оказия будет…
Он встал, неслышно подвинулся к двери, с силой толкнул ее и, убедившись, что никто не подслушивает, растянул губы.
– Курбской к Володимиру Ондреевичу захаживал.
– Да ну?
– Вот те и ну! И не токмо захаживал, а и крест обетовал целовать от земских бояр.
Тяжело отдуваясь, Симеон встал и отвернулся к окну. Тычки его зубов выбивали мелкую дробь; по спине суетливо скользил развороченный муравейник, а пальцы отчаянно колотили по оконному переплету.
Гость заерзал на лавке.
– А ежели лихо – не кручинься: уйдем на Литву.
Передернувшись гадливо, он грохочуще высморкался.
– Краше басурменам служить, нежели глазеть на худеющие роды боярские. – И, выкатывая пустые глаза, стукнул по лавке обоими кулаками. – Не быть жильцам[35] выше земщины! К тому идет, чтобы сели безродные рядом с князьями-вотчинниками! А не быть!
– А не быть! – прогудел клятвенно в лад Ряполовский. – Живота лишусь, а не дам бесчестить рода боярского!
Арефьич притих и скромно опустил глаза.
– Живот, Афанасьевич, покель поприбереги, а сто рублев отпусти.
Весь пыл как рукой сняло у хозяина.
– Исподволь, Афанасьевич, для пригоды собирает князь Старицкой казну невеликую. Авось занадобятся, упаси Егорий Храбрый, и кони ратные да пищали со стрелы.
– Где же мне таку силищу денег добыть?
– А ты ожерелье… Да не скупись – не для пира, поди.
И, запрокинув вдруг голову, повелительно отрубил:
– Володимир Ондреевич, Старицкой-князь, показал милость мне, Курбскому и Щенятеву изоброчить оброком бояр для притору[36] на божье дело.
Сутулясь и припадая немощно на правую ногу, поплелся Симеон к подголовнику за оброком, коим изоброчил его Старицкой-князь.
Глава девятая
Пользуясь властью старосты, Васька посылал Онисима на такие работы, в которых принимал участие сам, и неотступно следил за каждым шагом его. Он знал, что веневский отказчик бродит по округе, подбивая холопей идти в кабалу к тульским боярам, и не надеялся на старика, обезмочившего от лютой нужды.
– Не выдержит, – скрипел зубами староста, испытующе поглядывая на Онисима, – продаст Клашеньку в кабалу.
Каждый раз, когда неожиданно исчезали из деревушек парни и девушки, Выводков твердо решал пасть князю в ноги и вымолить согласие на венец.
Но дальше курганов он никогда не заходил. Вся решимость рассеивалась, едва вдалеке показывались хоромы боярские. Недобрые предчувствия гнали его назад, к починку, ближе к своим. Возбужденное воображение рисовало картины, полные мрака и ужаса. Сердце падало при мысли о том, что прямо из церкви, после венца, его жену уведут в подклет для того, чтобы ночью запереть в опочивальне Симеона. Жестокая ненависть охватывала все его существо.
– Поджечь, – хрипел он, до боли сжимая железные кулаки. – Свернуть ему шею! – Но в мозгу тысячами молоточков насмешливо отдавались бессилие и безнадежность борьбы со всемогущим боярином.
С каждым днем Онисим становился мрачнее и замкнутее. Он почти не разговаривал с Васькой, а при встречах с дочерью терялся, робел или, без всякой причины, набрасывался на нее с кулаками и бранью.
Выводков не знал, что предпринять. Перед ним было, как казалось ему, три выхода: бежать с невестою в леса, просить боярина отказаться от своего права на первую ночь с молодою – или выдать старика, затеявшего в последние дни шашни с отказчиковыми людишками.
Первый выход представлялся самым удобным и легко выполнимым. Но его резко отвергла Клаша.
– Уйдем, – заявила она, – а что с тятенькой сробит князь? Не можно мне грех смертный принять на себя.
В Успеньев день рубленник неожиданно объявил невесте:
– Иду к боярину тому толстопузому. Вечор споручил он мне все ендовы и мушермы расписать резьбою пригожею да посулил за робь за мою пожаловать меня всем, на что челом буду бить.
Глаза его блеснули робкой надеждой.
Клаша по-матерински перекрестила жениха и без слов ушла из клети в сарай.
Тешата очнулся от шагов и продрал слипшиеся красные веки.
– Лехшает аль не дюже?
Сын боярский осклабился.
– Како помелом всю хворь повымело. Токмо ноженьками покель еще маюсь.
И кулаком расправил усы.
– Пошто далече присела? Шла бы ко мне.
Девушка доверчиво подвинулась. Худая, вся в кровоподтеках, рука жадно обвилась вокруг ее шеи. Шелковый завиток, упавший на матовый, выпуклый лоб, забился золотистыми лучиками под мужским дыханием.
– Улыбнулась бы хворому!..
Ей стало не по себе от взволнованного шепота и горящих, как у кошки, зачуявшей добычу, зеленоватых зрачков.
– Тако, девонька, пришлось сыну боярскому (он особенно подчеркнул последние слова) в кабалу угодить.
Рука туже сжимала шею; пальцы, будто невзначай, шарили по плечу и ниже, к упругим яблокам грудей, а губы страстно жевали медвяно пропахнувший шелковый завиток.
Клаша осторожно отвела его руку и попыталась подняться.
Тешата лязгнул зубами и зарычал:
– Сиди!
Не в силах больше сдержаться, он навалился на девушку.
– Выйду, с Господней помочью, из кабалы – первой постельницей тебя пожалую!
– Не займай! Закричу!
Возившийся на дворе подле изломанной колымаги Онисим услышал голоса и заковылял к сараю.
Сын боярский неохотно выпустил девушку.
– А и норовиста царевна твоя! Ей бы не в починке жить, а кокошник носить!
С дороги донесся оглушительный визг.
– Скоморохи! Лицедействовать будут! – с трудом разобрала выскочившая на уличку Клаша и стремглав бросилась за промчавшейся стаей ребят.
Обильный луг перед усадьбою Ряполовского до отказа набился толпой. Девки побросали доски[37]. Парни на лету прыгали с качелей. Точно по невидимой команде на полуслове оборвались говор, песни и смех. Только неугомонная детвора не могла сдержаться и, приплясывая, в тысячный раз делилась друг с другом новостью, рдея от неизбытного счастья:
– Скоморохи пришли! Лицедействовать будут!
Боярышня прилипла к оконцу. Шутиха, изображавшая пса, шаром катилась по светлице и заливчато лаяла.
Сенные девушки поползли на коленях к боярыне.
– Отпусти к лицедеям.
Марфа оторвалась от оконца и капризно всхлипнула:
– Да и меня повела бы потешиться!..
Горбунья забила ногою в бубен и прыгнула на лавку.
– Распотешь, боярыня-матушка!
И, метнувшись к двери, лающе крикнула:
– Дозволь с челобитною к господарю поскакать.
Пелагея оттолкнула дочь и бросилась к белилам. Шутиха уже приплясывала перед тиуном и скулила. Антипка важно выслушал просьбу и развалисто, подражая боярину, направился к терему Симеона.
Ряполовский, узнав о приходе скоморохов, сам заторопился на луг.
– Охальства не было ли в светлице? – спросил он порядка ради, напяливая кафтан.
Холоп закатил глаза.
– Грех напраслину возводить. Добро живет.
На лугу закипела работа. Рубленники спешно ставили помост для боярина.
Когда батожник свистом бича возвестил о выходе господарей, помост уже был готов.
Окруженные сенными девушками, на потеху, почти бегом, спешили Пелагея и Марфа. За Ряполовским гуськом тянулась вереница холопей.
Выводков пополз навстречу боярину, трижды стукнулся о землю лбом, выхватил у холопя кресло и сам установил его на помосте.
– Добрый смерд, – довольно шепнул жене Симеон. – Тьму[38] рублев при нужде возьму за него у Арефьича.
Васька услышал шепот и зарделся от вспыхнувшей надежды.
Развалясь в кресле, князь взмахнул рукой.
Один из скоморохов тотчас же перекувырнулся в воздухе. За ним, сверкая побрякушками и многоцветными лоскутами, с улюлюканьем, звериным рычаньем и диким хохотом закружились шуты. Взвыли сурьмы[39], дудки, сопелки. Все смешалось в бешеной свистопляске. Старик, с перепачканным в сажу лицом и кривыми рожками, выбивающимися из-под высокого колпака, стал на четвереньки. Хвост, болтавшийся по земле, стал собираться вдруг колечками и свернулся на спине змеею. На самом конце его высунулось огромное, расщемленное жало. Две светлые точки по бокам жала взбухли, налились кровью и зло заворочались. Крадучись, к старику подошел косматый, обросший с головы до ног мохом, – леший. Кто-то изо всей силы ударил в накры[40]. По желтой траве побежали в разные стороны водяные русалки и ведьмы. Хвост старика с присвистом взвился к помосту.
Боярыня в страхе спряталась за спину мужа. Симеон прирос к креслу.
Снова ухнули сурьмы. Прежде чем толпа успела опомниться, исчезла нечистая сила, и перед помостом пали ниц одетые в длинные саваны девушки. Часть из них, горбатые, безглазые и хромые, повалились одна на другую, выросли в чудовищную, беспокойную глыбу и, окруженные скоморохами, посбрасывали рубахи.
Ряполовский вопросительно поглядывал на жену и не знал, рассердиться ли или одобрить лицедеев.
– Сплясать для господарей! – запетушился старик и, точно крыльями, взмахнул руками.
Под грохот барабанов, медных рогов, гуслей, волынок, непристойно перегибаясь, двинулись один на другой два ряда скоморохов.
Притаившийся за помостом поп сокрушенно покачал головой:
– Позоры некаки со свистаньем, и кличем, и воплями блудными!
Князь увлеченно следил за пляской, с каждым новым движением лицедеев забывая все более свой сан. Напыщенное величие сменилось выражением детской радости на лице. Когда же пары переплелись, изображая свальный грех, он не выдержал и, притопывая ногами, приказал пуститься в пляс всем холопям и девкам.
Поп вцепился пальцами в свою бороду.
– О, лукавыя жены многовертимое плясанье! Ногам скаканье, хребтам вихлянье! Блудницы!
И, не отрывая жадного взора от шутов, угрожающе крикнул боярину:
– Аще бо блуду споручествуешь, неотвратно будеши пещись в огне преисподней!
Пораженный дерзостью попа, Ряполовский в первое мгновенье до того растерялся, что хотел было подать знак холопям прекратить пляс. Но, охваченный вдруг буйным порывом бесшабашного озорства, скатился с помоста.
– Пляши!
Поп съежился и ухватился за балясы.
– Пляши! – уже властно крикнул Симеон.
Тиун и отказчик подхватили попа и толкнули в толпу. Скоморохи с воем набросились на него и, раскачав, высоко подкинули над головами.
Князь закатился жужжащим смешком.
– Вот то плясанье! Вот то не в причет скоморохам!
Пелагея умоляюще взглянула на мужа.
– Беды не накликать бы…
– А ты сама бы распотешила муженька!
Ожившая боярыня, подобрав ферязь, вразвалку спустилась с помоста и взмахнула платочком. За ней, верхом на шутихе, поскакала боярышня.
Уже солнце садилось, когда усталый боярин возвращался с потехи в хоромы.
Выводков и Клаша подстерегали его у тына. Едва Симеон приблизился ко двору, девушка юркнула за тын, а Васька неподвижно распластался на усыпанной, по случаю праздника, желтым песком дорожке.
Батожник подскочил к рубленнику.
– Прочь!
И больно ударил батогом по ногам.
Ряполовский остановился.
– Аль печалуешься на что?
Васька привстал на четвереньках и вытянул шею. Губы его задрожали и не слушался голос.
– Сказывай, коли дело.
Полуживой от страха, Васька сделал отчаянное усилие и пропустил сквозь щелкающие зубы:
– Пожаловал бы побраться мне с Кланькой Онисимовой.
Князь сладенько ухмыльнулся.
– Пляскою раззадорила?
– Божьим велением, господарь.
Подавив привычно двумя пальцами нос, Симеон уставился в небо.
– Сробишь у князь-боярина Прозоровского хоромины да мне двадцать рублев московских подашь, в те поры и молвь держать будем.
Он благодушно ткнул носком сафьякового сапога в подбородок опешившего холопя.
– А в опочивальню ко мне, покажу тебе милость, ране венца допущу к себе девку твою.
Уничтоженный и жалкий, плелся Васька в починок. За ним безмолвною тенью шагала Клаша. Она ни о чем не спрашивала. Землистое, каменное лицо и стеклянный взгляд жениха говорили ей без слов обо всем.
Онисима они не застали в избе. Рубленник беспомощно огляделся и уставился зачем-то пристально в растопыренные свои пальцы.
– Куда ему занадобилось хаживать к ночи?
Она смущенно отвернулась и что-то ответила невпопад.
Выводков сжал руками виски.
– Таишь ты, Клаша, умысел лихой от меня.
По лицу его поползли серые тени.
Девушка едва сдерживала рыдания.
– Не судьба, видно, Васенька… Не судьба нам век с тобой вековать…
Точно оскордом ударили по голове покорные эти слова.
– А не бывать вам в Веневе!
И выбежал из избы.
Ряполовский готовился к вечере, когда тиун доложил о приходе старосты.
Прежде чем Симеон позволил войти, Васька распахнул с шумом дверь и упал на колени.
– Господарь! В лесах твоих отказчики веневские бродят! Колико ужо девок увезено… Ныне добираются и до нашей избы.
Князь вне себя рванулся из трапезной.
– Доставить! – гудел он, задыхаясь от гнева. – Или всех на дыбу!
Васька опомнился, когда ничего уже сделать нельзя было. Он не вернулся в починок и остался на ночлег в лесу, в медвежьей берлоге, о которой никогда не говорил раньше Клаше.
Сознанье, что им преданы старик и любимая девушка, вошло в душу несмываемым позором. Нужно было что-то немедленно сделать, чтобы предупредить несчастье и искупить иудин грех.
Он мучительно искал выхода и оправдания своему необдуманному поступку.
«Не в погибель, а во спасение упредил аз боярина», – вспыхивало временами в мозгу, но тотчас же гасло, сменяясь непереносимой болью раскаяния.
* * *
Вооруженные дрекольями, секирами и пищалями, темною ночью крались лесом холопи. На опушке они растянулись длинной темнеющей лентой. Сам Ряполовский, окруженный тесным кольцом людишек, отдавал приказания.
Лента всколыхнулась, выгнулась исполинской подковой. Края ее потонули в черных прогалинах.
Встревоженный медведь, учуяв близость людей, взревел и поднялся на задние лапы. Где-то всплакнула сова. Из-за густых колючих кустарников там и здесь остро вспыхивали волчьи зрачки.
Подкова бухла, сжималась плотней и таяла в чаще.
В дальней пещере мигнул огонек догорающего костра.
Ряполовский взволнованно шепнул что-то тиуну. Холоп собрал пригоршнею ладони у рта и крякнул дикой уткой.
Услышав сигнал, людишки построились петлей, затянувшеюся вокруг пещеры…
На рассвете у курганов рыли холопи могилы. По одному бросали в яму связанных полонянников.
Отказчик веневский вцепился зубами в руку тиуна и тянул его за собою в могилу.
Озверелый боярин полоснул сопротивляющегося ножом по затылку.
– Хорони!
Рядом с курганами вырос свежий, гладенько прилизанный холм…
Васька, измученный бессонной ночью и неуемной тоской, забылся в беспокойном полубреду. Рядом с ним лежала вырезанная из сосны фигура девушки. То была незаконченная статуя Клаши, плод его работы, оберегаемой в страшной тайне от всех.
Глава десятая
Ряполовский перекрестился и стал на колени перед киотом.
– Господи, услыши молитву мою! Услыши мя, Господи!
Смиренно склонился отяжелевший шар головы, и с каждым вздохом безжизненно вскидывались сложенные на животе руки.
Тиун стоя, сквозь дремоту, повторял обрывки слов.
Перекрестившись в последний раз, князь кулаками расправил усы и пошевелил в воздухе пальцами.
Антипка ткнулся головой в дверь. Сквозь щелки слипающихся век любопытно проглянули зрачки. Холоп ясно почувствовал, как колеблются под ногами и проваливаются в пустоту половицы. Кто-то теплый и ласковый, в мглистой бархатной шубке, слизнул ступни, голени и легким дыханием своим коснулся груди. Странно было сознавать и в то же время так тепло верилось, что ноги и туловище становятся с каждым мгновением прозрачней, тают в неизбывной истоме, а голова погружается в пышную, пуховую тьму.
Пальцы боярина нетерпеливо пошевеливались и раздраженно прищелкивали.
Тиун осклабился. Тот, неизвестный, в бархатной шубке, подпрыгнул и шепнул что-то на ухо.
«Тварь, – подумал добродушно холоп, – а молвит по-человечьи».
– Антипка! – по-змеиному зашуршало где-то близко, у ног, и ударилось больно о голову, спугнув сразу сон.
Тиун с размаху ткнулся губами в ладонь Симеона.
– Милостивец! Измаялся ты от забот своих княжеских!
Ряполовский повис на руках у холопя. В постели он безмятежно потянулся всем грузным телом своим и крякнул самодовольно:
– Волил бы аз поглазеть на вотчинника веневского в те поры, когда поведают ему про отказчика.
И, приподнявшись, трижды набожно перекрестился.
– Упокой, Господи, души усопших раб твоих идеже праведнии упокояются.
Припав на колено, Антипка проникновенно поглядел на образа.
– Господарю же нашему милостивому пошли, Господи, многая лета на радость холопям!
Он приложился к ступне боярина и скользнул озорным взглядом по месиву лоснящегося лица.
– Сдается мне, осударь, неспроста Васька про отказчика сказывал.
Князь поскреб пятерней поясницу и лениво приоткрыл глаза.
– Не иначе, князь, Онисим замыслил с девкой той на Венев дорогу держать.
Рот боярина широко раздался в судорожной зевоте.
– А мы попытаем маненько Онисима, – сочно вдохнул он в себя и прищелкнул зубами.
Антипка наклонился поближе к уху, готовый еще что-то шепнуть, но Симеон уже запойно храпел.
* * *
Утром Василия вызвали к князю.
В трапезной, на столе, были аккуратно разложены чертежи различной резьбы – оконной, дверной и стенной. Ряполовский получил их через Щенятева от приезжавших в Московию фряжских умельцев.
Симеон подозрительно оглядел холопя.
– Сказывай, староста, коей милостью спорадовать тебя за службу за верную?
Выводков не понял и неопределенно пожевал губами.
– Не твои бы очи, увел бы отказчик Онисима с девкой.
Счастливая улыбка порхнула по лицу холопя и застыла трепетною надеждою в синих глазах.
– А за службу мою, господарь, одари великою милостью.
Он прижал руки к груди и с молитвенной верой уставился на боярина.
– Сказывай, староста, сказывай!
– И весь сказ-то короткий. Ушла бы в Венев, загубил бы тот князь девку Онисимову. Вся надежа на тебя, осударь. Токмо при тебе быть Кланьке женой мне.
И, упав на колени, облобызал ноги князя.
– Отдай Клашеньку без греха!
Симеон милостиво потрепал кудри холопя и кликнул тиуна.
В улыбающихся глазах Ряполовского Васька прочел свой приговор. Он едва сдержался, чтобы не закричать от охватившего все его существо бурного счастья.
Тиун неслышно появился на пороге.
Не спеша, вразвалочку, пройдясь по терему, князь взял со стола чертежи.
– Мыслю аз, не убрать ли узорами чердаки.
И, прищурившись, долго водил пальцем по затейливым извивам, засыпая рубленника вопросами.
Васька нетерпеливо слушал; не думая, отвечал все, что приходило на ум, – только бы поскорее кончить и вернуться к главному.
Взгляд его случайно упал на тиуна, перемигнувшегося с боярином. Он насторожился, охваченный роем тяжелых сомнений.
Отобрав чертежи для чердаков и трапезной, Симеон передал их Выводкову.
– Нынче же и почни. А к ночи поглазеем на умельство твое.
И, щелкнув себя по лбу, деловито обратился к тиуну:
– Запамятовал-то аз, болтаючи, про старика.
Он подавил двумя пальцами нос и насупился.
– За сговор с веневским отказчиком перед всеми людишками, чтоб никому не повадно было, казнить того Онисима казнию, а девку взять в железы!
Пергамент вывалился из рук холопя. Он ухватился за стол, чтобы не упасть. Но это длилось мгновение. Потоком расплавленного свинца хлынула к груди кровь и залила мозг звериным гневом. Какая-то страшная сила толкнула к боярину.
Он метнулся к порогу, за которым только что скрылся князь, и налег плечами на дубовую дверь.
Из сеней донесся хихикающий смешок.
– Не обессудь, староста. Крепок запор господарской!
– Убью! – заревел рубленник и изо всех сил забарабанил кулаками в дверь. Тиун продолжал смеяться.
– Потешься, родименькой, покель голова на плечах. Пошто не потешиться доброму человеку!
У окна появились вооруженные бердышами дозорные.
Выводков метался по трапезной, как волк, попавший в тенета.
Вдруг он притих и насторожился.
«Пускай! Пускай в землю зароет живьем! – четко и уверенно билось в мозгу. – Токмо и аз ему не дам живота!»
И едва вошло в душу решение, стало сразу спокойнее.
Усевшись на лавку, рубленник принялся подробно обдумывать план своей мести.
Все представлялось ему до смешного возможным и простым: вечером придет боярин; за ним, у двери, вытянется безмолвно тиун. Нужно будет упасть на колени, а нож держать вот так (он сунул руку за пазуху). И, разогнувшись, вонзить клинок в рыхлый живот по самую рукоять. И все. Нешто может быть проще?
Умиротворенная улыбка шевельнула усы и скорбными морщинками собрала вытянутое лицо.
«Не то попытать еще…» – Задумчивый взгляд скользнул по подволоке, нечаянно задержавшись на большом железном крюке, и оборвал мысль.
Васька испуганно встал и невольно зажмурился.
«Почудилось! – срывающимся шепотом передернулись губы. – Откель ему быть?»
Но и сквозь плотно закрытые глаза с болезненной ясностью было видно, как кто-то крадется по стене к крюку с веревкой в руках.
Рубленник прыгнул к неизвестному и схватил его за плечо.
– Не надо! Не надо! Не надо!
А веревка уже обвилась вокруг шеи. И странно – вся боль и все ощущение близкой кончины передавались не тому, криво улыбающемуся неизвестному человеку (это Васька чувствовал с несомненной ясностью), но давили его самого, окутывая мозг густым туманом.
Выводков на четвереньках отполз к противоположной стене. Рука зашарила нетерпеливо по опояске. Пальцы, путаясь, долго развязывали неподдающийся узел, а завороженный взгляд ни на мгновение не отрывался от подволоки. Еще небольшое усилие, и конец кушака повиснет на дожидающемся крюке.
Умиротворенный покой сладкой истомой охватывал тело.
«Еще немного, и навсегда, до страшного Христова судища, запамятую аз и себя, и Онисима, и ее…»
Но не успело в мозгу сложиться имя невесты, как сразу рассеялся могильный туман и исчезли призраки.
– Так вот она – ласка боярская! – поднимаясь во весь рост, процедил жестко рубленник. – Так вот она – служба верная!
Жалко согнувшись, он присел на край лавки и так оставался до полудня.
Мысль о самоубийстве уже не тревожила. Думалось только о том, что нужно выручить во что бы то ни стало Клашу. Один за другим оживали рассказы странников и беглых людишек о вольнице запорожской, о волжских казаках и разбойничьих шайках, что таятся в непроходимых лесах и грабят на больших дорогах торговые караваны.
«Туда! Туда с нею бежать! Нынче же ночью выручить из полона и увести!»
Как выручить девушку – не представлялось отчетливо. Но это и не нужно было ему. Важно было раньше всего самому вырваться поскорее из трапезной, а там все сделается само собой.
Васька бочком подобрался к окну. Перед глазами раскинулась вся, до последних мелочей знакомая ему, усадьба.
Он зло сжал кулаки.
«Не аз буду, ежели голову не отсеку боярину, а вотчину со всем добром в полыме не размету!»
Когда загремел засов и в трапезную вошел Антипка, рубленник уже с видимым спокойствием выводил на двери углем мудреные наброски птиц, стараясь точно придерживаться фряжских подлинников.
К вечеру, в сопровождении вооруженных холопей, явился боярин. В стороне, с восковою свечою в вытянутой руке, согнулся подобострастно Антипка.
– Робишь?
Васька отвесил поклон.
– Роблю, господарь!
Симеон одобрил наброски и приказал выдать умельцу овсяную лепешку и луковицу.
Выводков благодарно припал губами к краю княжеского кафтана.
Ряполовский прищурился.
– Ласков ты, смерд! – И, к Антипке, строго: – Зря, видно, болтаешь! Отпустить его в починок ночь ночевать.
Став на колени, рубленник стукнулся об пол лбом.
– Воистину херувимскою душой володеешь, князь-осударь!
Ваську отпустили в починок, приказав двум дозорным следить за ним.
Не спалось Выводкову в опустевшей без Клаши избе. Он то и дело выбегал на улицу и там, ожесточенно размахивая руками, страстно жаловался на свое горе кромешной тьме, как будто дожидался от нее утешения.
Перед рассветом ему удалось забыться в сарайчике, рядом с похрапывающим Тешатой.
Но сын боярский только притворялся, что спит. Он слышал все, о чем вполголоса кручинился рубленник безмолвной мгле.
Полные горечи и злобы к боярину жалобы пробудили в нем притихшие было мысли о мести и вновь всколыхнули вверх дном смятенную душу.
Не дождавшись, пока холоп проснется, Тешата осторожно толкнул его в плечо. Васька испуганно раскрыл глаза.
– Тише… Се аз… Тешата.
И, придвинувшись вплотную, неожиданно поцеловал соседа в щеку.
Рубленник принял поцелуй как знак сочувствия своему горю. Сердце его наполнилось глубокой признательностью.
– Ты… тебе…
Нужно было сказать что-то такое, чтобы сразу отблагодарить сторицею за его теплую ласку, но на ум приходили такие бесцветные и пустые слова, что Васька только вздохнул глубоко и, махнув безнадежно рукою, примолк.
Сосед наклонился к его уху.
– А что затеял, – бог порукой, аз во всем на подмогу пойду.
И, почувствовав, что холоп недоверчиво уставился на него, простер руки к небу.
– Перед Пропятым… Обетованье даю перед Пропятым не быть в деле твоем соглядатаем и языком, но споручником.
Он трижды перекрестился.
– Веруешь?
Выводков мужественно потряс его руку.
– Верую.
Обнявшись, они возбужденно зашептались о чем-то.
* * *
Было за поддень. Выводков заканчивал дверную резьбу, когда его внимание привлекли резкий звон накров и барабанный бой.
– Не до скоморохов, – недовольно поморщился он и подошел к окну.
С поля, с починков и деревеньки спешил на выгон народ. Через двор двое холопей несли боярское кресло. Окруженные сенными девушками, важно выплывали боярыня с дочкой.
В трапезную ворвался тиун.
– Не слыхивал сполоха, что ли?!
И скрылся так же поспешно, как и пришел.
Васька готов был перенести любую пытку, только бы не быть на суде боярском над Онисимом. Но боязнь навлечь подозрение заставила его идти на выгон.
Сгорбившись и качаясь из стороны в сторону, из погреба вышел старик.
Батожник огрел его изо всех сил батогом.
Узник вздрогнул, слезливо заморгал и поплелся к помосту, где восседал уже князь. Батожник непрестанно подгонял его батогом.
Затаив дыханье, стояли потупясь людишки. Нужно было напрячь всю силу воли, чтобы выжать на лицах тень улыбки. Спекулатари и языки не спускали глаз с толпы и всех, в ком подмечали сочувствие Онисиму, нещадно секли бичами.
Старик остановился перед Ряполовским, расправил слипшуюся бороду, снял шапку и, кряхтя, опустился на колени. Марфа весело фыркнула:
– Поглазей, матушка! У смерда-то кака шишка потешная на макушке от батога!
И, достав из кузовочка, привешенного к горбу шутихи, горсть орешков, бросила их в Онисима.
– Нос подставь, по носу норовлю тебя, смерд, попотчевать!
Симеон по-отечески пожурил боярышню:
– Эка ты прытка у меня!
Шумно дыша и еле сдерживаясь, чтобы не броситься на Ряполовских, притаился за спинами людишек Васька.
Боярин встал, перекрестился с поклоном и снова опустился в кресло.
Холопи тотчас же пали ниц. Узник распластался у подножия помоста.
– Встань! – раздраженно прогудел Симеон и, облокотившись о спину тиуна, ударил Онисима носком сапога по переносице.
Шутиха всхлипывающе залаяла, завертелась волчком и прыгнула верхом на старика.
– Господарь многомилостивой! Пожалуй мне, червю смердящему, тот сапог почеломкать!
– Сгинь!
Ряполовский повернулся к жене:
– Приладила бы ты ее, покель аз тружусь, кривой ногой к перекладине!
Шутиха бросилась кубарем к терему. По знаку Пелагеи сенные девки, во главе с Марфой, пустились вдогонку.
Как только горбунью поймали и, заткнув рот, привязали к суку осины вниз головой, все вновь затихло.
Боярин высокомерно оглядел старика.
– Охоч, выходит, ты, смерд, до Венева?
Узник молчал.
– Знать, пришлись Ряполовские не по мысли тебе?
Свесив безжизненно голову, Онисим глухо прошамкал:
– Все единственно для холопей, у кого кабалой кабалиться. А токмо и у тебя, господарь, дочь единая… Кому и попечаловаться, как не тебе.
Симеон так встряхнулся, как будто сбросил со спины давившую его непосильную ношу.
– Ну вот, и суд весь… Спокаялся, смерд!
И, погрозив толпе кулаком, брызнул слюной.
– Потешим мы вас Веневом. Внучатам закажете, како бежати от князь-боярина Симеона!
Он забился в приступе рвотного кашля, но, едва передохнув, загудел еще оглушительнее:
– Всем псам в поущение – разбить проваленному пятки и держать в железах, покель не подохнет!
Глава одиннадцатая
Два дня висел Онисим, прикованный к частоколу. На третий – Ряполовский сжалился над ним и приказал спустить с желез.
Было тихое воскресное утро. На погосте благовестили к ранней обедне. Кучка холопей собралась при дворе в ожидании князя, который должен был проехать в церковь.
Едва показалась боярская колымага, людишки бухнулись в дорожную пыль и отвратили лица.
– Дозволь, господарь, за прокормом сходить. Кой день хлеба не видывали!
Ряполовский подавил двумя пальцами нос и, приказав гнать лошадей, на ходу крикнул:
– Покель Онисима не схороним, всем быть при вотчине!
Во все время службы князь был крайне взволнован, часто заходил в алтарь, шептался с попом и требовал, чтоб тот сократил обедню.
Едва служба отошла, спекулатари и батожники погнали холопей на кладбище.
Полуживой, со связанными крестом на груди руками, стоял у свежевырытой могилы Онисим. Его поддерживали двое людишек, обряженных в кумачовые рубахи и в остроконечные алые колпаки.
В светлице, приникнув к оконцу, боярыня тщетно пыталась что-либо разглядеть на кладбище. Князь не внял мольбам жены и не позволил присутствовать женщинам на казни и похоронах.
В углу, уткнувшись распухшим от слез лицом в колени мамки, ревела Марфа. Изредка, чтобы разрядить обиду, она больно царапала лицо шутихи.
Симеон, печальный и строгий, низко поклонился Онисиму.
Один из катов торопливо зажег сальный огарок и вставил его между пальцев приговоренного.
Толпа у тына расступилась. Батожник гнал на кладбище Клашу.
Увидев отца, девушка с причитаниями бросилась ему на шею. Острый и горячий, как пчелиное жало, удар бича заставил ее отступить.
Князь подал знак. Клашу поставили на колени.
Поп осенил себя крестом и, подавляя вздох, вслух прочитал:
– Иже по плоти братие мои, и иже по духу сродницы мои, и друзи…
Склонившись к девушке, он упавшим голосом предложил ей повторять за ним слова ирмоса.
Захлебываясь от слез, Клаша упрямо тряхнула головой.
Перед ее носом завертелся тяжелый кулак тиуна.
– Не подмоги ли сдожидаешься?
Поп сдавил пальцами нагрудный кипарисовый крест и обратил к небу худенькое лицо свое.
– …и обычнии знаемии плачите…
Сухо пощелкивая мелкой перламутровой пилкой зубов, Клаша дробно и жутко выкрикивала сквозь рыдания:
– …и обычнии знаемии плачите…
Холопи усердно и часто крестились, творя про себя молитву. Впереди всех стоял князь и вместе с Клашей повторял за попом:
– …воздохните, сетуйте: се бо вас ныне разлучаюся…
Покончив с отходной, боярин приблизился к Онисиму.
– Радуйся, ибо отходишь ты в живот вечный не по-басурменски, а по чину Христову.
И, повернувшись к людишкам, предостерегающе погрозился:
– Одначе да не повадно будет вам: ежели и дале замыслите в бега бегать, перед истинным обетование даю казнить без креста и молитвы!
Каты, под вздрагивающие возгласы попа, повели приговоренного к виселице.
Безропотно и смиренно шел Онисим на смерть. Только перед тем, как на его шею накинули петлю, он пошарил подслеповатыми глазами в толпе и, нащупав дочь, стынущим шелестом благословил ее…
Васька снял с петли труп, обрядил его в свою епанчу и с помощью Тешаты положил тело в новенький гроб.
Под глухой стук комьев земли о крышку гроба, поп скороговоркой читал, глотая слезы:
– Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечного преставившегося раба твоего Онисима… Правда твоя, правда вовеки… Аминь!..
Выводков подполз к Клаше.
– Уйдем… Уйдем отсель, Клаша…
И, не сдерживая подступивших к горлу слез, приник к ее голове, уткнувшейся в свежую насыпь.
– Уйдем!
Холопи нетерпеливо дожидались знака боярина, чтобы уйти поскорее от проклятого места.
Боярин расслабленно поднялся с колен и, стерев перепачканной в земле пятерней с лица пот, уселся на приготовленную для него лавку.
Передохнув, он приказал привести Клашу.
– Глазела?
Обхватив руками колени, сидел у насыпи рубленник и с замершим сердцем ждал, что скажет боярин.
Девушка заломила больно пальцы и хлюпко дышала.
Симеон ласково потрепал ее по плечу.
– Ежели бы другой господарь – не миновать тебе отцовой доли.
Его заплывшие глазки похотливо бегали по упруго колышущимся яблокам грудей.
– И порешил аз свободить тебя.
Глубокий вздох облегчения пронесся в толпе.
Князь помолчал, взбил пальцами бороду, точно стряхивал крошки после еды, и, облизнувшись, воркующе прожужжал:
– Острастки же для жалую тебя нагой кур в поле ловить!
Не успела Клаша вникнуть в смысл слов, как тиун содрал с нее рубаху.
– Гони! – И пронзительно свистнул.
Толпа ахнула и расступилась.
Стоявший на дозоре у тына спекулатарь вытряхнул из короба стайку кур.
Батожник размахнулся с плеча и хлестнул девушку по голой спине.
Задыхаясь, падая и вновь вскакивая под нещадными ударами батогов, Клаша мчалась по полю.
Куры шарахались от нее, рвались из рук, зарывались в крапиву.
Покатываясь от хохота, следил за потехою Ряполовский. Наконец, последние силы оставили девушку. Она с разбегу упала лицом в бурьян да так и осталась лежать в беспамятстве, не чувствуя уже ни ударов, ни гневных окликов катов.
В сладостном томлении, Симеон отогнал катов и сам долго, зажмурившись, сек крапивою кровавое месиво взбухшей спины.
– В подклет, ко мне на двор, – подмигнул князь тиуну и, задыхаясь от устали и неудовлетворенной похоти, опустился на траву передохнуть.
* * *
Ночью, с княжеского соизволения, потянулись людишки в город искать прокорма.
Васька с двумя товарищами-рубленниками поджидал их на дальнем лугу, за курганами.
Тешата с дюжиной своих бывших холопей залег на опушке, в байраке.
– Кой человек?! – грозно окликнул Тешата вышедшего из засады Ваську.
– Свой! – негромко ответил рубленник.
– А свой, выходит, и отдохнуть время пришло.
И развалился на влажной траве.
Осторожно, слово за словом, рубленники повели с холопями разговор о князе.
У каждого из толпы немало накопилось кручин и было о чем порассказать. Васька умело задавал самые острые вопросы, разжигал людишек и незаметно разжигался сам.
– А и не зря идут деревнями цельными в леса да на Волгу, – страстно кричал он в темную даль. – А и воля там вольная для холопей! А и не токмо господарей да спекулатарей – духу того нету в той вольности!
Толпа свирепела и зловеще грозилась в сторону вотчины.
– Отправить Симеона с бабой и отродьем к Онисиму на постой! Сжечь выводок волчий! Извести душегубов!
* * *
Во мгле крались людишки к боярским хоромам. По краям, зорко доглядывая за всеми, ползли холопи Тешаты.
У курганов Выводков заметил, как кто-то отстал и, скатившись кубарем под откос, исчез.
«Язык!» – сообразил он и трижды слабо присвистнул.
Все сразу остановились.
– Язык! – повторил рубленник вслух. – Годите, покель аз обернусь.
И исчез в безглазой мгле.
Тенью скользил Выводков к боярской усадьбе. Притаившись за тыном, он слышал, как язык требовал у сторожа немедленно вызвать тиуна.
Зажав в руке оскорд, Васька подполз вплотную к воротам.
Вскоре донесся до него голос тиуна. Язык увел холопя на улицу, подальше от сторожа.
– Како господарь нас с отцом примолвляет и землей жалует да прокормом, тако и мы ему верой послужим.
– Да ты сказывай!
– И сказываю. Рубленник Васька, что ставил хоромины да еще идола сотворил в той берлоге… Давеча князь еще обетовал идолом тем голову рубленнику прошибить…
– Тьфу, окаянный! Будешь ты сказывать?!
Тиун смачно выругался и схватил за ворот языка.
– Стрекочи!
– Да к тому аз… К делу всё, Антипушка.
И, прицыкивающим шепотком:
– Васька людишек подбил. Спалить норовят.
– Держите ж!
Выводков сорвался с земли и двумя могучими ударами ос-корда раздробил голову языку и Антипке.
Сторож высунулся за ворота, вгляделся в тьму и пошел спокойно вдоль тына.
Рубленник стремглав помчался к своим.
Подогретые рассказом о только что совершенном убийстве и предвкушая радость добраться вскоре к настоящему хлебу, говядине и вину, людишки спешили, позабыв об опасностях, к мирно спящей боярской усадьбе.
Первым выделились рубленники и Тешата.
По Васькиному свистку холопи прыгнули через тын и связали застигнутого врасплох сторожа.
Резкий крик пробудил молчаливую мглу. Холопи окружили хоромы.
– Жги!
Выводков бросился в подклет. Он нашел Клашу бесчувственно повиснувшей на железах, вделанных в стену.
Шум на дворе угрожающе разрастался, будил окрестности. Багровые лапы огня пробились сквозь щели двери и суетливо зашарили по подволоке и стенам. Подклет наполнился дымом и удушливым дыханием гари.
Васька ожесточенно колотил оскордом по скрепам желез. Освободив, наконец, девушку, он схватил ее в охапку и вырвался из пылающего подклета на двор.
Толпы холопей лавиною ринулись в погреба за боярским добром.
На выгоне выросли холмы зерна, холста, бочек, полных пива, меда и кваса, и короба с драгоценною утварью.
Передав Клашу товарищам, Васька с горстью людей ринулся в опочивальню.
Но хоромы были пусты. Князь, при первых же вспышках огня, захватив деньги и драгоценности, убежал с женою и дочерью через потайной ход в лес.
Холопи обшарили все углы подземелья и никого не нашли. Дольше оставаться в хоромах было опасно: огонь уже пробрался в сени и с минуты на минуту грозил переброситься на терема.
Пришлось оставить поиски и спешить на двор.
Могучий раскат грома вдруг сотряс землю. Толпа в ужасе шарахнулась в разные стороны. Огромный огненный столб вырвался из земли, застыл чудовищным факелом и метнул в багряное небо воз золотистых снопов.
– Знаменье Божие! – сообразили людишки, истово крестясь и сбиваясь беспомощным стадом. – Бог посетил нас!
Еще стремительнее взмылся к небу второй вертящийся столб. С глухими стонами, треском и грохотом рухнули княжеские хоромы.
Выводков сорвал с себя шапку и с тоскою следил за пожарищем. Была минута, когда он готов был ринуться в пламя и спасти хоть что-нибудь из затейливого убранства палат, так кропотливо созданного его руками.
Его сердито окликнул Тешата:
– К людишкам! Замышляют противу нас! Дескать, Богом послан огненный столб!
Рубленник опомнился:
– Богом?
И неожиданно молодецки тряхнул головой:
– И сгори, будь ты проклято, умельство мое!
Он гордо пошел навстречу зловеще притихшей толпе.
– Ты попутал! Все ты! – зарычал кто-то, замахиваясь дрекольем.
– А коль еще и в губе оные столбы сотворю? К коим катам в те поры кинетесь с покаянием?
Широко улыбнувшись, рубленник ловким ударом выбил дреколье из рук растерявшегося холопя.
– Сами мы с Серьгой да Илюнькой погреб той ставили тайной. А в погребу хоронил князь-боярин казну зелейную[41].
Он резко повернулся и, заложив два пальца в рот, пронзительно свистнул.
Тешата с людишками подскочил к спасенному от пожара добру. Остальные не раздумывая жадно рванулись за ним.
Кучка холопей присосалась к бочонкам с вином.
– Прочь от хмельного! – топнул ногой староста. – Не за тем поспешали!
Озаренные свинцовым факелом пожарища, людишки поволокли к лесу добычу. Слабую от незаживших ран Клашу бережно нес на руках Выводков.
У опушки холопи услышали сдержанное хрипенье.
– Никак шутиха? – обрадовался Тешата и юркнул в кусты.
В его ноги ткнулась с заливчатым лаем горбунья.
– Спаситель ты мой!
– Ты, что ли, Дуня?
– Аз, родимый!
Шутиха поднялась и, приложив палец к губам, таинственно прищурилась.
– В дупле… пыхтит сермяжный наш… А боярыня с Марфенькой к городу побегли. Челом бить на вас.
Ночная мгла собиралась волокнисто-сизыми кудрями и клубилась над пробуждающейся землей. Розовой улыбкой зари румянился восток. Из-за редеющего тумана проступала зеленая роспись зазвеневшего предутренней песнею леса. Склонившись над ручейком, ивы зачарованно любовались чудесной шелковой шапочкой, расшитой золотом и чуть колеблющейся в слюдяной глади воды. Какой-то незримый затейник протянул от шапочки яркие паутинки, переплел их заботливо и выткал шуршащий убрус.
Зашептались улыбчато ивы, чуя, что сейчас ласково прильнет к их росистым ветвям и согреет девичьими поцелуями – та, чья пышная колесница уже алеет на небосводе. Не зря же так весело и уверенно ткут для нее незримые хамовники рубиновую нитку убруса!
– Гей, вы, вольница вольная!
– Эге-гей, други беглые! – отозвались Тешате людишки.
– Болтает шутиха – князюшко близко!
Выводков ошалело бросился к сыну боярскому.
– Мне! Аз первый с ним за добро поквитаюсь!
Симеон, услышав голоса, с трудом протискал грузное тело свое сквозь дупло и скрылся в чаще.
– Не ко времени солнышко встало, – ткнул староста разочарованно ввысь кулаком. – Не понагрянули бы стрельцы!
Погнав впереди себя шутиху, он скрылся в берлоге, где в редкие минуты свободы тайно от своих вырезывал из дерева статую Клаши.
– Не ищи, – печально выдохнула горбунья, – сгорел истукан тот в огне.
Клаша чуть приоткрыла глаза.
– Кой еще истукан?
Выводков не ответил и, понурившись, пошел к своим.
– А горбунья? – всплеснул руками Тешата.
– Горбунья? – переспросил недоуменно рубленник и, подумав, с омерзением сплюнул: – Да ну ее к ляду! К господарям, видно, ушла!
Глава двенадцатая
Как в воду канули взбунтовавшиеся холопи. Стрельцы обшарили всю чащу лесную от вотчины Ряполовского до самого города, но никого не нашли.
Часть людишек, не примкнувших к погрому, до поры до времени содержалась при дворе Прозоровского.
Симеон в короткий срок осунулся, постарел и с каждым днем опускался все более и более.
– Не смердова выдумка тут, – уныло спорил он с Арефьичем. – Не иначе, худородные соседи подбили людишек. Уж больно не по мысли им было могутство мое.
Прозоровский решил вступиться за друга. Вызвав в свою вотчину губного старосту и дьяков, он объявил, что задумал изоброчить детей боярских и других худородных дворян со всей губы денежным оброком в пользу разоренного князя.
Староста не возразил и, уезжая, поклонился покорно.
– Сила твоя. Токмо мы ни при чем в деле сем, господарь.
Арефьич разослал гонцов по округе.
– Будут хоромины, Афанасьевич, – не кручинься! – уверенно посулил он гостю.
Симеон подавил двумя пальцами нос и промычал что-то нечленораздельное.
Хозяин раздраженно ушел из опочивальни, сильно прихлопнув дверью.
– Печешься, кручинишься о человеке, а он токмо носом и тешится, заместо того чтобы словом да умишком своим подмогнуть!
С утра до ночи просиживал Ряполовский у оконца, отказываясь от трапезы и не вступая ни в какие беседы. Тяжелая тоска и обида быстро подтачивали его силы, лишали покоя и сна. Больше всего мучило то, что стрельцы не изловили Выводкова, Тешату и Клашу.
Кажется, если бы привели их, он отказался бы и от денег, и от новых хором. Все знакомые способы пыток представлялись пустой забавой в сравнении с тем, что бы перенесли холопи, если бы только подвернулись ему.
Единственной радостью Симеона была мысль о мести. Уставившись маслено в одну точку, он часто видел перед собой распластавшегося на земле рубленника.
– Язык подай, пес! Язык, коим смердов чмутил противу меня!
И, отставляя ногу, напруженно сжимал в воздухе пальцы, краснел и задыхался, точно в самом деле рвал из горла язык.
– А ты, девонька, покажи милость, откушай язычка того на добро здоровье!
Он захлебывался от наслаждения, совал в рот девушке окровавленный ком и кланялся в пояс.
– Не побрезгай!
Хозяйский тиун прислушивался к сладострастному шепоту, но, просунув голову в дверь, в суеверном ужасе бежал стремглав в самый дальний угол сеней, огораживая себя чертою в воздухе и заклинаниями.
Прозоровский вызывал спешно попа, чтобы помолиться за «бесноватого» и покропить заодно святой водой опочивальню.
К концу недели гонцы прискакали в вотчину с одинаковыми вестями:
– Сказывают худородные: не повинны они в том, что у князь-боярина тяжба с Тешатою.
Собравшись туго набитым трухою кулем, выслушал гонцов Ряполовский.
– Эвона что, – почти весело подмигнул он хозяину. – Выходит, есть ты боле не господарь, коли всяк смерд не страшится поперек твоей воли идти.
Прозоровский вспыхнул:
– Бывает, и жгут бояр!
Они по-петушиному пригнули головы и тяжело задышали, готовые вцепиться друг в друга. Однако гость первый пришел в себя.
Едва сдерживаясь, Ряполовский выдавил на вспотевшем лице заискивающую улыбочку:
– Все ходим под богом, Арефьич! – И с глубоким вздохом проворчал под нос: – Ходил бы великой князь под нашим праведным наущением, нешто сталось бы тако, чтобы нам смерды перечили?!
Хозяин присел на лавку и яростно заскребся спиной о стену.
– А коли не зрим, гостюшко, от Иоанна Васильевича прохладу, не оскуднела покель и своя казна зелейная. – Неожиданно взор его ожил и просветлел: – Волишь ли, Афанасьевич, повоеводствовать над ратниками моими?
Симеон шлепнул себя по жирным бедрам и счастливо осклабился:
– Волю! Да ежели…
* * *
Недолго собирался Ряполовский в поход. За день все было готово. Отслужив молебен, ратники на рассвете двинулись в путь. Боярыня и Марфа далеко провожали отряд.
Приложившись в последний раз к руке отца, девушка попросила сквозь всхлипывания:
– Ежели сыщешь шутиху – не казни. Пожалуй ведьму ту мне на расправу.
Пелагея нежно прижала к груди дочь.
– Дитятко мое горемычное…
От слез густо набеленное лицо изрезалось широкими бороздами. Ярко выкрашенные губы трепетно вздрагивали и тянулись к колену мужа.
– Да благословят тебя, осударь мой, вся сонмы небесные на правое дело.
И долго еще после того, как скрылся отряд, боярыня нараспев причитала, рвала на себе ферязь и заученно, как велось от древлих времен, голосисто ревела.
* * *
Взвыла губа от подвигов самозваного воеводы. Всё, что не успели схоронить худородные, ограбили и увезли за собою ратники.
За весь поход Симеону ни разу не пришлось вступить в бой. Всюду его встречали предупредительно, с дарами и хлебом-солью.
Князь супился, не доверял и сам чинил обыск в усадьбах.
Обиженные потихоньку уходили с челобитной в губу и умоляли вступиться за них. Но окольничий и староста никого не допускали к себе и, чтобы оправдаться перед Москвой, посылали для вида стрельцов в такие поместья, которые, по донесениям дьяков, уже были ограблены.
Разоренные дотла дети боярские снарядили послов на Москву, к самому великому князю, а пока что переложили все убытки на холопей своих.
* * *
Стояла осень, время для сбора тягла.
Все, что не успел увезти в свою вотчину Симеон, забрали дьяки и спекулатари князей-бояр.
Холопи взвыли. Даже для них, привычных к самым тяжким поборам, было необычно остаться сразу же, после сбора урожая, без единого снопа хлеба.
К Прозоровскому пришли с челобитною выборные от холопей.
Князь вышел к ним на крыльцо.
– Не по правде, сказываете, спекулатари творят с моими людишками?
Выборные приподнялись на четвереньках и, набравшись смелости, отрубили:
– Уйти дозволь. В северы токмо бы нам прокормиться. А осеренеет – сызнов обернемся к тебе.
Сурово сошлись брови Арефьича. В нем всколыхнулись два чувства, упрямо не уступавшие друг другу.
«Добро бы уйти им, покель на пашне робить незабота», – расчетливо отбивалось в мозгу. Но какой-то насмешливый голос царапался в груди и протестовал, вызывая на лице густую краску стыда: «А суседи что сказывать станут? Виданая ли стать – вотчиннику быти без тьмы людишек?»
– Покажи милость, отпусти до весны!
Прозоровский запрокинул высоко голову.
– Тако вы о господаре печетесь?! И не в тугу вам, что суседи перстами в меня тыкать почнут?! Дескать, князь, а живота, почитай, мене, чем у детей худородных!
Холопи стукнулись о землю лбами:
– Помилуй! Все едино не одюжить нам голода.
– И подыхайте, чмутьяны! Токмо бы вам плакать да печаловаться!
Он открыл ногой дверь и торопливо, точно опасаясь, что переменит решение, ушел в хоромы.
Тиун высунулся в оконце:
– Аль невдомек вам сказ господарев?
Выборные робко переминались с ноги на ногу и не уходили.
Из подклета выскочили батожники.
– Гуй, саранча ненасытная!
И выгнали со двора батогами холопей…
Дьяки извелись в неустанной работе и не знали, что делать дальше. Уже давно было собрано все, чем владели людишки, а до полного тягла, положенного с губы, еще недоставало добрых трех четвертей. Не сдавать же в казну и то, что было оттянуто для своих амбаров!
А отчаявшиеся холопи толпами бросали насиженные места и с семьями убегали из вотчин куда глаза глядят.
Князья и окольничий расставили по всем дорогам дозоры. Стрельцы окружали беглых и гнали назад по домам. Обессилевшие людишки падали под жестокими ударами бердышей и гибли под копытами ратных коней.
* * *
К Покрову дню были готовы новые хоромины Ряполовского.
Весь сонм духовенства губного встречал хозяина подле кургана. На земле, убранной сверкающим пологом первого снега, распластались холопи.
После молебна хозяин пригласил гостей на пир.
Усевшись на почетное место, Симеон налил Арефьичу первый кубок:
– Пей! Твоей заботой сызнов аз господарь!
И хлопнул в ладоши.
Точно приведенные в движение особой пружиной, строгою чередой заходили, переплетаясь, людишки, прислуживавшие за столами. Вкусный пар застлал трапезную дразнящим туманом. Холопи, пьяные от голода, раздутыми ноздрями впитывали в себя запахи недоступных яств и в сенях жадно облизывали пальцы, на которых прилипли от блюд капельки жира.
Для ради великого торжества на пиру присутствовали и боярыня с дочерью. Прозоровский то и дело подливал в ковши хозяев сладкого, с патокою, вина.
Кокошник боярышни сбился на затылок, обнажив крепкие жгуты заложенных венками темно-рыжих кос.
Пелагея перемигивалась с соседями и, каждый раз, когда дочь прикладывалась к ковшу, с легкой укоризной покачивала головой:
– Нешто можно младенцу вином упиваться?
И сама гулко глотала тягучую и сладкую, как березовый сок, наливку, незаметно от мужа прижимаясь локтем к руке Прозоровского.
Гость блаженно щурился, с присвистом втягивая набегавшую по углам губ слюну, и усердно подпаивал обеих женщин.
В трапезной, от ковша к ковшу, становилось шумливее и свободнее. Хмель развязал языки и беспечно смахнул строгую боярскую чопорность.
Кто-то стукнул вдруг по столу кулаками:
– Расступись, душа! Студено!
И заревел во все горло.
Спускался вечер. По углам и подле окон, с зажженными восковыми свечами в вытянутых руках, застыли холопи.
Когда большая часть гостей разъехалась, хозяин с близкими ушел в повалушу.
Марфа уже ничего не соображала и только оглядывала всех бессмысленным взглядом осоловевших глаз.
– Шла бы в постельку, – икнула боярыня, ткнувшись головой в спину дочери.
Боярышня попыталась встать, но закачалась и рухнула на пол.
Ряполовский зычно расхохотался:
– Подсоби царевне своей! Аль сама обезножела?
– Аз? А ни в жисть! – хвастливо прищелкнула Пелагея.
Она порывисто встала из-за стола, но тотчас же изо всех сил вцепилась в Арефьича.
– Ходит! И подволока и стены ходят!
Тягучий рвотный комок поднимался к горлу. Пол уходил из-под ног, а вместо до оскомины знакомого лица Симеона на нее, кривляясь, глядела целая свора отвратительных рож.
«Был один Симеон, а ныне эвона колико стало!»
Боярыня осторожно шагнула к мужу, но зацепилась за ножку стола и шлепнулась рядом с мурлыкающей что-то дочерью.
– Ты чего? – наклонился над Марфою Ряполовский.
– Го-рит… Пог-глазей… Светлица го-рит…
В диком испуге князь бросился к оконцу, но, вглядевшись в сумрак, облегченно вздохнул и заложил руки в бока.
– Попытался бы кой лих человек огонь у меня сотворить!
И, хвастливою октавою:
– Два сорока стрельцов от губы поставлены по моей вотчине.
Прозоровский лукаво прищурился.
– А ты бы, Афанасьевич, уважил боярышню. Ей, сердечной, небось чудится еще та огненная напасть. Погасил бы свечи для стати такой.
Хозяину понравилась мысль остаться во тьме.
– Гаси! – приказал он тиуну и, налив вина, закружился по повалуше.
– Пляши, гостюшки дорогие!
Но вдруг опустился на пол и залился пьяными слезами.
– Тешату подайте! Волю Тешату сына боярского!
Его никто не слушал. Только Арефьич ткнул в его зубы корцом:
– Пей! Позабудется!
Всхлипывания стихали, переходили незаметно в прерывистое похрапывание.
Раскинув широко ноги, Симеон ткнулся лицом в кулак и утонул в хмельном забытьи.
Прозоровский, отдуваясь, полз на четвереньках к ухмыляющейся во сне простоволосой боярыне…
Рано утром в повалушу ворвался тиун и отчаянно затормошил Ряполовского:
– Гонец от великого князя!
Первым пробудился от оклика Арефьич. Оттолкнувшись от боярыни, он шепотом приказал унести женщин и с отчаянными усилиями поднял хозяина.
– Гонец от великого князя!
– Го-нец?!
Точно вихрем снесло хмель у боярина.
В широко распахнувшуюся дверь вошел гонец, сопровождаемый губным старостой и дьяками.
– Откель будешь, гость ранний? – спросил, после обычных приветствий, хозяин.
– От всея Русии великого князя!
– За память спаси бог царя преславного!
И будто между прочим:
– А для пригоды какой понадобился аз великому князю?
Гонец гордо вытянулся и поглядел поверх голов.
– До царя и великого князя всея Русии дошло, что не по правде творишь с меньшою братией.
Прозоровский не сдержался:
– Еще в позалетошний год сам осударь поущал меня в думе: с бородою, дескать, сходен народ: поколику чаще стрижешь его, потолику буйнее растет.
Симеон ехидно покашлял в кулак и, подавив двумя пальцами нос, с достоинством прогудел:
– А воле государевой мы не ослушники. Потрапезуем, чем бог спослал, да в колымагу.
Глава тринадцатая
Глухими тропами, не ведомыми никому, опричь зверя, заходили беглые все дальше в лесные дебри. С каждым днем становилось холоднее. Еще изредка встречался одинокий медведь и запоздалая стая диких гусей задерживалась еще кое-когда на стынущих озерках; но в самом воздухе чувствовалось уже, что северы не за горами. По-новому шуршала, покрякивая, земля; скользким, как плесень, налетом подернулась умирающая листва, и облютевшим от голода волком выл студеный ветер, окутывая седым дыханием своим землю и лес.
Незадолго до первого снега беглые, выбрав поудобнее место, взялись за оскорды. За неделю были готовы скрытые среди кустарника землянки.
С утра вся община расходилась в разные стороны за прокормом. На обязанности Клаши лежала добыча дикого меда, которым изобиловал лес.
В сумерки беглые возвращались домой с запасами зайцев, лисиц и белок. В удачливые же дни попадались в тенета ласка, куница или росомаха.
Все меха складывались в общую землянку, где хранилось унесенное добро из вотчины Ряполовского.
Старостой беглые избрали Василия, а казной ведал опытный в хозяйственных делах Тешата.
Общинники отъелись, повеселели и подумывали уже о том, как бы приумножить казну торгом с ближайшим городом. Никто не знал, где расположен этот неведомый город и далеко ли ушли от усадьбы князя, – но это особенно и не тревожило. Пусть попытается кто-нибудь разыскать в непроходимых трущобах подземную деревушку и вступить с ней в единоборство!
Выводков был всегда чем-нибудь занят и почти не встречался с Клашей. Девушка чувствовала, что в душе жениха творится что-то неладное, но боялась первая вызвать его на объяснение.
Ей на помощь пришел Тешата. Улучив удобную минуту, он свел влюбленных и без обиняков соединил их руки.
– Побрались бы – чего маяться зря!
Выводков потемнел и, ничего не ответив, ушел.
Позднею ночью он неожиданно ворвался в землянку Клаши.
– Не можно мне больше терпеть!
И, опустившись перед недоумевающей девушкой на колени, с невыразимою мукою поглядел на нее.
– Аз, Аз Онисима погубил. Думка была, – по-иному опрокинется! В добро боярское веру в душе держал!
Захлебываясь, Васька рассказывал до последней черточки обо всем, что произошло. Потребность высказаться, покаяться долгие месяцы давила его мертво петлей, и не раз, в припадке отчаяния, он нащупывал за поясом нож, готовый полоснуть им себя по горлу, чтобы покончить, не знать, не чувствовать больше мучений.
Он бичевал себя самыми жуткими словами и бранью, с каждым звуком беспощадно обнажая душу свою перед забившейся в уголок тенью девушки.
– Вот и все! – выкрикнул, наконец, рубленник так, как будто оторвал кусок собственного сердца, и отполз к выходу.
– Вася!.. – Вокруг его шеи обвилась теплая, вздрагивающая рука, и повлажневшая от слез щека прижалась к его щеке. – Не зло замышлял ты… О спасении помышлял…
* * *
День выдался пригожий, солнечный. Клаша накормила общинников запеченными на углях зайцами и, справившись по хозяйству, ушла за медом. Сухое потрескивание хвороста заставило ее насторожиться. Вглядевшись, она увидела медведя, подбиравшегося к дуплу.
Затаив дыхание, девушка юркнула в сторону. Медведь прислушался, обнюхал воздух и пошел ей наперерез.
Клаша закружила по лесу, путая следы. Незаметно она ушла далеко от землянок и очутилась среди непролазной колючей изгороди кустарника.
Медведь почуял человеческий запах и неотступно шагал по следу.
Заметив дупло в вековой сосне, Клаша, не раздумывая, по-кошачьи вскарабкалась на дерево и прыгнула в зияющую дыру. Ее сразу всосала в себя тугая пучина.
– Мед! – с ужасом опомнилась она и вцепилась ногтями в стенку дупла. Но пальцы скользили по сладкой поверхности и не могли удержать тяжести тела.
Пучина всасывала все безнадежнее. Тугое и липкое кольцо охватывало уже грудь.
С заходом солнца общинники вернулись в деревушку и, не застав стряпки, нетерпеливо окликнули ее.
Время шло. Лес нахохлился, как будто стал гуще и ниже, и потемнел. Клаша не приходила…
– Лихо! – решил Василий и, несмотря на ночь, не слушая уговоров, отправился на розыски. За ним увязались два рубленника.
– Ау! – изредка перекликались общинники, пугая черную тишину.
– Ау-у! – отзывалось изодранное в клочья, глухое эхо.
По шершавой земле, припадая студеным брюхом к ногам людей, струился крадучись ветер.
– Ау! – надрывно выкрикивал Выводков. – Откликнись! Ау-у-у!
В ответ улюлюкающе смеялся крепчавший ветер и бросал в лицо густую патоку мглы.
…Едва живая девушка услышала вблизи от себя хриплое дыхание медведя. О кору заскреблись когти. Зверь уцепился передними лапами за сук, а задние осторожно просунул в дупло.
Клаша ожила. В мозгу загорелась счастливая мысль.
«Крикнуть изо всей мочи! – вспомнила она рассказы охотников. – Напугать!»
И, собрав все силы, с истошным визгом ухватилась за лапу.
Медведь рванулся, потянув за собой девушку, спрыгнул наземь и с ревом скрылся в чаще.
С изодранного лица девушки обильно струилась на хворост кровь. Слипшиеся ноги запутались и повисли на колючих иглах кустарника. Чуть вздымались желтые от меда, точно засахаренные дыни, груди.
Выводков, пробивая путь плечами и оскордом, спешил на рев. Живая изгородь разодралась. В двух шагах друг от друга встретились человек и медведь. Зверь на мгновение притих, попятился назад, но, при первом же движении рубленника, поднялся на задние лапы и ринулся на врага.
Василий отпрянул в сторону, изловчился и ударом обуха раздробил оскалившуюся на него пасть. Обезумевший зверь, раздирая предрассветную чащу воем, одним прыжком очутился на дереве, на которое успел уже взобраться рубленник.
Этого только и ждал Выводков. Рискуя жизнью, он, почти не целясь, бросил оскорд в противника. Лязгнув о кость, острие глубоко впилось в медвежий лоб, между глаз. Вскинув окровавленной головой, медведь упал замертво.
Победитель торопливо слез с дерева, вытер дымящийся оскорд о полу епанчи и побежал по следу в лесную глушь…
К полудню Клаша была в деревушке.
За трапезой, на поляне, один из общинников неожиданно вскочил и поклонился девушке в пояс.
– Волишь – не волишь, а от доли своей не уйдешь!
И, лукаво прищурясь:
– Ежели спослал Бог Василию вызволить тебя от смерти да от боярина, выходит – Богом данная ты жена ему!
Клаша зарделась и спрятала в руки лицо.
Выводков развел руками:
– Чего с нею сробишь? Не любо ей венец принять без попа да не в церкви!..
Тут уж вмешался Тешата:
– От боярской постели уберег тебя староста наш. От смерти выручил давеча. Кой еще венец надобен? Со всем нутром своим, выходит, ты ему Богом дана!
Девушка хотела возразить, но хохот общинников смутил ее окончательно.
Не успела она опомниться, как кто-то прикрепил к ее платочку на голове согнутую венком еловую ветку и закружил с Василием вокруг молодой и стройной сосны.
Тешата снял шапку, поднял над головой прутья, связанные восьмиконечным крестом, и, приплясывая, затянул на церковный лад:
– Како сосна стройна, крепка, молода, тако да брачущиеся окрепнут! И како сучьев на той сосне, тако да умножится род высокой раба божия Васьки и рабы божией Кланьки – стряпки вольницы нашей многопреславной!
– Аминь! – рявкнули в один голос общинники и наперебой полезли целоваться с молодыми.
Чинно, построившись парами, проводили товарищи в чисто убранную землянку Василия с молодой женой.
На другой день никто не пошел на охоту.
Рубленники варили мед, а молодая с другими общинниками жарили медвежью тушу к свадебному пиру.
* * *
Осиротел лес. Давно улетели птицы на теплый постой. Медведь убрался в берлогу, и хитрая мышь переселилась с потомством своим из насиженной норки поближе к муравьиной казне. Усердно заработали северы, обряжая в белые убрусы, кокошники и епанчи деревья и землю. Ветер студеными языками своими непрестанно наводил на обновы серебряный лоск.
Общинники по уши ушли в звериные шкуры и высокие островерхие шапки. День и ночь в дозорных берлогах тлели костры.
По первопутку Выводков отправился искать дорогу к ближайшему городу. Днем он таился в кустарнике, чутко прислушиваясь к каждому шороху, и все поглядывал в небо, чтобы как-нибудь отличить в свинцовом шатре восход, закат, поддень и полуночную сторону. Ночью он чувствовал себя смелее. Можно было бесшабашно двигаться среди кладбищенской тишины, мурлыкать веселую песню и без опаски грозиться не зло в сторону, откуда нет-нет да поблескивали горячие волчьи зрачки. Да и чего остерегаться зверей? Вот человека – другая статья. Тут ухо держи востро!
На второй день рубленник выбрался на широкую дорогу. Вдалеке, на огромной поляне, пыхтел окутанный дымом будный стан.
Пораздумав, Василий нащупал под волчьим тулупом охотничий нож и, перекинув на левое плечо оскорд, направился к стану.
В хозяйской избе гость долго отогревался и деловито соскабливал ногтями с заросшего буйной бородой лица иней и ледяные сосульки.
Хозяин сидел в стороне и любопытно разглядывал незнакомца.
– Издалеча?
– Напрямик, отец, из материнского брюха в утробу земную.
Кудрявая и сизая, как пена прокисшего пива, бородка хозяйская колыхнулась в неслышном смехе.
– Бывалый, видать, паренек! Умелец ответ держать!
– А покормишь – и песню сыграем!
И, усаживаясь на чурбачке:
– Поди, до города мне не малость осталось махать?
– До Венева?
– А то ж куда? Не до Мурома же!
– Рукой подать. За день трижды аз оборачиваюсь.
Понемногу они разговорились.
Узнав, что у Василия имеется изрядный запас пушнины, хозяин засуетился и достал из подполья вина.
* * *
Общинники завели с будным станом оживленную связь. В обмен на меха хозяин давал им денег и ржи.
Чтобы быть поближе к незнакомым людям, трое рубленников подрядились в стан на работу.
По ночам, когда все засыпало, рубленники тайком уходили к своим дозорным и подробно рассказывали обо всем, что слышали за день.
Вскоре в лесной деревушке стало известно, что веневский боярин собирается на Святках с гостями в стан на охоту.
В сочевник общинники покинули свои землянки и окружили примыкающую к стану чащу.
Василий исподлобья поглядывал на жену, обряженную в меховые сапоги, волчий тулуп и высокую кунью шапку.
– Ну, прямо тебе, человек, а не баба! – умилялся он.
Клаша ласково улыбалась и туже стягивала повязку, охватывающую живот.
Вдалеке послышался лай. По дороге, раскинувшейся голубеющей простыней, выросли неожиданно конные, и тут же вынырнули из-за поворота три колымаги.
Псари сдержали запушенных снегом и инеем псов. Холопи бросились к боярам и подставили им согнутые спины свои.
Василий, зарывшись по шею в снег, наблюдал из-за сосны за прибывшими.
– Погоди, каты, похолопствуете и вы ужо!
Едва загонщики были расставлены по местам, боярин с гостями ушел в глубину леса.
Батожник забежал далеко вперед. Вдруг он обо что-то споткнулся и упал лицом в сугроб.
– Нишкни!
Перед носом его завертелся кулак.
– А и не духом единым!
В деревьях запутался чуть слышный посвист. Общинники выскочили из засады и бросились на загонщиков.
Холопи, увидев направленные на них луки, покорно свесили головы.
– Нас-то пошто? Мы не свои… мы господаревы…
Их связали и свалили в кучу.
Выводков, впереди небольшого отряда, полз по снегу к псарям.
Зачуяв чужих, псы настороженно обнюхали воздух.
Рубленник подал сигнал. Град стрел пронзил песьи морды. Тишь пробудилась визгом и заливчатым лаем.
Озверелый боярин затопал ногами:
– Подать мне ловчего!
И, щелкнув плетью, бросился в сторону стана.
Его окружили отделившиеся от сосен белые призраки.
– Не гневался бы, боярин!
Василий навалился на князя и прежде, чем тот что-либо сообразил, заткнул ему лыком рот.
В будном стане тщетно дожидались возвращения охотников. Переполошенный хозяин сам поскакал верхом в город подать весть о пригоде.
Общинники увели полоненных в свою деревушку. На поляне с их глаз сняли повязки.
Низко кланяясь, к боярам подошел Тешата.
– А не показали бы нам милость, гостюшки дорогие, не наградили бы вольницу шубами да кафтанами с княжеских плеч?
Общинники одобрительно загудели.
Заложив два пальца в рот, Василий пронзительно свистнул.
Из землянки выбежала Клаша и потянула за собою цепь. Упираясь и глухо воя, за нею шагал волчонок.
Один из рубленников потер весело руки:
– Стосковался, серячок, по говядинке!
Бояре сбились теснее и молчали.
Выводков по-приятельски похлопал веневского вотчинника по плечу:
– Али боязно?
И, снисходительно улыбаясь, причмокнул:
– Ништо тебе, не укулеешь!
Холопей тем временем повели в общую землянку и усадили за стол.
Клаша суетилась у огня. Общинники, облизываясь, распаковывали боярскую снедь, которую не позабыли унести из колымаг.
Обряженные в росомашьи шубы, в земские ферязи и кафтаны, в шапках с собольей опушкой, сбитых ухарски набекрень, в землянку ввалились староста, казначей и два рубленника.
– Батюшки! Падай в ноги, холопи! – заревели, покатываясь от хохота, общинники.
Глава четырнадцатая
По обычаю, далеко от Кремля остановились кони Ряполовского. Боярин, кряхтя, вылез из колымаги и, нащупав глазами церковь Иоанна Лествичника, что под колоколы, трижды перекрестился.
– Дай бог здравия гостю желанному! – раздалось неожиданно за спиной.
Симеон оглянулся и так взмахнул руками, точно собирался подняться на воздух.
– Спаси бог князя Ондрея!
Ондрей подозрительно оглядел холопя, державшего под уздцы его аргамака, и отвел Симеона в сторону.
– А и повстречались мы с тобой, Афанасьевич, почитай… – голос его упал до едва слышного шепота, – у смертного одра Иоаннова.
Ряполовский просветлел.
– Выходит, что задумано в земщине, то и Богом утверждено?
Целительным зельем вошла в его совесть благая весть.
«Преставится в Бозе… сам стол очистит…» – счастливо прыгало сердце. Однако он сдержал радость и глубоко вздохнул. – Не было бы тут, князюшко, затеи какой?
Ондрей убежденно тряхнул головой.
– Аз, Курбской, сказываю тебе! Сам Лоренцо, басурмен-лекарь, той хвори не берется вон изогнать.
Они прошли молча в ворота между лестницей подле Грановитой и Серединной палатами.
Стрельцы, завидя бояр, низко согнули спины.
Через тихие сени Золотой палаты князья прошли в трапезную избу, что против алтарей Спаса на Бору. Там, на широкой лавке, обитой зеленой тафтой и с собольей опушкой, сидели Симеон Ростовский и Турунтай.
При входе гостей они чопорно поднялись и, слегка кивнув, исподлобья оглядели Ряполовского.
– К царю? – тоненько выдавил Ростовский, ревниво вымеряя глазами, достаточно ли почтительный поклон отвешивает ему вотчинник.
Ряполовскому было странно слышать почти детский писк, исходивший из могучей княжеской глотки.
Он не выдержал и, полушутя, полусерьезно, заметил:
– А тебя, Симеон Микитович, и сизой волос не берет. В плечах – семь пядей, а голосок – воробьиной.
Турунтай приложил палец к шлепающим губам:
– Не гоже ныне потешаться людям русийским.
И, шагнув бесшумно к двери, поманил за собою остальных.
Посреди царева двора бояре степенно перекрестились на Преображенский собор и, чванно отставив животы, вошли в хоромы Иоанна Васильевича.
На них пахнуло густым запахом ладана, мяты, шафрана и едкой испариной.
Царь лежал на животе и, уткнувшись лицом в подушку, не передыхая стонал:
– З-зубы… Не можно же больше терпети… З-з-зубоньки!
Лекарь шаркнул ножкой, обутой в лакированный туфель, и приложил к груди холеную руку:
– Вашему королевскому величеству поможет бальзам рыцаря Эдвин…
Иоанн незаметно высунул из-под стеганого с гривами полога ногу и ткнул лекаря в бок.
– Пшел ты к басурменовой матери, мымра заморская!
И снова, еще жалобнее, заныл:
– З-зубоньки… Миколушка многомилостивой… З-з-зубы мои!
Дьяк Висковатый припал к колену царя и всхлипнул с мучительною тоскою:
– Аль невмочь, государь мой преславной?
Иоанн поправил повязку, обмотанную вокруг его вспухшего лица, и положил руку на плечо Висковатого:
– Повыгони, Ивашенька, всех их.
Он умильно закатил глаза и, краснея, вдруг попросил по-ребячьи:
– Настасьюшку… Кликни Настасьюшку мою.
Когда пришла царица, в опочивальне никого уже не было, кроме больного.
Анастасия прильнула к желтой руке мужа.
– Орел мой! Владыко мой!
Он нежно обнял ее и болезненно улыбнулся.
– И пошто это так? При тебе хворь моя и не в хворь?
Осторожно сняв с точеной шеи своей крест, царица сунула его за повязку.
Холодок золота пробежал мокрицею по щеке и токающе отдался в висках.
Иоанн царапнул ногтями стену и судорожно передернулся.
– Помираю!.. Люди добрые, помираю!
Через слегка приоткрытую дверь вполз на четвереньках поп Евстафий.
Анастасия с надеждой бросилась к нему навстречу.
– Сдобыл?
Поп поднялся с пола и хвастливо подмигнул.
– Нам не сдобыть ли?
И, скрестив на груди руки, поклонился царевой спине. Чуть вздрагивала раздвоенная его бородка, а губы, собранные в сладенькую трубочку, шептали пастырское благословение.
Царь со стоном повернулся к попу.
– Чем обрадуешь?
– Зубом, государь мой преславной! Сдобыл аз, с молитвою, Антипия великого зуб!
Нетерпеливо вырвав из кулака Евстафия зуб святого Антипия, Иоанн сунул его себе в рот.
– Еще, государь, откровением святых отец, Миколая, Мирликийского чудотворца, равноапостола Констьянтина, матери преславной его Елены, иже во святых Мефодия и Кирилла, учителей словенских…
Иоанн схватил гневно подушку и швырнул ее в лицо Евстафию.
– Никак усопшего отпеваешь?!
Поп шлепнулся на пол. Раздвоенная бородка метнула половицы и так оттопырилась, как будто что-то обнюхивала.
– Сказывай без акафистов!
– Иже во святых отец…
– Не дразни, Евстафий… Голову оторву!
– Сказываю, преславной… Сказываю, великой!..
Он перекрестился и привстал на колено.
– Архимандрит Ростовской, откровением святых отец, спослал тебе, государь, через меня, смиренного, двадесять милующих крестов иерусалимских.
Не спуская страстного взгляда с икон, царица принимала кресты от Евстафия и обкладывала ими лицо, грудь и ноги покорно притихшего мужа.
Передав последний крест, поп на носках выбрался из опочивальни.
Сильвестр перехватил его в полутемных сенях.
– Возложил?
Бессильно свесилась на грудь голова Евстафия.
– Зуб-то а и не Антипия вовсе…
Иоанн лежал, бездумно уставившись в подволоку, и не шевелился. Левая рука его безжизненно свисла на пол. Мутными личинками шелушились на пальцах подсохшие струпья. По углам губ, при каждом вздохе чахлой груди, пузырилась желтеющая слюна.
– Кончаюсь! Настасьюшка! – прохрипел он вдруг в смертельном испуге и рванулся с постели. – Кончаюсь!..
И, теряя сознание, грузно упал на жену.
Смахивая брезгливо кресты, Лоренцо поднес к носу больного пузырек с остро пахнувшей жидкостью.
Иоанн приоткрыл левый глаз.
– Помираю! Зовите попов, – помираю!
Жалко дернулся подбородок, и на ресницах блеснули слезинки.
– С Митей почеломкаться бы в остатний раз. С первородным моим!
На постельном крыльце засуетились боярыни и мамки. Захарьин-Юрьин и Висковатый понесли зыбку с младенцем в опочивальню.
Увидев сына, Иоанн сразу позабыл боль и благоговейно перекрестился.
– Почивает! – умиленно выдохнул он и поманил глазами жену. – Ты на губы поглазей на его! Доподлинно, твои, Настасьюшка, губы!
Царица зарделась.
– Губами мой, а по очам всяк прознает соколиный твой взор, государь.
Паутинною пряжею собрался покатый лоб великого князя. Взгляд его жестко забегал по Юрьину и Висковатому.
– Сказываете, и Сильвестр с Адашевым?
Юрьин высунул голову в дверь и сейчас же вернулся к постели.
– И они. Сам слыхивал: «Люб, дескать, нам на столе на московском не Дмитрий, а Володимир, Старицкой-князь».
– И Курбской?
– И Курбской. Да и Симеон, князь Ростовской.
Висковатый заскрежетал зубами.
– Твоей кончины сдожидаются, государь, и Прозоровской со Щенятевым да Овчининым, да и многое множество земщины.
Иоанн раздраженно заворочался на постели. Точно рачьи клешни, скрюченные пальцы его мяли и тискали простыню. Лицо вытягивалось и заливалось желчью.
– Веди!
Юрьин не понял и ниже склонился.
– Абие волю сидение с бояре!
Царица умоляюще взглянула на мужа.
– Где тебе ныне думу думать, преславной?
– Нишкни! Не бабье то дело!
Но тут же привлек к себе жену.
– А сдостанется стол мой тому Володимиру, изведут тебя с Митенькой.
Ткнувшись лицом в подушку, Иоанн нарочито громко закашлялся, чтобы скрыть рвущиеся из груди рыдания.
Склонившись над первенцем, безутешно плакала Анастасия. Висковатый и Юрьин в тяжелой тревоге закрыли руками лицо и не осмелились проронить ни слова утешения. Лоренцо, засучив рукава, одной рукой перелистывал латинский лечебник, другой – деловито растирал какую-то мазь.
– Абие волю сиденье с бояре! – грозно повторил царь и, выплюнув на ладонь зуб Антипия, сунул его под подушку.
Юрьин бросился исполнять приказание. Дьяк вынес в сени зыбку и передал ее поджидавшим боярыням.
* * *
По одному входили в опочивальню бояре. Последними остановились у двери Сильвестр и Адашев.
Симеон Ростовский отвесил земной поклон и сел на лавку. То же проделали и остальные. Ряполовский поискал глазами подходящее для себя место и устроился подле Курбского.
– Все ли? – ни на кого не глядя, пожевал губами царь.
Адашев сделал шаг к постели:
– Абие, государь, жалуют Овчинин, Щенятев, Прозоровской да Василий Шуйской с Микитою Одоевским. Токмо что из вотчин своих обернулись.
Когда все места были заняты, Иоанн приподнялся на локте.
– Да все ли?!
Адашев пересчитал пальцами присутствовавших.
– Все, государь!
С глухим стоном царь уселся на постели, опершись спиною о стену.
Бояре торопливо вскочили и отвесили земной поклон.
– А Юрьина и Висковатого пошто не зрю?
И кивком головы указал близким на место подле себя.
Князья зло переглянулись. Симеон Ростовский резко поднялся.
– Пожалуй меня, государь, милостью – словом обмолвиться.
Дождавшись разрешения, он тоненько засверлил:
– Твоя воля, царь! А токмо негоже дьяку выше земских сидети!
Больной сжал в кулаке подбородок и передернул острыми плечами своими.
– А сдается мне, князь-боярин, не дерзнул бы ты батюшку нашего, Василия Иоанновича, умишком своим наставлять!
Едва сдерживая готовый прорваться потоком жестокой брани гнев, он повелительно указал князю на лавку. Жуткою искоркою скользнул пронизывающий и горячий, как змеиное жало, взгляд по лицам бояр.
– Эге! И Ряполовский пожаловал! – прошипел Иоанн, кривя в презрительную машкеру лицо. – Аль сызнов с ласкою от худородных суседей? – И задергался, как кукла фряжская, когда ее дергают за веревочку, от хихикающего смешка.
Симеон заерзал на лавке и плотнее прижался к Курбскому.
Больной сделал усилие, чтобы встать, но застонал от боли и схватился за щеку.
– З-зуб!
Висковатый бережно поправил повязку.
– З-зуб потерял! Антипия великого зуб! – детскою жалобой вырвалось из сдавленного горла. – З-з-зуб целительной!
Но, вспомнив, с блаженной улыбкой достал зуб из-под подушки, сунул его себе под язык и с укором повернулся к иконам.
– Не помышлял аз, что во младости моей лишишь ты меня, Боже мой, живота. Но да исполнится воля твоя. Аз не ропщу.
Он поиграл пальцами в воздухе и еще раз болезненно выдавил:
– Нет, не ропщу.
Бояре приподнялись с лавок и набожно перекрестились.
– Токмо о том кручинюсь, что мал царевич и неразумен. Не встанет, не постоит за отцов и дедов своих, за Рюриковичей преславных, царей русийских.
Сильвестр воздел к небу руки:
– Про то и мы кручинимся, царь. Не миновать при царевиче распрям на русийской земли… А при…
Он осекся и нерешительно поглядел на соседей, точно искал у них сочувствия и поддержки.
– Чего же примолк? Сказывай… Не таи.
– А при брате твоем двоюродном, при Володимире Ондреев…
Иоанн затряс вдруг отчаянно головой и заткнул пальцами уши.
– Молчи! Заткни ему глотку, Ивашка! Молчи!
Бояре повскакали с мест и заспорили, перекрикивая друг друга.
Юрьин застучал склянкой о стол и заревел:
– Жив еще царь и великой князь! Не бывало того, чтобы без царева соизволения гомонили бояре!
Едва царь поднял руку, все мгновенно притихли.
– А ведомо ли вам, холопи неверные, что самодержавства нашего начало от Володимира равноапостольного?
Лицо больного побагровело и покрылось испариной. Он почувствовал, как каждый мускул наливается страшной силой и возмущением.
– Прочь!
И, оттолкнув Висковатого, вскочил.
– Мы родились на царстве! Мы не чужое похитили!
Непоколебимою властью звучал его голос:
– Мы родились на царстве! Мы плоть от плоти Володимира равноапостольного!
Он оборвался, сразу отяжелел, опустился.
Висковатый подхватил его и уложил в постель.
Бояре возбужденно передвигали лавками, наступали друг на друга с поднятыми кулаками и исступленно кричали.
Их вытолкали по одному в соседний терем.
Царь приложился ухом к стене и жадно подслушивал. Наконец, в опочивальню, сияющий и красный, ворвался дьяк.
– Победа, преславной! Димитрию бояре крест целовать порешили!
Иоанн хихикнул и ястребиным взглядом своим резнул подволоку.
– А почить в бозе мы авось еще погодим. Авось и еще сподобит Господь посидеть на столе на московском.
И, покручивая бородку, ядовито процедил сквозь зубы:
– Зато проведали мы доподлинно, кой холоп нам холоп, а кой нам ворог!
Он выковырнул пальцем изо рта зуб Антипия и, поднявшись натруженно, сам положил его на киот.
– Боже мой, Боже мой! Не остави меня! Укрепи на столе, яко укрепил еси на небеси одесную Сына твоего единородного, Господа нашего Исуса Христа!
– Аминь! – вдохновенно выкрикнул Висковатый и упал на колени перед иконами.
Глава пятнадцатая
Василий объявил полоненным боярам:
– Како вы со холопи деяли, тако и нам ныне послужите. А еще милость вам наша: за прокормом не на разбой пойдете, а с нашего стола прокормитесь, коль заробите.
Несмотря на то что каждое ослушание каралось голодом, князья не поддавались и почти не выполняли ни одного приказа старосты и казначея.
Боярин Апракса, веневский вотчинник, едва подходил к нему кто-либо из холопей, рвался с желез, дико вращал налитыми кровью глазами и требовал срывающимся голосом:
– Свободи! Абие, пес, сбей железы!
Холопи подходили вплотную и тыкали кулаками в лицо.
– А не попотчуешься ли, князь, гостинчиком нашим?
И, вразумительно:
– Свободить тебя свободим. Токмо до того послужи нам, по Васильеву становлению, како мы тебе допрежь служили!
В Крещеньев день бояр спустили с желез и привели в общую землянку трапезовать.
Полоненные отказались усесться за стол.
– Сиживали мы рядком еще с великим князем Василием Иоанновичем, нынешнего Иоанна Васильевича на рученьках нашивали, – перекрестившись на пустой угол, сокрушенно объявил князь Пенков.
Апракса раскачивался из стороны в сторону и с нескрываемой ненавистью глядел на старосту.
– Не сядешь? – спросил его насмешливо Выводков.
– С холопя-ми?!
Василий мигнул. Общинники навалились на бояр и силою усадили их за общий стол.
Полоненные сползли с лавок и, отбиваясь ногами, в один голос упрямо ревели:
– Краше от руки вашей злодейской погибнуть, чем сести рядом!
Их связали и, укутав предварительно в шубы, выбросили на мороз.
– Не охочи с холопями, почтуйтесь с воронами!
Клаша вынесла им миску вареной зайчатины.
После трапезы общинники, по обычаю русийскому, выспались и пошли на поляну.
Выводков стал в середине круга и обратился к полоненным холопям:
– А ведомо стало мне, что закручинились вы по бабам своим.
Он пытливо оглядел окружающих.
– Мой сказ вам таков: ушли мы от лиха боярского не вам на кручину, а на подмогу людишкам кабальным.
Апракса ехидно кашлянул в кулачок.
– Поглазеем… Токмо перегоди… Еще понаскачут стрельцы в ваше логово!
Он смолк под посыпавшимися на него ударами батогов. Пенков испуганно придвинулся к князю Кашину.
Полоненные холопи отошли в сторону держать совет. Один, с мшистою, реденькою бороденкою и изъеденным оспою лицом, прицыкнул на остальных и, дождавшись, пока стихло, горячо замахал руками:
– Да нешто? Да ежели… оно и с бабами можно сюда… А нет, так и нет.
К ним подошли общинники во главе со старостой.
Василий дружески положил руку на плечо рябого.
– Ныне тако: кто волит – отпускаем мы. Кой охоч – обернется, а кому вольница наша невместна – живи в кабале.
Он неожиданно сдвинул сурово брови.
– Токмо памятуйте, други, денно и нощно: ежели на наш след стрельцов наведете, пеняй на себя.
Кашин с трудом поднялся с земли и подозвал казначея:
– Яви милость божескую! Отпусти и нас по дворам!
Тешата расхохотался. Князь сокрушенно покачал головой и вдруг бухнулся Василию в ноги.
Апракса вытаращил глаза:
– Опамятуйся! Боярин!
Пальцы Кашина суетливыми красными червяками сновали в воздухе, глубоко зарывались в снег и скрипуче царапали ногтями промороженное стекло земли.
– Яви милость божескую! Не можно мне боле позора терпеть!
Общинники с любопытством обступили бояр.
Пенков пошептался с Апраксой и пронзительно крикнул:
– За себя ратует князь! Не за нас – за себя!
Василий поднял Кашина с земли и по слогам пробасил:
– Будешь ли крест целовать на том, что по-иному поведешься с холопями?
– Чего накажешь, тако сроблю.
– А бьем мы челом тебе, князь, на невеликое. Целуй крест на том, что испола в урожае будут с тобою людишки, да три дни положишь им на себя робити, да спекулатарям и протчим накажешь не сечь да и не пытать до веку холопей тех.
Кашин втянул голову в плечи и в крайнем удивлении глядел на Выводкова.
– Статочное ли дело боярину со смердом испола урожай делить да не сечь и в животе да смерти холопьей володыкой не быть? Да что ты?! – Но, опомнившись, разразился добродушным смешком: – Тако бы сказывали тебе иные, в коих кичливость правды превыше. А аз охоч крест целовать.
Староста с презрением поглядел на боярина:
– Хитер ты доподлинно, князь. Ужотко погодим, видно, крест целовать, покель не поумнел.
* * *
Слух о неуловимой таинственной вольнице переходил из уст в уста и вскоре облетел всю губу.
Один за другим холопи с женами и детьми бежали из вотчин, разыскивали дозорных общинников и примыкали к вольнице.
Едва осеренело и побурел снег под солнцем, Василий и рубленники взялись за оскорды и кайлы.
Полы и стены землянок были обшиты бревнами и досками, вся деревня соединялась подземными ходами, а вход в жилище Василия путался и переплетался в лесных трущобах.
К Миколе вешнему был готов последний потайной рукав, ведущий в сторону от леса, к быстрой реке.
Сообщение с городом с каждым днем становилось опаснее. Все дороги и перелески кишели лазутчиками и стрельцами.
Торговые караваны, которым приходилось проезжать лесом, сопровождались сильными отрядами ратников.
По губе ходили дьяки и читали грамоту от воеводы. По грамоте сулилась щедрая мзда прокормом и деньгами тому, кто укажет, где обретаются уведенные в полон бояре.
Среди вольницы пронесся слух, что сам воевода готовится пойти на лес с арматою.
Деревня притаилась. Кроме дозорных и небольшого числа охотников, никто не смел выходить из подземелья. Василий запретил даже разводить костры. Общинники перешли на сырую пищу.
Бояре чутко прислушивались к тревоге и веселели.
Присмиревший было Апракса снова поднял голову и осмелел. Его бывшие людишки старались избегать встречи с ним, а некоторые нарочито входили в землянку к узнику, угодливо прислуживали и всячески старались выказать свою преданность и сочувствие.
Староста выследил двух таких холопей и поведал о них общине.
– Взять в железы печенегов! – в один голос решили беглые.
Уличенных связали и бросили в землянку бояр.
В одну из ночей Выводков передал свою власть старосты Тешате и, простившись с товарищами, ушел из лесной деревушки.
Ему одному ведомыми путями он то уходил в самые дебри, то приближался к проезжим дорогам, то рыскал невдалеке от будного стана.
Наконец, лес поредел, и за опушкой, через пахоту, показалось селенье.
Выводков передохнул, закусил ржаным сухарем и разделся…
К полудню он появился в деревне, перепугав насмерть ребят и женщин.
Людишки с любопытством следили за нагим великаном, спокойно расхаживавшим по уличкам.
Густая копна волос ниспадала на широкие плечи рубленника, длинная борода торчала липкими клочьями, едва защищая богатырскую грудь. На ногах болтались привязанные к икрам тяжелые камни. Железные, в тупых колючках, вериги при каждом движении жутко позвякивали и рвали на спине кожу. По чреслам болталась изодранная рогожа.
– Блаженный! – с суеверным благоговением передавали друг другу людишки, низко кланялись Выводкову и подходили, сложив горсточкою ладони, под благословение.
Чуть сутулясь, спокойно вышагивал Выводков, как будто никого не замечая. Его кроткий взгляд был устремлен куда-то в пространство и на лице беспрестанно играла радостная улыбка.
– Благослови, странничек божий! – молитвенно подползали к нему холопи.
– Благословен и пень, и червь, и человек, и колода! Радуйтесь, херувимы, пчелы дивого меду сулили! – точно про себя, подпевал староста и, подплясывая, крестил воздух мелкими крестиками.
Дойдя до боярской усадьбы, «юродивенький» вдруг задрожал и дико вскрикнул.
Холопи упали ниц и замерли, не смея пошевелиться.
Из оконца светлицы высунулась голова боярыни. Она ласково поманила нагого.
– Покажи милость, человек божий, переступи во имя Христово порог мой.
Василий отчаянно затряс головой и царапнул ногтями грудь.
Скорбно звякнули железы, и глухо перекликнулись оттянувшие икры камни.
– Бога для пожалуй в хоромины! – не отставала боярыня. – Помолись за нас, грешных, за избавление из полона князя Апраксы.
Шея рубленника вытянулась и напряглась. Кряхтя, он опустился на четвереньки и приложился ухом к земле. Вдруг двор огласился дикими стонами и проклятьями. Юродивый вскочил и, точно подхлестываемый бичами, рванулся к тыну и закружился.
– Апраксе погибель! Со вотчиной и со чады! – грозно ревел он, исступленно колотя себя в грудь кулаками. – Апраксе погибель! Вовеки!
И, резко остановившись, присел в страхе на корточки.
– Вон он! Вон он, нечистый, низвергает в геенну боярина.
Белая, как убрус, повязанный под раздвоенным подбородком, вышла боярыня на крыльцо и бухнула на колени:
– Помилуй, провидец!
Закрыв трясущимися руками лицо, Выводков подкрался к женщине.
– Встань!
Она послушно поднялась и сложила на животе руки, как перед причастием.
– Молись, раба! Великой грех содеял Апракса!
Он отставил два пальца правой руки и так взглянул в небо, как будто требовал от него наставления.
– Слышу, Спаситель! – благостным вздохом булькнуло в его горле. – Ты! – Тяжелая рука легла на узенькое плечо боярыни. – На скит в лесу длань подъемлют воеводы для спасения князей земных. Тако ли?
– Тако.
– Многомилостив Отец наш Небесный!
Толпа осенила себя широким крестом и эхом отозвалась:
– Многомилостив Отец наш Небесный!
– И тако глаголет Сын его единородный: иже в добре будет жить с холопи боярин и прокормом достатным прокормит до конца живота своего, а той воевода снимет заставы со святаго скита, – обернет Господь Апраксу в вотчину в благоденствии.
Боярыня отвесила земной поклон и подала юродивому туго набитый мешочек.
Василий возмущенно отступил.
– Избави мя, кладезь святой, от злата земного.
И притоптывая босой ногой, скороговоркой пропел:
– Сгинь, сгинь! Сгинь! Сгинь!
Неожиданно улыбнувшись блаженно, он мягко предложил:
– А во спасение раба божия боярина Апраксы – отдай сию казну людишкам своим.
Боярыня не задумываясь бросила мешочек в толпу.
Темною ночью ушел Василий из вотчины. За ним увязалась кучка холопей.
Во всю дорогу «блаженный» почти не разговаривал и мурлыкал под нос все, что приходило на ум. Чем бессмысленнее были слова, густо перемешанные именами святых, тем большим благоговением проникались люди и тем благоюродивее казался им нагой.
К вечеру второго дня, миновав посады, рубленник подошел к вотчине боярина Кашина.
Его окружила большая толпа. Застыв перед хоромами князя, Василий простоял всю ночь в безмолвной молитве.
Тем временем боярыня Апракса поскакала в губу.
Воевода внимательно выслушал женщину и обещал исполнить предрекание юродивого.
Но, едва боярыня уехала, – вызвал дьяков.
– Сдается мне – юродивый тот сам не разбойник ли?
В вотчину Кашина поскакал переряженный дьяк.
Круг почитателей юродивого рос с каждым часом. Холопям пришлись по мысли проповеди Василия. Все, что покорно переносили они от господарей; все, что годами складывалось в груди затаенным возмущением и ненавистью, – смело бросал за них в лица дьякам обличитель.
– Чмутит, – донес воеводе язык. – Не инако – ведомы ему те людишки разбойные!
Едва Выводков оставил вотчину Кашина, его встретил отряд стрельцов.
– Откель Бог путя дал? – спросил с усмешкой голова.
Рубленник кичливо выпрямил грудь.
– Армате Христовой гоже ли ответ держать перед арматой князей земных?
Переряженный дьяк запальчиво подскочил к голове:
– А холопей чмутить – положено ли армате Христовой?!
Блаженный встряхнулся, будто невзначай больно ударил веригами по плечу дьяка и гулко отрезал:
– Да и положено ли мором морить, а и измываться над смердами?
Разинув рты, людишки восторженно слушали дерзкие речи нагого.
Вдруг к рубленнику подскочил монах и сорвал с него крест.
– Ересь! Потварец сей ересь сеет середь крещеных! Аще речено: кой хулу на володык возводит, тот дьяволу служит!
По знаку головы стрельцы опасливо окружили Василия.
Толпа клокотала, дробилась на части, зловеще наседала на стрельцов и друг на друга.
– Ужо накликаете кручину на нас, убогих! – кричали, надрываясь, сторонники Выводкова.
– Взять в железы! – ревел монах, потрясая в воздухе кипарисовым восьмиконечным крестом. – На дыбу еретика!
Глава шестнадцатая
С утра до ночи толпились любопытные у приказной избы.
Сам губной староста пытал узника.
– А не вспамятуешь, куда бояр схоронил? – добродушно хихикал он, забивая под ногти Василия иглы.
Стиснув зубы, Выводков протяжно выл, умолял о пощаде, но ни единым мускулом лица не дал понять, что ему ведома лесная деревня.
При каждом выкрике пытаемого, толпа срывала шапки, молилась и готова была, при первом знаке, броситься на избу.
Староста изо всех сил зажал щипцами сосок Василия.
– Откроешь разбойное логово – волей пожалую!
– Не ведаю!..
Жены полоненных князей не отставали от воеводы. Настойчивее всех требовала освобождения узника Апракса, глубоко верившая в доподлинную святость его.
В день, когда на дворе приказа готовились дыбы, на погост сошлись тьмы людишек.
С огромным трудом сдерживали толпу отряды ратников и стрельцов.
Со связанными на спине руками, узник спокойно вышел из подвала и, глядя проникновенно перед собой, направился к дыбе.
Вдруг он побледнел и зашатался. В толпе стояла Клаша.
Удар батога вывел рубленника из оцепенения.
У дыбы стал губной староста.
– Надумал, смерд?
Выводков по-волчьи оскалился.
– Не ведаю. А и ведал бы, нешто допустил бы псов в вольницу вольную?!
– На дыбу его!
Долгий и пронзительный свист прорезал воздух. Его заглушил тотчас же многоголосый крик.
– Горим!
Объятые страхом, люди бросились в разные стороны. Кто-то взобрался на звонницу. Густым дымом пожарища взвился к небу набат.
– Горим!
Взвизгнули стрелы. Давя друг друга, толпа навалилась на ратников.
– То Бог воздал за блаженного! Божье то знамение!
Староста и дьяк шарахнулись к избе. Их перехватили змеи капканов.
Взмахом ножа один из беглых перерезал веревки на узнике.
* * *
До Ивана Постного отлеживался Василий. Под наблюдением общинников ему прислуживали губной староста и дьяк.
– Были умельцами извести молодца – покажите милость в здравие обернуть, – зло вращая белками глаз, шипели беглые.
Как только староста окреп, вся деревня потребовала казни полоненных.
Первыми вывели на поляну бояр. За ними приволокли старосту и дьяка.
Выводков приветливо снял шапку.
– По-вашему сробил – логово узрели вы.
Он неожиданно рассвирепел и, схватив за ворот дьяка и старосту, больно стукнул их лбами.
Два общинника, принявшие на себя обязанность катов, с наслаждением засучивали рукава.
Дьяк жалко свесил голову на плечо.
– Велика ли корысть в моем животе? Нешто боле в нем радости, чем в каменьях самоцветных да в злате?
И, скривив приплюснутое ноздреватым блином лицо в сторону бояр, слезливо подергал носом.
– Не тако ли реку аз, господари?
Тупо уставившись в землю, Апракса ожесточенно грыз ногти.
– Чего сдожидаетесь? – крикнули каты. – Рубить им головы их скоморошьи!
Кашин поднял руку.
– Перед Господом крест целую на том, что раздам людишкам добро свое, по Христу, а сам в монастырь пойду, мнихом буду!
Пенков и Апракса переглянулись и, пошептавшись, плюнули с омерзением в сторону Кашина.
– А не быти боярам без смердов! Краше приять кончину мученическую!
И, переждав, пока смолкнет возмущенная брань общинников, Апракса ровным голосом прибавил:
– А коли тако будет, чтобы нам не забижать зря людишек, да малыми оброками оброчить их, да и по чети прикинуть им, – не зазорно на сем и нам крест целовать.
Общинники подняли спор.
– А ежели удур?
Тешата с пеной у рта доказывал:
– Казним полоненных, об их место иные сядут, да еще пуще холопей зажмут. Пустить уж!
– А удур ежели? – стояли на своем беглые.
Пенков топнул ногой.
– Аз, господарь, крест целую на том!
Казначей победил. Каты недовольно побросали оскорды.
Клаша принесла из землянки образ и передала его, вместе со своим нательным крестом, Василию.
Воздев правую руку и отставив два пальца, бояре по очереди торжественно произносили клятву и прикладывались ко кресту.
После князей к образу подошел губной староста. Общинники оттянули его назад и зашумели:
– Больно вы с дьяком до пыток охочи. Не можно волков к ягнятам гнать!
Староста и дьяк упали Василию в ноги. Но чем униженнее молили они о пощаде, тем неподатливее становились беглые.
Под обидные шутки и брань их увели в землянку и одели в железы.
Две ночи кружили холопи с боярами по лесу, пока, наконец, сняли с их глаз повязки и отпустили невдалеке от вотчины Апраксы.
* * *
В условленные дни Тешата и два общинника, нагруженные звериными шкурами, встречались в глубоком овраге с хозяином будного стана, Поярком, и обменивали свою добычу на зерно, холст и деньги.
Сын боярский никому не доверял казны и хранил ее тайно от всех. Лишь изредка выносил он деньги на поляну, с жадностью пересчитывал их при всех и потом с гордостью объявлял:
– Еще бы лето едино одюжить, и спокинем мы лес, а и уйдем на украйные земли.
С большой неохотой подчинился казначей постановлению товарищей выделять на холопьи нужды в губе десятинную долю казны.
А Поярок редко приходил в овраг один. С ним почти всегда поджидали Тешату послы от холопей.
Вскоре беглые прознали от послов, что бояре нарушили клятву и крестное целование.
Первым проявил себя Кашин.
Вместо воли людишкам, он приказал взять всех в железы и так продержал три дня без прокорма.
В вотчины освобожденных князей пришли на постой большие отряды стрельцов.
Перед хоромами Апраксы людишки выставили долгий ряд лавок и столов. Холопей привязали к лавкам. Боярин подходил к ним с низким поклоном и тыкал в зубы овкачом с брагою.
– А были мы в полону и на том крест целовали, чтобы о смердах заботиться да хлебом-солью и брагою потчевать их. Кушайте на добро здравие, смердушки.
И подмигивал катам.
На голые спины сыпался град жестоких ударов плетей.
Новый губной староста расставил по всем дорогам заставы.
Прослышав об издевательствах отпущенных бояр над людишками, общинники приказали дьяку написать цедулу в приказ.
Один из беглых подкинул цедулу в избу старосты. Староста прочел в присутствии воеводы:
Тако вы, проваленные, крест целовали?! И наш весь вам сказ: нехристи вы да каты, в татарской утробе рожденные! Не опамятуетесь – вотчины в огне изведем, боярень и боярышень со псами случим, а вам – кол осиновый вгоним! Каты, матери бы вашей зачать от нечистого.
Узнав про подметную цедулу, князья еще более облютели и объявили людишкам:
– За то озорство, опричь тягла, взыскуем с каждой чети по два контаря сена да по три рубли денег московских ходячих.
Послы отправились в овраг к общинникам с челобитною.
– Не токмо денег а либо хлеба – серединной коры не стало.
В тот же день общинники порешили привести в исполнение свою угрозу и поджечь княжеские усадьбы.
Едва стемнело, беглые покинули деревню и пошли на усадьбу Апраксы.
В землянках остались женщины, ребятишки да небольшая застава под началом Тешаты.
Позднею ночью губной староста проснулся от глухого лязга желез и стука.
– Аль не спится тебе в обрядке железной? – зло прицыкнул он на дьяка.
Сосед придвинулся вплотную к старосте.
– Покель гомонили смерды на раде, аз, воду таскаючи, оскорд унес.
Староста рванулся, готовый закричать от счастья. Шипы на обруче остро впились в его шею. Он закусил больно губу и поник головой.
Изогнувшись, дьяк упорно ковырял балку в том месте, где было вделано кольцо от желез.
Где-то во мгле послышался сдержанный шепот. Узники затаили дыхание.
– То лес балагурит! – догадался дьяк и с новою силою принялся за работу.
Наконец железы с глухим звоном упали на землю.
– Готово! – выдохнул он обессиленно.
Староста хотел что-то сказать, но от волнения слова путались и терялись в горле и дробно стучались перекошенные челюсти.
Освободив товарища, дьяк приказал ему лечь и, приладив обруч к каменному порогу, заколотил по скрепам.
Сбросив железы, узники ползком выбрались в лес.
На заре они почуяли запах гари. Беглецы притаились в кустах, не решаясь пойти на разведку.
– Ты потоньше, – предложил товарищу староста. – Свернулся бы угрем да пополз поглазеть.
Дьяк зло взбил бороденку.
– Коли аз угорь, тебе и богом положено в боровах ходить, толстозадый!
И, ковырнув пальцем в носу, брезгливо сплюнул.
Староста позеленел от обиды и всем телом налег на дьяка.
– У меня дед в воеводах ходил! Род наш сызначалу от целовальников!
Позабыв об опасности, они с бранью покатились по траве, вцепившись друг другу в бороды.
Стрельцы услышали шум и натянули тетивы на луках. Один из них раздвинул кусты и, пораженный, застыл.
– Ей-богу, староста!
К обедне беглецы были в городе. После торжественного молебствования они выступили с отрядом в поход.
Тем временем общинники, разбившись десятками, подходили к боярским усадьбам. У опушки Василия перехватил Поярок.
– Лихо! Большая сила идет на деревню на вашу. А с арматой той сам староста полоненный с дьяком.
Десяток Выводкова ринулся предупредить товарищей об опасности.
Но было поздно. У вотчины Апраксы застигнутые врасплох общинники смешались и обратились в бегство. На всех перекрестках их беспощадно истребляли засады.
Василий, с остатками дружины, мчался домой.
– Конец!.. – печально свесили головы беглые, увидев, что деревенька открыта и окружена.
Староста что-то мучительно соображал и вдруг, властно окликнув своих тоном, не допускающим возражений, приказал всем немедленно идти в сторону Дмитрова.
– Оттель на Волгу либо в Черный Яр, а либо на гору Казачью! – прибавил он, кланяясь в пояс товарищам.
– А за дружбу, за хлеб, за соль общую, – спаси вас Господь!
Ему ответили земным поклоном.
– Приходи… Сдожидаться будем, Васенок…
Они поспешили уйти, чтобы скрыть от самих себя так не знакомые им, впервые за все годы холопьи, навернувшиеся на глаза слезы.
Теряя надежду вовремя подоспеть, Василий на брюхе крался к потайному ходу. У реки он задержался немного и, убедившись, что никто не следит за ним, юркнул в черную пасть подземелья.
– Кто? – разорвалось неожиданно над самым ухом.
Взвизгнул оскорд.
Сильная рука вцепилась в горло рубленника.
– Пусти!
– Да никак ты, Василий?
– Тешата!
Казначей сдавил друга в крепких объятиях.
– Порешил аз перво-наперво, чтоб, значит, с голоду нам не помереть, казну унести. А Клашу с протчими оставил сдожидаться у той землянки, что на серединном ходу.
Они обменялись короткими указаниями и разошлись.
Стрельцы ворвались в землянки.
Никогда не слыхал еще лес таких стенаний и криков людей.
Озверевшие дьяк и староста рубили всех, кто подворачивался под руку. На деревьях, истекая кровью, бились в предсмертных судорогах повешенные.
Выводков увел уцелевших в один из рукавов подземелья и пронзительно свистнул.
Стрельцы прислушались.
– Никак еще гомонят?
Свист повторился.
– За мной! – крикнул стрелецкий голова и двинулся к рукаву.
Впереди побежали губной староста и дьяк.
Едва отряд скрылся в серединной норе, рубленник метнулся к своим:
– Вали! Подкинь им землицы!
О подволоку подземелья глухо застучались оскорды. Огромные комья земли росли с угрожающей быстротой и забивали проход.
– Наддай! Понатужься маненько!
Громовой раскат сотряс черную мглу. И тотчас же из глубины донеслись смертельные крики о помощи.
Серединная нора рухнула, похоронив в себе стрелецкий отряд.
Василий увел остатки общины к выходу.
– Не бывать бы погибели, – гневно потряс он кулаками, когда беглые выбрались, наконец, в овраг, – ежели бы при мне пожаловали стрельцы.
И в немногих словах рассказал, как доставали рубленники через Поярка зелейную казну и как вделывал он ее хитроумно в стены лисьего рукава.
Близился вечер. Передохнувшие общинники приготовились в путь.
– А казначей? – напомнила едва державшаяся на ногах Клаша.
Выводков безнадежно махнул рукой:
– Ежели досель не зрим его, тут и весь сказ. Не иначе – сбег, леший, да с тою казною!
Среди ночи Клаша взмолила об отдыхе. Извивающуюся от невыносимых болей в пояснице и стонов, ее унесли поглубже в чащу и скрыли в берлоге.
Вскоре лес огласился мяукающим, жалобным писком.
То подал о себе весточку первенец Выводкова.
Часть вторая
Глава первая
Василий заволочил оконце и запер дверь.
– Почнем? – обратился он к нетерпеливо дожидавшемуся ребенку.
Голые ручонки сорвали со стены рогожу.
Зажженная лучина облила клеть сочным клюквенным настоем.
Разодрав рот до ушей, мальчик уставился зачарованно в роспись.
– А вечор, тятенька, сдается, не было головы у зверя того? – выдохнул он, наконец, приходя немного в себя.
Рубленник таинственно подмигнул:
– Еще, Ивашенька, тако поглазеешь дивное диво…
Он привлек к себе сына, любовно потрепал по щеке и взял из его ручонки остро отточенный уголек.
– Низ мы с тобою, сынок, замалюем, а площадь – вот эдак, под самый тын наведем.
Ивашка высунул язык и, прищурившись, с видом знатока оглядел набросок усадьбы.
– Давеча ты мудрил, тятенька, понизу тесаный камень пустить. Не краше ли быть по сему?
– Тако и будет. Низ каменный, а верх – кирпичной.
Выводков печально склонил набок голову.
– Было это годков за десять… Ставил аз подземелье в лесной деревеньке.
От напряжения лоб его избороздился глубокими лучиками, а глаза пытливо забегали по подволоке, точно искали там утерянную мысль.
– Из умишка вон! Не припомню, како лазейки свести для зелейной казны.
Ивашка свысока посмотрел на отца.
– Ты не кручинься – роби. А тамо надумаем. Не бывало того, чтобы мы с тобой не надумали!
И, неожиданно стихнув, приложил ухо к двери.
На дворе чуть подвывал осенний ветер. У крыльца перешептывались лужи, тревожимые мелким дождем.
Обиженно надув рубиновым колечком губы, мальчик часто задвигал ушами.
– Сызнов мать зря посулила…
И ткнулся в кулачки влажнеющими глазами.
– Почитай, с Богородицына дня сидит за холстами в подклете боярском, а к нам и не любо ей.
Рубленник усадил ребенка к себе на колени и пригорюнился.
– Будет, Ивашенька, срок, – заживем и мы.
Он заглушил тяжелый вздох и глухо прибавил:
– Ежели б не изловил нас в те поры отказчик боярина Сабурова-Замятни, хаживали бы мы ныне с волжскою вольницей.
Не раз слышал Ивашка рассказы родителей о жизни беглых и не мог понять, почему не возвращаются они в лес, а остаются в кабале у боярина.
– Ты бы, тятенька, безо сроку! – прильнул он кудрявой головкой к руке отца. – Ночью бы – шасть – и убегли.
– А мать? – сокрушенно напомнил Василий.
– И мать таким же ладком. Содеяли бы мы с тобой подземелье под самый подклет под ее, да и ямой той уволокли бы в леса.
Он удивленно передернул плечиками.
– Невдомек мне, на кой ляд князь мать в подклете томит? Кая ему в том корысть – не уразумею.
Выводков приложил палец к губам:
– Домолвишься до лиха! Сказывал аз тебе, беспамятной: по то и томит, чтобы мы с тобой не убегли!
Нагоревший конец лучины беспомощно повис, раздвоив тупым жалом шершавый язык огонька.
Рубленник оправил лучину и спустил сына с рук.
– Потужили, и будет. Срок и за робь приниматься.
Оглядев внимательно роспись, он поплевал на пальцы и стер линии, обозначавшие вершину стены. Уголек уверенно забегал к середине, к воротам, и задержался на львиной гриве.
Затаив дыханье, следил Ивашка за работой отца. С каждым движением руки лев заметно, на его глазах, оживал. Особенно жутко становилось, когда вздрагивал язычок огонька. Все сомнения сразу рассеивались: лев широко растягивал пасть, пошевеливал насмешливо усами и пронизывал мальчика горячим взглядом кошачьих глаз.
– Б-б-боюсь!
– А ты за меня уцепись. При мне не страшно, – улыбался мягко Василий, не отрываясь от работы.
Любопытство брало верх над страхом. Ивашка, только что готовый бежать без оглядки, обвивался руками и ногами вокруг ноги отца и снова глядел, холодея от ужаса, на подмигивающего зверя.
Далеко за полночь умелец закончил работу и, натруженно разогнувшись, гордо выпрямил грудь.
– Пускай поглазеют-ко ныне!
* * *
В награду за усердные труды по сбору тягла для казны и оброка в вотчину губной дьяк испросил у князя Сабурова разрешения попользоваться умельством Василия.
Захватив с собой сына, рубленник отправился в город ставить избу для дьяка.
Когда изба была готова, дьяк увел Василия к себе и из собственных рук поднес ему овкач вина.
– Вместно тебе, холоп, не рубленником быть, а в розмыслах[42] хаживать.
И, принимая пустой овкач, шлепнул себя ладонью по бедрам.
– Князь-боярин Шереметев сулит тебе богатые милости, ежели откажешься ты в его вотчину.
Лицо Выводкова сморщилось в горькой усмешке.
– Где уж нам да отказываться! Ведомо тебе лучше нашего, что не в холопьих достатках от кабалы откупаться.
Он безнадежно махнул рукой.
– А не будет господаревой воли – и никакой казной не откупишься.
Дьяк порылся в коробе, набитом бумагами, и достал скрученный трубочкою пергамент.
– Внемли и памятуй.
И неровным шепотом:
– А крестьяном отказыватися из волости в волость и из села в село один срок в году: за неделю до Юрьева дни осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем. А дворы пожилые платят: в полех за двор рубль да два алтына, а в лесах, где десять верст до хоромного лесу, за двор полтина да два алтына… А которой крестьянин с пашни продастся кому в полную в холопи, и он выйдет бессрочно ж – и пожилого с него нет, а которой хлеб его останется в земли, а он с того хлеба подать цареву и великого князя платит; а не похочет подати платити, и он своего хлеба земляного лишен.
Василий рассеянно выслушал и взялся за шапку.
– Что в грамотах писано, то не на холопью потребу. И того не положено, чтоб, яко зверей, людишек, противу их воли тянуть в кабалу, а невозбранно изловляют нас отказчики господаревы да кабалою кабалят. А на то нашей нету причины.
– Молчи!
Дьяк размахнулся с плеча, готовый ударить рубленника, осмелившегося дерзнуть против заведенных порядков, но опомнился вовремя.
– А похочет боярин, и грамота ему в грамоту. И не преступит Сабуров царева судебника. И будешь ты с бабою сызнов случен да с сынишкою.
Вернувшись из города, Василий узнал, что боярин приказал взять Клашу в железы и бросить в подвал.
Ночью, сквозь сон, Ивашка услышал сдержанные голоса.
– Тятенька, чуешь?
Кто-то изо всех сил забарабанил в дверь.
– Матушка! – волчком закружился ребенок и бросился встречать гостью. Но, приоткрыв дверь, он в страхе отпрянул назад: перед ним стоял тиун.
Василий не спеша поднялся и вздул лучину.
– Дай бог здравия гостю желанному!
Тиун указал рукою на дверь.
– Ужо наздравствуешься! – Взгляд его упал на исчерченную углем стену. – Аль с нечистым тешишься? – И, ухватив рубленника за плечо, вытолкал его на двор.
Перепуганный Ивашка бежал сторонкой за молча вышагивавшим отцом.
Князь, сложив руки на животе, поджидал рубленника в опочивальне.
– Господи Исусе Христе, помилуй нас!
– Ползи, мокрица премерзкая!
Упершись ладонями в пол, Выводков прополз через порог.
Замятня раздул пузырем желтые щеки. У расстегнутого ворота, на груди, затокал морщинистый треугольничек.
– К Шереметеву, мокрица премерзкая, ползти замыслил?!
Пожевав ввалившимися, как у старика, губами, он пригнулся и плюнул холопю в лицо.
– Пес бесстыжий! Зелье болотное!
Василий незаметно вытер щеку о рукав и, едва сдерживая готовую прорваться злобу, привстал на колени.
– Не моя то затея, а дьяка Агафона.
Ему стало понятно, почему обрушился на Клашу княжеский гнев. В голосе зазвучала неподдельная искренность.
– А на том крест горазд целовать – не было думки моей спокинуть тебя, господарь!
Боярин намотал на палец клок бороды и топнул сурово ногой.
– Прознаю – кречету дам очи выклевать бабе твоей, смерденка псам отпущу на прокорм, а тебе руки повыверчу, чтобы оскорда держать не можно!
Тиун почтительно крякнул и перекрестился.
Замятня сдвинул брови.
– Не ко времени крест творишь, буй!
Холоп вперил блаженный взор в оплечный образ ангела князя Миколы, Мирликийского чудотворца.
– Како без креста вспамятуешь деяния непотребные смердовы!
И, снова перекрестившись, с омерзением сморщился.
– Льва сотворил с опашью[43] диаволовой… Не инако – в клети у него ведьмы на шабаш слетаются… И дух-то в клети богопротивный.
Охваченный любопытством, князь пожелал немедленно лично проверить слова тиуна.
На дворе вспыхнули факелы. Возбужденный тиун стремглав побежал за конем.
Едва боярин появился на крыльце, батожники ожесточенно хлестнули воздух плетями. Холопи шарахнулись в стороны и припустили за господарем, поскакавшим верхом к одинокой клети, что притаилась в овраге, у бора.
Ивашка, воспрянувший духом от нежданной потехи, с гиком летел за факельщиками.
Тиун открыл ногой дверь, ведущую через узенький закуток в клеть.
Замятня подул на узловатые пальцы, расправил бороду и перегнулся, чтобы солиднее выставить ввалившийся свой живот.
Выводков, готовый грудью отстоять свои работы, застыл у стены.
Долго и внимательно разглядывал боярин роспись, кончиком ногтя осторожно водил по замысловато переплетающимся узорам, тщетно стараясь постичь, откуда берут они начало и почему под конец сходятся в одном месте, с неизбежною точностью. Его глаза светились все мягче и дружелюбнее, лицо плющилось в недоуменной улыбке. На низеньком лбу собирался ежиком колючий волос.
– Ты? – ткнул он пальцем в грудь рубленника и сипло захохотал. – Собственной дланью?
– Аз, господарь!
– Да откель у смерда умельство розмысла?
Ивашка юркнул меж ног тиуна и важно уставился на Сабурова.
– И не токмо тех львов, – мы с тятенькой Гамаюн, птицу вещую, сотворили. Ей-богу, провалиться вам тут!
И, ловко ускользнув из-под спекулатарских рук, готовых вцепиться в его курчавую головку, достал в тряпье глиняную птицу.
Сабуров всплеснул руками:
– Ну, прямо тебе – Гамаюн, что на книжицах фряжских!
Тиун не спускал с боярина глаз и всем существом пытался проявить свое восхищение.
– Аз давно заприметил умельство за Васькой! Не холоп, а клад, господарь!
Сабуров щелкнул себя неожиданно двумя пальцами по заросшему лбу.
– А не сотворить ли нам таку потеху из глины?
Выводков помолчал, остро уставился в стену и, что-то сообразив, уверенно тряхнул головой:
– Быть потехе той, господарь!
В то же мгновение Ивашка прыгнул к отцу и повторил слово в слово:
– Быть потехе той, господарь!
Тиун замахнулся на мальчика кулаком. Сабуров резко остановил холопя и снисходительно подставил дрябленькую руку свою для поцелуя ребенку.
– Ей-богу, господарь, провалиться вам тут, поставим мы с тятенькой потеху тебе таку, како на стенке расписана!
Выходя из клети, князь приказал рубленнику утром же начать работу.
На дороге, подле коня, дежурил уже Ивашка.
– А еще, господарь, чего аз сказывать тебе стану.
– Сказывай, постреленок!
– Отдал бы ты матушку нам! Ну, на какой тебе ляд, провалиться вам тут, наша матушка?!
Замятня вскочил на коня.
– Содеете потеху на загляденье, – отдам.
И шепнул добродушно тиуну:
– Спустить с желез.
Выводков упал в ноги князю:
– Дозволь дите к бабе моей допустить! Помилосердствуй!
Конь взметнул копытами грязь и скрылся в промозглой мгле.
Схватив в охапку сынишку, Василий мчался в подвал, в котором томилась Клаша.
Глава вторая
Сабуров-Замятня зачастил в гости к худородному соседу, Федору Тыну.
В Покров день, при людях, на паперти, князь первый подошел к Федору и поклонился ему.
Оторопевший служилый сорвал с головы шапку и ответил земным поклоном.
– А аз к тебе погостить, – объявил снисходительно Замятня и усадил соседа в свою колымагу.
…Трапеза подходила к концу, когда подвыпивший боярин вдруг строго поднялся и приказал подать шубу.
Хозяин загородил собой выход:
– И в думке не держал изобидеть тебя!
Сабуров шевельнул щетинкой на лбу и оскалил зубы.
– Колико жалую к тебе и ни единыжды ты не удосужился потешить меня поцелуйным обрядом.
Федор горько вздохнул:
– Будто впервой ты, Микола Петрович, у нас. Да и вдов аз. А дочь, самому тебе ведомо: на Ивана Купалу четырнадесять годков набралось.
Сабуров маслено облизнулся:
– О самую пору невестушка!
И с ехидным смешком:
– Зря хоронишь свой клад! Довелось ужо нам поглазеть на него!
Он присел на лавку и, пораздумав, огорошил Тына неожиданным заявлением:
– За горлицу за твою аз столь вена не пожалею…
Хозяин резко его перебил:
– При живой-то боярыне, Микола Петрович! Да ты окстись!
Тыкаясь колючей бородкой в острое лисье лицо Федора, Сабуров уверенно булькнул:
– Ныне боярыня, а завтра – послушница в монастыре.
Они присели на лавку и оживленно заговорили вполголоса, то и дело прерывая друг друга.
К вечере Тын приказал подать лучшего вина и сам привел дочь в трапезную.
– Кланяйся, Татьянушка, гостю!
Точно у кролика, подергивались мелкою дрожью губы и уши девушки. Чуть раскосые, немигающие глаза уставились с мольбой на икону. Раздувшиеся ноздри с присвистом вбирали воздух.
Федор умиленно поправил кокошник на пышной головке дочери и подмигнул боярину.
Стараясь казаться солидней, князь грузно шагнул, одернул висевший на нем, как на жерди, кафтан и подошел к смущенной хозяйке.
Она взяла с подноса братину, неуклюже поклонилась и поднесла ее гостю.
Микола Петрович трижды коснулся рукою пола и, отпив из братины, облапил девушку.
«Пугало огородное!» – с омерзением выругалась про себя Татьяна, но покорно подставила стиснутые и холодные, как у покойника, губы для поцелуя.
Позднею ночью вернулся хмельной боярин в свою усадьбу.
В опочивальне, укутавшись в теплое одеяло, он, сквозь сладкий зевок, поманил к себе тиуна.
– Выходит, хаживал окрест хоромин лихой человек да с девками сенными шушукался?
Тиун вытаращил недоуменно глаза:
– И слухом не слыхивал, господарь!
Замятня привскочил и сжал кулак:
– Сказываю – хаживал, буй!
Холоп широко улыбнулся и больно ущипнул себя за щеку.
– Доподлинно, буй! Из умишка ведь вон! Запамятовал! А како не хаживал? Хаживал, лиходей!
Он уже твердо знал, чего хочет князь, и с уверенностью стал на колени.
– И не токмо что с девками – в светлицу знаменье подавал!
– То-то же… Все-то вы поизленились… Недосуг ужо и за светлицею доглядеть!
И, стараясь казаться еще более рассерженным, князь сорвал с себя одеяло.
– Еще видывал кто лиходея?!
Тиун ткнулся губами в жилистую ногу боярина.
– Яшка-ловчий да псарь Ипатка намедни хвалились…
Снизив голос до шепота, он продолжал уже откровенно:
– Верные то людишки, боярин. Како похощешь, тако и молвить будут.
– Абие доставить ко мне боярыню!
Трое холопей ворвались в светлицу и, не обращая внимания на возмущение и угрозы, поволокли боярыню к мужу.
– Блудом вотчину мою дедовскую опозорила! – набросился трясущийся от гнева князь на обомлевшую от страха жену. – С лиходеями, богомерзкая, снюхалась!
Женщина упала ниц перед иконами:
– Потварь, владыко мой! Потварь!
Она заколотилась головою об пол и визгливо заплакала.
Князь старательно разжигал в себе гнев. Неистово топая ногами, он рвал на себе рубаху, выл, набрасывался на жену и ожесточенно царапал свое лицо:
– Блудница! Девка корчмарская! Тварь подколодная!
Разбуженные людишки, затаив дыхание, прислушивались к дикому вою, долетавшему из опочивальни, и потихоньку крались в дальние углы двора, чтобы случайно не подвернуться под горячую руку Миколы Петровича.
Накинув на плечи шубу, боярин бросился в сени.
– Сотворить ей мовь[44], змее подколодной!
Нагая, связанная по рукам и ногам, лежала боярыня на охапке заиндевелого хвороста.
– Неси! – рявкнул Замятня, выбегая из жарко натопленной бани.
Всю ночь женщину парили крапивными вениками. От духоты и невыносимой жары холопи валились без чувств. Их выволакивали вместе с боярынею на двор и, дав отлежаться, снова заставляли продолжать пытку.
А князь, никому не доверяя, раскисший от пота и едва живой от усталости, сам беспрестанно таскал в предбанник дрова и подбрасывал щедро в раскаленную печь.
С неделю пролежала боярыня в постели почти без всяких признаков жизни. Сабуров, уверенный в неизбежной смерти жены, объявил пост в усадьбе и послал за попами.
Но больная, наперекор ожиданиям, выжила.
Князь почти перестал бывать дома и беспросыпно пьянствовал у своего нареченного тестя.
Узнав, что боярыня поправляется, Тын стал заметно охладевать к Миколе Петровичу.
– А женушка твоя, бают, в церковь собирается, – с ядовитой усмешкой молвил он как-то гостю. – Образ жертвует в память чудесного исцеления.
Сабуров собрал ежиком лоб.
– Дай токмо срок. Дьяк все обмыслит.
И немедля собрался домой.
Трапезовал он, в первый раз после мови, вместе с боярыней.
Вдруг с шумом распахнулась дверь. На пороге, красный от возбуждения, появился тиун.
– Изловили людишки лиходея того!
Ложка вывалилась из рук боярыни. Князь, жалко съежившись, слезливо поглядел на жену и, крадучись, бочком, выбрался в сени.
Вскоре он вернулся с батогом и веревкой.
– Изловили, матушка, полюбовника твоего!
Холоп столкнул с лавки застывшую женщину.
– Изловили сердешного! – царапающе просверлил Микола Петрович и зло взмахнул батогом.
…После избиения боярыню заперли в подклет и там держали на хлебе и воде трое суток. Сам боярин никуда не отлучался из усадьбы до возвращения тиуна, отправленного им с тайным поручением в город.
Невеселый вернулся тиун в усадьбу.
– Аль не сдобыл? – встретил господарь нетерпеливым вопросом холопя.
– Не сдобыл! Слезно увещавал, милостей твоих богатых сулил, а не идут на удур. Проведают, сказывают, про то, что не было полюбовника у господарыни, – не токмо добра, сказывают, лишимся вашего, а не миновать и смерть приять.
Сабуров обдал тиуна полным презрения взглядом.
– А за службу твою быть тебе отсель во псарях!
Холоп покорно согнулся и приложил руку к груди.
– Дозволь остатнее рассказать.
Он порылся за пазухой и достал маленький сверточек.
Князь с любопытством поглядел на сжатый кулак тиуна.
– Ну-те-ко!
– Дьяк тот поклон тебе бил да невзначай обмолвился…
– Не волынь, сказывай!
Холоп вытер рукавом нос и, подражая дьяку, загнусавил, не передыхая, с трудом, заученные слова:
– А ежели жена помыслит извести зельем мужа, по праведному суду цареву положено ей за грех той смертный постриг приять, а либо обыщется сугубо вина ее, волен муж ту жену и казнью казнить.
Задорная улыбка озарила лицо Сабурова.
– Како ходил ты в тиунах, Олеша, тако и дале ходи…
Перед вечерей князь пришел в подклет. Женщина лежала лицом вниз на земляном полу и глухо стонала.
– Параскевушка, а Параскевушка!..
Замятня опустился на колени и нежно провел рукой по спине жены.
– Прости меня, Христа для… Возвели злые люди потварь на тебя.
Не веря своему счастью, боярыня прильнула губами к поле кафтана и забилась в слезах.
Дождавшись, пока Параскева переоделась, князь сам пришел за ней в светлицу.
– Для мира и дружбы попотчую аз ныне тебя лучшим березовцем да солодким вином.
Потрапезовав, они стали на колени перед оплечным образом Миколы и долго проникновенно молились…
Уже светало, когда истомленная женщина вернулась к себе в светлицу из господарской опочивальни.
Растолкав сенных девушек, она порылась в скрыне и выбрала лучший кусок атласа.
– К полудню сробить князю рубаху с золотой росписью!
И, не раздеваясь, бросилась на постель.
Девушки закопошились на полу перед изрезанным атласом.
Задолго до обеда боярыня обрядилась в ферязь, летник с пышными рукавами и в красный опашень. На густо набеленном лице нелепо выделялись ярко раскрашенные толстые губы и точно прилепились непрочно, готовые полететь друг другу наперерез, две стрелочки начерненных бровей. Прижав к груди гостинец мужу, Параскева неспокойно прислушивалась к каждому шороху, доносившемуся из сеней.
Постельничья уговорила господарыню сесть на лавку.
– Засеки меня, матушка, ежели не покличет тебя боярин.
Вдруг Параскева радостно всплеснула руками и, оттолкнув постельничью, бросилась к двери.
– Идут!
В дверь постучался тиун.
– Трапезовать, боярыня!
В трапезной, поклонившись до земли Миколе Петровичу, боярыня скромно уселась по левую руку мужа.
Холопи внесли ведерко вкусно дымящихся щей.
Князь подставил свою миску, но тут же торопливо отдернул ее и подозрительно поглядел на жену.
– А не примечаешь ли ты, Параскевушка, будто духом особным щи отдают?
И, зачерпнув из ведерка, поднес ложку холопю.
– Откушай.
Холоп перекрестился, с наслаждением хлебнул и отошел к двери.
– Ты что вихляешься? – набросился на него тиун.
Но холоп не мог уже ответить; он с ужасом почувствовал, как каменный холод сковывает его ноги, подбирается к остановившемуся сердцу и деревянит язык.
Прежде чем отравленного вынесли на двор, он умер.
* * *
До вешнего Миколы Параскева сидела в подвале, дожидаясь суда.
На допросе постельничья показала, что видела, как боярыня за день до смерти холопя передала сенной девке какое-то зелье. Тиун, ловчий и псарь целовали крест на том, что не раз заставали подле усадьбы потваренную бабу, сводившую Параскеву с каким-то проезжим молодцем.
Узницу приговорили к смерти.
* * *
Боярыню привели из губы в вотчину. У крыльца стоял Микола Петрович.
Увидев мужа, Параскева плотно закрыла руками лицо и крикнула, напрягая всю силу воли, чтобы не разрыдаться:
– Грех твой и на сем и на том свете стократ сочтется тебе, душегуб!..
Князь побледнел и, судорожно вцепившись в руку Тына, с мольбой поднял к небу глаза. На мгновение в его душе шевельнулось что-то похожее на раскаяние и страх перед загробным судом. Из уст готово было вырваться слово прощения, которое развязало бы его сразу от содеянного греха, но откуда-то из глубины уже вынырнуло свежее личико Татьяны, и пряный, нестерпимо щекочущий запах ее юного тела уже захлестнул сердце и мозг хмельной волной.
Не помня себя, Замятня подскочил к жене и рванул ее за волосы.
– Нам ли страшиться блудного лая?! А вместно нам исполнить древлее установление!
И, поднявшись на носках, охрипшим петушиным криком скребнул:
– Зарыть ее в землю до выи!
Могилу вырыли на лугу. Боярыня послушно поддавалась катам, срывавшим с нее одежды и как будто стремилась даже помочь им. Пустые глаза беспрестанно шарили по сторонам, удивленно останавливались на людях, а лицо широко расплывалось в жуткой усмешке помешанного.
И только, когда ее опускали в землю, она вдруг вцепилась зубами в руку ката и воюще разрыдалась.
Холопи торопливо зарывали яму. Вскоре скрылись под землей ноги, вздувшийся от голода живот и обвисшие, в синей паутине жил, груди.
Лицо Параскевы приходилось против чуть виднеющихся окон светлицы.
Боярыня напрягала все существо, чтобы перекинуться немного в сторону и не видеть терема, в котором прожила долгие, беспросветные годы, но земля цепко держала и не давала пошевелиться ни одному ослабевшему мускулу.
Всю ночь вотчина не спала от звериного воя, доносившегося с обезлюдевшего черного луга. Потом, под утро, вой перешел в стрекочущий скрип, припал к земле, прошелестел еще шелестом подхваченной ветром мертвой листвы и оборвался.
В полдень, как требовал древлий обычай, пришли из губы богомольцы, низко поклонились зарытой до шеи женщине и бросили в шапку дозорного несколько полушек – скромное свое подаяние на гроб и погребальные свечи обреченной.
– Егда предстанешь на суд Господень, реки Господу, что благоговейно и со смирением отдали тебе свою лепту Микита, Фрол, Никодим, Илья, Нефед…
По одному, крестясь и кланяясь, называли свои имена богомольцы и, просветленные, уходили творить земные дела.
Когда боярыня умерла, ее тело вырыли, обмыли и положили в гроб.
Микола Петрович, после погребения, приказал людишкам принести на боярский двор дичины и меду.
Холопи снесли достатки свои господарю на помин души новопреставленной.
Глава третья
Под огромным навесом творил Василий из глины, камня и кирпича потешный город. Ивашка, перепачканный с ног до головы в грязь и известь, не отходил ни на шаг от отца. В редкие дни, когда, в сопровождении дозорного, приходила мать, мальчик немедленно засаживал ее за работу.
Кроме же Клаши, никто, ни в каком случае, не допускался им под навес.
Наконец, городок был готов.
Ивашка выкупался в реке, обрядился в новую рубашонку и сам пошел с радостной вестью к тиуну.
Вся волость сбежалась поглазеть на чудо, сотворенное рубленником.
Как только к навесу, на богато убранном аргамаке, прискакал Микола Петрович, Выводков снял с городка рогожи.
Боярин пораженно отступил.
То, что он увидел, превзошло все его ожидания.
Обширная площадка, усыпанная белоснежным песком, была обнесена каменною стеною. Трое ворот в Ивашкин рост обратились на восход, полдень и полночь. Полунощные ворота были окованы расписными листами железа, и на самом верху, на площадке, лежали, задумчиво уставившись в землю, игрушечные львы. Над львами, на тоненькой жердочке, распростер крылья орел. По остриям трех главных построек расположились выточенные из березы молодые соколята.
Ивашка шмыгнул в ворота, поманив к себе князя. Василий испуганно покосился на господаря и прикрикнул на сына.
Замятня снисходительно усмехнулся:
– А не иначе, ходить и отродью твоему в розмыслах!
И строго:
– Сказывай, что к чему!
Рубленник важно откашлялся и ткнул пальцем в потешные палаты:
– Отсель, господарь, переход идет к полудне-восходнему углу. Аз перед избой и палатой поставил хоромины с клетью вровень с землей.
Ивашка возмущенно цокнул язычком.
Тиун погрозился кнутовищем:
– Ну, ты! Не дюже!
Но это еще больше возбудило мальчика:
– Бахвалится тятька! Ей-пра, провалиться вам здесь, бахвалится!
И, кривляясь:
– Аз, аз! Ишь ведь, скорый какой! А не мы-з ли с тобой?!
Князь расхохотался:
– Домелешься, покель языка недосчитаешься своего.
Воодушевляясь все более, рубленник стал рядом с боярином.
– А за хороминами и клетью к тому стены срублены ниже, чтобы солнцу вольготнее было… Отомкни-ка погреб, Ивашенька! А у полунощной стороны хлебни да мыльни поставлены, а на них – сараи.
Спекулатарь не сдержался и вслух похвалил работу:
– Тако прорезал сарай, чисто тебе из листвы.
Скрывшийся в погребке Ивашка выполз с деревянным коньком в руке и взобрался на четырехугольный, схожий со столом, помост.
– Эвона, како, боярин, в седло то садиться пригоже!
Присвистнув, он прыгнул на конька.
В тот же день Микола Петрович позволил Клаше переселиться к мужу.
– Сволоку аз городок тот на царев двор, – объявил Замятня Тыну. – Авось на таком гостинце не станет гневаться.
Несмотря на уговоры соседа остаться дома и не показываться на глаза великому князю, боярин начал сборы в дорогу и перед отъездом устроил пир.
Подвыпивший князь Шереметев пристал к хозяину с просьбой продать ему рубленника. Сабуров слушал с высокомерной усмешкой, ежил щетинку на лбу и отмалчивался.
Взбешенный гость, чтобы чем-нибудь разрядить гнев, вдруг вскочил и опрокинул на голову хихикавшему ехидно Тыну корец вина.
– Не зря ты, Петрович, и на Москву охоч! То-то, глазею, со смердами побратался!
Пошатываясь, он направился к двери.
– А ты бы не гневался. Придет срок, авось и пожалую тебя рубленником по-суседски.
Шереметев обдал хозяина уничтожающим взглядом:
– Не любы нам милости от печенегов, что дружбы ищут у сынов боярских.
Обезумевший от неслыханного оскорбления, Сабуров схватил овкач и швырнул его в князя.
– Вон! Вон, воров сын! Еще и деды твои славны были тем, что нищими слыли да из царевых покоев золотые ендовы таскивали!
Гости вскочили из-за стола.
* * *
Отслужив молебен, Микола Петрович тронулся в путь.
Части потешного городка были тщательно упакованы в солому и погружены на возы, управление которыми возложили на Выводкова.
Далеко за деревню провожали рубленника жена и сын. Клаша держалась бодро, не хотела расстраивать мужа, делиться с ним тяжелыми предчувствиями своими, жестоко облепившими ее душу, и ограничивалась тем, что без конца наставляла его, как держаться на чужой стороне и какими заговорами уберечься от дурного глаза.
В последнюю минуту она, однако, не выдержала и, позабыв обо всем, с визгливыми причитаниями повалилась Василию в ноги. Спокойный до того мальчик, ничего, кроме зависти, к отъезжающему не чувствовавший, увидев слезы, обхватил вдруг колени отца и заревел благим матом:
– И аз на Москву пойду! И аз робил городок тот!
…Уже при въезде в город боярина поразило необычайное оживление на улицах.
Он сдержал коня перед стрельцом.
– К чему гомон стоит?
Стрелец склонил низко голову.
– На рать скликает людей царь и великой князь.
Боярин нетерпеливо свернул к приказу.
Почтительно распахнув перед важным гостем дверь, дьяк уловил немой вопрос и взял со стола грамоту.
– Послание из Москвы, Микола Петрович.
И протянул князю бумагу.
Замятня отстранил руку дьяка и не без гордости пропустил сквозь зубы:
– Не навычен бе премудростям граматичным. На то дьяки да мнихи поставлены.
Разгладив кулаком усы, дьяк перекрестился и заворчал себе под нос, проглатывая окончания слов:
«…Нарядить от Дмитрова, и пригородов, и сел, и деревень, и починков, с белых нетяглых дворов, с трех дворов по человеку, да с тяглых с пяти дворов по человеку, всего четыреста человек на конех. Да, опричь того, нарядить шестьсот человек пищальников, половина на конех, а другая половина – пеших. Пешие пищальники были бы в судах, а суда им готовить на свой счет; у конных людей такожде должны быть суда, в чем им кормы и запас свой провезти. У всех пищальников, у конных и пеших, должно быть по ручной пищали, а на пищаль по двенадцати гривенок[45] безменных зелья да столько же свинцу на ядра; на всех людех должны быть однорядки или сермяги крашенные. И еще нарядить детей боярских како окладчик произведет. А быти им, детям боярским на службе не мене како на коне в пансыре, в шеломе, в саадаке, в сабле, да три человека (холопи ратные) на конех в пансырех, в шапках железных, в саадаках, в саблех с коньми, да три кони простые до человек – дву меринех в кошу».
Князь выслушал грамоту, вытер рукавом с лица пот и протяжно вздохнул:
– А коли милость царева людей своих на рать скликать, – наша, боярская, стать – послужить ему в добре да правдою!
В глазах дьяка зазмеилась недоверчивая усмешка и тотчас же погасла.
В избу вошел окладчик. За ним, согнувшись, вполз сын боярский.
Окладчик сорвал с головы шапку, приветливо поклонился Сабурову и повернулся к просителю:
– Недосуг мне с тобою, Кириллыч! Погодя заходи!
Сын боярский помялся, шагнул было за порог, но раздумал и вернулся в избу:
– Для пригоды, спрознал бы ты и от князь Замятни-Сабурова. Поди, ведает князь достатки-то наши. Не с чего мне на службе быти: бобылишки и крестьянишки мои худы а сам аз беден. – Он шумно вобрал в себя воздух. – Бью челом, а не пожаловал бы ты записать меня в нижний чин.
Окладчик и дьяк вышли в сени. За ними торопливо юркнул проситель.
Замятня на носках подкрался к двери и прислушался. До его уха донесся звон денег.
«Мшел дает», – подумал он и облизнулся.
Когда окладчик вернулся, Микола Петрович взялся за шапку.
Дьяк отвесил поклон.
– Не побрезговал бы, князь-боярин, с дорожки хлеба-соли откушать.
– Не до пиров ныне. Поспешаю в усадьбу.
В дверь просунулась голова подьячего.
– Доподлинно, великой умелец – холоп!
Боярин кичливо раздул поджарый живот и прищурился.
– Из-за холопя того и князья мне ныне не в други, а в вороги. К прикладу, сам Шереметев бы.
Окладчик пожелал поглядеть на чудо и, дождавшись, пока Василий распаковал поклажу, внимательно, с видом знатока, ощупал морды львов, постучал пальцами по деревянным лбам их и даже подул зачем-то в слюдяные глаза.
Покончив с осмотром, он недружелюбно поморщился.
– А не гоже, князь, холопю да розмыслом быть.
Замятня собрал ежиком лоб.
– По шереметевской сопелке пляшешь, Назарыч?
Дьяк сплюнул через плечо и размашисто перекрестился.
– Не возгордился бы смерд, не возомнил бы чего.
И, многозначительно переглянувшись с окладчиком, ушел в избу.
Боярин, рассерженный, вскочил на коня и ускакал в усадьбу.
* * *
Все, как положено было по грамоте, выполнил с щепетильною точностью Микола Петрович. Его вотчина раскинулась грозным военным лагерем. Узнав, что и Шереметев с другими князьями тянутся из последнего, чтобы не отстать от него, Замятня снова поскакал колымагою в губу, захватив с собою Тына.
– Опричь земли, ни денгой не володеют, а тоже суются попышней моего снарядиться! – ворчал он всю дорогу. – Токмо не быть тому николи, чтоб Шереметев за ту обиду в ноженьки мне не поклонился бы.
Едва переступив порог приказной избы, Микола Петрович набросился на окладчика:
– Волил бы аз, Назарыч, уразуметь, противу ли басурменов-ливонцев царь рать затеял, а либо противу себя ворогов кличет.
У дьяка, точно у изголодавшегося пса, почуявшего добычу, горячо сверкнули глаза. Окладчик выслал из избы стрельцов и заложил дверь на засов.
Перебивая друг друга и горячась, князь с Тыном возводили на Шереметева тяжкие обвинения, выкладывая все, что только приходило на ум.
Дьяк подробно записывал каждое слово, хотя заведомо знал, что большая часть сказанного – выдумка и злостная потварь.
Из губы на перепутье Сабуров заехал передохнуть в усадьбу Тына.
Татьяна с животным отвращением поглядывала из оконца на гостя.
Мамка любовно поцеловала покатое плечико девушки:
– Нешто дано человеку ведать пути Господни? При убогости нашей – да в боярыни угодить!
Лисье лицо Татьяны залилось желчью. Угольнички бровей напруженно потянулись к вздрагивающему родимому пятнышку на переносице.
– Не пойду аз за него, старого!
И, не слушая увещеваний, выбежала из светлицы, изо всех сил хлопнув дверью.
Гость уселся подле жарко истопленного очага и маленькими глоточками отпивал мед.
Федор подошел ближе к боярину.
– Вот и дороженька ратная выпала тебе, князюшко!
– Да и тебе, поди!
– Про то аз и сказываю.
И, покряхтев нерешительно, прибавил вполголоса:
– С венцом бы поторопиться, боярин.
Микола Петрович притворно вздохнул и показал на свою заросшую буйно голову:
– Оно и аз бы охоч, да сам ведаешь: срок туги еще не отошел по покойнице. Эвона, како отросли волосы сокрушенные!
Федор фыркнул в кулак:
– Туга! По блуднице! И потешен ты, князь!
Точно какая злобная сила рванула с лавки Миколу Петровича:
– Не бывало у Сабуровых блудниц! Яко звезды, род наш боярской! Не моги!
Тын попятился к стене и виновато заморгал.
– Помилуй, боярин. Без умысла аз. Ужо иному кому, а мне доподлинно ведомо, для какой пригоды Параскеву ту извели.
– И не порочь! Не сына боярского отродье, а дщерь конюшего царского покойница-то!
Федора передернуло.
– Не на мою ли Татьянушку речи наводишь? Худородством никак попрекаешь?
Князь оскорбительно рассмеялся в лицо хозяину:
– Покель отродье твое еще не в господарынях, волен аз и в убогом ее отечестве разбираться.
Тын не выдержал и топнул ногой:
– Оно и худородного мы отечества, а не имам на душе греха смертного!
И, открыв коленом дверь, выбежал из горницы.
…Как только боярская колымага скрылась в снежной пыли, Федор заложил дроги и, укутавшись с головой в тяжелый медвежий тулуп, поехал в губу.
Окладчик и дьяк сидели за столом, что-то подсчитывая на сливяных косточках. Они не обратили внимания на вошедшего и строго продолжали работать.
Наконец, дьяк поднялся, оправил нагоревшую свечу (от колеблющегося огня правая щека его стала похожей на измятый подсолнух, не часто утыканный черными семечками) и, сквозь зевок, предложил:
– Разборщику бы и десятинной доли достатно.
– А и жаден же ты, Григорий!
Взгляд окладчика, как будто нечаянно, упал на Тына.
– Больно прыток ты, сын боярской! Не срок еще за наградою жаловать!
Федор не понял и промычал что-то невнятное.
Дьяк дружелюбно похлопал приезжего по плечу.
– А буде прискачет гонец из Москвы с наградою за того Шереметева, не утаим и твоей доли.
Тын довольно осклабился и поклонился:
– На том спаси вас бог, на посуле на вашем. А токмо не затем аз сюда пожаловал.
Он сел между окладчиком и дьяком и торжественно объявил:
– Нешто тайна в том, что Замятня в зятья ко мне набивается?
– Слыхивали.
– А честь мне та и не в честь! – И, стукнув о стол кулаком: – Негоже мне родниться с крамолою! Нынче еще печаловался мне боярин: дескать, то царю да людям торговым море занадобилось ливонское, чтоб с иноземщиной торг торговать да басурменским умельством попользоваться да еще, чтобы худородных землями жаловать…
Окладчик восхищенно обнял Тына:
– Будешь ли крест на том целовать?
Федор готовно вскочил и поднял руку перед киотом.
Глава четвертая
Мрачно, неуютно в церкви Рождества Богородицы. Скупо теплится в левом притворе лампада перед потрескавшимися ликами учителей словенских Мефодия и Кирилла, да в серебряном паникадиле слезятся догорающие свечи из ярого воску.
Перед стоячим образом мученицы Анастасии, на коленях, молится, бьет усердно поклоны, Иоанн Четвертый Васильевич.
В морозном воздухе скорбно перекликаются колокола. Им подвывает придушенным причетом дьячковским стынущий ветер.
Проникновенно молится царь, больно вдавливает два тонких пальца в желтый, изъеденный морщинами лоб, в хриплую грудь и в приподнятые острыми углами плечи. Чуть пошевеливаются большие, реденькие усы при каждом движении посиневших от стужи чувственных губ:
– Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, душе усопшей рабы твоея Анастасии, злыми чарами изведенной, и сотвори ей вечную память.
Последнее слово вырывается с хлюпающим присвистом, жалко дергается худощавое тело, и беспомощно свисает на грудь голова.
Каждый год, в день поминовения первой жены царевой, в Кремле стоит великая тишина. Только погребальные перезвоны и скорбные моления о душе усопшей витают над теремами и бьются о заиндевелые кремлевские стены в неуемной туге.
И все – и близкие, и самые малые людишки, – в тот день не касаются ни браги ни меда и вкушают пищу великопостную. А в Чудовом монастыре, в темных, низеньких кельях, не встают монахи с колен и, вместо пищи земной, до отказа пресыщаются небесным хлебом – покаянной молитвой.
В последний раз открылись царские врата. Из алтаря, в черной рясе, вышел протопоп Евстафий и широким крестом благословил молящихся.
Смиренно приложился царь ко кресту. За ним, не вставая с колен, поползли остальные.
На паперти Биркин накинул на плечи Иоанну росомашью шубу, а Боборыкин, согнувшись до самой земли, подал посох с медным литым наконечником, тяжелым, как в гневе слово царево, и острым, как зрачки глаз Иоанновых, испытующе режущих лица бояр, заподозренных в израде.
Поеживаясь и стараясь негромко ступать, пошли близкие за царем, по узенькому проходу в жилые хоромы, примыкающие к церкви Рождества Богородицы.
В сенях, у Крестовой, Иоанн обернулся, благословил всех крестом и, кивнув трем близким, зашаркал к трапезной.
Григорий Грязной, объезжий голова на Москве, подхватил шубу, сброшенную царем легким движением плеч.
Висковатый подставил резное, в золоте, кресло с орлом на острой вершине спинки.
Грозный расслабленно опустился в кресло и склонил голову на плечо казначея Фуникова.
– Нету со мной моей Настасьюшки светлоокой! Болезнует дух мой, умножились струны душевные и телесные, и нету врача, который бы меня исцелил…
Он поднял отуманенный взор свой на красный угол и продолжал голосом, полным невысказанной, смертельной тоски:
– Взял от меня Бог ту, кто умел со мной поскорбить и утешить в туге великой, и ныне оставил меня единого…
Резко хрустнули туго переплетенные, тонкие пальцы.
– Колико времени миновало, а не можно позабыть мне Настасьюшку мою светлоокую!
Окольничий Челяднин тяжко вздохнул:
– Извели, антихристы, царицу нашу. За возлюбление твое воздали ненавистью премерзкою.
Долго, не отрываясь от плеча казначея и закрыв глаза, Иоанн вполголоса вспоминал о последних днях Анастасии Романовны. С каждым словом голос его крепнул, наливался раздражением и обличительной укоризной.
– Все Глинские! Все они, окаянные! – через равные промежутки времени вставлял одно и то же Грязной. – Ихней руки дело-то черное!
Не слушая объезжего, царь жестко выкрикивал в пространство все, что накипело в его неспокойной душе, и подробно перечислял, что сделал для умирающей:
– Немку-знахарку, Шиллинг, не пожалел в золотой карете доставить из Риги! Колико лекарей понагнал! А в молитвах извелся весь – и ничего, и ничего ты, Господи, не допустил до уха своего пресвятого!
Опомнившись, царь покаянно поглядел на образ, перекрестился и перевел сетования свои с Бога на людей.
– Памятую, было то еще в юности моей. Бабка моя Глинская Анна, удумала со чады свои сердца вырывать из грудей человеков и чародейством сим богопротивным вызывать пожары лютые.
Он оттолкнул казначея, шумно встал и заскрежетал зубами.
– И ворвались в те поры, в пожар великой московской, людишки в церковь, схватили в праведном гневе князь-боярина Юрия Васильевича Глинского да поволокли в церковь Успения.
Из-под полуопущенных век вспыхивали широко раздавшиеся зрачки. Пальцы, точно вздрагивающие синие гусеницы, жадно прилипли к посоху.
– И убили его, христопродавца, противу места митрополичья, а кровью помост церковный помазали – тем и спасли от пожара Москву!
Бухнувшись в кресло, Грозный неожиданно затопал ногами.
– Всех бы тогда заедино! Всех бы! Да и вотчины сжечь!
Едва вспышка улеглась, Челяднин, будто невзначай, вставил:
– От словес твоих пресветлых вспомнилось мне, како помышлял ты пересадить вотчинников на новые земли.
Грозный приподнял острые плечи и внимательно вслушался.
– Аль негоже я замышлял?
– Премудро, царь, яко сам Соломон. Оторвал ты коих земских от вотчин да тем силу их надломил. На чужбине-то не особливо их, слышно, честят. Не ведают, да и ведать не к чему чужим-то, откель родом пришли те князья да чем имениты!
Грозный поджал губы и покрутил орлиным носом своим.
– Ты не тяни. Зрю аз: надумал ты чего-то, Иванушка!
Окольничий застенчиво опустил глаза.
– Не аз един понадумал. С Фуниковым да Грязным мозговали.
И, приложившись к цареву халату:
– Пожалуешь сказывать?
– Сказывай.
– А у опальных, сдается нам, не токмо добро и живот, но и крепости с грамоты в пору бы казне отписать.
Наморщив лоб, Грозный тщетно силился понять смысл слов Челяднина.
Фуников устремил на царя простодушный взгляд и продолжал за окольничего:
– Коль не будет у князей грамот, вольны холопи на новые места отказываться.
Грязной понял по выражению лица, какая мысль забеспокоила Иоанна, и, таинственно ухмыльнувшись, разъяснил:
– А кой худородный сядет на господаревы земли да спонадобятся ему холопи, по каждой пригоде разберем и на тех людишек князей опальных запрет наложим отказываться в иные дворы.
В дверь слегка постучались. Фуников бросился в сени и тотчас же вернулся.
– Не потрапезуешь ли, государь?
Иоанн кивнул утвердительно.
Стольник отведал постных щей и вареную рыбу и передал их царю.
Доедая последний кусок, Грозный сбил пальцем крошки с клинышка бороды, ладонью размазал по губам клейкую ушицу и перекрестился.
– Измаялся аз нынче, – лениво протянул он. – Утресь додумаем думу.
Казначей робко напомнил:
– Аглицкие гости утресь белку будут глазеть.
Царь оживился:
– Пучки-то прилажены ли?
– Чмутят басурмены те. Давеча толмача присылали: дескать, пожаловали бы белку им, како по чести водится: в пучке, в десятке, две – наигожие – личные, да три похуже – красные, да четыре – того похуже – подкрасные, да одну – негожую – молочную.
Ногтем мизинца Иоанн раздраженно ковырял застрявшую в зубах рыбью косточку и что-то соображал.
Вдруг он сипло расхохотался:
– Показали бы басурмены милость да перебрали бы все три тьмы пучков! Поглазел бы аз!
И, подробно разъяснив, как подменить лучшие шкурки худшими, прибавил:
– А какие пучки без удуру Ивашка тебе, казначей, для показу подкинет. Слышишь, Иван?
– Слышу, преславной!
– А еще, государь, воску у нас полежалого сила… – печально вздохнул Фуников.
Царь опустил руку на плечо Висковатого и внушительно заглянул в его глаза.
– На то и дьяки, чтоб извод был бумаге.
Дьяк торопливо взялся за перо.
«…А еще до соизволения государева ни единым людишкам, опричь двора, не вести торгу воском. А паче нарушено будет сие…»
И, закончив, на коленях подал Грозному грамоту для подписания.
После ранней обедни Иоанн прошел через внутренние покои на склады.
– Царь идет! – громогласно объявил поджидавший жилец.
Работные, закрыв руками лицо, попадали на пол.
Фуников стоял у огромной кипы пучков и ухмылялся. Уловив едва заметный знак, поданный царем, он ловко выхватил один из пучков. Грозный внимательно просмотрел и пересчитал шкурки по сортам.
Все шло так, как было условлено накануне. Фуников ни разу не ошибся и по знаку подавал лучшие пучки, выхватывая их, почти не глядя, из общей кучи.
Деловито проверяя груду конского волоса, щетины, гусиного пуху и кож, царь давал подчиненным последние указания.
Измученными призраками сновали по складу работные. Их лица и полуголые тела были залеплены медом, пухом, волосом и щетиной. Согнувшись до земли, они перетаскивали с места на место тюки, укладывали их так, как требовал казначей. За всю долгую ночь никто из них ни разу не передохнул: бичи зорких спекулатарей были всегда наготове.
Иоанн укутался по уши в шубу и, зябко поеживаясь, ушел в палаты.
В трапезной его поджидали думные бояре: Михаил Лыков, Колычев, Бутурлин и Иван Воронцов.
Ответив легким кивком на поклон, царь уселся за мраморный столик.
Думные не притронулись к кушаньям, расставленным на длинном столе, до тех пор, пока Грозный не передал Челяднину надкусанный ломоть хлеба.
– Воронцову! – бросил лениво царь и отломил еще два куска. – Лыкову и Бутурлину!
Бояре трижды коснулись пола и приняли поденную подачу[46].
Низко свесив голову, сидел Колычев, с мучительным волнением дожидаясь подачи. Бояре исподлобья поглядывали на него и уписывали кислые щи.
Царь облизал ложку и, слегка приподнявшись, перекрестился. Все вскочили за ним на молитву.
Прищуренный взгляд ястребиных глаз Иоанна впился в посеревшее лицо Колычева.
– Слыхивали мы, печалуешься ты, князь, на лихие дела? И, сквозь дробный смешок:
– Не любо, сказывают, тебе, что, почитай, выше земских сиживают николи и в думных списках не виданные Биркины да Боборыкины, да Загряжские с Наумовыми, да что еще те Басмановы со Скуратовыми и Годуновым силу взяли великую?
Боярин, потупясь, молчал.
Легкая тень пробежала по лицу царя, погасила смеющиеся глаза и залегла глубокой бороздой на лбу.
В трапезную неожиданною оравою голосистых ребят ворвался шумный перезвон колоколов.
– Не иначе – Федька на звоннице тешится, – недовольно покачал головой Иоанн.
Пыхтя и отдуваясь, в дверь просунулся боярин Катырев.
– Сызнов царевич убег от меня, государь!
Набросив на плечи шубу, Грозный вышел на крыльцо и, приложив кулак к губам, строго окликнул сына.
Перезвон оборвался. Федор бочком сунулся к лесенке и исчез.
В трапезной молча стояли бояре.
Не обращая внимания на Колычева, Иоанн направился к креслу, стоявшему у окна, и придвинул ногами тигровую полость.
– Читай! – приказал он Висковатому, усаживаясь удобней.
Дьяк развернул цедулу и улыбчато шевельнул носом.
– От Михаилы Воротынского-князя.
Клинышек царевой бороды оттопырился кверху, точно прислушиваясь к чему-то. Правая нога грузно нажала на голову тигра.
– Чем ему на новых хлебах не потрафили?
Висковатый, не торопясь, прочел цедулу опального.
На многие обиды жаловался Воротынский, требовал, чтобы украйные служилые оказывали ему почтение, достойное его отечества, и выражал свое удивление тому, что давно не получает царева жалованья: ведра романеи, ведра бастру, десяти гривен перцу, гривенки шафрану и пуда воску.
С каждым словом к Иоанну возвращалось его игривое настроение. Приподняв посох, он слегка коснулся наконечником Колычева.
– Ты, думной, подсоби умишком своим, како с челобитною быть.
Боярин умоляюще поглядел на соседей, ища в них поддержки. Думные, свесив головы, упорно молчали.
– Сказывай, князь!
Колычев отвел в сторону взгляд и буркнул в бороду:
– Что по отечеству положено вотчинникам, то от Бога. А ты на то царь и великой князь, чтобы по-божьи рядить.
Фуников с укором поглядел на боярина и развел неопределенно руками.
Уставившись в промороженное оконце, Иоанн спокойно, по-дружески, объявил:
– Добро рассудил. Доподлинно, не зря сетуешь на то, что рядом с тобою Биркины с Загряжскими сиживают.
Он шумно вобрал в себя воздух и с присвистом выдохнул:
– Жалую аз тебя усадьбою по суседству с князь-боярином Воротынским на украйной земле.
Колычев, сохраняя достоинство, выслушал весть, перекрестился на образ и, отвесив всем по поклону, ушел.
– Сызнов печалования боярские? – задетый за живое спокойствием Колычева, зло повернулся Иоанн к дьяку. – Токмо и заботушки моей, что миловаться с крамолою!
Висковатый пробежал глазами цедулу.
– А печалуется еще воевода на тяглых. Бегут, мол, людишки от поборов и тягла. Волости поопустели.
Думные зашептались вполголоса. Царь внимательно вслушался в их шепот.
Воронцов поднялся с лавки.
– Дозволь, государь!
И запальчиво выхватил грамоту из рук дьяка.
– Николи того не бывало, чтоб воеводы да приказные царей тревожили челобитными от людишек!
Остальные горячо поддержали князя и повскакали с лавок.
– А либо ужо и холоп не холоп?! – наперебой перекрикивали они друг друга. – А либо стало стрельцов недостатно на смердов?
Грозный вонзил посох в голову тигра. Все сразу стихло. Только Воронцов не мог прийти в себя и, ожесточенно размахивая руками, продолжал что-то выкрикивать. Казначей резко потянул его за полу кафтана к лавке.
Царь подул на стекло, потер его пальцем и поглядел на площадь.
– Никак басурмены пришли?
И к дьяку:
– Отпиши по всем губам, что, дескать, в царевой думе многое множество великих забот и недосуг ей холопьими печалями печаловаться. Токмо пускай те приказные да воеводы по-божьи творят, людишек через меру не забижают.
Бояре просветлели и благодарно поклонились царю.
По знаку Челяднина они гуськом двинулись к двери.
В трапезной остались Висковатый и Фуников.
Царь раздумчиво потер висок.
– А и впрямь холопи не к добру воют. Худа бы не было! Нешто к веселью нашему, коль цельными волостями бегут?
Он в упор уставился на Висковатого.
– Надумать бы такое, чтобы людишки про меня лихого не молвили, а всю вину на бояр с дьяками переложили.
Фуников закатил глаза и улыбнулся елейно.
– Надумаем, государь. Сами не сладим – Вяземского покличем.
И, помолчав, прибавил:
– Еще на выдумки охочи Алексей Басманов да Борис Годунов.
Иоанн милостиво потрепал по щеке казначея.
– Сдается и мне – ума палата у того Годунова!
Глава пятая
От великокняжеских покоев до Благовещенского собора скребут и чистят людишки работные дорогу, обряженную северами в шуршащий саван. Долгою чередою по обе стороны дороги выстроились стрельцы и дворовые. Их лиц не видно: иней густо заткал щеки, губы, глаза, и промерзлыми комьями дикого меда зернисто искрятся подплясывающие на ветру бороды. В белесом воздухе прядет замысловатую паутину свою тихий перезвон малых колоколов. На звоннице, рядом с пономарем, постукивает нога об ногу и зябко хохлится дозорный жилец.
И вдруг шумно очнулся от дремы Кремль. Откуда-то издалека рявкнули густые басы:
– Царь! Дорогу царю!
Жилец рванул веревки, привязанные к языкам колоколов. Суетливо застрекотали медные голоса.
Высоко подняв голову и опираясь на серебряный, покрытый золотом, посох, торжественно вышел из палат Иоанн. Гордый взгляд его устремился в разбухшее небо. Каждая черточка каменно застывшего лица выражала величавую неприступность и мощь.
По бокам царя неслышно скользили по паре телохранители. Их статные фигуры плотно облекали одинаковые кафтаны из серебряной ткани с горностаевой опушкою и с большими серебряными пуговицами до колен. На ногах поблескивали белоснежные сафьяновые сапоги и золотисто переливались большие топоры на плечах.
Позади телохранителей стройно выбивали шаг восемьдесят московских дворян и жильцов.
На паперти, окруженный боярами, хмуро молчал, дожидаясь отца, Иван-царевич.
Грозный издали заметил сына и глазами подозвал к себе Вяземского.
– Накажи ты ему, озорнику, шубу ту запахнуть. Не ровен час – недуг прилипнет.
Князь стремглав бросился к паперти и, низко поклонившись, передал царевичу приказание.
Иван сонно зевнул, поглядел на свои покрасневшие пальцы, подул на них и отвернулся.
«Эка, норовистый удался! И в кого уродился, не ведаю», – подумал не без удовольствия царь и снова вытянул лицо в каменеющую маску величия.
Однако поравнявшись с сыном, он не выдержал и заботливо попросил:
– Запахнись ты, Ивашенька. Студено!
Из-за спины выглянул робко Федор.
Борода Иоанна запрыгала по сторонам.
– Разогнул бы ты спину, мымра пономарская!
Одутловатые щеки царевича сморщились в блаженной улыбочке.
– Пожаловал бы ты, батюшка, милость невеликую – крохотку поблаговестить.
Катырев умиленно сложил руки на животе.
– Божье дитё. Воистину божье дитё.
Грозный сердито оттолкнул боярина и, теряя самообладание, набросился на сына:
– Мымра! Не царева ты плоть, а сука пономарева! Сука ты – вот кто!
Федор юркнул снова за спину Ивана и сделал вид, что идет в церковь. Но, едва отец скрылся в притворе, он подразнил языком поманившего его Катырева и, отдуваясь, свернул к лесенке, ведущей на звонницу.
Перед алтарем Иоанн передал посох Биркину и стал на колени. Протопоп благословил молящихся и, в свою очередь испросив царского благословения, приступил к службе.
Истово бил Грозный поклон за поклоном и, каждый раз приподнимаясь, огорченно поглядывал на старшего сына.
Царевич стоял, облокотившись на паникадило, и болезненно морщился. После бурно проведенной ночи мучительно тянуло ко сну или на воздух, подальше от мутящего запаха воска и ладана. Минутами им овладевало какое-то странное оцепенение, мимолетное забытье. Тогда вдруг свежело лицо в желтоватом румянце и, как у ребенка, тянущегося к материнской груди, чавкающим колечком собирались влажные губы. Перед полузакрытыми глазами колеблющеся всплывал образ покорной девушки, с которой, под конец ночи, его оставили одного. Где-то у заставы изловили ее, неизвестную, дворяне московские, обрядили скоморохом и привели закоулками в Кремль. Приятно кружится голова у царевича, он широко расставляет руки и… падает на плечо Алексея Басманова.
– Леший! – вырывается у него из груди вместе с мутящей отрыжкой.
– Чего, царевич?
– Повыдумали тоже замест сна да в церковь ходить!
– Молится! – вздыхал успокоенно Грозный и проникновенно тыкался лбом в холодные плиты. – Сподоби, Господи, в добре и силе сыну моему на стол сести московской по скончании живота моего!..
Маленький, сутулый и взбухший, как лубок, вынутый из воды, жался на звоннице Федор к пономарю.
– Допусти, миленькой, под Евангелие, эвона в этот брякнуть, в великой.
Пономарь благоговейно приложился к руке царевича.
– Брякни, солнышко! Брякни, молитвенник наш!
И передал Федору веревку от большого колокола.
Катырев схватился за голову.
– Прознает государь – пропали наши головушки!
– А ты не сказывай.
Перекрестившись, царевич поднялся на носках и крикнул в свинцовое небо:
– Благослови, Владыко, звоном недостойным моим херувимов потешить твоих!
Князь смахнул слезу и дохнул в лицо Федору:
– Благоюродив бысть от чрева матери своея и ни о чем попечения не имашь, токмо о спасении душ человеческих.
Царевич передернулся и зло оскалил редкие зубы, но тотчас же снова выдавил на лице заученную, больную улыбку.
…На коленях, то и дело крестясь, полз к Иоанну Фуников. Грозный заметил его и поманил глазами к себе.
Казначей долго лежал, распластавшись на полу, и молился вполголоса. Поднявшись, он едва внятно прошептал:
– Белку со всем протчим взяли, а за щетину норовят по три алтына на батман урвать.
Глаза Иоанна стыдливо забегали по образам.
– Суета сует… Прости, Господи, суету земную мою. – И, откашливаясь в кулак: – Не можно без воску. А заберут воск, что запрел, – отдавай.
Казначей чмокнул царский сапог, пополз к выходу и, выбравшись на паперть, стремглав бросился к складам.
На складе Висковатый потрясал в воздухе образцами, прижимал их с неизбывной любовью к груди и клялся англичанам в том, что нигде во всем мире нет лучше царевой щетины.
Толмач переводил, путая и искажая смысл слов рядящихся. Торговые гости упрямо трясли головами и твердо держались своей цены.
Казначей отвел в сторону дьяка и голосом, достаточно сильным для того, чтобы услыхали гости, процедил не спеша:
– А щетинка-то авось на хлебе челом не бьет. Пускай попримнется маненько. – Точно вспомнив о главном, он прыгнул к англичанам и сочно поцеловал свои пальцы. – А и потешим мы вас таким товарцем… – И хлопнув толмача по плечу: – Ливонцам не дал! Германцам не дал! Литовцам да ляхам и не показывал! А агличанке задаром отдам! Бери и смышляй: воск то, а либо злато?
Англичане прошли к кругам воску. В стороне, заложив за спину руки, с видом благодетеля стоял казначей.
– Дорого! – перевел толмач.
– До-ро-го?! Да окстись ты, забавник!
И с горькой обидой:
– А ежели дорого, не можно нам и на щетине терять!
Наконец, после долгих и страстных споров, Фуников ударил с англичанами по рукам.
* * *
Довольный выгодным торгом, Грозный пожелал потешить английских гостей.
Дети боярские с людишками поскакали по окружным лесам добывать живых зайцев.
По пути они захватывали с собою на помощь холопей из примыкающих к Москве деревень.
За неделю было изловлено более восьми сороков зайцев.
Утомленные охотой, дети боярские сделали привал у Можайска.
Среди ночи их неожиданно разбудили отчаянные вопли и набат.
– Горим! – решили охотники, вглядываясь в зарницы, прорезавшие кромешную тьму.
Село кипело ревом, зловещим набатом и багряною кровью пылающих факелов.
Из-за леса вместе с визгом метели отчетливо донесся протяжный вой:
– Волки! Волки идут!
Там и здесь, в черном пространстве, загорались колючие искорки, росли, множились, подбирались все зловещей и ближе.
Взвалив на плечи кули с полузадушенными зайцами, утопая в сугробах, в сторону боярской усадьбы бежали холопи. Позабыв в сумятице пищали и стрелы, за ними мчались охотники.
Обезумевшие от голода волки уже метались по уличкам, прыгали в клети и, жутко пощелкивая зубами, впивались в икры людей.
* * *
Настал день охоты.
Из Кремля, на разукрашенном коне, выехал Иоанн. Лихо развевались золотые перья на сияющей ожерельями шапке его. Точно полуденное солнце, резали глаза золотая паутина и жемчуга, прихотливыми узорами расшитые по енотовой шубе. Мягко побрякивая, болтались на малахитовом поясе два продолговатых ножа и кинжал. Через спину был перекинут кнут с медною булавою на краю ремня.
За царем скакали гости, ближние, дворовые и псари. По улицам, до заставы, суетливо сновали батожники, разгоняя народ.
– Царь скачет! Царь! – надрываясь, ревели дьяки, подьячие и ратные люди.
Как в глубокую полночь опустела Москва. С рынка исчезли торговцы, побросав на произвол судьбы товары; ребятишки забились под подолы матерей и сестер, и насмерть перепуганные горожане, вихрем промчавшись по улицам, пропали в снежных сугробах полей.
У Тюфтелевой рощи всадники осадили коней. Стрельцы, стоявшие на дозоре подле загона, по знаку Вяземского, выпустили часть зайцев.
Точно хмельные, зашатались измученные зверки, сонно обнюхали воздух и, толкая друг друга, медленно разбрелись по кустам.
В землянках, искусно скрытых под снегом, у кулей, набитых зайцами, ждали сигнала жильцы.
Грозный свысока оглядел англичан.
– У меня на Руси – что куницы, что белки, что зайца – великая тьма!
Толмач перевел хвастливые слова царя. Гости сухо поклонились и ответили по-заученному:
– Мы всегда поражались богатствам его королевского величества, Иоанна Васильевича.
– Гуй! – крикнул, как было условлено, Грозный.
Свора псов бросилась в рощу. Зайцы сбились в кучи, ошалело уставились на псов и вдруг рассыпались в разные стороны. Загонщики встретили их пронзительным свистом. Рассвирепевшая свора разметала по воздуху клочья заячьей шерсти.
Иоанн прыгал с места на место, при каждой удачной хватке возбужденно хлопал в ладоши и, казалось, готов был сам ринуться в бой.
– Гуй! Гуй! – непрестанно ревел он, весь передергиваясь и по-звериному прищелкивая зубами.
Из землянок выпустили свежую стайку зверков.
– Вот она, Русия наша! Токмо свистнешь, а добро само понабежит! – размахивал руками перед гостями увлекшийся царь. – Показали бы нам такое где на Неметчине!
Англичане приятно щурились и изо всех сил старались не показать вида, что им известно, откуда набралось такое обилие зайцев.
Из-за кустов выпрыгнул Вяземский.
– Остатних повыпустили!
– Добыть! – капризно, тоном избалованного ребенка, потребовал Иоанн, но, что-то поспешно сообразив, зашептался с князем и кликнул к себе толмача:
– А не пожаловали бы гости волком потешиться?
В ожидании новой забавы, охотники ушли в шатры погреться и перекусить.
– Студня бы басурменам! – предложил Грозный, участливо поглядывая на продрогших иностранцев. – Да вина им боярского по ковшу!
Но гости не дожидались приглашения и, усевшись за стол, сами потянулись к блюдам.
Фуников в ужасе набросился на толмача:
– Недосуг тебе был вразумить басурменам почтение?!
Милостиво улыбнувшись, царь передал гостям через казначея поденную подачу.
– Бьют челом тебе иноземцы на великой твоей милости, государь! – поклонился до земли перепуганный насмерть толмач.
– То-то же, бьют! – передразнил Фуников, все еще не успокаиваясь.
Охотники пригоршнями брали со стола миндаль, орехи, сахар, капусту квашеную и холодное мясо, усердно потчевали друг друга и наперебой подливали вина иноземцам.
В шатер скромненько протиснулся Вяземский и уселся у края стола. Грозный нетерпеливо скосил глаза на вошедшего. Князь подмигнул и таинственно улыбнулся.
Далеко, в обход Тюфтелевой рощи, дворовые везли огромную клетку с тремя волками, выращенными для потехи Ивана-царевича.
У опушки, перед загоном, работные людишки спешно ставили помост для царя и гостей.
Когда все приготовления были сделаны, Грозный поднялся из-за стола и, перекрестившись, мечтательно зажмурился.
– Добро бы нам, для прохладу, волками потешиться. Аль в нашей вотчине волки поизвелись?
И первый направился к помосту.
Едва выпустили из клетки волков и натравили на них псов, на дороге показался бешено мчащийся всадник. У опушки он на полном ходу остановил коня.
– В стрелы!
– Убью! – заревел Грозный, узнав издали старшего сына.
Царевич, точно безумный, бросился на ловчих.
– В стрелы!
Людишки повалились в ноги Ивану, подавшему знак стрельцам.
– А не изловите тех волков, шкуру сдеру!
И повернувшись к отцу:
– Девками своими тешил бы басурменов!
Грозный взмахнул посохом.
– Уйди, Ивашка! Бога для, не дразни!
Царевич вызывающе сложил руки на груди.
Чувствуя, что ссора может окончиться непоправимым несчастьем, англичане решительно встали между отцом и сыном.
– Не люб гостям ваш свар, – прерывающимся писком перевел толмач.
Иоанн опомнился. Тяжело опершись на плечо Вяземского, он пошел к колымаге.
Глава шестая
Великое ликование стояло в вотчинах Щенятева и Прозоровского после отъезда опальных бояр в украйные земли.
Холопи зажили так, как никогда не живали. Во всем дана была им полная воля. Но больше всего радовало то, что приказные сами приехали из губы и, обмерив луга и пашни, поделили их нелицеприятно по душам.
– Наш нынче праздник… На себя нынче робим по воле царевой… – с гордостью похвалялись людишки и с удесятеренной силою возились на отведенных участках.
Весной, когда сошел снег и талая вода снесла на луга навоз, свезенный еще по осени благоразумно к реке, в губу потянулись возы за семенной ссудой.
Никто не был обижен приказными. Щедрой рукой ссужали власти крестьян зерном на посев.
После Петрова дня в опальные вотчины неожиданно приехали незнакомые служилые люди.
Дьяки согнали народ на луга и коротко объявили:
– В ноги падайте господарям!
На месте двух вотчин, Щенятева и Прозоровского, появились восемь мелких поместий.
Урожай с черной земли почти целиком ушел в казну к новым господарям.
Обманутые крестьяне подали челобитную воеводе, в которой намекали на то, что собираются, как раскабаленные после боярской опалы, уйти с насиженных мест искать прокорма на новые земли.
Воевода пригрозил жестокой расправой и через дьяков огласил царскую грамоту, по которой людишкам Щенятева и Прозоровского запрещалось оставлять вотчины.
Служилые, заняв хоромы бояр, решили ни в чем не отставать от образа жизни высокородных и с княжеской расточительностью пропустили все, что собрали с крестьян.
Наступила пора сбора податей с господарей.
Новые помещики заволновались.
– Ни денги у нас! Сам ведаешь – токмо починаем сколачиваться, – плакались они перед воеводой и отправили гонцов с челобитной в Москву.
* * *
Ряполовский совсем уже было собрался внести в казну подати, наложенные на него, как в вотчину неожиданно приехал державший его руку дьяк и прочел цареву льготу:
«…А в те ему четыре урочные лета, с того его поместья крестьянам его государевых всяких податей не давати до тех урочных лет, а как отсидит льготу, и ему с того поместья потянута во всякие государевы подати».
Симеон кичливо заложил руки в бока и хрюкающе засмеялся:
– В кои-то поры опамятовался! Сызнов к земщине с лаской пожаловал! А неспроста!
Дьяк собрал в комочек губы и распустил их до молочных зубов.
– Коли б опамятовался! – И упавшим голосом: – Худородным те льготы, а не боярам.
В тот же день князь поскакал к воеводе.
– Не дам! Ни зернышка не пожалую! – зло бросил он в лицо приказным. – Коли льгота, всем она вместна, а не единым страдникам да псарям!
Вернувшись в усадьбу, он за бесценок продал хлеб и ночью, когда уснули людишки, зарыл все свои деньги и драгоценности в землю.
* * *
Новые помещики недолго засиживались в своих поместьях. Их то и дело снаряжали на брань или призывали на Москву. Перемены эти тяжело отражались на кабальных людишках. Приходилось непрестанно приспособляться к нравам и привычкам господарей и всегда быть готовыми ко всякой напасти. Среди летней страды спекулатари перебрасывали вдруг, без предупреждения, целые деревни на новые места и вконец разоряли убогое крестьянское хозяйство.
Дети боярские не внимали никаким челобитным. Не имея за душой ни денги и чувствуя непрочность свою на земле, они, чтобы как-нибудь поправить дела, не задумываясь, продавали богатым соседям людишек целыми пачками. Раньше, при князьях-боярах, были у холопей и избы, и крохотные наделы, которые кормили их хоть в осенние месяцы. Строго заведенным порядком шла подневольная жизнь, и у каждого в груди таилась надежда попасть когда-нибудь в милость к господарю. А пришли служилые – и сразу рухнули эти рабьи надежды, и ничего не осталось, как у бездомного пса.
Высокородные с наслаждением наблюдали за новой жизнью и злорадствовали:
– То все от Бога идет. Поглазеют ужотко людишки, како под рукою у страдника!
Все чаще выслушивали они печалования холопей; не раздумывая, отпускали им семена на посев, щедро дарили им льготы и смотрели сквозь пальцы на такие дела, за которые в былое время карали бы смертью.
Крестьяне толпами переходили к боярам. Но и здесь не находили спасенья. Стрельцы гнали их назад, предавая по пути, в острастку другим, жестоким пыткам.
Отчаявшись, холопи бежали в леса и там рыскали изголодавшимся зверьем в тщетных поисках пропитания.
Не стало проезда торговым караванам и служилым людям на широких дорогах. Разбойные шайки, одетые в остатки рогож и лохмотья, осмелели от голода и вступали в открытый бой со стрельцами и ратниками.
Воевода запретил убивать полоненных. Их свозили в губу и там всенародно пытали.
С каждым днем грозней разрастались разбойничьи ватаги.
Среди ночи вдруг вспыхивали в разных концах губы зарницы пожарищ. Разбойники, в суматохе, нападали на амбары, с воем набрасывались на зерно и, нагрузившись тяжеловесными кулями, исчезали в непроходимых трущобах.
* * *
В церквах шли непрерывные службы. Попы кропили святою водою поля, луга и селения, тщетно пытаясь изгнать этим мор.
Дороги были завалены мертвецами и умирающими. Их подбирали стрельцы и сбрасывали в заготовленные могилы.
* * *
Дьяк Микита Угорь на крылечке своей избы выслушивал ходоков из бывшей вотчины Прозоровского.
– Не токмо тягла не утаили, сами себя потеряли.
Угорь ткнулся щекою в ладонь и сочувственно поглядел на изможденных людишек.
– Нету тягла, выходит?
– Нету, родимой! Бог нам сведок!
Поводив по земле веткой черемухи, дьяк перевел в небо блаженный свой взгляд.
– Слыхивал аз, что в слободе, у вотчины князь-боярина Симеона, кречетники добрых гусей позавели.
Один из ходоков торопливо вскочил:
– Ворох доставим! Миром всем на тех кречетников выйдем!
Микита приложил руку к груди и застенчиво потупился:
– Мне единого… Отведать бы токмо…
Он помолчал и чуть слышно прибавил:
– А с тяглом пообождем.
Отбивая поклон за поклоном, счастливые, пятились холопи к тыну.
Они уже были на улице, когда Угорь окликнул их:
– Ведь эка – запамятовал. Гуся-то в масле изжарили бы (он еле сдержал клокочущий в груди смех) да начинили бы его не говяжей начинкой, а медною.
Ходоки недоумевающе переглянулись.
– Аль сказываю нескладно?
И почесываясь сладко об угол избы:
– Казною бы денежной того гуся начинили.
Собрав на лугу всю деревню, ходоки рассказали о требовании дьяка.
– Авось и впрямь заткнем ему пузо гусем тем, – предложил неуверенно один из крестьян.
На него набросились с кулаками:
– Не впервой нам посулы Микиты! Нынче ему гусь полюбился, к завтрему ягненок занадобится.
Спор разгорался. Визгливые бабы причитали, точно над покойниками, и упрашивали мужей отказаться от похода на слободу, где ждут их пищали, пушки и стрелы.
Ложился вечер. Из-за ракит, что склонились дремотно над рекой, выглянул месяц, запорошил серебряной пылью темнеющий лес и лег мертвым румянцем на тихой глади воды.
Из-за кургана матовым призраком вынырнул всадник.
– Князь Симеон… – узнали холопи и растерянно отступили к деревне.
Старик-ходок неожиданно оживился:
– А не бить ли челом боярину на Угря?
Гордо переступал по тающей в лунных тенях дороге дородный конь. Склонив на грудь голову, потряхивался в седле Ряполовский. За ним трусили на клячонках холопи.
– Тужит. С туги прохлаждается, – сокрушенно вздохнули бабы.
– Затужишь, коли ныне и род не в род, и господарство не в господарство, – поддакнул старик и перекрестился.
– Тьфу! – зло сплюнул приземистый мужичонка. – И откель у них така заботушка об отечестве княжеском?..
Старик окрысился:
– Ныне-то краше тебе, при служилых?!
– А и не краше – едина стать! – И, с желчным ехидством, спорщик ткнул рукой в сторону боярской усадьбы: – Хлеба-то небось колико было? Куда подевал? – Он свирепел с каждым словом, смешно подергивал головой и, перебегая от одного к другому, брызгал слюною в лицо: – Бога бы вспомянули! Отпустили бы бояре те хлебушка! Людишки мрут, а они дорожатся! Дождутся ужо! Не аз буду – дождутся!
Заметив холопей, Ряполовский пришпорил коня.
Толпа упала ниц.
– Покажи милость, выслушай смердов!
Симеон приказал всем подняться.
– Обсказывайте, на что печалуетесь.
Ходоки передали разговор свой с Угрем.
Симеон затеребил взволнованно бороду и с горечью подумал:
«При Василии Иоанновиче попечаловались бы вы князь-боярину на царевых дьяков».
Но, едва выслушав холопей, гневно потряс кулаками:
– Изведут вас те дьяки да дети боярские!
– Изведут, господарь!.. – ответила хором толпа.
Подавив двумя пальцами нос, князь грузно навалился на тиуна и сполз с коня.
– Коли любо вам слово боярское, – уповайте на милость Божию да не шевелите перстом для того дьяка.
В толпе зашушукались недоверчиво и заспорили:
– А не подашь ему мшела – изведет.
Ряполовский сердито шлепнул себя по обвислому животу.
– Думка была у меня после Сретенья на Москве быть. Да, видно, утресь же укачу. – Ободряюще похлопав старика по спине, он сунул ему руку для поцелуя и взобрался на коня. – В думе, в очи царю поведаю, како дьяки людишек изводят неслыханно.
– Обскажи ты царю…
– И обскажу!
Всю ночь не спал Симеон, кропотливо обдумывая каждое слово, которое скажет царю в присутствии всех Загряжских и Биркиных.
«Пускай-ко прознает, како при страдниках! Пускай попохвалится, что возлюбленные старосты его из худородных мене чинят людишкам убытков, нежели мы, господари».
Под утро он забылся. Сквозь сон почудилось, будто кто-то задвигал столом.
Приоткрыв смежающиеся глаза, князь похолодел от ужаса: перед ним стоял Грозный.
– Тужишь? – тихо спросил царь и оттопырил кверху клинышек бороды.
– Тужу!.. – через силу выдохнул Симеон и почувствовал, как шевелятся корни волос. – Такая туга, госуд…
Он не договорил и забился в жестоких рыданиях.
– Афанасьевич! Князь! – шепнул растроганно царь и сам вдруг заплакал. – Не надо, Афанасьевич, не надо же, ну, не надо! А детей боярских нынче же аз на дыбу возьму.
С трудом оторвавшись от подушки, боярин приник в благодарном поцелуе к царевой руке.
– Дыбой их, государь, пожалуй их дыбой! – И заискивающе заглядывая в ястребиные, маленькие глаза: – А гуся того мне. Мне, государь! – Он вскочил и больно вцепился в плечо Иоанна. – Мне! Мне гуся! Дабы не запамятовали холопи, что токмо мы вольны над их животами! Мы, а не Биркины!
Грозный отвернулся к окну и неожиданно ухарски свистнул.
Симеон оторопело попятился к двери.
– Куда?!
Взвизгнул тяжелый посох.
– Вот тебе Биркины!
Князь оглушительно вскрикнул и… пробудился.
На пороге, усердно сплевывая через плечо, стоял объятый страхом тиун.
Грязно-серыми лохмотьями рукавов протирало запотевшую слюду оконца старчески немощное, слезливое утро.
Глава седьмая
Иван-царевич принял от Грозного посох и поставил его подле своей лавки.
– Так-то, батюшка, краше. – И, улыбаясь светлыми глазами своими, налил отцу березовца.
Иоанн обнял царевича.
– Не от злого сердца, а по-добру бываю аз, Ивашенька, неласков с тобой.
От ткнул пальцем ввысь, потом – в пол.
– Един на небеси Бог, един царь на земли.
Царевич с пренебрежением передернул плечами.
– Един царь, сказываешь? А земщина?
По его продолговатому лицу темною рябью скользнула судорога.
– Коли б моя воля, батюшка, аз бы всю земщину в бочку железную да в Москву-реку!
Стоя смиренно у двери, слушал беседу Борис Годунов.
Маленькие глаза царя перекосились в сторону советника.
– Добро молвит царевич, а либо по младости лет кипятится?
Руки Бориса как-то сами собой, без участия воли, легли крестом на груди, а спина согнулась почтительным полукругом.
– Бог глаголет устами младости.
Грозный нахмурился. Иван победно запрокинул голову.
– Дозволь молвить, – заискивающе попросил Годунов и, дождавшись кивка, продолжал: – Токмо ежели всех единым духом в Москву, – не запрудило бы.
Он сжал кулак и сладострастно раздул ноздри.
– По единому ежели – и реке неприметно, и земле вольготнее.
Царь постучал согнутым указательным пальцем по высокому лбу советника.
– Кладезь премудрости!
И выпив залпом березовец:
– А исподволь изведем, в те поры не будет помехи доподлинный торг с басурмены наладить. Нету, Ивашенька, могутней силы возвеличить в богатстве Русию, чем торг с иноземцы.
Царевич поднялся и приготовился упрямо защищать свое мнение о расправе с земщиной.
– Ты погоди, – остановил его царь. – Тако обернем, что не мы земщину изничтожим, а людишки незнатные.
– Вот ужо, батюшка, невдомек мне такое.
Иоанн добродушно прищурился.
– Жалуем мы людишек милостями богатыми? Жалуем! Ну а уж им вот како ведомо: покель не навести высокородных – не быти и им крепко на господарстве. – Глаза его затуманились, и на желтом лице легли глубокие тени. – Токмо бы ливонцев да татар одолеть, а от земщины оборонит меня Бог!
По одному сходились советники в думную палату.
Как только явился Грязной, Иоанн открыл сиденье.
Быстро читал Висковатый челобитные, цедулы и грамоты. Внимательно слушавший царевич то и дело прерывал дьяка возмущенными выкриками:
– Воры! До единого воры!
Окончив чтение, Висковатый перекрестился и положил бумаги на стол.
– А и доподлинно стонут холопи, – после тяжелого молчания процедил нараспев Иоанн.
Курака-Унковский с чувством глубокого огорчения подхватил:
– По всей Московии множатся собрания злодейские! Дышать не можно холопям!
Грозный топнул ногой.
– В моей Русии дышать не можно?! Да разумеешь ли ты в государственности?!
Курака виновато съежился и притих.
Василий Темкин поклонился царю.
– Не к тому молвил Унковской. Не гневайся, государь! А токмо хотя и на благо будущих дней надобна ныне казна могутная, одначе и то негоже, чтобы холопи сетовали на царя своего.
Царевич толчком под живот усадил Темкина на лавку.
– До вина и до девок горазд ты, а в государственности – в край слабоумен!
Уловив улыбку царя, советники угодливо захихикали.
Борис с нарочитым восхищением приложился к руке Ивана и вставил свое смиренное слово:
– Надобно обернуть, чтобы не на царя, а на дьяков печаловались холопи, – и перевел многозначительный взгляд на Грязного.
Объезжий голова достал из-за пазухи цедулу.
– Дозволь, государь.
– Сказывай.
– А пожаловал на Москву с челобитной на дьяков князь Симеон Ряполовской.
– Ряполовской? – брызнул слюной Иоанн и потянулся за посохом.
– Он, государь! (Грязной брезгливо фыркнул.) Бьет челом тебе и дожидается, не пожалуешь ли его милостью в Кремль допустить?
Развернув бумагу, он передал ее Висковатому.
По мере того как дьяк читал, на лице Иоанна разглаживались морщины и задорней горела усмешка в глазах.
Царевич стоял у окна и, что-то соображая, зло кусал ногти.
Фуников тихонько наступил на ногу Борису.
– Сказывай. Самый срок.
Годунов нерешительно помялся и кивнул в сторону Вяземского.
– Афанасий бы обсказал. – Но, почувствовав на себе взгляд Иоанна, тотчас же готовно согнулся. – Вместно бы того Угря на Москву кликнуть да всенародно казнить за мшел. А с гонцами по всей земле весть возвестить: дескать тако со всеми царь сотворит, кои над людишками бесчинствовать будут.
Царевич неожиданно закружился по терему. Грозный погрозил ему пальцем и наставительно, по слогам, прохрипел:
– Чтобы самодержавием быть, како и достойно великого государя, навыкай всякому разумению: божественному, священническому, иноческому, ратному, судному, московскому пребыванию, житейскому всякому обиходу, – а плясанье ни к чему государю!
И, зло, Грязному:
– Абие того дьяка на Москву!
Покончив с делами, объезжий, Борис, Вяземский и Фуников пошли с царем в трапезную.
Иоанн наскоро помолился и, набив рот рыбой, повернулся к Грязному.
– Сказываешь – Симеон?
Объезжий вытолкнул языком изо рта непрожеванный огурец, смял его в руке и шепнул:
– А Шереметев с Замятней в сенях сдожидаются.
– Небось не наглядятся да не нарадуются друг на дружку?
– Спины кажут да рычат, яко те псы!
Он подошел близко к царю и, коснувшись губами края его кафтана, таинственно прибавил:
– Сабуров-Замятня диковинку с собою привез. Будто, сказывает, холоп содеял.
Фуников покашлял в кулак и точно случайно припомнил:
– Вяземской с Григорием темницы обхаживали. Промежду протчих жив еще и холоп Симеонов, Неупокой.
* * *
Неупокой давно потерял счет времени. Изредка, когда в подземелье доносились смутные шумы улицы, он рвался с желез, тянулся скованными руками к горлу и надрывно выкрикивал:
– Убейте! Не можно мне доле! Убейте!
Вопли бесследно тонули в липкой, промозглой мгле.
Могильная тишина снова тягуче смыкалась, и узник понемногу впадал в обычное свое состояние оцепенения. Раз в сутки приходил дозорный, ослаблял на руках Неупокоя железы и тыкал в несгибающиеся пальцы черепок с похлебкой. Во тьме, не шевелясь, дожидался дозорный. Чтобы продлить радость сознания близости человека, узник по капле лакал теплую жижицу, чрезмерно долго прожевывал крошки мякины и потом, когда все было съедено, продолжал нарочито оглушительно чавкать и колотить гниющими зубами о черепок.
– Дышет! – прислушивался он, пьянея от счастья. – Дышет!
Остекленевшие глаза впивались в мглу, тщетно нащупывая фигуру дозорного. Смертельная тоска одиночества медленно сменялась призрачным покоем и смирением.
Но едва безжалостно раздиралась в скрипучем зевке серая пасть кованой двери, – лютая злоба обжигала грудь нестерпимым огнем и мутила рассудок.
– Каты! Убейте!
Сразу теряя слабые силы свои, он неожиданно переходил на сиротливое всхлипывание:
– Бога для… Не можно мне доле!.. Убейте!
И удивленно чувствовал, как по щекам катятся слезы, теряющиеся в кустарнике бороды.
Потом все сливалось в странный, надоедливый перезвон, таяли звуки, желания, – мысли и мозг охватывала цепенеющая, мертвая пустота.
И вдруг произошло что-то такое чудовищное, что может привидеться только в несбыточном сне.
– Не можно мне поверить тому! – ревел узник истошным ревом безумного. – Удур то!
А жаркие языки факелов тепло лизали грудь и лицо и раскаленными иглами вонзались в глаза.
Дозорный грубо схватил узника за плечо и что-то крикнул.
Робко, точно боясь спугнуть видение, приподнялись веки, но тотчас же еще плотнее сомкнулись.
– Жив, что ли? – донеслось как будто из далеких неизмеримых глубин и живительными росинками коснулось сознания.
– Ты, что ли, и есть Неупокой?
– Аз.
Дождавшись, пока узник успокоился немного и мог воспринимать человеческую речь, Грязной и Вяземский приступили к допросу…
Перед вечерней Неупокоя спустили с желез. Освобожденный узник сделал движение, чтобы броситься к двери, но потерял равновесие и грохнулся без памяти на каменный пол.
Очнулся он на другое утро в избе для пыток.
«Сызнов!» – змеиным холодком пробежало по телу.
Разморенно облокотившись на дыбу, с благодушной улыбкой поглядывал на Неупокоя какой-то маленький старичок.
«Кат!» – сообразил узник и щелкнул зубами.
– Нешто признал? – оттолкнулся от дыбы старик и закатился режущим хохотком. – А ужо щипцы припасены для тебя – не нарадуешься. И не учуешь, како языка-то лишишься.
Он не спеша вышел в сени и вернулся с небольшим узелком.
– Показал бы милость да поглазел на умельство-то фландрское.
Неупокой в ужасе отодвинулся от узелка.
Кат обиженно покачал головой.
– Экой ты, право! С твоего выбору послужу тебе: волишь – споначалу очи твои выколю; волишь – напередки язык откушу.
И, взяв со стола утыканный шипами железный прут:
– Глазей.
Трясущиеся пальцы непослушно скользили по узелку.
Старик, натешившись вдоволь, развязал, наконец, кумачовый платочек.
Неупокой обомлел от неожиданного счастья: в узелке были хлеб и розовеющий кус свиного сала.
* * *
Шумно и весело было в трапезной у царя. За длинным столом гомонили советники с гостинодворцами – Прясловым, Заблюдою и Рожковым.
Грозный налил новый овкач вина и сам передал его Заблюде.
– На добро здоровье!
Гость благодарно склонился, осенил себя крестом и залпом выпил.
Пряслов и Рожков завистливо поглядели на Заблюду.
Иоанн ухмыльнулся.
– Все вы любезны нам. Всех примолвляю!
И, налив еще два овкача, прищурил левый глаз.
– А от Тмутаракана, сиречь Астраханью именуемого, до Персидской земли и малое дитё рукою дотянется. Без помехи можно ныне с Персией той торг торговать.
Подвыпивший Фуников обнял Рожкова и ткнулся в лопатку его бороды.
– Токмо, чур, держать уговор. Чтоб без утайки пятинная доля с лихвы в цареву казну.
Гостинодворцы обиженно уставились на казначея.
– А ежели что, может, и живота для царя и отечества не пожалеем!
В трапезную вошли Борис, Загряжский и Биркин.
Годунов многозначительно подмигнул и показал пальцем на дверь.
– По вызову твоему, государь, пожаловали к нам князья: Шереметев, Сабуров да Ряполовский с Овчининым.
Заблюда раздраженно почесал у себя за ухом и встал.
– Авось, государь мой преславной, свободишь нас. Не с нашим рылом суконным пред очи родовитым казаться.
Грозный шаловливо прищелкнул языком.
– При мне не заклюют авось, Митрич!
И к Годунову:
– Кликни князей-то. Да Иван-царевичу вели пожаловать.
Бояре вошли гуськом, трижды перекрестились на угол и приложились к замаслившейся царевой руке.
Овчинин исподлобья оглядел собравшихся и презрительно подобрал губы.
– Дай бог здравия гостям желанным, – мягко прошелестел царь и жестом указал на лавку.
– А тебе, Симеон, за Угря первому поденная подача наша.
Ряполовский подхватил на лету надкусанный ломоть и, подставив ладонь к подбородку, чтобы не рассыпались крошки, с благоговением, как просфору, зажевал хлеб.
Загряжский и Биркин заняли свои места. Симеон, проглотив последний кусок, примостился подле Овчинина.
– Вы бы, князь-бояре, рядком, – предложил с плохо скрываемой усмешкою Грозный Шереметеву и Миколе Петровичу.
Замятня собрал ежиком щетинку на лбу.
– Пожаловал бы ты меня, царь, иным каким местом.
– Пошто така незадача? – И милостиво указал Шереметеву на место подле Загряжского. – А ты, Микола, к Биркину ближе.
Бояре хмуро уставились в подволоку и не шевелились.
Иоанн теребил клинышек бороды и, видимо, забавлялся.
– Аль и эдак не угодил?
Микола Петрович, краснея от натуги, поднялся на носках и отставил поджарый живот.
– Воля твоя, государь, – собрал он птичьим клювом желтые губы свои, – токмо сиживали Сабуровы-Замятни одесную батюшки твоего и негоже им с Биркиными рядышком быть.
На пороге показался царевич. Услышав кичливый писк Сабурова, он топнул ногой.
– Посадить!
Вяземский и Фуников бросились к боярам.
Легким движением головы Грозный остановил советников и, указав сыну на место подле себя, уперся подбородком в набалдашник посоха.
– Рядком! Подле Биркиных! Оба!
Бояре потоптались немного, но не двинулись с места.
– Ну?!
Медвежьими когтями скребнул окрик по сердцу. Упрямые головы, подчиняясь какой-то могучей силе, медленно повернулись к царю.
Властный, обнажающий душу взгляд налитых кровью глаз Иоанна скользнул по мертвенно-побледневшим лицам утративших вдруг всякую волю бояр.
Сбившись жалкой кучкой, они покорно подчинились приказу.
– Тако вот споначалу бы! – скрипнул зубами царь и, вытирая рукой проступивший на лбу пот, уже бесшабашно шлепнул по спине Годунова. – Вина!
Глава восьмая
На полпути от Кремля отекшие ноги Неупокоя отказались передвигаться. Недельщик взвалил узника на плечи стрельцу.
В Кремле Неупокой отлежался на лавке и, опираясь о батожок, поплелся с замирающим сердцем к царевой трапезной.
У приоткрытой двери стольник загородил его собой.
В трапезной стоял гул. Скоморохи кружились в бешеной пляске, давили друг друга, прыгали по столам, перебрасывались мушермами, овкачами и блюдами, обливая людей, стены и подволоку потоками щей и вина.
Хмельной Иоанн не давал им остановиться. Его захватили веселье и шум. Хотелось самому броситься в пляс, закружиться так, чтобы в один грохочущий хаос смешались все его чувства и мысль и рассудок, чтобы позабыть обо всех и забыться самому. Каждый мускул его трепетал, и рвалась уже из груди разудалая песня, а ноги, под лихими перезвонами накров, все безудержнее и дробней выбивали молодецкую дробь.
Прыгая через шутов, неслись в пляске советники.
Биркин, в угоду царю, вытащил из-за стола упиравшегося Замятню и поволок его по полу.
Грозный покатился от хохота.
Неожиданно взгляд его упал на стольников.
– Сгинь!
Точно ветром сдуло шутов. Оборвались песни и говор. Пятясь, сели на свои места советники и гости.
В глазах Иоанна притаился лукавый смешок. Клинышек бороды оттопырился кверху и ищуще зашмыгал по сторонам.
– Пошто притихли, бояре? – вкрадчиво подмигнул царь Овчинину и Ряполовскому. – Али не в потеху вам наша потеха?
Бояре неохотно поднялись.
– За хлеб, за соль твою спаси тебя бог, государь! Всем довольны мы ныне.
Грязной подошел к Симеону и низко поклонился ему.
– Не обессудь!
Тяжело вздохнув, Иоанн закрыл руками лицо.
– Ласка ваша нам в утешение. А токмо колико любезнее было бы во всем ту ласку зреть. – И не сдерживаясь, судорожно сжал посох. – Примолвлял нас и Старицкой-князь и Курбской Ондрей. А было то на словесах. В душах же имали скверны и змеиные помыслы противу меня. – Он согнул по-бычьи шею и исподлобья поглядел на Симеона. – Да и ныне дошло до нас, будто охочи иные князья на столе московском зреть Василия Шуйского.
Шереметев и Замятня, позабыв непримиримую рознь, тесно прижались друг к другу и не смели вздохнуть.
– Тако ли, бояре? Аль после Старицкого убиенного Шуйскому черед пришел?
Белые, как личина, оставленная в сумятице каким-то шутом, стояли Овчинин и Ряполовский.
– Не противу тебя восставали, – горлом выдавил Овчинин. – Ты нам царь, богом данный. Токмо о родах боярских, хиреющих ныне, печалуемся.
Грязной с возмущением сплюнул.
– И израды не замышляли?
Стольник отступил. Недельщик толкнул Неупокоя коленом под спину.
Узник шлепнулся под ноги царю.
Фуников одной рукой, как кутенка, поднял холопя и стукнул лбом о лоб Ряполовского.
– Не признаешь ли, князь, человека сего?
Овчинин первый узнал Неупокоя, но нарочно выкатил глаза и недоуменно пожал плечами.
– Не обессудь, господарь! – поклонился Неупокой Симеону. – Давненько не служил аз тебе!
Он пытался говорить так, как научили его в приказе. Но представившаяся неожиданно возможность поиздеваться над князем, выместить на нем всю свою ненависть, путала мысль и подсказывала иные слова.
Чтобы не дать сбиться холопю, Грязной стал задавать ему отдельные вопросы.
Висковатый деловито заскрипел пером по пергаменту.
Иоанн сидел, закрыв руками лицо, и молчал.
Хмельной царевич поманил к себе Сабурова.
– Чмутят бояре!
– Чмутят, царевич.
И, собрав ежиком колючий лоб, Микола Петрович приложил палец к губам.
– Да и не токмо сии, а и Шереметев не мене.
В его испуганных глазах блеснула надежда. Он бочком подвинулся к Вяземскому.
– Заедино добро бы и с Шереметевым поприкончить.
Вяземский по-приятельски хлопнул князя по животу и многозначительно ухмыльнулся.
– Во всяку прореху ткнем по ореху. Аль темниц на Москве не достатно?
Замятня торжествующе повернулся к Шереметеву.
Исчезнувший куда-то Фуников запыхавшись ворвался в трапезную.
– Опытали Неупокоя?
Грязной утвердительно кивнул.
Казначей положил руку на плечо Сабурова.
– Принимай гостюшка, князь.
Спина Иоанна заколыхалась от неслышного смеха.
Перед пораженными Сабуровым и Шереметевым вырос Тын.
– Дозволь молвить! – упал Федор в ноги царю и трепетно приложился к его сапогу.
– Сказывай, перекрестясь!
Откинувшись в угол, Тын ткнулся об пол лбом и клятвенно поднял руку:
– Перед Господом нашим, Исусом Христом.
– Сказывай, сказывай!
– Соромно было мне, государь, слушать хулу на тебя.
Плечи Грозного зябко поежились, и рука нащупала посох.
– Сказывай!
– Печаловались Шереметев с Сабуровым на то, что, дескать, торговым людям да царю занадобились дороги в иноземщину, да еще жадны худородные до княжьей земли. А нам испокон века земля дадена. Нам ни к чему басурмены.
– Пиши! – выплюнул Грозный, опуская на плечо дьяка тяжелую руку свою.
Висковатый торопливо заскрипел по пергаменту.
Заблюда, грузно навалившись на стол, с злорадной улыбкой слушал показания языка. Пряслов и Рожков суетливо напяливали на себя шубы.
– Не гневайся, государь! – объявили они вздрагивающим голосом. – Отпусти.
– А то посидели бы, – запросто потрепал их по спинам царь.
Рожков с омерзением повернулся к боярам.
– Краше татарина-нехристя почеломкать, нежели зрети злодеев, хулящих избранника Божия! Отпусти!
Иоанн хрустнул пальцами и, скорбно взглянув на образа, спрятал в руки лицо, чтобы не выдать своего настроения.
«Ужо разнесут они молву про земских! – с наслаждением подумал он. – Кой из гостинодворцев еще стоял за бояр, навеки спокается».
Замятня стоял не двигаясь, точно на него напал столбняк. Только жалко топорщилась щетинка на лбу да вздрагивала испуганно на кончике носа прозрачная капелька.
Опираясь на посох, Иоанн зло поднялся и оттолкнул от себя кресло ногой.
– Рядком их поставить! – крикнул он вдруг и изо всех сил вонзил посох в дверь.
Советники ринулись на бояр и поставили их на колени.
Заблюда торопливо накинул скатерть на образа.
– Не можно угодникам Божьим зреть крамольников богомерзких.
Иоанн величаво тряхнул головой, высоко поднял правую руку и с трудом разодрал плотно стиснутую ленточку губ:
– А русийское самодержавство изначала сами володеют всеми государствы, а не бояре!
– Истина! – устремил Заблюда вдохновенный взгляд в занавешенные образа.
– Истина! – молитвенно подхватили советники.
Годунов же зажмурился и сладенько выдохнул с таким расчетом, чтобы слышно было царю:
– Бог глаголет устами его. Воистину велелепен и разумен, и могуч, яко царь Соломон!
Выдернув из двери посох, Грозный ткнул поочередно острием его в бояр.
– Велегласно реките за государем своим!
Он откашлялся, резнул окружающих ястребиным взглядом и торжественно возгласил:
– Аз, великой государь, царь и великой князь Иоанн Васильевич, всея Русии самодержец.
И, передохнув, притопнул ногой:
– Велегласно реките!
Четыре боярина, уткнувшись лицами в пол, разнобоем повторили гордые слова его.
– …Володимирской, Московской, Новагородской…
Все выше, величавее и могущественнее звучал голос царя. Трепещущие пальцы поднятой правой руки, изогнувшись, стремительно скользили в воздухе, мяли его, как будто хотели зажать в кулак, уничтожить все, что посмеет не подчиниться безропотно.
– …царь Казанской, царь Астраханской, царь Сибирской, государь Псковской…
– Велегласно реките!
Замятня приложил руки к груди. Он уже овладел собой и, чтобы обратить на себя внимание, визгливо выкрикивал слово за словом, с песьим умилением поглядывая на каменно-неприступное лицо царя.
– …великой князь Смоленской, Тверской, Югорской, Пермской, Вятцкой, Белгородцко и иных…
Священный трепет овладевал трапезной. Руки Грозного уже пророчески простирались к небу; голос звучал, как вещее предрекание. Затуманившийся взгляд скользил над головами людей так, как будто оторвался от земли для иного, ему одному доступного созерцания.
– …государь и великой князь Новагорода низовыя земли, Черниговской, Рязанской, Полотцкой, Ростовской, Ярославской, Белозерской, Удорской, Обдорской, Кондинской и всея северныя страны повелитель и государь…
Он оборвался, вытянулся на носках и, приложив к уху ладонь ребром, настороженно прислушался.
– Ей, Господи! Твой раб недостойный…
И, прищурившись, пошарил глазами по оцепеневшим в суеверном экстазе лицам. Торжествующая усмешка едва заметно плеснулась по краям губ и потонула в оттопырившемся клинышке бороды.
– …вотчинный земли Лифляндския, – воркующим щебетом пронеслось где-то в вышине, как будто далеко за хоромами, и неожиданно резко разрослось в громовой раскат:
– …и иных многих земель государь!
Руки истомленно легли на грудь.
– Пить, – тихо попросил Грозный, почти падая на Вяземского, и воспаленными губами жадно припал к ковшу.
В трапезной стояла мертвая тишина. Только Заблюда, не в силах сдержать благоговейного умиления, сдушенно всхлипывал перед занавешенным киотом. Но от этого, казалось, тишина смыкалась еще торжественнее и благолепнее.
Грозный допил вино, отставил ковш и вдруг вскочил разгневанно с кресла.
– Убрать!
Неупокой ухватил Ряполовского за бороду и с силой рванул к себе. Симеон вцепился зубами в руку холопя, носком сапога откинул его в сторону и подполз к царю.
– Убей, государь, токмо не допусти, чтобы смерд нечистыми перстами своими касался гос…
Он не договорил. Десятки рук стиснули его рыхлое тело и поволокли вон из трапезной.
Шереметев и Сабуров, крепко обнявшись, отчаянно отбивались от наседавшего на них Тына.
Грязной приказал связать их.
Биркин и Загряжский с издевательскою усмешкою предложили Овчинину следовать за ними.
Боярин послушно подчинился и направился к выходу.
У порога он задержался на мгновение, что-то соображая, и резко повернулся к царю:
– На милостях твоих бью тебе челом, государь. Токмо памятуй: испокон веку крепка была земля русийская не смердами, а господарями!
Царевич прыгнул к порогу и, подхватив с пола машкеру, напялил ее на перекошенное лицо Овчинина.
– А пригож скоморох! Ужо распотешатся мыши те в подземельи!
* * *
Со всех концов Москвы стрельцы сгоняли людишек к урочищу, в котором чинят казнь злодеям.
Грозный, отпустив гостей, заторопился на место казни.
Низкорослый нагайский аргамак лихо помчал царя на Козье болото.
За отцом, в шеломе и тяжелых доспехах, скакал царевич.
Батожники стремительно неслись по улицам.
– Дорогу преславному! Царь! Дорогу царю!
И усердно секли всякого, кто замешкался по пути.
На Козьем болоте Иоанн, превозмогая боль в пояснице, с нарочитой легкостью спрыгнул с коня и, чуть раскачиваясь, направился к кругу.
Народ упал ниц.
Иван-царевич на полном ходу врезался в толпу и, не скрывая озорного веселья, честил на чем свет стоит татар, наградивших его норовистым конем.
Грозный погрозил сыну, а сам с сожалением вспомнил о своей утраченной юности и хвастливо шепнул боярину Турунтаю:
– А бывало… Памятуешь ли, како аз был горазд людишек давить?!
Боярин расцвел в восхищенной улыбке.
– Нешто запамятуешь ту стать твою молодецкую! Орленком летал ты, преславной!
У дыбы, окруженный дьяками и катами, стоял доставленный на Москву Микита Угорь.
Он был неузнаваем. Левый глаз его вытек еще во время пыток в губном приказе, вместо носа торчал вывороченный обрубок, а на подбородке, в прогалинках, где ранее росла борода, взбухли гноящиеся бугорки струпьев.
Поодаль от дыбы испуганно жались друг к другу ходоки, которым Угорь наказал доставить гуся с денежною начинкою.
Иоанн подал знак ратнику.
Закручинившимся вздохом пролились в воздухе звуки рожка. Толпа шумно поднялась с земли и замерла в ожидании царева слова.
– Обсказывай, дьяк!
Долго и обстоятельно докладывал приказный о преступлении Угря.
Больно заломив пальцы, Иоанн страдальчески выдохнул:
– Вот, добрые люди, те, которые норовят сожрать вас, яко псы пожирают говядину.
Грязной подтолкнул одного из ходоков поближе к дыбе.
Царь, с чувством глубокого сострадания, оглядел холопя.
– А лихо вам от дьяков да бояр?
– Лихо, царь, тако лихо – мочи не стало.
Плечи Грозного судорожно передернулись.
– Умельцы вы гуся делить? – процедил он сквозь зубы, переводя прищуренный взгляд свой на катов.
Выхватив из-за пояса секиры, каты низко склонили головы.
– Допрежь всего отрубили б вы тому гусю лапки.
Точно кипящим варом обдал толпу смертельный крик Микиты.
– А абие секите руки премерзкому.
Прижавшись к отцу, царевич со звериным наслаждением следил за извивающимся по земле дьяком.
Каты подняли высоко над головами залитый кровью обрубок.
Вяземский провел пальцем по своему горлу.
Кат поплевал на руки и, крякнув, как дровосек, ударил секирой по затылку уже ничего не чувствовавшего Угря.
Царевич наступил на труп и победно запрокинул голову.
– А по вкусу ли тем, кои лихо робят со холопи, гусиное мясо? – И лукаво перемигнулся с отцом.
Глава девятая
Замятня и Шереметев, закованные лицом к лицу в общие железы, пролежали всю ночь в подземелье.
– Ты! – таращил во тьме глаза Шереметев, стараясь вцепиться зубами в губы соседа.
Микола Петрович собирал ежиком лоб и остервенело бодался.
– За моими же хлебом-солью поносил меня при боярах и Федьке, бесстыжий, – сипел он по-гусиному и смачно плевался.
Присмиревшие было поначалу от непривычного шума, крысы по одной выползали из нор и, щерясь, подозрительно обнюхивали людей.
Осмелев, они неторопливо засновали по туго переплетенным ногам, шмыгнули под изодранные кафтаны и подобрались к груди.
– Кш, окаянные!
Объятые ужасом, бояре подняли отчаянный вой и покатились, переваливаясь друг через друга по отвратительной жиже земляного пола.
Всполошенные крысы шмыгнули в норы.
Едва передохнув от страха, Шереметев вцепился зубами в губу Миколы Петровича.
– Не займай, басурмен! – рванулся Замятня и больно боднул соседа.
– А ты и с господарями не схож! Ты поглазей на рыло-то на свое! – обидно расхохотался Шереметев. – Паникадило, а не господарь! А на лбу – репейник! Ей-пра!
Сабуров перегнул тонкую шею свою и, приподнявшись, двинул лбом по переносице князя.
– Хоть и поджар аз и при репейнике, да от самого Батыя в князьях хожу. А ты тучен, яко опара, да мелок!
– Молчи, кобыла тмутараканская!
Утром их спустили с желез и повели на допрос.
Микола Петрович чванно поглядел на дьяка и, напыжившись, просипел:
– Покель сию опару смердящую из моей темницы не выбросите да Ваську-холопя служить ко мне не приставите, – а и выю рубите – языком не шевельну!
По одному поднимали князей на дыбу. Под жуткий хруст костей дьяк, не торопясь, чинил допрос.
Подьячий, приладив на колени пергамент, записывал показания.
– Руки его смердящие крути подале за спину! – ревел Замятня, забывая о собственных страданиях. – Авось споросится пес да потоньшает малость!
В сенях послышались сдержанные голоса. Уныло звякнули железы.
В изодранной епанче, весь в крови, в избу ввалился Василий.
Микола Петрович с удовлетворением крякнул:
– То-то же, сдогадались, что не можно Замятне без смерда!
Кат подтянул веревку. Что-то хряснуло в княжьей груди, оборвалось; выкатились глаза; бурыми пятнами покрылось искаженное болью лицо.
Дьяк неодобрительно покачал головой, сам ослабил веревку и, сняв Сабурова с дыбы, облил его ушатом воды.
Выводкова повесили рядом с Шереметевым.
– Не ведаю! – крикнул он, когда к нему подошел кат с раскаленным железным прутом.
– Не сведущ аз в господарских делах.
Сабуров очнулся и широко раскрыл глаза.
Василий умоляюще взглянул на него.
– Обскажи ты им, князь, про меня.
Серою тушею висел Шереметев на дыбе и протяжно стонал:
– Спусти! Отхожу! Без покаяния отхожу!
И, точно в предсмертных судорогах, жутко подергивал каждым мускулом лица.
Но едва его бросили подле Сабурова, он собрал последние силы и отполз в дальний угол.
– Не вместно православному быть близ чародея.
Дьяк любопытно склонился над князем.
– Аль водится за Замятней?
– Поглазей сам, коли не веришь! Вдвоем с холопем с тем, с Ваською, нечистое селение сотворил.
Узников уволокли в темницу.
Челяднин приказал рассадить князей по разным ямам и, остановившись перед низкою железной дверью, поклонился почтительно Шереметеву.
– На досуге поразмыслишь, боярин, како со ливонцы да Шуйским царя извести!
Князь попытался возразить, но Челяднин уже отвернулся к дьяку.
– В серединную темницу его, что острым помостом приправлена, да обрядить железами по вые, рукам и ногам, а по чреслам – обручем тучным украсить!
И сосредоточенно уставившись в землю:
– Да к тому обручу батман железа приладить!
Шереметев сжал кулаки.
– Сам же ты из рода высокого, а продался смердам богопротивным!
* * *
Грязной с дьяками с изумлением рассматривали потешный город.
Увидев льва, они отпрянули в страхе и долго не решались прикоснуться к оскаленной пасти.
Василий, срывающимся голосом, едва живой от недавней пытки, давал объяснения.
– А и доподлинно чудо! – развел руками Челяднин. – Не пожалует ли царь поглазеть? – И приказал рубленнику собрать разобранные части потешной усадьбы.
* * *
Отлежавшись в избе подьячего, Выводков объявил, наконец, что здоров и может приступить к работе.
Когда потеха была собрана, восхищенный окольничий поспешил в Кремль, чтобы обстоятельно поведать царю о диковине, содеянной умельцем-холопем.
На другой же день, по воле Грозного, Василий, вместе с городком, был доставлен на царский двор.
Протопоп Евстафий в суеверном ужасе закрыл руками лицо.
– Сожги, государь! С холопем сожги! А птицу ту, Гамаюн, зарой под осиной в Страстную седьмицу.
Иоанн надоедливо отмахнулся.
– Служил бы обедни, а об остатнем поручил бы нам печалованье! На то и на Ливонию ополчаюсь, чтобы с краев иноземных умельцев сдобыть. – И с разинутым ртом остановился перед Василием. – Смерд, а доподлинному розмыслу не уступит!
Осененный неожиданной мыслью, он легонько коснулся посохом плеча умельца:
– Снимаю холопство с тебя. Жалую тебя дьяком-розмыслом.
После обедни Грозный направился в думу, но среди дороги повернул вдруг в трапезную.
– Пускай сами погомонят князья, а мне и зреть-то хари их богомерзкие невмоготу!
В сенях он встретил царевича, Фуникова, Челяднина и Годунова.
Иван приложился к руке отца и сиротливо вздохнул.
Грозный насупился и недоверчиво зашарил глазами по лицам советников.
– Аль лихо?
Царевич мотнул головой.
– Лихо, батюшка! Не токмо бояре, а жильцы и те печалуются!
У Иоанна упало сердце. Он сжал плечо сына и ткнулся бородой в его ухо.
– На чем печалуются?
Фуников, выгораживая царевича, устремил простодушный свой взгляд в пространство и прошелестел в кулачок:
– Не успел ты холопя пожаловать розмыслом, а ужо негодование идет: негоже, мол, в розмыслах смерду ходить.
Грозный облегченно вздохнул и, не ответив, сделал шаг к распахнувшейся перед ним двери.
В кресле, закинув ногу на ногу и улыбаясь, он наставительно отставил указательный палец.
– Одного смерда примолвишь, тьмы холопей тебя возвеличат. А греха в умельстве розмысла нету. Божьим благословеньем умельство то ему дадено. – И, потрепав бороду, лукаво прищурился. – Слыхивали мы, будто с той поры, како дьяка на болоте рубили, возносят меня усердно в молитвах людишки.
Борис скромно потупился.
– Послов спосылали мы по всей земле с благовестом о суде твоем праведном.
Иоанн привлек к себе сына.
– И разумей – к тому и ныне примолвил умельца, что ведаю и тебе заповедаю: коль пригож умишко для государственности, без остатку бросай его в цареву казну, не взирая, ворог он али друг государю.
* * *
Василий поселился в Кремле. Ему было поручено изготовление игрушек для Федора. С утра до ночи проводил розмысл время в своей мастерской, стараясь забыться в работе. Но это плохо удавалось ему. С каждым днем он все боле раздражался и замыкался в себе.
Хотелось настоящего дела, которое могло бы принести какую-нибудь пользу и удовлетворение, а не возиться без конца с никому не нужными игрушечными коньками и глиняными птицами.
В точно установленный час после обеда в мастерскую в сопровождении Катырева являлся Федор и с видом знатока рассматривал работу Василия. Однако сохранить надолго серьезность царевичу не удавалось, и он под конец любовно прижимался к розмыслу.
– И откель у людей умельство берется? Да ежели бы меня к тому приневолить, – да николи не сотворить мне сего.
И растягивал лицо в блаженной улыбке.
Выводков с искренним умилением слушал Федора. С первого взгляда ему полюбился низкорослый, одутловатый юноша, всегда такой сердечный, улыбающийся и трогательно-доверчивый. Особенно нравился ему близорукий взгляд царевича, немного пришибленный, чуть страдальческий и детски покорный.
Федор садился на гладко отесанную чурку, склонял голову на грудь розмысла и воркующим шепотом просил рассказать что-нибудь про бояр, холопей, странников перехожих и беглых.
– Ты бы мне сказочку про деревеньку лесную. Ужо-тако сердечно ты сказываешь. По ночам и то во сне те беглые притчутся мне.
Василий начинал в сотый раз рассказ о лесной своей деревушке и неизменно кончал одним и тем же:
– А придут на Москву жена моя да Ивашка, – не такое поведают! Горазды они, царевич, на сказы.
И с глубокой тоскою:
– В кои поры объезжий обетовал доставить их на Москву, а досель нету ни Клашеньки моей, ни сынишки.
Катырев ободряюще ухмылялся.
– Придет срок – доставят. Не за горами.
– То-то ж и аз сказываю – не за горами, – поддакивал царевич, заглядывая с детскою лаской в лицо Василия. – Придет срок – доставят: не за горами.
Он отходил в угол, усаживался перед ворохом игрушек и тихонечко что-то шептал про себя.
Понемногу царевич сам научился владеть секирой и кое-что мастерить.
Однажды, выбрав время, когда не было Катырева, он торопливо выстругал два столбика с перекладинкой и прикрепил к виселице тоненькую петлю.
– Да ведаешь ли ты, царевич, что сотворил?
– А ты не глазей! Роби, что робишь! – по-новому резко буркнул юноша и потянул неожиданно к себе Выводкова.
– Люб ты мне… Да и болтать не станешь. Не станешь?
– Не стану, царевич.
– А коли тако, присоветую аз тебе, чем Грязного приворотить да бабу с Ивашкой на Москве узреть в недальние дни.
Выводков почтительно склонил голову и по-отечески улыбнулся.
– Ты блаженненьких видывал?
– Видывал.
– А ежели видывал – заприметил: за что иному темница, – блаженному все в корысть да в корысть.
Скользким змеиным холодком вползли в сердце розмысла воркующие эти слова.
Рука юноши потянулась к деревянному мужичку.
– Приладил бы ты бороденку ему. Узенькую да желтую.
Когда на подбородке игрушки затрепыхался льняной клинышек бороды, царевич восхищенно захлопал в ладоши и сунул головку мужичка в петлю.
– Добро висит, козел бородатой!
– Опамятуйся, царевич!
Федор вдруг испуганно отступил и закрыл руками лицо.
– Боязно мне!..
Он подкрался на носках к двери, взглянул на двор и торопливо вернулся.
– Ночами не сплю. Все сдается – сызнов батюшка сечь меня будет.
Он всхлипнул и закачался из стороны в сторону.
– Государственности наущает! А мне ни к чему! Коли б за мною стол, а то – за Ивашкой! На кой мне и государственность та! Иной раз сдается, краше бы вместе с, блаженной памяти, первенцем отцовым Димитрием в землю сырую лечь, нежели терпети обиды.
Василий нежно провел рукой по колену царевича.
– Коему государственность, а тебе – молитва за нас перед Господом.
В близоруких глазах Федора вспыхнули звериные искорки. Заострившийся подбородок оттопырился и задрожал, как в гневе у Иоанна.
– За то и примолвляют меня, за юродство мое. Блаженненький царевич у нас. Благоюродивой Федор у нас! А кой аз блаженненький?! Аз – сын царев! От Володимира кровь моя! От Рюриковичей плоть от плоти! Не примолвляю аз тех, кои меня блаженненьким почитают!
Ударили к вечерне. Царевич растерянно огляделся. Порыв возмущения стих, сменившись подозрительным страхом. По лицу прыгающими тенями поползла заискивающая улыбочка.
– Ты чего, холопьюшко, закручинился? Али негоже навычен аз скоморохами лицедействовать? – Он заложил руки в бока и гордо отставил ногу. – Эвона, каково! И не тако еще разумею аз скоморошествовать! – И, заметив чуть колеблющуюся в петле игрушку, слезливо задергал носом: – А ему, Вася, деревянненькому, от моей забавы не больно?
«Блаженный! Как есть блаженный!» – подумал Василий, исподлобья наблюдая за юношей, и едва мужичок был вынут из петли, искромсал секирой в мелкие щепы виселицу.
– Так-то краше, царевич!
– Так-то краше, холопьюшко, – послушно согласился Федор и, прислушавшись к благовесту, размашисто перекрестился.
В дверь просунулась голова Катырева.
– К вечерне, царевич!
Нахлобучив на глаза шапку, Федор, тяжело отдуваясь и облизывая кончиком языка губы, вразвалку поплелся в церковь.
На паперти он с детской сердечностью взглянул на боярина.
– Единый разок токмо брякну. Покель Малюта не зрит.
Пономарь, увидев поднимающегося по лесенке царевича, выпустил веревки из рук и опустился на колени.
Федор блаженно уставился в блестящий колокол.
– Горит! Херувимской улыбкою улыбается!
Катырев грузно сел на верхнюю ступень и, отдышавшись, приложил руку к груди.
– Краше бы тебе, агнец мой кроткой, в свой теремок. Вздули бы мы свечку из воску ярого; аз бы обрядился в кафтан слюдяной… Ужо то-то бы радости тебе от сиянья того.
Пальцы царевича сжимались в кулак. Зрачки бухли и ширились. А на лице, не смываясь, светилась заученная, больная улыбка.
– Взойди, князюшко, поглазей. Сдается, не треснул ли колокол?
Боярин, пыхтя, взобрался на широкий выступ баляс.
Федор прыгнул за Катыревым и, охваченный вдруг порывом дикого озорства, толкнул, будто нечаянно, плечом в ноги боярина.
Жирная туша беспомощно покачнулась и рухнула вниз.
Пономарь едва успел вцепиться в сапог князя и предотвратить несчастье.
– Спасите! – заревел Федор. – Спасите! Человек с баляс упал.
И шаром скатился по узенькой лестнице на паперть.
– Боярина спасите! Катырева моего!
Глава десятая
Разметавшись на пуховике, сладко спал Федор. Катырев, отяжелевший после обильной трапезы, сидел у оконца и мирно подремывал.
В соседнем тереме Иван-царевич играл в шашки с Борисом.
Игра подходила к концу. Годунов взволнованно поглядывал на доску, обдумывая ход, хотя отчетливо знал, как победить рассеянного царевича.
Наконец, он сдался:
– Како ни мудри, а не осилить тебя. Горазд ты, царевич, до сией забавы.
Иван, с видом победителя, встал из-за столика.
– А и скука же, Годунов, с тобой, несмышленым!
И приложился лбом к цветному стеклу окна.
Из-за церкви Рождества Богородицы к постельной избе, оживленно беседуя, шли два человека.
– Малюта жалует, – вполголоса сообщил Иван и благодушно ухмыльнулся. – Видать, богом дано батюшке с первого взгляда добрых людей примечать. Доподлинно, верный холоп сей Скуратов!
Неподвижные дозорные встрепенулись от скрипа сенных дверей. Малюта пропустил вперед собеседника и, деловито поглаживая рыжую бороду, уверенно постучался в терем.
– Спаси бог хозяина доброго!
– Дай бог здравия гостям желанным! – громко отозвался Борис.
Малюта переступил через порог; за ним, переваливаясь на коротких кривых ногах, ввалился его спутник. Едва сдерживая смех, царевич уставился на кривоногого.
– Добро пожаловать, Бекбулатович!
Он первый поклонился гостю. Растерявшийся от такой редкой милости, Бекбулатович бухнулся в ноги, потом поднял безбородое лицо свое к образам и зашептал торопливо молитву. Узенькие щелочки раскосых глаз восторженно остановились на золотых, в сапфировой росписи, ризах.
– Множество денег заплатили за бога, – с чувством выдохнул он и оскалил два ряда редких зубов, с выдающимися, как у волка, клыками.
Шум голосов разбудил Федора. Он готов был уже рассердиться, но вдруг вскочил с постели и прыгнул на Катырева.
Боярин осоловело захлопал глазами:
– Кое еще ожерелье?! Не воровал аз того ожерелья!
– Все бы тебе ожерелья да казна золотая, жаднущий! Протри ты зенки! Гости к нам понаехали!
Не дав опомниться сонному, царевич удобно устроился на его спине.
– Вези, серый волк, меня, царевича, за синие моря кипучие, за зеленые леса дремучие, к хану любезному Касимовскому да к Симеонушке Бекбулатовичу ко татарину!
Встряхиваясь и пофыркивая, Катырев сделал круг по терему и открыл головой дверь к Ивану.
Радостно улыбаясь, Федор привычным жестом подставил хану руку для поцелуя.
Малюта снял царевича с боярской спины и, как ребенка, усадил на лавку подле себя.
– Гостинец тебе из Касимова.
Бекбулатович таинственно подмигнул.
– Царь меня любит, аз царя примолвляю. Царь меня серебряной саблей пожаловал, мы царю привезли… – Он растопырил пальцы и загнул мизинец. – Царю шелку персидского да бочку кумыса. Тебе, Иван Иоаннович, – аргамака, горячего, како вино двойное боярское (щелочки его глаз совсем закрылись в масленой улыбочке) да еще… – И, загибая один за другим два пальца, выпалил: – Любишь девушек крымских?
Заметив, как Борис неодобрительно покачал головой и показал в сторону Федора, Симеон недоуменно оттопырил верхнюю рассеченную губу.
Иван весело потер руки.
– Вот то гостинец! Ужо к ночи ты, Малюта, приволоки через Занеглинье в подземный терем гостинец тот – поглазеть.
– А тебе, Федор Иоаннович, – продолжал успокоенный хан, – сдобыли мы бахаря[47].
Федор вскочил с лавки и, взвизгнув, изо всех сил шлепнул ладонью по спине Катырева.
– Абие волю бахаря!
Иван погрозился:
– Терем поганить холопем!
Но брат поглядел на него с такою робкою и заискивающей улыбкою, что он махнул рукой и уступил.
Взобравшись на спину боярина, Федор хлестнул кнутом и исчез в темных сенях.
* * *
Сухой, как посох Грозного, стоял, приткнувшись к стене в тереме Федора, бахарь. Широкая борода его закрывала грудь измятым и выцветшим лопухом; зрачки глаз то широко раздавались, точно серые мушки, попавшие в застывшую жижицу меда, то сжимались тупыми и ржавыми булавочными головками, а сомкнутые губы равномерно пузырились и проваливались в беспрестанном почавкивании и жвачке.
Царевич взобрался на постель, подобрал под себя ноги и приготовился слушать.
Катырев, улучив минуту, поклевывал носом в своем углу.
– Сказывай, странничек!
Бахарь поправил веревочную опояску и перекрестился.
– Про что волишь слушать, херувим?
Федор потер пальцем висок и зажмурился.
– Любы мне сказы про татарву некрещеную.
И указал бахарю на лавочку подле постели:
– Садись.
Желтое лицо старика вытянулось; на нем, просвечиваясь, выступили паутинные жилки.
– Избави, царевич! Нешто слыхано слухом, чтоб смерду сиживать подле царских кровей?!
Он оторвался от стены и припал к руке царевича.
Катырев булькнул горлом, промычал что-то под нос и смачно всхрапнул.
Федор потихонечку взял подушку и, прицелившись, бросил ее в лицо боярина.
– Нынче же батюшке челом буду бить на тебя! Опостылел ты мне: то со звонницы низвергаешься, нам на страхи великие, то дрыхнешь, яко пес в старости!
Катырев нащупал подушку и, не просыпаясь, с наслаждением ткнулся в нее щекой.
– А ты, странничек, сказывай. На тебя аз не гневаюсь.
Бахарь склонил послушно голову на плечо.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! А было на Ра[48] царство Казанское. И бысть прогневался Отец Небесный на Хама, снял с выи его крест и обрядил в личину духа нечистого. И взяла туга Богом отверженного. А поколику зрит, что бегут от него благочестивые, подался он за Вельзевуловым отродьем. Из коих земель ведьму притянет, снюхается, нечистую душу примолвит другойцы. Тако народилась от того Хама великая сила нечисти басурменовой. И учуяла нечистая татарва, что во едином из царств собрались вкупе все рабы Господни для служения Духу Святому. И, прослышавши про то, великим трусом обуреваемый, спослал Хам языков своих в обитель Христовых рабов на соглядатайство.
Старик закачался вдруг и развел беспомощно руками.
– Ты сядь, странничек божий.
– Избави, царевич…
И продолжал возмущенно:
– А и орда великая, яко та саранча, спустилась на обитель Московскую, землю преславную. И бысть в те поры плач и скрежет зубов, и стенания, и туга вселенская. И потече кровь, яко многоводные реки, и, яко от мора – повалишися людие от стрел басурменовых.
Бахарь вытер кулаком слезы и невидящим взглядом своим уставился в подволоку.
– Тебе поем, тебе славим, к тебе припадаем и ныне, и присно, и во веки веков…
– Да ты сказывай, странничек!
– А и устояти ли премерзким противу Господа? А и погасит ли кой, дерзкой, лампад небесный – солнце? Тако и не одолеть басурмену креста Господня! Кликнул великой князь дружины верные, возжег во храмах свечи из воску ярого и двинулся ратью на рать. Яко исчезает дым – исчезли; яко тает воск от лица огня – тако погибли нечестивые…
– Все? – разочарованно поджал губы Федор.
– А во испытание христианам помиловал Господь коликую невеликую силу татарскую да пожаловал ее царством тем Казанскиим сызнов на реке Ра.
– Эвон, выходит, откель ханство Казанское народилось! – просветленно улыбнулся царевич. – А мне-то и невдомек!
Бахарь пожевал свою жвачку и, вытянув шею, приятно зажмурился.
– А и ханом-то зря люди Хамов тех величают. И не ханы, а хамы. Неразумны людишки.
Федор неожиданно сдвинул брови.
– Неужто и касимовской Симеон, ежели по истине, Хамом зовется?
– То – Симеон! То – крещеный! Нешто аз про крещеные души реку?
И перекрестившись:
– В том хамстве казанскиим примолиила татарва всю силу нечисти лешей да водяной. И не стало в те поры ни проходу ни проезду крещеным. Сызнов взмолились люди московские Господу Богу. А Бог-то… он, преблагий, нешто попустит?.. Бог-то… ему, Отцу, каково во скорбех зрети чад своих прелюбезных? И народил он в те поры могутного и преславного царя и великого князя… И нарекли царя…
– Како нарекли его, странничек?
– Преславным Иоанном Васильевичем.
– Батюшка народился, выходит?
– Батюшка, херувимчик мой, батюшка!
Пальцы Федора зашарили под периной и нащупали игрушечную виселицу, содеянную им тайно от Выводкова.
– Сказывай, сказывай, перехожий.
И зло сжал клинышек кудельки, приклеенной к подбородку деревянного мужичка.
– И бысть глас с небеси Иоанну Васильевичу рассеять ту силу поганую и возвеличить царство Московское. Мудр и крепок Божиим благословением батюшка твой, царь и великой князь всея земли крещеныя. И по мудрому разумению сотворил тако: над ратью о тридесяти тыщех конных и пятнадесяти тыщех пеших поставил гетманом Александра Горбатого, князя Суздальского. И повел той гетман рать на гору великую. Егда вышли некрещеные из дубравы – закружили их к горе да в поле и одолели. А Суздальской князь умишком был крепок и не восхотел пир пировать победной; но, помолясь изрядно, привязал десять тыщ татар к кольям и перед Казанью, стольным градом, поставил. И висели нечестивые единый день и единую нощь. И ратники гетмановы скакали неослабно перед полонянниками и велиим гласом взывали к тому граду Казани: «Обетовал государь живот и волю даровати полоненным и в граде сидящим, токмо бы отдались под самодержавство русийское».
Федор засунул два пальца в нос и с неослабевающим любопытством слушал монотонное шамканье.
Бахарь передохнул, расставил широко ноги и громко высморкался.
– Не опостылел ли тебе, царевич, мой сказ?
– Сказывай, сказывай!
– Тако и взывали ратники, покель достатно было гласа. А татарва о те поры, примечать стал князь Суздальской, сбилась всей силушкой совет держать. И, како ехидны подколодные, выползли на стены и метнули в рать христианскую плювию стрел. Мечут стрелы, а сами вопиют шабашом бесовским: «Краше зрети нам полоненных мертвыми от наших рук, нежели б посекли их кгауры необрезанные!» На словеса сии богомерзкие зело возгневался Горбатой-князь, поскакал ко Иоанну Васильевичу челом бить на тех обидчиков. Лихо в те поры было людишкам ратным, что неослабно, по гетманову велению, перед полоненными дозорили. Коих стрелы минули татарские, порубили тех стрельцы при всей дружине. А сам Иоанн Васильевич над той казнью воеводство держал. «Тако полонянников уберегли?! Тако служите мне?!» В великой туге вопил сии словеса осударь и в кручине разодрал кафтан свой бранный, яко в древлие времена в стране Израилевой раздирали в кручине пророци одежи свои! «Аль недосуг вам было, нерадивым смердам, зычнее вещать, чтобы устрашился татарский град глаголов ваших?!» – Старик поднял для креста трясущиеся руки. – Помяни, Господи, души усопших раб твоих на поле брани, за веру, царя и Русию живот свой положивых, и сотвори им вечную память.
– Аминь! – проникновенно подкрепил Федор.
– Аминь! – качнул головой пробудившийся было Катырев и тотчас же ткнулся измятым лицом в подушку.
– Аминь! – прихлебнул бахарь и продолжал: – И отслужил Суздальской князь молебен, а и пошел к остатней горе. И поскакал с ним Симеон Микулинской, что из тверских княжат. А и вразумил Господь князей проломить стену, что содеяла татарва, да держать дорогу до града Арского. А и не чаяли басурмены зрети рать нашу у града Арского и в трусе великом ринулись в леса дремучие. И взликовали крещеные. И зерна того, и скота того, и ковров, шелком писанных, и куницы со белкою, да и соболя с росомахою великое множество сдосталось царю преславному. А и бабы татарские со бесенята свои в байраки ушли, лопочут по-своему, волчицами воют, а не идут к кгаурам. Содом с Гоморрою! А пришли к байракам ратники наши, – бабы те ножами булатными бесенят своих похлестали. «Не отдадим кгаурам на посмеяние!»
Бахарь затрясся от неслышного смеха и ухватился за косяк двери.
– Ну, ты, не томи!
– Помилуй, царевич, устал аз.
И строго:
– А и поволокли ратники добычу на галицкие дороги. Черемисы же луговые, в добрый час молвить, в дурной – промолчать, како стукнутся об землю лбами, тако и обернулись травой.
Федор резко окликнул Катырева и, не дождавшись ответа, сам бочком подошел к нему.
– Боязно мне тех черемисов.
– Иль попримолкнуть, царевич?
– Сказывай, странничек.
– И како ступили кони ратные в траву буйную, обернулись абие луговые черемисы сызнов татарами. И страх великий объял дружины великокняжеские и смятенно обратились в бегство Христовы воины. А и сызнов возгневался царь. Дланью своею пресветлою, не гнушаясь, по ланитам он ратников зело хлестал. Да и тому Микулинскому око проткнул стрелой: «Не пожалуешь ли об одном оке за черемисом глазеть?» Тако вот еще Отец Небесный единый день в свою обитель прибрал и земле ночь пожаловал. А по ночи той чуют в стане – гомонит татарва в Казани. Утресь возвела очеса свои рать на хамов град и зрит: сбились басурмены тучею превеликою да словеса непотребные извергают. И закручинились православные: не миновать – кручине быть. И что не выше око Господне – солнышко, то лютей вопиют некрещеные да бесноватее епанчами машут на рать цареву. А и бабы, не дремлючи, рубахи задрали и завертелись бесстыжие неблагочинне. Чего ужо тутко: по всему выходит – плювию на нас нагоняют. Мнихи со игумены, что царя для молений неотступно сопутствовали, воззрились скорбно в чертоги небесные. «Истина: нагоняют нечистые на стадо Христово плювию и громы великие!»
– И понагнали, старик?
– А и не попустил, царевич, Отец Небесный. Разверз многомилостивый уши душевные Иоанну Васильевичу и тако рек: «Спошли, Иоанне, послов за древом спасенным со креста Сына моего, что красуется на венце твоем». И абие поскакали послы, что до Новагорода низовыя земли на кораблецах, а что от Новагорода прытко-шествующими колымагами – на тое Москву православную. А и покель послы странничали, по новому гласу Божию учинили дьяки-розмыслы подкоп да воду отвели от града хамова да под шатер двадесять бочек казны зелейной понакатили. А и загудет земля, а и заревет да взвеется столб огненной!
Бахарь тяжело перевел дух и немощно опустился на корточки.
– Садись! – сердито крикнул царевич, боясь, что старик утратит последние силы и не успеет досказать.
– На порожек дозволь.
– На лавку садись.
– Избави – негоже подле царских кровей.
Хватаясь за поясницу, бахарь шлепнулся на порог и оттопырил серым пузырьком губы.
– Дай бог не запамятовать. На чем, бишь, аз…
– На столбе на огненном.
– И то на столбе.
– Дале!
– А и дале, царевич, об осьмой неделе подкатили остатних сорок восемь бочек зелейной казны. А и свету божия не взвидели басурмены. И не токмо земля – во тьме полунощной небеса схоронились. Облютели, яко звери, те басурмены. И бысть стрел татарских густоть такая, яко частоть плювии. И камения множество бесчисленное, яко воздуха не зрети.
– Доподлинно ли тако?
– Для Господа несть невозможное. Сам мних праведный, зело разумный, Евстафий, тако глаголет в летописании: «Егда же близу стены подбихомся с великою нуждою и бедою, тогда вары кипящими начаша на нас лити и целыми бревны метати». А из шатров великокняжеских пришли послы с вестью: «А и всем полечь, а быти в Казани». И сбилась татарва у мечети и велегласно призвала на споручество праотца своего Хама. А и восхотел тогда сам царь преславной облачитися в ризы священные и служити молебствование. Мнихи же кропили святою водою путь от стана до града Казанского. И, яко воды вешние, потекли наши рати на брань. И Хам, зря беду неминучую, схоронился в Тезицком рву. И, всшедши в тот град, вознесли ратники хваление Господу, побросали пищали и кинулись на добычу великую. Дождавшись сего, Хам лицеприятный суд сотворил: змеею подполз к той рати, пречестно пирующей, да из пищалей огнем метнул. И всплакали христианы. «Секут!» – возопили в трусе великом. Пировала рать, а не вся. Не прохлаждался един лишь князь – Курбской Ондрей…
Бахарь вдруг сжался весь и притих.
На пороге появился Малюта.
– Аль не ведомо тебе, сучье отродье, что в крамоле Ондрейко той?!
Старик на четвереньках подполз к Скуратову.
– Аз не к добру его помянул, а дурным словом.
Скуратов смотрел в упор на бахаря и зло теребил рыжую свою бороду.
– Ни во единой пяди земли русийской имя его проклятое ни единый назвать не может!
И, повернувшись на кованых каблуках, исчез.
Разбуженный Катырев больно ущипнул себя за щеку.
– Сызнов челом будет бить на меня Малюта! – Он подскочил к старику: – Язык бы твой отсечь, сорока!
Федор вцепился в боярина:
– Нишкни, толстозадый!
Заметив, что старик нерешительно взялся за скобу двери, он погрозил кулаком:
– Не подумай идти, покель не доскажешь.
Комкая слова, старик торопливо досказал:
– И, благодарение кня… то бишь Господу да царю, одолели мы нехристей. И вышли татары к нам в стан с такой молвью: «Мы бились до краю за Хама и юрт[49]; ныне царя вам отдаем здрава: ведети его к царю своему. А остаток исходим на широкое поле испити с вами последнюю чашу». И привели они к царю преславному Хама своего Идигера да князя Зениеша. И иссекли во чистом поле дружины царские остатних татар. И было тогда великое ликование. А и многое множество служилых людишек пожалованы были царем землею и чинами немалыми. А и кабальных не оставил милостями осударь. Кои обезножели да обезручели на брани – вольную грамоту получили, чтобы жити им не в кабале, а како восхощут сами. А и остатним честь показал осударь: в кабалу пожаловал, служилым, кои храбрость превыше иных показали…
Глава одиннадцатая
Закручинился Иоанн. Принесли гонцы недобрые вести: орды крымские царя Девлет-Гирея близко подошли под Москву. Каждый день жгут они города и селения, угоняют скот и уводят в полон великое множество всяких людишек.
Пушкари, стрельцы и ратники расположились станом вокруг Москвы. До Можайска, Тулы и Володимира расставили воеводы рогатки.
Языки то и дело печаловались в приказах:
– Облютели земские. Приведут они татарву на стольный град.
С утра до ночи Иоанн думал думу с воеводами и служилыми. Бекбулатовича он не отпустил от себя, – оставил в Кремле, чтобы мог Касимовский хан чинить опрос изловленным языкам татарским. В споручники ему был приставлен Скуратов.
В Москве, переряженные холопями, неустанно сновали подьячие – искали израды.
Среди них был и Василий.
Сам Иоанн при советниках поручил розмыслу соглядатайство.
– А не тот доподлинный розмысл, в ком умельство есть токмо каменные крепости ставить, а тот, кто и любовью своею воздвигнет промеж царя и крамольников стены незримые, но нерушимые. – И, с сердечной простотой, положив руку на плечо Василия: – Иди же и послужи нам.
На другое утро людишки Грязного повели Выводкова по Москве знакомиться с городом.
Розмысл с большим интересом остановился у бревенчатых ворот и стен и не ушел на заселенные улицы до тех пор, пока подробно не рассмотрел укреплений.
«Ну и умельцы! – презрительно морщился он. – Нешто впрок стены обложены землею и дерном? Крот скребнет, и тот абие в граде будет, а не токмо, что басурмены».
Зато земляной вал, проложенный между воротами, в три сажени шириной, привел его в восхищение:
«Ежели бы такое да в деревеньку нашу лесную!»
В первый день ему удалось ознакомиться лишь с тремя линиями укреплений: земляным валом, Китай-городом и Кремлем.
Всю ночь просидел Выводков без сна в своей мастерской. В его взбудораженном мозгу роились целые хороводы смелых, сказочных мыслей. Воображение рисовало диковинные крепости, упирающиеся вершинами в небо. Басурмены, которых он видел мельком как-то на царском дворе, толпятся у порога его избы и наперебой зовут куда-то, в еле видные сквозь голубую дымку небесных шатров, хоромины светлого рая. Вспоминаются странники, рассказывавшие о заповедных краях, где люди вольны, как птицы, где у каждого человека есть своя добрая доля. И встает перед взором в золотом венце тот чудный край, что укрылся за плещущим морем. А басурмены подходят ближе и ближе, склонились к его лицу и что-то горячо доказывают ему. Выводков пристально всматривается. И – странно. Он твердо знает, что когда-то видел все эти лица. И вдруг губы растягиваются в улыбку.
«Да вы это вы, братья мои из деревушки лесной!»
Настойчивый стук в дверь спугнул видения. Василий неохотно открыл глаза. На дворе стояло яркое утро.
– Прохлаждаешься? – проворчал недовольно дьяк из Тайного приказа и торопливо увел его.
Перед церковью Иоанна Лествичника, у круглого красного шатра, Выводков остановился. На лавках, расставленных в два ряда, подьячие, с видом людей, выполняющих дело первой государственной важности, строчили кабалы и расписки. Смиренно склонясь, объятые священным трепетом перед письменным и книжным умельством приказных, дожидались очереди людишки.
Чуть дальше трусливо жались друг к другу приведенные на правеж простолюдины.
– Идем! – потянул дьяк Василия за рукав. Выводков упрямо покачал головой и не двинулся с места.
Вскоре простолюдинов выстроили в одну линию.
– А и удумал ли кто расчесться с заимодавцами? – зычно спросил подьячий.
Приговоренные потупились и молчали. Лишь один, с изъеденным оспой лицом, кривобокий крестьянин, протянул умоляюще руки.
– Нешто солодко нам под батогами? А с чего расчесться? Землишка татарами разворочена… Кои были достатки – в казну да…
Он оборвался под нещадными ударами бича.
– Идем! – воюще резнул розмысл, сам не узнавая своего голоса.
На Красной площади стоял оглушительный шум. Подле ворохов звериных шкур, овощей, бараньих туш, ослепительно сияющих кругов воску и меда суетилась черная сотня[50].
У рундуков с образцами кудели и льна толпилась кучка английских гостей. Изредка они обменивались через толмача с черносотенцем двумя-тремя словами и делали вид, что собираются уходить. Тогда торговец, в высоких сапогах и замызганном долгополом кафтане, вскидывал вдруг к небу рысьи свои глаза, истово крестился и ожесточенно тряс кудель перед лицами покупателей.
– Во Пскове не сыщете!
Языки толкались у рундуков, чутко прислушиваясь к каждому слову.
Василий незаметно очутился на гостином дворе. Здесь сразу стало сонливей и буднишней. У широких дверей амбаров, на лавочках, обитых обьярью, чинно сидели гостиносотенцы. Кое-где холопи неслышно перетаскивали со складов тюки товаров.
– И кому добра толико? – подумал вслух розмысл.
Дьяк насторожился.
– Аль казны недостатно на Русии, чтоб великой торг торговать? – спросил он, подозрительно щурясь на Василия и, не дождавшись ответа, сердито двинулся дальше.
Они вышли на овощную улицу. Отвратительный смрад, шедший от рыбного рынка, захватил сразу дыхание. В углу рынка высился холм из протухшей рыбы и перегнивших остатков овощей. На холме, избивая друг друга, грызлись холопи за обладание добычей. Счастливцы, истерзанные, в крови, торопливо рвали зубами падаль и исступленно отбивались от наседавших товарищей. Рундучники и лоточники, надрываясь от хохота, наблюдали за боем людишек.
В стороне, отдельно от других, стоял какой-то служилый.
Дьяк мигнул языкам, подошел к призадумавшемуся наблюдателю и скорбно уткнулся подбородком в кулак.
– Эка напасть, прости господи! Люди, а живут – зверю позавидуешь.
Василий тепло поглядел на дьяка и взял его под локоть. Еще мгновение, и он с открытым сердцем рассказал бы, как горько ему глядеть на холопьи кручины, и тем неизбежно погубил бы себя; но служилый перехватил его мысль.
– Како поглазеешь на нужды великие, что по всей земле полегли, другойцы и животу не рад.
Вдруг на него набросились языки.
– Вяжи его, крамольника!
…После трапезы соглядатаи снова отправились в город. Через мост от рыбного рынка они вышли на Козье болото, в урочище пыток и казней.
Болото окружила огромная толпа зевак. На катах ярко горели длинные, до колен, рубахи из кумача.
Под виселицей стоял какой-то тучный человек, одетый с головой в серый, холщовый саван. Поп, с большим восьмиконечным крестом в руке, уныло тянул отходную.
Василий локтями проложил себе дорогу к первым рядам.
Поп, плохо скрывая тяжелую печаль свою, в последний раз воздел руки к небу.
Дьяк содрал саван с преступника.
– Целуй крест, Иуда!
Неожиданно крик вырвался из груди розмысла. Он с силой протер глаза и еще раз взглянул на преступника.
– Князь Симеон!
Глубокое сострадание вошло на мгновение в душу Василия, но тут же сменилось почти звериною радостью.
– Онисиму челом ударь от холопей своих! – хохочуще и жутко пронеслось над притихшим урочищем. – Да от Васьки-рубленника тебе, боярин, особный поклон.
Ряполовский вздрогнул, пошарил заплывшими глазками по толпе и, нащупав Выводкова, резко рванулся вперед.
– Держите!
На аргамаках прискакали к месту казни Малюта и Бекбулатович.
Скуратов услышал вопли боярина и смеющимися глазами окинул толпу.
– А и вышел бы молодец добрый, на кого в обиде князь Симеон.
Не задумываясь, Василий перескочил через тын.
– Ты?! – изумленно отступил Малюта.
Приговоренный гремел железами, ревел и порывался наброситься на бывшего своего смерда.
Розмысл подбоченился и обдал князя уничтожающим взглядом.
– Не давить бы вас, а псам жаловать!
Бекбулатович шлепнул Выводкова по груди и повернулся к толпе.
– Тако ли сказывает?
– Тако! – искренне прогремело в ответ.
И, точно по невидимому сигналу, дьяки, подьячие и языки во всех концах урочища торжественно затянули молитву за государя.
– Пой! – затопал ногами Малюта.
Ряполовский сжал плотно губы.
– Пой!
Чтобы избавить казнимого от издевательств, поп торопливо благословил его на смерть и строго шепнул Малюте:
– А ежели пожаловано ему отойти с крестом и молитвой, – казни немедля, ибо дал аз ему остатнее благословение.
Бекбулатович, оскалив клыки, вскочил на помост и подхватил болтавшийся конец веревки.
Два ката с трудом подняли обессилевшего сразу Симеона и накинули ему на шею петлю.
Малюта взмахнул рукой. Хан с наслаждением уперся кривыми ногами в столб и потянул к себе конец веревки.
* * *
Изо дня в день толкался Василий с языками по городу. Любимым его местом были улицы вдоль реки Неглинки, где жили немецкие торговые люди и умельцы, вывезенные из разных стран.
Выводков быстро свыкся с чужеземцами и завел тесную дружбу с рудознатцами, золотарями и розмыслами.
Умельцы охотно принимали у себя дьяка и, стараясь заслужить внимание, наперебой предлагали ему свои услуги по обучению чертежному искусству, немецкой грамоте и геометрии.
Выводков позабыл о своих обязанностях языка и проводил дни на Неглинке, у немца-розмысла.
Немец занимался не только умельством, но содержал еще и корчму. В городе русским строго-настрого запрещалась торговля вином, и тайных корчмарей жестоко преследовали приказные. Поэтому корчмы чужеземцев всегда были полны посетителей.
В клети, смежной с корчмой, за кружкою меда, немец обучал приятеля своему языку, рассказывал о Вестфале, где он родился, о чудесных замках и богатствах европейских стран, о мраморных статуях, что украшают площади городов, и о многом таком, от чего у Василия кругом шла голова.
Набросанный Выводковым план потешного городка после каждой беседы подвергался резким изменениям и переделкам.
– И что не потолкуешь с тобою, Генрих, то в умишко новые думки жалуют! – прощаясь, благодарно улыбался розмысл. – А зато и двор сроблю особный – всем немцам на удивление!
Генрих дружески жал гостю руку.
– Человек – один ум: корошо и некорошо. Ум и училься – все корошо. Понятно? Учений – зер гут, корошо!
…Федор, роясь однажды среди бумаг в мастерской, нашел чертежи потешного города и показал их Катыреву.
Боярин тотчас же отправился с доносом к царю. Розмысла схватили на Неглинке и доставили в Кремль.
– Тако за милость мою воздаешь?
По лицу царя ползли бурые тени и зловеще подпрыгивал, топорщась, клин бороды. Тонкие, длинные пальцы с ожесточением мяли бумагу.
– Казни, государь, токмо поведай, каким аз грехом согрешил?
– Держи же, язык басурменов!
Иоанн бросил в лицо Василию скомканный лист.
– Убрать! В железы!
На пороге появились дозорные.
Выводков подхватил бумагу, развернул ее и ахнул:
– Изодрал ведь двор свой потешной! Колико труда аз положил на него! – Забываясь, он оттолкнул стрельцов. – Колико ночей не спал для потехи твоей!..
Царь приподнял узкие плечи свои.
– Ужо не упился ли ты?
– А коли и упился, то не вином, государь, а думкой хмельной!
Захлебываясь, рассказывал розмысл о засевшей в его мозгу затее:
– Ни един человек не внидет тайно в тот двор. А для пригоды сотворю таки подземелья, токмо ты да аз ведати будем!
Борис вырвал из рук Выводкова бумагу, расправил ее на столе и подобрал изодранные клочки.
– От израды, сказываешь, схоронить меня хощешь? – остро поглядел Иоанн и перевел взгляд на чертеж.
– От твоих и холопьих ворогов, от князь-бояр!
Слова Выводкова звучали такой неподдельною искренностью и столько было в них ненависти, что Грозный размяк:
– А содеешь тот двор, пожалую тебя дворянином московским!
Годунов восхищенно приложился к царевой руке.
Выводков пал на колени.
– Не зря земщина величает тебя холопьим царем! Тако и есть!
И, в порыве самоотверженья:
– Утресь же со языки пойду по Москве! Кой противу тебя, загодя пускай панихиду служит по животе по своем.
Он отполз на четвереньках к двери и нерешительно приподнял голову.
– Аль челобитная есть?
– Есть, государь!
– Сказывай, дьяк, на что печалуешься?
– Вели, государь, от кабалы свободить да на Москву доставить жену мою с сынишкой.
Взгляд царя закручинился. Голова его сиротливо свесилась на плечо.
– Како прогоним татарву, – немедля доставим.
И к Борису с плохо скрываемым страхом:
– Пошто не зрю гонцов из Можайска? Аль и впрямь орды пути поотрезали?
Глава двенадцатая
Едва рать царева отогнала крымских татар к Дикому полю, зачмутили нагайцы и черемисы. Торговые люди вынуждены были прекратить отправку караванов через низовые волжские и прикамские земли. Никакие заставы не останавливали татар. Они вырастали, точно из-под земли, в разных концах Московии, опустошали пашни и города и бесследно исчезали в лесах. С неумолимой жестокостью мор и враги косили людей целыми станами.
Улучив время, Василий пришел к Скуратову.
– Надумал аз рогатку для татарвы.
Обрадованный Малюта, после коротких расспросов, увел розмысла к Иоанну.
– Рогаток, государь, множество по тем дорогам, а доподлинной нету. Чтобы, выходит, поперек горла крепость стояла у басурмен, а нам она, вроде тот пуп, посередке была: и голову и пятки зреть можно.
Грозный помог Выводкову встать с колен и усадил его подле себя.
На утро розмысл выехал с детьми боярскими на Волгу, чтобы оттуда пройти к реке Свияге и, ознакомясь с местом, поставить крепость.
По пути Василий решил свернуть в вотчину Сабурова и повидаться с семьей.
Чем дальше уходил отряд от Москвы, тем тревожнее и тоскливее сжималось сердце Выводкова.
В вымерших деревеньках не слышно было на многие версты ни человеческого голоса, ни лая псов. Избы были наглухо заколочены, и из них шел смрад от разложившихся трупов. Изредка на дороге встречались рыскающие стаи голодных волков. Завидя отряд, они со зловещим воем отскакивали в кусты, чтобы сейчас же вновь наброситься на изглоданные остатки павших от мора людишек.
Только по дворам и в подклетных селах царя да в монастырях, под навесами, высились горы хлебных снопов и теплился еще призрак жизни. Но и там несладко жилось холопям. Лишь ничтожная доля зерна кое-когда продавалась или жертвовалась народу. Весь же хлеб шел на потребу царева двора и монастырей.
И так же, как в других местах, людишки, при встречах с отрядом, валились в ноги:
– Христа для, подайте на пропитание!
В одном из подклетных сел Выводков сделал привал и пошел к дьяку.
– А людишки-то мрут без прокорма, – глухо заявил он, глядя себе под ноги.
Дьяк сочувственно вздохнул и развел руками:
– Кой тут прокорм, коли хлеба не стало!
Рука Василия угрожающе поднялась и ткнулась в сторону навесов, заваленных хлебом.
– Не стало?!
Старавшийся до того держаться приветливо, дьяк повернулся к порогу.
– Тот мне не гость, кой черную думку держит – царево добро смердам пораскидать!
Выводков ушел, хлопнув изо всех сил дверью, разыскал подьячего из отряда и усадил его за цедулу царю.
С пеной у рта выбрасывал он слово за словом и подгонял нетерпеливо подьячего:
– Еще обскажи: «А видывал аз, царь-государь, како из-за лепешки, что пожаловал аз единому смерду, стая людишек, яко лютые волки, насмерть погрызлась…» И еще обскажи: «Да и видывал аз, како приказные, егда умрет един в избе, со живыми ту избу заколачивают. И тако беззаконно и прелюто отходят в живот вечный живые со мертвыми. А те приказные на сетования мои рекут словеса непотребные: поколику-де оставить живых в избе, мором пораженной, – разнесут они смерть по многим людишкам. А то ли Божье и царево дело – без вины христиан в моровых избах держать?» И еще обскажи, Ондреич…
Подьячий трясся от страха и, то и дело крестясь, вскидывал на розмысла умоляющий взгляд.
– Не токмо ты, а и аз за цедулу сию живота лишусь. Опамятуйся!
И, окончив цедулу, упал на колени перед киотом.
– Перед Богом пророчествую: не по-твоему будет, а како велось, тако застанется.
Он долго и обстоятельно доказывал, что царь, прочтя челобитную, немедля бросит в темницу обоих, а хлеба холопям все равно не даст.
– И при былых великих князьях посещал Господь землю московскую. А князья и монастыри, да и сами митрополиты, зерно то зело берегли, сдожидаючись, покель можно до самого вершинного края цену ему поднять.
Ему удалось, наконец, убедить Василия не посылать сейчас челобитную, а припрятать ее и дождаться удобного случая.
* * *
Далеко от вотчины опального князя Сабурова Выводков обогнал отряд.
Встревоженные людишки повыскакивали из клетей поглядеть на бешено мчащегося по починку всадника.
Василий остановился у бора и, спрыгнув с коня, скрылся в овраге. В покосившийся клети он не нашел никаких признаков жизни. На ворохе перегнившего сена дремала сова. Почуяв человека, она в страхе метнулась в угол, забилась под подволокой и, вырвавшись в оконце, слепая от света, заплакала где-то высоко над головой. На полу, покрытые плесенью, валялись забавы Ивашки. В источенном брюхе деревянного конька тоненько попискивал мышиный выводок.
В полумраке повлажневшими глазами шарил Василий по сену. Какая-то непонятная сила толкала его подойти ближе. Он сделал шаг и, опустившись на колени, разобрал тряпье.
Холодея от ужаса, розмысл отпрянул в сторону: на него глядел оскалившийся человеческий череп.
У клети толпились холопи, не смея переступить через порог.
Выводков уткнулся лицом в тряпье и не шевелился.
– Да то ж рубленник Васька, – шептались людишки и тихо звали: – Василий, а Вася! Опамятуйся, Василий!
Не дождавшись ответа, они, преодолевая страх, вошли в клеть и вывели розмысла на воздух.
К бору скакал отряд.
Ондреич ворвался в кучку людей, окруживших Василия.
– Лихо? – взволнованно спросил он, ни на кого не глядя.
– Где взяться добру?..
Дети боярские остановились на ночлег в починке.
Розмысла увел к себе в избу знакомый рубленник.
Разговор не клеился. Гость сидел понурясь и как будто чего-то ждал. У порога переминался с ноги на ногу подьячий.
– Мор, сказываешь?
– Он, батюшка, он, окаянный!
Ондреич с глубокой печалью поглядел на Выводкова.
– Пошли бы мы, дьяк.
– Пошли, Ондреич…
Но ни розмысл ни подьячий не двинулись с места.
– Тако вот, – протянул хозяин, чтобы что-нибудь сказать.
– А коли померла? – усиленно зажевал ус подьячий.
– Кланя-то? Да, почитай, вскорости после отхода князя в украйные земли.
Рубленник забарабанил пальцами по столу и насмешливо поморщил нос.
– Чаяли – при служилых вздохнем повольготнее. Ан нет! Не с чего радоваться и ныне.
Он помолчал и перевел разговор на покойницу:
– Все тебя поминала… Обернется, дескать, домой, ужо заживем. Слух ходил, что сам великой князь примолвил тебя.
Подьячий присел к столу и, сжав руками грудь, упавшим голосом выдавил:
– А мальчонка?
– Ивашка-то?
Хозяин перекрестился на потрескавшийся от сырости образок.
– Множество татарва крымская в полон людишек угнала.
Василий съежился, точно от жестокого холода, и натянул на голову ворот кафтана.
Подьячий склонился к уху рубленника.
– А мальчонка-то, дьяков мальчонка?
– Вестимо, и его, сермяжного, угнала саранча некрещеная.
* * *
В Углицком уезде, в отчизне князей Ушатовых, согнали из деревушек в лес сотни холопей. Ночью и днем стоял в чаще необычайный гул. Одно за другим падали вековые деревья. Встревоженное зверье ушло в дальние дебри; с отчаянным писком птицы беспрестанно кружились над головами людей, падали камнем на колючие сучья, пытаясь вызволить из придавленных гнезд задыхающихся птенцов своих.
Выводкова охватила кипучая жажда работы. Он падал с ног от усталости, засыпал на ходу, но не давал себе ни минуты для роздыха.
– Сробить! Содеять крепость на славу и бить челом государю, обсказать все без утайки, про все великомученические кручины! – вслух выкрикивал он, чтобы заглушить в себе главную муку – воспоминания о жене и Ивашке.
В минуты, когда тоска по погибшей семье становилась невыносимой, он бешеным вихрем мчался верхом по безбрежным степям, до тех пор, пока не падал замертво конь, или, добыв из княжьих погребов вина, устраивал в лесу разгульный пир.
Людишки, заслышав разбойные посвисты, немедля бросали работу и веселой гурьбой спешили к закутившему розмыслу.
От зари до зари лились рекою вино и песни. Пьяный Василий, разметавшись на траве, исступленно колотил себя в грудь кулаком и залихватски выбрасывал в небо, покрывая других:
Уж как мы ли, молодцы, да разудалые, Уж как мы ли, головушки, да буйные…Разнобоем, но могуче, в свою очередь стараясь перекричать запевалу, ревели работные:
А и в степь уйдем да с вольностью спознатися, А и с буйным ветром да перекликатися.И все перескакивали неожиданно на казацкую:
Эй, да мы рукой махнем, Да, эй, да караван возьмем!Дети боярские возмущенно уходили тогда с пирушки.
– Дьяк, а каки песни играет! Чисто казаки разбойные.
А Ондреич, хмельной и веселый, плевался им вслед и с поклоном подносил холопям вина.
– Пей, веселись, православные, покель мы с розмыслом живы.
* * *
Связанный в плоты лес сплавлялся по Волге вниз, к месту постройки.
Шатер Василия был завален бумагою и пергаментом.
Розмысл набрасывал план за планом, но каждый раз, неудовлетворенный, зло рвал в мелкие клочья наброски. Для большей ясности он поставил перед шатром потешные стены с круглыми, выемками-кружалами, в которых должны были помещаться кладовые с входами изнутри, и по этим образцам точно возводил, уже с работными, подлинные стены.
Дети боярские с нескрываемым недоверием следили за работою розмысла и, если ему что-либо не удавалось, ехидно предлагали:
– А не обернуться ли нам на Москву да не бить ли челом государю на подмоге.
Выводков свысока оглядывал их, не удостаивая ответом.
Когда готовы были обломы[51] с деревянными котами для спуска на неприятеля во время осады бревен, Василий даровал холопям три дня на отдых и приготовился задать им пир.
Тиун князя Ушатова наотрез отказался выдать вина.
– Обернется господарь с брани – чем его потчевать буду?
Дети боярские поддержали тиуна:
– Чего затеял Выводков? Со смердами побратался да еще и чужими хлебами их потчует.
Василий в тот же час собрался на Москву.
Усаживаясь на коня, он спокойно объявил отряду:
– Покажите милость, сами доробите ту крепость, а аз на Москву подамся.
Дьяк из Поместного приказа подхватил коня под уздцы и, едва сдерживая злобу, изобразил на лице тень заискивающей улыбки.
– Неразумен тиун. Нешто можно сердце держать на него? Коли волишь, будет холопям и хлеб-соль и брага.
Выводков спрыгнул с коня, заложил за спину руки и чванно оттопырил губы.
– Породили вас дворяны да целовальники, а без холопьего разумения и проку-то в вас, эвона, с комариный опашь.
И, снисходительно:
– Царя для не гневаюсь на вас. Застаюсь.
Три дня пировали работные, отъедаясь за долгие голодные годы. На четвертый – сразу стихли потехи и как рукой сняло бесшабашный разгул.
С удесятеренной силою закипела работа.
Василий, оглядев законченные стены, снова засел за чертежи. Наутро он с увлечением объявил отряду:
– Затеял аз в пряслах[52] окна поставить особные.
И, измерив пространства между башнями, разделяющие стены, приказал прорубить ряд отверстий.
– Ежели придет близко ворог, стрельцам через окна каменьями метать можно. А из бойниц то ли вольготно палить из пищали! Сам-то пушкарь, како в Кремле, за пряслами, а ворог тот под погибелью.
Едва была готова башня над городскими воротами, в крепости собралось все уездное духовенство.
После торжественного молебствия на башню водрузили полошный колокол и поставили пушку.
Вскоре были закончены работы по прорытию тайных ходов и погребов для зелейной казны.
С вестью о том, что воля Иоанна исполнена и над рекою выросла грозная крепость, поскакал на Москву Ондреич.
* * *
В Москве подьячий раньше всего явился в судную избу, к Долгорукому.
У избы толкалась кучка людишек с челобитною. Один из них осторожно постучался. В дверь просунулась взлохмаченная голова сторожа.
– Недосуг окольничему!
Подьячий не спеша распрягал взмыленного коня и искоса поглядывал на склонившегося перед сторожем простолюдина.
– Сказывают, недосуг.
Сторож размахнулся и ударил палкой по голове челобитчика, попытавшегося прошмыгнуть в дверь.
Ондреич подошел к простолюдину.
– Нешто не ведаешь, что безо мшелу не пустят к окольничему?
– Ведаю, да что проку-то в том, коли, опричь епанчишки (он помахал изодранными лохмотьями), николи ничего за душой не бывало? – И слезливо заморгал. – В Разбойный приказ ходил – прочь погнали; кинулся в судной – сторожи секут. – Он упал неожиданно в ноги подьячему. – Заступись! Поколол у меня Тронькин сынишку мого! А вины сынишка мой над собою не ведает, за что его поколол! А ныне сынишка мой лежит в конце живота!
Ондреич порылся за пазухой и незаметно бросил наземь горсть монет.
Простолюдин подобрал деньги и смело пошел к двери.
Увидев в руке челобитчика медь, вышедший на стук сторож широко распахнул перед ним дверь.
Подьячий, доложив в нескольких словах окольничему об успешном окончании работ, отправился с думными дворянами в Кремль.
С замирающим сердцем проходил он сенями к постельничьим хоромам, на половину царевичей, где был в это время Грозный.
У двери посол и думные задержались.
Из терема Федора доносился сдержанный плач.
– Будешь пономарить, сука пономарева?! – резнул слух сиплый голос царя.
– Твоя воля, батюшка!.. – всхлипнул царевич.
– Сдери, Малюта, с мымры моей кафтанишко! А ты, Евстафий, просвети его глаголом мудрости!
Протопоп заскрипел, точно полозья по примятому снегу:
– Казни сына твоего от юности – и будет покоить тебя на старости; не ослабевай, бия младенца; колико жезлом биешь его – не умрет, но здрав будет; бия его по телу, душу его свободишь от смерти.
Глухие удары плети переплетались с отчаянными стенаниями избиваемого.
Наконец, дверь распахнулась. Опираясь на плечо Малюты, в сени вошел разморенный Иоанн.
Ондреич упал на колени.
– На славу тебе поставил розмысл крепость!
Грозный выпрямился и, довольно погладив бороду, окликнул Ивана-царевича:
– Содеял холоп потеху татарам!
Иван просунул голову в дверь.
– Иди, Федька, послушай, каку весть возвещают!
Федор, поддерживая одной рукою штаны, а другою – размазывая слезы на припухшем лице, бочком вышел в сени.
Царь любовно обнял его.
– Замест пономарства будешь навычен тем Ваською розмыслову делу.
Царевич облизнул языком верхнюю губу.
– Твоя воля, батюшка…
– Буй!
– Твоя воля, батюшка.
Грозный повернулся к подьячему.
– Сказывай кряду.
По мере рассказа Ондреича лицо царя все больше расплывалось в улыбку, и светлели глаза.
Выслушав доклад, он что-то шепнул Малюте и, глядя в упор на думных, по слогам отчеканил:
– Дьяка Ваську жалую аз дворянством да «вичем»!
Глава тринадцатая
Не спалось Иоанну. Голову давили черные мысли.
Он поднялся с постели и подошел к образам. Неверным, желтым паучком вспыхивал огонек лампады, припадал непрестанно и с шипением вновь вытягивался, точно отплясывал священную пляску. Из сеней едва доносилось мерное дыхание дозорных. Сквозь стрельчатое оконце в опочивальню сочилась полунощная мгла.
Грозный приложился горячим лбом к цветному стеклу. На дворе, утопая в тягучей жиже тумана, двигались стрельцы.
«Малюту бы кликнуть а либо Бориса» – подумал царь, но махнул рукой и опустился на колени перед киотом.
«Денег бы силу да земщину одолеть!» – со стоном перекатилось в горле и замерло на устах.
Щурясь на образ Володимира равноапостольного, он заискивающе склонил голову.
– Помози, святой прародитель, самодержавство укрепить наше да вотчину излюбленную, Русию, возвеличить перед лицем всех людей!
Желтый паучок подмигнул и заскользил по золоту риз. Переливчато заулыбались жемчуга и изумруды на венце Володимира.
Зрачки Иоанна загорелись жадными огоньками. На лбу собрались упрямые складки, и хмурою тенью передернулись брови.
– Малюту! – вдруг оскалились зубы. – Малюту!
Дозорный стремглав бросился из сеней.
Застегивая на ходу кафтан, в опочивальню ворвался Скуратов.
– Абие волю сидети с Грязным, Годуновым, Челядниным да Фуниковым!
Быстро, прежде чем Малюта успел расставить лавки, пришли советники.
Грозный стукнул кулаком по столу.
– Одолеть ливонцев! Живота лишиться, а одолеть! – И, неожиданно смягчаясь, мечтательно: – Да еще торг наладить с любезными сердцу нашему гостями аглицкими через Обдорские и Кондинские северные страны. – Он приподнял голову и оттопырил капризно губы. – Чего попримолкли? Аль не любы вам те басурмены?
Борис вытаращил глаза.
– Что тебе любо, царь, то и нашему сердцу на радость.
Иоанн глубоко вздохнул:
– А и не миновать-стать, загонят меня из Русии крамольники. Придется, видно, остатние дни свои коротать за морем, у той агличанки!
– Помилуй бог! Не кручинь ты нас, государь!
– Чего уж! Ведаю, про что сказываю… Повсюду шарит израда.
Он зажмурился и снова мечтательно протянул:
– Злата бы силу! Со златом весь бы мир одолел!
Челяднин припал к царевой руке.
– Все по-твоему будет. Дал бы допрежъ всего Господь с израдою расправиться.
Окольничий перевел дух и, поклонившись в пояс, вперил молитвенный взгляд в подволоку.
Царь зажал в кулаке непослушно подпрыгивающую бороду и любопытно насторожился:
– Аль надумал чего?
Челяднин незаметно подтолкнул ногой казначея.
– Вели Фуникову домолвить. Его затея.
Истово и долго крестился казначей на образ Егория Храброго, потом мягко уставился на царя.
– И порешили мы с Грязным, Челядниным да и с Борисом и Малютою сдобыть тебе и денег силу, и волю над земщиной.
Советники переглянулись и опустились на колени. Грозный заерзал в кресле. Левый его глаз почти закрылся, на виске грязно-сапфировой подковкой вздулись жилы, а пальцы судорожно сжимали посох.
– Сказывай.
Все заговорили хором. Чувствуя, что их затея приходится по мысли Иоанну, советники заметно осмелели. Робкая застенчивость сменилась хвастливою гордостью. Каждый изо всех сил стремился доказать, что им первым придуман хитрый выход. Лишь Годунов скромно тупился, изредка вливая в общий гомон два-три слова. И потому, что все перекрикивали друг друга, царю казалось, будто дело говорит один Борис.
Наконец, все стихло. Грозный облокотился о спину Годунова.
– А ежели Симеон да с потехи и впрямь полюбится Русии?
Фуников прищелкнул пальцем.
– А либо у стряпчих не хватит зелья, чтоб извести не единого, а сорок сороков Бекбулатовичей, князьков татарских?
Тяжело поднявшись, Иоанн раздумчиво поглядел через оконце на черный Кремль. Вдруг он отшвырнул посох и, закинув за голову руки, расхохотался:
– Так лют аз, по земщине выходит? А не покажете ли милость, князь-бояре, челом ударить Касимовскому Симеону, что замест меня засядет на стол московской? – И, обрываясь, властно взмахнул рукой: – Волю! Быть отсель Бекбулатовичу царем и великим князем! Пускай володеет земщиной! Пиши грамоту, Борис!
Годунов вздрогнул.
«А что, ежели прознается затея? – подумалось ему. – Не позабыть ни земским ни митрополиту той грамоты по гроб».
Он конфузливо улыбнулся и с глубоким вздохом объявил:
– Сам ведаешь, мой государь! Граматичного ученья аз не сведый до мала от юности, яко ни простым буквам навычен бе.
Царь шутливо погрозился:
– Гоже. Напишет Висковатой под твой подсказ.
Легким движением головы отпустив советников, он благодарно воздел к небу руки.
– Ты еси премудрый. Тебе слава, и честь, и поклонение, и благодарение.
И, почесав бороду, просто прибавил:
– Тебе, Отец, чистая моя молитва, а мне для твоей же славы могутная казна.
* * *
Земские бояре растерялись: пошто ушел из Кремля на Покровку, а потом в Александровскую слободу Иоанн, оставив Касимовскому хану, татарину крещеному, стол московский? Чуяли вотчинники, что неспроста такой потехой тешится великий князь.
А опальные снова подняли головы.
– Лихо было ему при высокородных? – радостно потирали руки соседи по украйным усадьбам, Замятня и Прозоровский. – Мы-ста велеречивы да супротивны больно! То ли Скуратовы да Биркины! Что ни скричит петух, то куры все – да, да, да, да. А и пришло к тому, недалече та пора, ударит нам челом: «Покажите милость! Приходите, яко издревле ведется, володеть и править вкупе!» – И потихоньку стали складывать добро в дорогу на дедовы места.
Что ни день – приезжали в слободу со всех концов разведчики-князья. Грозный принимал всех одинаково: с поклоном и смиренною улыбкою. В черной рясе и выцветшей скуфейке царь выглядел таким пришибленным и жалким, что даже у лютых его врагов больно сжималось сердце.
Князь Петр Горенской сидел до сумерек в келье Иоанна. Вместе с ним молился и пил из общего ковша простую воду да тешился просяными лепешками, густо посыпанными солью.
Перед расставанием Грозный облобызался с гостем, поклонился ему в пояс по монашескому чину и со вздохом обронил:
– Велики грехи мои, боярин. Другойцы така туга на сердце ляжет – живот не мил. И веры нету, спасусь ли в недостойных своих молениях!
Голова его сиротливо склонилась на острое плечо.
– Концом бы живота пожаловал меня Господь. Избавил бы от злой туги.
Горенской в страхе отступил.
– Не ропщи, царь. Не внемли гласу сатаны. То он совращает дух.
И ласково, точно баюкая:
– Мало ль кречетов да аргамаков у тебя? Изведи кручину потехою да… (он запнулся, но тотчас же голос его окреп) дружбой нерушимой с земщиной высокородной.
На мгновение скрестились два острых взгляда и погасли.
Глаза царя снова заволоклись дымкою печали.
– Так-то, боярин! Были у меня и кречеты добрые, да поизвелись: охотою не тешусь; пришли на меня кручины великие; был охоч и до аргамаков-жеребцов добрых, до палок железных с наводом, до пищалей ручных, чтоб были цельны и легки. А ныне никакая потеха в потеху…
Едва Горенской скрылся за поворотом сеней, в цареву келью, через потайную дверь, вошел выряженный послушником Фуников. Тонкие губы его собрались в лукавую усмешку. Простодушно, по-детски, светились ясные глаза.
Грозный подошел вплотную к казначею.
– Аль вести?
– Ходят, царь, наши языки…
– Про то сам ведаю! А прок?
Фуников перевел невинный взгляд свой на окно.
– Всюду посеяли ропот те людишки, государь. Дескать, собора волим, а на соборе – бить челом от всея Русии природному царю Иоанну Васильевичу!
– И бояре?
Казначей сунул глубоко в нос себе мизинец.
– А и не долог час, волей ли неволей, челом ударят и бояре. Распотешимся мы ужо в те поры с Горенскими да протчею крамолой!
Он вытер губы и приложился к руке царя.
– Надоумили мы с Борисом новую тебе забаву.
Грозный приклонил любопытно ухо.
* * *
Лихо затеял Симеон. Сами собой сжимались кулаки у бояр, и наливались ненавистью глаза. Слыхано ли, чтобы для зелья целебного занадобились блохи из постели господарской?
Но дьяки, подьячие, недельщики, губные старосты – были неумолимы.
– Волит Бекбулатович колпак[53] блох княжьих, – а наша стать – холопья: не прошибить той грамоты лбишками приказных!
Про себя зло бранились бояре, а постели подставляли. Осилишь нешто худородного татарина кулаком, коли стрельцы ему, точно природному царю, крест целовали!
От Константина-Елены дня до святой княгини Ольги собирали блох.
Под конец сдались окольничие, ударили челом Симеону:
– Велик колпак, батюшка: почитай шесть батманов с лихвой зерна схоронишь в нем. Нешто нагнать в него таку силищу блошью?! Да к тому же грех-то, прости ты, господи, – скачут еще те блохи окаянные, склевали б их вороны!
Бекбулатович снарядил в Александровскую слободу гонца.
Грозный сидел с советниками за убогим столом и, надрываясь от хохота, слушал весть.
На звоннице заблаговестили к вечерне.
Иоанн поднялся и с глубоким чувством перекрестился. За ним вскочили остальные.
– Звон-то сколь сладостен, великой боже мой! – выдохнул елейно царь. – Воистину велелепен Бог-Господь!
И, направляясь к двери, обратился к гонцу:
– Наказывав аз Симеону любезному без малого колпак. – Он подмигнул и захватил нижней губой в рот усы. – А ежели недохват, – поглазел бы…
Его давил смех. Ряса на спине то собиралась глубокими бороздами, то расправлялась, упруго облегая выдавшиеся ключицы. Распущенные полы колыхались, как на ветру. Это делало царя похожим на черную, чудовищную птицу, приготовившуюся схватить еще не видную, но сладострастно щекочущую уже обоняние, верную добычу.
– …поглазел бы… в постельках… у боярынь… ге-ге-ге-ге. У боярынь да у боярышень, у горлиц, в ангельских постельках… ге-ге-ге-ге!
* * *
Каждый день Иоанн выслушивал гонцов и веселел.
Бояре негодовали. Видывали они от Грозного позоры; но – чтобы в светлицы, к их женам и дочерям, врывались смерды да обыскивали по постелям, – не бывало николи!
И все чаще слышалось в хоромах господарских:
– Краше, коль туда идет, поношения терпеть от природного царя, нежели выносить издеву от татарвы крещеной!
А Симеон, что ни день, получал из слободы грамоту за грамотой и выдавал их земщине как свою волю.
Зачастили в слободу князья-бояре, вели осторожную беседу с царем, били челом на Касимовского хана.
Потчевал Грозный родовитых гостей студеной водой да лепешками просяными, густо посоленными, мирские речи сводил на Священное Писание, смиренно вздыхал и все больше стоял на коленях на каменных плитах, перед вывезенным из Москвы любимым оплечным образом Володимира равноапостольного.
* * *
Стоном стонала Русия:
– Антихрист пришел! Свету преставление! Остатние дни перед Страшным судищем!
Верные людишки царевы поднимали народ:
– Волим собора! Челом бьем Иоанну Васильевичу! Самодержавству его начало от святого Володимира! Он родился на царство, а не чужое похитил!
И игумены, и архиереи, и все духовенство, от высшего сана до крайнего, поклонились в пояс вотчинникам-боярам.
– Волим собора! Не было того на Русии, чтобы дарственные – злодейскою дланью у монастырей отбирать! Не было того, чтобы, как ныне, точно ворог лихой, басурмен Симеон из храмов Господних вывозил злато, серебро и самоцветные каменья бесценные!
А Иоанн заперся в своей келье и никого не допускал к себе.
Колымаги с ризами золотыми и каменьями жертвованными, с казной, завещанной благочестивыми радетелями веры во спасение душ своих и в вечный живот, двигались по ухабам и колдобинам русийских дорог, к крепким хранилищам царевой казны.
И, когда шепнул Фуников, что прибрана к месту остатняя колымага, – царь показал милость боярам, дожидавшимся его многие дни с челобитною.
Желтый, как солнце в северы, согнутый и отощавший от долгих постов, слушал царь грамоту Бекбулатовича о том, что отбирает он дарственные, коими володеют все монастыри русийские.
Вдруг он разодрал на себе рясу иеромонашью и, точно преследуемый призраками, убежал.
Трое суток никто не видел царя. Лишь Фуников приходил по ночам потайным ходом для совещаний.
Но совещания были скорее похожи на спокойные собеседования, чем на строгое обдумывание дальнейшего, так как главное было выполнено с успехом, превзошедшим все ожидания.
В слободе же было положено великое постничанье, и неумолчно, как в Страстную седьмицу, надрывно плакали колокола.
На четвертые сутки, после утомительной службы великопостной, пошел царь саньми на Москву.
Красная площадь была до отказа забита народом.
В изодранной рясе, немощно опираясь на посох, вышел на площадь Грозный. Он собрался что-то сказать, но, вместо слов, из груди вырвались жуткое всхлипыванье и стоны. Безысходная скорбь, беспросветность лютого одиночества, непереносимая обида и вселенская туга были в этих стенаниях.
Вцепившись в свои волосы, царь повалился наземь и зарыдал.
Вздрогнула площадь.
Там и здесь сдушенно заплакали люди.
В дальнем конце, колотясь головою о камни, выл Фуников. От него не отставали голосистые Малюта, Григорий Грязной, Вяземской-князь и какие-то люди в убогих монашеских одеяниях.
Собрав всю силу воли, Иоанн подавил рыдания и исступленно застучал в грудь кулаком.
– Сетовали! Печаловались! Лют аз, Господом данный вам государь! Уразумели ныне, како столу московскому быти без Иоанна! Каково стадо без пастыря! Обители святые лихой татарин ограбил!
Он проникался глубокою верою в то, о чем говорил. Ему уже в самом деле начинало казаться, что все происшедшее – затея не его и советников, а доподлинное дело рук Бекбулатовича.
– Сиротинушка моя плачет! Московская земля родимая плачет!..
На утро преданными холопями Иоанновыми был созван собор.
Иные бояре попробовали посетовать Челяднину, Борису и объезжему голове:
– Гоже ли безо сроку? Помешкать бы да сдождаться из дальних вотчин бояр.
Но Борис промолчал, а Челяднин в ужасе заткнул пальцами уши.
– Домешкаемся, покель царь в слободу уйдет и постриг мнишеский примет.
На соборе были дворяне московские, дети боярские, жильцы да горсточка земщины.
Решил собор бить челом Иоанну Васильевичу, чтобы показал он милость и вернулся на дедовский стол.
Грозный грустно выслушал соборную волю, поклонился на все четыре стороны, двумя пальцами проникновенно ткнул в лоб, грудь и в плечи и, помолясь, могуче крикнул вдруг:
– Не пойду! Не пойду, ежели с израдою нету мне воли расправиться! – Он поднял руки и застыл, впившись прищуренными глазами в серое небо. – Кой аз царь, коли всюду израда?!
И сразу, со всех сторон, откликнулись приставленные Фуниковым и Грязным людишки:
– Кой царь, коли всюду израда?! Пусть володеет нами, како Бог его просветит, а не како земщина крамольная ищет! И да будет глагол его на земли, яко глагол Господень на небеси! Да не оставит государь государство и нас не оставит на расхищение волкам!
* * *
Позднею ночью вызвал Иоанн всех советников в опочивальню кремлевскую.
– Добро послужили, холопи мои, своему государю!
Фуников зарделся и устремил ввысь ясный свой взор.
– И не токмо что, а и живот положим по единому глаголу твоему, царь!
И за ним, отвесив земной поклон, нежным эхом все отозвались:
– Живот положим по единому глаголу твоему, царь!
Грозный склонился над описью монастырей. Отметив крестиками те обители, в которых скопилось много богатств, он натруженно разогнулся и сладко зевнул.
– Утресь, Борис, пускай Висковатой под твой подсказ грамоту пишет. Отдает, дескать, царь и великой князь дарственные. Да зри: кой монастырь убогой – не токмо верни добро, а и прикинь ему от щедрот моих землицы с угодьями. – И, подмигнув игриво, ткнул в опись пальцем. – А сии, что со крестами, погодим отдавать. И в нашей казне найдется место для злата. – Он притопнул ногой и заложил руки в бока. – И на ливонской поход и на торг через Обдорские и Кондинские земли с агличанкой, поди, наберется. Славны да богаты монастыри русийские!
Нагоревший фитилек лампады скорежился и зашипел. Грозный вскочил и, оправив фитилек, перекрестился.
Вяземский отвесил поклон.
– Дозволь молвить, царь!
– Молви.
– Еще для извода крамолы учинить бы надобно ныне, како ты замыслил и како на соборе народ челом тебе бил, – особных людей.
Клин бороды Грозного напыженно оттопырился.
– Божиим просветлением волю аз оказать милость земле своей: быти при мне от сего дни опричным людям.
Борис вставил:
– А вотчинников, которым не быть в опричнине, повелел бы ты из всех городов вывезти и подавати им землю в иных городах.
Его горячо поддержал Челяднин:
– Сам аз высокородной и доподлинно ведаю: убоги бояре. Все могутство их – в вотчинах, а денег имут малую толику. Поразгонишь их с вотчин, абие захиреют.
– Добро! – подтвердил Иоанн. – Добро, советники мои велемудрые! – Он щелкнул себя по лбу. – Эка ведь про татарина позабыл! За службу за верную жалую его с моего плеча шубою росомашьей!
И, сквозь хриплый смешок:
– Гонцы-то поскакали благовестить про то, что тружусь аз изрядно, в святынях монастырских разбираючись, дабы обернуть обителям достояния?
Грязной склонил голову.
– Поскакали, мой государь!
– А поскакали – добро! Аз же с устатку шутов волю да хмельного вина! Эй, скоморохи, жалуйте в машкерах! Потешьте холопей моих! Пей-гуляй до зари!
Глава четырнадцатая
Получив жалованную грамоту от царя, Василий собрался на Москву.
За несколько дней до его отъезда, по губе разнесся слух о скором возвращении в вотчину из похода князя Ушатова.
Розмысл заторопился. Ондреич упрашивал его дождаться князя и встретить по чести.
– Проведает боярин, что не восхотел ты поклониться ему, – прогневается.
Но Выводков не слушал подьячего и упрямо настаивал на своем.
Уже отряд готов был покинуть вотчину, как прискакал с грамотой староста из губы.
– Царь и великой князь пожаловал князь Ушатова грамотой. А в тоей грамоте сказывает премилостиво: «За тое дела бранные, князюшко, жалую аз тебя гостем, Василием Григорьевичем Выводковым».
Василию пришлось остаться в усадьбе.
За сутки до приезда господаря высыпали все деревеньки и починки его с хлебом-солью далеко в поле.
Князь стройно сидел на коне, покрытом блестящей сбруей. Седло горело золотою парчой, и ослепительно сиял жемчуг на шелковой бахроме золотого уздечка. На боярине была булатная броня из стали; сверх брони – кафтан из зеленой парчи с опушкой горностаевой. На голове высился шлем; сбоку мягко перекликались меч, луки и стрелы. Рука крепко сжимала копье с нарукавником.
Впереди на аргамаке везли шестопер[54]. За Ушатовым тряслись смертельно усталые, покрытые густым слоем грязи, ратники с колчанами и стрелами под правой рукой. На левом боку болтались луки и меч. У иных лошадей были привешены сбоку сумы с кинжалами и дротики. Нестройными рядами, заросшие до глаз грязью, шагали стрельцы. Ветер трепал изодранные лохмотья одежды, обнажая у многих непромытые, кровоточащие раны.
Далеко перед усадьбой старшие всадники подхватили с седел медные барабаны.
В воздухе гулко просыпался мелкий горошек барабанного боя.
Холопи упали ниц.
Ушатов сдержал коня и медленно проехал к хоромам, милостиво кивая людишкам.
На крыльце стояли дети боярские и Василий.
– Добро пожаловать, господарь, – хором протянули они и поклонились.
Едва ответив на поклон, князь вразвалку пошел в хоромы.
– Одначе не ласков с худородными воевода, – насмешливо скривил губы Выводков.
Остальные сочувственно поглядели на него и о чем-то зашептались вполголоса.
– Не сдожидаться же нам, покель боярин повыгонит нас со двора, – зло объявили они тиуну. – Авось после роздыху спошлет за нами.
И ушли в деревеньку.
* * *
Спекулатари и подьячие сбились с ног, добывая добавочные оброки на устройство пира Ушатовым.
А князь решил так отпраздновать свое возвращение, чтобы всем соседям не позабыть того пира до скончания живота.
Посадские и городские людишки, крадучись, зарывали добро свое в землю, – знали, что на холопьи достатки широко не разгуляться боярину.
Ушатов сам ходил по амбарам и злобно ругался:
– В кои веки не можете угодить господарю! Псы!
На дворе с утра до ночи толпились согнанные для наказания холопи.
Под ударами батогов, они ползли на коленях перед катами, клялись, что отдали все.
– Посады богаты! – ревел Ушатов. – В посадах похлопочите для господаря!
– Забьют! Обетовались стрелами потчевать.
– Секи! До единого!
И когда согнали людишек и в первую очередь подняли на дыбы детей, староста объявил, что мир согласен идти за добычей на посады и город.
Точно орды татарские прошли по губе. Полыхали пожары, свистели стрелы, и небывалыми стаями дятлов токали беспрерывные выстрелы.
Холопи рвались в огонь, грабили все, что попадалось под руку, шли, не задумываясь, на верную смерть.
Стоило ли думать о животе, когда возвращение в вотчину без добычи сулило ту же лютую смерть?
* * *
Ушатов, послушный царевой грамоте, скрепя сердце пригласил на пир Василия с его отрядом.
Прямо из церкви хозяин прискакал в усадьбу и, остановившись у крыльца, с поклонами пригласил в трапезную своих соседей-бояр.
Последними вошли Выводков и боярские дети.
– Показали бы милость, присели бы, – развязно предложил розмысл товарищам и шлепнулся на лавку рядом с Горенским.
Князь негодующе вскочил. За ним тотчас же поднялись другие бояре.
– Кто сей безродной? Аль вместно тебе с ним, хозяин, за одним столом пировать?
Выводков облокотился на стол и, взглянув через плечо на Горенского, спокойно бросил:
– Аз – дворянин, Василий Григорьевич Выводков, розмысл царя Иоанна Четвертого Васильевича.
И, властно:
– Кланяйтесь имени государеву! Вы-ы!
Ушатов, едва сдерживаясь, подошел к Выводкову.
– Не чмути!.. Пожалуй гостей моих милостью. Сядь с людишками своими за сей вон стол.
Дети боярские, довольные своим начальником, не двинулись с места.
Один из них налил корец вина.
– Пей, други, за розмысла царя Иоанна!
Ушатов беспомощно развел руками и, склонившись к уху Горенского, о чем-то умоляюще зашептал.
– Для тебя токмо, Михеич, – жертвенно выдохнул гость и сел рядом с Выводковым. За ним угрюмо заняли свои места остальные.
Хозяин, немного успокоенный, поднял кубок:
– За земщину преславную, коей держится во все роды земля московская.
Розмысл взялся было за кубок, но тотчас же сердито отставил его.
Горенской ехидно хихикнул:
– Аль не солодко вино за господареву честь?
– А не ведомо тебе, князь-боярин, что ни едино вино не солодко, коли пьешь его поперед здравицы государю преславному?! – запальчиво брызнул слюной в лицо соседу Василий. И, поднявшись, гордо запрокинул голову. – За царя и великого князя всея Русии – за него, примолвляющего и малого и великого, не по племени-роду, а за службу за верную!
Все молча осушили ковши.
Не обращая внимания на бояр, отряд усердно потчевался вином и яствами. Два десятка рук то и дело тянулись через столы за закусками.
Василий, возбужденный недавнею перебранкою, быстро захмелел, но не отставал от других и продолжал пить, каждый раз чокаясь с кубком Горенского.
Наконец, он не перенес упорного молчания соседа.
– Ты вот, боярин… доподлинно… И ума, сказывают, у тебя палата. А аз смерд… И, выходит, должен ты уразуметь…
Князь вкусно глодал свиной хрящ, посмотрел куда-то в сторону. Выводков облизал промаслившиеся пальцы свои и обнял боярина.
Ушатов топнул ногой.
– Не займай!
Выплюнув на стол изжеванный хрящ, Горенской резко оттолкнул розмысла.
– Отпустил бы ты нас, Михеич. Не то не стерпеть издевы от смерда!
Дети боярские одобряюще поглядывали на товарища и, предвкушая свар, потирали довольно руки:
– Кой ты смерд, коли «вичем» пожалован?! Неужто спустишь обидчику?!
Василий встал и сжал в кулаке тяжелый кубок.
– Со смердом невместно тебе?! А вместно ли хлебом да вином смердовым потчеваться?!
Подмывающею волной подкатывались к груди и туманили рассудок хмель и ненависть.
– Нечистый его устами глаголет, – испуганно перекрестился Горенской.
Бояре шумно вышли из-за стола.
– Спаси тебя бог, Михеич, а мы ужо в другойцы к тебе пожалуем!
Василий не унимался:
– Не люба правда-то? Вкусен, зрю аз, хлеб холопий?!
– Умолкни! – пронзительно взвизгнул Ушатов. – Иль впрямь пришел на Русию антихрист?! Иль впрямь терпети безгласно нам, како смерд поносит господарей?
Не помня себя, он схватил со стола корец и замахнулся на обидчика.
Выводков слегка пригнулся и, изловчившись, размозжил братиной череп Ушатову.
– Вот же тебе жалованье от смерда!
* * *
Вдова Ушатова, остриженная, по обычаю, в знак печали по умершем муже, стояла перед всхлипывающим сынишкой и нежно утешала его:
– Ты, Лексаша, не плачь. Свободил нас Господь от батюшки твоего – на то его воля. – Она подняла мальчика на руки и благодарно взглянула на образ. – Будем мы ныне с тобой, Лексаша, яко те птицы небесные. Ни сечь нас некому стало, ни в терему под запором держать.
Лексаша встряхнул каштановой головкой и вытер кулачком слезы.
– А на злодея того пустишь меня поглазеть?
– Како на дыбу погонят его, – поглазеешь.
– На дыбу? – Мальчик восхищенно обвил ручонкой материнскую шею.
– И не токмо на дыбу его, окаянного, а и в огне пожгут душегуба!
Сорвавшись с рук, Лексаша закружился по терему.
Боярыня строго погрозилась:
– Грех. Не веселью ныне положено быть, а туге превеликой.
Из дальнего терема, монотонно, точно шмелиное жужжание, доносился голос монаха, пожевывавшего псалтырь.
Поглядевшись в проржавленный листок жести, Ушатова мазнула себя по лицу белилами, угольком подвела брови и пошла к покойнику.
В тереме, у дубового гроба, стояли соседние вотчинники. На дворе, согнанные тиуном, голосисто ревели бабы.
Безучастно вперившись в изуродованный лоб Ушатова, жужжал под нос монах.
Когда пришло время выносить гроб и иерей сунул в губы покойника три алтына на издержки в дальней дороге к раю, вдова вдруг повалилась на пол и запричитала:
– Не спокидай! Пошто гневаешься на мя, сиротинушку?! Аль не добра аз была?! Детей мало тебе народила?!
Плакальщицы дружно подхватили причитания и дико завыли на всю усадьбу.
Лексаша с любопытством следил за матерью и, наконец, не выдержав, ткнулся в ее ухо губами:
– Ты пошто исщипалась?
– Уйди! – оттолкнула его Ушатова и еще с большей силой незаметно царапнула себя по груди, чтобы как-нибудь вызвать слезы на предательски сияющих глазах.
* * *
Закованный в железы, больше месяца томился в темнице Василий. Пройденная жизнь казалась ему тяжелым, ненужным сном, от которого не только не страшно, но радостно пробудиться в черное небытие.
Лишь воспоминания об Ивашке вызывали в нем жестокие страдания и жажду жизни.
«Грянуть бы в Дикое поле да вырвать сироту из неволи!» – вспыхивало вдруг жгучим огнем в мозгу и заливало все существо негодованием.
Еще вспоминались в иные минуты мастерская в Кремле, груды незаконченных чертежей, наброски особного двора, который хотел он поставить для Иоанна, и долгие беседы с учителем-немцем.
Но все это казалось таким далеким, что походило скорее на сон, чем на явь, и потому не вызывало ни радости ни тоски.
За Выводковым пришли неожиданно среди ночи.
«Пытать», – сообразил узник и зло ощерился на дозорного.
Вдруг багряный свет факела озарил вынырнувшего из мрака Ондреича.
– Воля, Василий!
Розмысл обмер от неожиданности, но тут же с горечью поглядел на подьячего.
– И ты измываешься! Аль и впрямь не бывает другов у человека?
Ондреич не ответил и спрятался за спину дозорного.
Узника привели к окольничему и там объявили:
– Царь прознал от подьячего Ондреича, что князь-бояре окстили времена нынешние царством антихриста. А и зело возвеселился преславной царь, егда прознал, како взыграло сердце твое лютым гневом противу тех господарей. И пожаловал тебя государь волею да царским челомканьем.
Окольничий откашлялся, вытер насухо рукавом губы и троекратно облобызал Василия.
– А и наказал тебе, Василий Григорьевич (он особенно подчеркнул «вич»), преславной государь со всеми тако творить, кои возмутятся дням новым!
И, с низким поклоном:
– А еще волит царь спослать тебя к тому князь-боярину Горенскому опрос чинить нелицеприятный.
С первыми лучами солнца Выводков поскакал в вотчину Горенского.
Князь заперся в хоромах и не допустил к себе розмысла.
Стрельцы осадили усадьбу.
– Не пустишь – зелейную казну подведу под хоромины, – пригрозил Василий через тиуна.
Горенской выслал розмыслу песью голову и метлу.
– Слыхивали мы: тем жалованьем пожаловал царь псов кромешных своих, а и господарь мой тебе, псу, тое же жалованье пожаловал, – поклонился в пояс тиун.
Пушкари поскакали за зелейной казной.
Когда подкоп был готов, розмысл в последний раз предложил осажденному сдаться. Не дождавшись ответа, он разогнал из усадьбы холопей и взорвал хоромы.
Запыхавшийся тиун нашел Василия в ближайшей деревеньке и раболепно упал ему в ноги.
– Сбег! Подземельем ушел князь-боярин!
Стрельцы и ратники обложили лес.
Горенского нашли в яме под кучей листьев и хвороста.
– А не пожалуешь ли ответ держать по опросу? – помахал розмысл плетью перед перекошенным лицом пойманного.
– Не ответчики бояре перед псами смердящими!
Прежде чем Василий успел что-либо сообразить, один из отряда полоснул князя ножом по горлу.
В тот же день отряд двинулся в путь, на Москву. Впереди поскакал гонец с докладом царю о суде над Горенским.
Не доезжая Мурома, Выводкова встретил дьяк Висковатый.
– Поклон тебе от всех опришных людей. – И, поклонившись, торжественно поднял руку. – А учинити у себя государю в опришнине едину тысящу детей боярских, дворян, дворовых и городовых, лутших слуг, и помествя им подавал в тех городах, которые города поимал в опришнину, не далее, како на семьдесят верст от Москвы. А вотчинников и помещиков, которым не быти в опришнине, велел из тех городов вывезти и подавати им землю в иных городах. А теми же милостями, что и тыщу человек, наградил еще царь двадцать восемь бояр да колико окольничих. А вкупе тех опришных людей – одна тыща семьдесят восемь.
Он передохнул и, подражая возгласу архидиаконскому, провозгласил:
– А в тех списках опришных записано моею дланью: и розмысл царя Иоанна Васильевича – Василий Григорьевич, дворянин московской, Выводков!
Ондреич исподлобья поглядывал на друга и смахивал рукавом набегавшие на глаза умильные слезы.
– Дозволь и мне облобызать тебя, друг, – принял он в свои объятия Выводкова, едва замолчал дьяк.
Растроганный розмысл горячо поцеловал Ондреича.
– Не ты бы, клевали б ныне меня лихие вороны. Друг ты мне до скончания живота.
Висковатый вскочил на коня.
– Аз на Москву, а ты, Григорьевич, с сим пушкарем путь держи на усадьбу свою. А пир отпируешь, обрядись по чину опришному и жалуй к царю. Тако волит преславной!
Глава пятнадцатая
Собрав своих холопей, Василий разделил всю землю по душам и ускакал на Москву.
Людишки повесили головы.
– Замыслил господарь потеху нам на погибель. Не миновать, лиху быть!
Однако они принялись усердно за полевые работы.
С первых же дней их поразило то, что спекулатари не только не дерутся, но и не бранятся. Такое отношение людей, приставляемых исключительно для расправы, повергло их еще в большее уныние и заставило опасливо насторожиться.
– То неспроста! Ужо придумал розмысл забавушку на нашу кручину!
Временами Выводков наезжал в свое поместье. По привычке деревенька встречала его хлебом-солью и земными поклонами.
Василий возмущался, сам отвешивал поклон за поклоном и не знал куда девать себя от стыда.
Староста собирал под открытым небом сход и докладывал о работах.
– Не забижают ли людишек спекулатари? – не слушая старосту, допытывался опричник.
Холопи многозначительно переглядывались и падали в ноги.
– Потешился, и будет. Заставь Бога молить, – поведи, како в иных поместьях ведется.
Ничего не понимающий розмысл начинал сердиться.
Староста отгонял грозно толпу и стремился припасть к господаревой руке.
– Измаялись людишки-то, милостивец! Нешто слыхано слыхом, чтоб спекулатари смердов не секли да на дыбы не вздергивали. Все, сдается, не затеял ли ты иного чего, больно ласково примолвляючи споначалу!
Розмысл срывал с головы шапку и истово крестился.
– Перед Богом обетованье даю! Како маненько справитесь да окрепнете, волю дам со землей и угодьями! – И, точно оправдываясь: – Нешто татарин аз некрещеный, а либо князь-государь, что веры мне нету? Можно ли мне, рубленнику-бобылю, замышлять противу холопей?
* * *
Прошла страда. Крестьяне сложили хлеб на наделах своих и решительно объявили тиуну:
– Покель не узрим господаря, зерна в клеть не утянем. Краше голодом живот уморить, нежели сдожидаться денно и нощно, каку казнь уготовит нам господарь за тое прокормленье!
Тиун поскакал на Москву. Он застал розмысла на постройке особного двора.
Двор ставили за рекою Неглинкою, на расстоянии пищального выстрела от Кремля, на месте, где до того высились хоромы бояр.
Когда Выводков объявил, что сносит усадьбу, возмущенные вотчинники пошли с челобитной к царю.
Иоанн не принял их и передал через Скуратова:
– Сказывал государь послу в иноземщине и вам тое же сказывает: ставится двор для государева прохладу. А волен царь: где похощет дворы и хоромины ставить, тут ставит. От кого-ся государю отделивати?
Василий возводил особный двор по плану, составленному еще у Замятни и исправленному с помощью Генриха.
Толкавшиеся у постройки ротозеи вначале благосклонно относились к затеям розмысла, но, когда их ослепили переливающиеся на солнце зеркальные глаза львов, они в страхе побежали к митрополичьим покоям.
– Стрелы сатанинские мечет тот выдумщик! Защити крестом нас, многомилостивый владыко.
Филипп вышел к народу и благословил его.
– Дал аз, чада мои, обетованье царю не вступаться в опришнину. Како творят, тако смиренно претерпевайте.
И, не сдерживаясь:
– Бог зрит неправду и всем воздаст по делом.
Он торопливо ушел, чтобы не сказать большего. Его натура возмущалась и требовала открытого обличения царевых дел. Но до поры до времени митрополит терпел, втайне оплакивая своих братьев по высокому роду, бояр, и проклинал ненавистных опричников.
Зеваки, огражденные от скверны митрополичьим крестом, продолжали ходить вокруг особного двора и исподтишка поглядывать на розмыслово умельство.
Один из львов, с раздавшейся пастью и свирепым взглядом, по плану Выводкова был поставлен лицом к земщине, а другой, умильно сморщившись, глядел на двор. Черный орел с распростертыми крыльями, укрепленный между львами, казалось, готов был сорваться с жерди и ринуться в смертный бой с земщиной.
Для доступа солнца и воздуха, на протяжении хором и клети стена была понижена на шесть пядей.
Перед хоромами был поставлен погреб, полный больших кругов воска. Особную площадь царя засыпали в локоть вышины белоснежным песком.
У полуденных ворот, очень узких, через которые можно было проехать только одному верховому, построили все приказы. Здесь же предполагалось править казну с должников.
Василий не принял тиуна и приказал ему прийти к концу дня. Холоп, чтобы убить время, пошел бродить по Москве.
Дебелою бабою, нескладною и простоволосою, раскинулся древний русийский стольный град. На изрытом оспой, рыхлом теле широких улиц похрюкивали, утопая в грязи, сонные свиньи и расплющенными родинками, разделенными коричневым загаром дворов, лепились низенькие избенки. Расписным изодранным сарафаном там и здесь торчали светлые клочья садов, и уродливыми кокошниками, принесенными в дар незатейливыми вздыхателями, корежились у ног взбухшего брюха и рыхлых грудей – хоромы бояр.
Откуда-то вынырнула вдруг тощая кляча, осторожно переступила через застоявшуюся лужу и, обнюхав воздух, застучала раздумчиво по проложенным вдоль улицы деревянным мосткам.
Тиун, дойдя до отписанного в опричнину Арбата, наткнулся на небольшую кучку людей, обступившую юродивого.
– Горе нам! Горе нам! Горе нам! – грозно вещал блаженный. – Покаяния двери отверзлись! Настал канун судища Христова!
Толпа быстро росла, забивая дороги.
Заросший грязью, нагой, с лохматыми космами выцветших от непогоды волос, блаженный наступал на людей, с каждым мгновением все более распаляясь, нагоняя на всех суеверный ужас.
Увидев скачущего опричника, нагой плашмя упал наземь. Всадник едва сдержал коня.
– Кровь! На тебе и на семени твоем кровь! – визжал, барахтаясь в грязи, блаженный.
Вдруг из-за угла рванулся полный смертельного отчаяния крик.
Народ в смятении бросился наутек.
Пробивая локтями дорогу, по улице семенил какой-то ветхий старик.
– Изыди! – ткнул он пальцем в сторону юродивого и, поплевав на ладонь, пошлепал ею по голой своей голове.
– А вы (старик поднял перед толпой благословляющую руку)… да пребудете в благодати дара Духа Святаго и в любви к помазаннику его, царю моему, Иоаннушке.
И, собрав в тихую улыбку сеть лучиков на желтом лице, поклонился людишкам.
Юродивый стоял, закрыв глаза, и шептал про себя молитву.
Опричник достал горсть денег. Мальчик, сопутствующий старцу, немедленно подставил суму.
Безногий ученик юродивого завистливо отвернулся, трижды сплюнул и неожиданно затянул прозрачным, как дымка предутреннего тумана над Кремлем, голосом:
– Блажен муж, иже не идет на совет нечестивых и на пути грешных не ста.
Пальцы блаженного переплелись. Чуть приоткрывшиеся глаза гневно впились в опричника.
– Истина! Истина! Истина! Блажен муж, не внемлющий иосифлянской ереси!
Притихшая толпа благоговейно следила за разгоравшимся спором между двумя юродивыми.
– Молитесь, людие, об убиенных болярах! Молитесь о спасении души царевой, совращенной нечистым!
Юродивый кивнул в сторону старика.
– Да просветит Господь тебя, Большой Колпак, и да обратит тебя на пути истины!
Большой Колпак гордо выпрямился.
– Братие!
Говорливая группа опричников, спешившая к спорщикам, остановилась на полупути.
– Внемлите, братие! – Старик сияющим взглядом обвел народ. – И бысть, – в смятении духа явился к царю ангел Господень. И посла царя послушати откровения. И, не ища путей, пришед Иоанн в келью велемудрого и благочестивого Вассиана. И рече Вассиан, не слушая гласа царева, но внемля гласу, кой свыше есть исходяяй: «Аще хощеши, о, Иоанне преславной, самодержцем быти, не держи себе советника ни единого мудрейшего себя: понеже сам еси всех лутше; тако будеши тверд на царстве и все имати будеши в руцех своих. Аще будеши имать мудрейших близу себя, по нужде будеши послушен им». И поверг ангел Господень Иоанна к стопам благочестивого Вассиана и тако повелел глаголати: «О, муж всехвальной! Аще и отец был бы жив, такого глагола полезного не поведал бы ми».
Юродивый, до того как будто не обращавший внимания на слова Колпака, вдруг затопал ногами.
– Удур! Ересь Иосифлянская! То не ангела Божия наущенье, а хула на мудрых советников, господарей, коими искони держалась земля русийская!
Он приготовился наброситься на подошедших ближе опричников, но его прервали громовые возгласы:
– Царь! Дорогу царю!
На звоннице весело загомонили колокола.
– Дорогу преславному! Бум-бум-бум-бум! Царь! Бум-бум-бум-бум! Царь! Царь!
Едва Иоанн поравнялся с блаженными, Большой Колпак с глубокою верою воздел к небу руки.
– Благодарение, и хвала, и слава тебе, вседержителю!
И со слезами:
– Яко удостоил еси мя, грешного, зрети государя моего, царя и великого князя!
Юродивый отвернулся.
Грозный не зло окликнул его:
– Чмутишь, Василий?
– Кровь! Руки твои в крови! – всхлипнул Василий и торопливо ушел. За ним, отплевываясь, пополз безногий его ученик.
Радостно и гулливо перекликались колокола. Переряженные приказные сновали в толпе и тыкали руками в сторону улепетывавшего юродивого.
– Глазейте! Яко исчезает дым от лица огня, тако да бежит еретик от очей государевых!
Но блаженный прервал спор не из страха перед царем. Его смутил прискакавший отряд опричников, среди которого одно лицо показалось ему странно-знакомым.
Опричник, в свою очередь, внимательно вгляделся в блаженного.
– Погоди… стой!.. погоди…
В мозгу пробудились неожиданно воспоминания о давно прошедших днях.
– Ты чего призадумался, розмысл? – окликнул опричника царь.
– Прости, государь. Токмо… стой… погоди…
Перед глазами мелькнул образ боярина Симеона, пылающая в огне усадьба, землянки в лесу.
– Эй, ты, юродивой!
И, пришпорив коня, розмысл наскочил на блаженного.
– Вот где бог привел встретиться, казначей наш, Тешата!
Постукивая посохом по грязным доскам мостков, к Выводкову любопытно спешил Иоанн.
Безногий попытался замешаться в толпе, но стрельцы, по знаку царя, схватили его.
Розмысл изо всех сил держал юродивого за руку.
– Эка пригода, преславной! Блаженный то, а и не блаженный, а вор премерзкой.
Склонившись перед повеселевшим царем, Выводков рассказал все, что знал о Тешате.
* * *
В застенке Выводков самолично чинил опрос Тешате и безногому.
– А сказывают люди, хоронишь ты под камнем в лесу казну могутную?
Сын боярский перекрестился.
– Явился мне в видении святой Зосима. И како навычен бе, тако и сотворил.
Безногий закатил глаза и вздохнул.
– И сотворим мы о том месте, в коем было видение юродивому, храм во имя святого Зосимы.
Розмысл кивнул кату. Раскаленная игла впилась в плечо безногого.
– В око ему, окаянному!
Безногий вцепился в руку ката.
– Все обскажу! Помилуй! Все обскажу!
В бессильной злобе Тешата рванул на себе железы и угрожающе взглянул на товарища.
Каты бросили юродивого на лавку, утыканную шипами.
– Сказывай, казначей, куда с казной нашей сбег и како тешился во юродстве? – с ехидным смешком спросил Выводков. – Сказывай, покель язык при тебе.
Теряя сознание от невыносимой боли, сын боярский пропустил сквозь судорожно стиснутые зубы:
– Поплевины, Шеины да Тучковы…
Подьячий с наслаждением обмакнул в чернила перо.
– По-пле-ви-ны, Ше-и-ны да Туч-ко-вы, – смачно шептал он в лад поскрипывающему перу.
– Все обскажу! – взвыл Тешата, обрывая показания. – Токмо повели сволочить меня с лавки.
И, истекая кровью, на полу:
– Бояре те сбили меня. Чмутить народ православный противу царя. А аз… не для себя… для Бога… хаживал середь народа того.
* * *
Отряд опричников свирепствовал в вотчинах оговоренных бояр. Перед отправкой к Поплевину, Грозный, между прочим, шепнул Василию:
– Свободи от себя высокородного. Сказывал он на опросе: люба ему и смерть, токмо бы не от смерда.
Расправившись с князьями, Выводков поскакал в свое поместье.
Невеселая дорога расстилалась перед его глазами. Всюду стояли, точно запущенные кладбища, полузаброшенные деревеньки; страшными призраками голода нивесть куда тянулись с убогим скарбом своим людишки; на свалках шли смертные побоища из-за куска падали; то и дело встречались отбившиеся от родителей дети, и говорливыми тучами кружилось над трупами воронье.
Недалеко от своей усадьбы Выводков остановился у знакомого служилого передохнуть.
Хозяин вышел на крыльцо, но не пригласил гостя в избу.
– Вместно ли тебе будет у дворянина сиживать?
Опричник не понял.
– Слух идет, Григорьевич, будто холопи, по-твоему, больши дворян.
Выводков пожал недовольно плечами.
– Не больши… а, одначе, по то и затеял царь свару с боярами, чтоб холопей примолвить.
Служилый презрительно ухмыльнулся.
– Выходит, царь тот – холопий печальник?
Василий вскочил на коня и, не простившись, умчался.
Угрюмой толпой высыпали людишки встречать господаря.
– Лихо, Василий Григорьевич, сробили суседи с холопями, – опасливо доложил староста и вдруг погрозился злобно в сторону соседней усадьбы. – Понаскакали людишки да взяли разбоем весь хлеб, опричь твоей доли.
Василий, не отдохнув, поскакал на Москву.
Малюта проводил его в трапезную царя.
– Рассудил, розмысл, Поплевиных с Шеиными?
– Рассудил, государь.
Иоанн надкусил ломоть хлеба и передал его Выводкову.
Опричник упал в ноги.
– Бью челом тебе на великой твоей милости, царь!
И, послушный приказу, скромненько присел на край лавки.
– А сдается мне, закручинился будто ты, Васька, – подозрительно покосился Грозный. – Али кто изобидел?
Борис сочувственно покачал головой.
– Любо ему, государь, дворы да крепости ставить. По то и томится, что оскорд ржой от безделья подернулся.
Царь допил вино, отставил ковш и обсосал усы.
– А и впрямь надобно бы робью тебя потешить!
Он сбил пальцем с бороды рыбные крошки, вытер о кафтан руку и сытно потянулся. Годунов что-то шепнул ему.
– А, почитай, и пора, – согласился Иоанн, добродушно взглянув на умельца. – Для прохладу поскачешь ты на Каму ставить город[55] противу татар.
Выводков припал к царевой руке.
– Дозволь челом бить, преславной!
– Посетуй, Григорьевич!
– Не любо мне на ту Каму идти!
– Пошто бы?
– Нешто гоже обороняться противу басурменов, коли нет обороны и под самой Москвой тем холопям от дьяков и помещиков?
Иоанн вскочил из-за стола.
– Ты?! Ты, смерд, царя обличаешь?! Ты, коего аз великой милостью из смрада подъял?! – Голос его задрожал и булькающими пузырьками рвался из горла. – Убрать! В железы! Пытать его! Пытать каленым железом!
Глава шестнадцатая
Царь с остервенением захлопнул крышку кованого сундука.
– Убого! Не токмо на рать – на прокорм недостатно!
Огарок сальной свечи задрожал в руке Иоанна, хило лизнув серые стены подземелья и темный ряд коробов.
Вяземский выдвинул ящик скрыни и достал горсть драгоценных камней.
Грозный приподнял плечи. Маленькие глаза его еще больше сузились, поблекли, и на орлином носу токающими муравьями проступили желтые жилки.
Он резко повернулся к Борису.
– По твоему подсказу обезмочела казна моя. Ты подбил жаловать льготами служилых людишек.
Годунов виновато молчал.
– Не дразни, Борис! Отвещай!
Беспомощно свесилась на грудь голова Годунова, а в ногах разлилась вдруг такая слабость, что пришлось, поправ обычай, в присутствии государя опереться о стену.
– Государь мой преславной! Сам волил ты нас поущать, что, покель верх басурменов, не можно холопей не примолвлять. Во всех странах еуропейских тако ведется. И то чмута идет по земле.
Опустившись на короб, Грозный ткнулся бородкой в кулак. С подволоки медленно спускался на невидной паутине паук. Пошарив по шапке царя, он раздумчиво приподнялся, повис на мгновение в воздухе и юркнул под ворот кафтана.
Грозный потихоньку поводил пальцем по затылку и, крякнув, раздавил паука.
Вяземский услужливо вытер царев палец о свой рукав.
Свеча догорала. Серые тени в углах бухли и оживали. Шуршащим шелком суетились на скрынях осмелевшие тараканы.
– К Новагороду бы добраться! – подумал вслух Иоанн.
Вяземский недоумевающе причмокнул.
– Повели, государь, и от того Новагорода не останется и камня на камне.
Царь зло отмахнулся:
– Не срок! Перво-наперво Литву одолеть да Ливонию вотчиной своей сотворить.
Он больно потер пальцами лоб и задумался. Затаив дыхание, перед ним склонились советники.
– Ведом ли вам гость торговой новагородской, Собакин?
– Могутный изо всех торговых гостей! – в один голос ответили Вяземский и Борис.
Иоанн зачертил посохом по каменным плитам пола.
– А что, ежели… – И, вскочив с неожиданной резвостью, прищелкнул весело пальцами. – Волю показать милость тому Собакину! Волю приять венец с дочерью его, Марфой Собакиной!
* * *
Дьяки, подьячие, старосты и служилые по прибору, стрельцы, казаки и пушкари с утра до ночи вещали на площадях:
– Радуйся и веселися, Русия! Царь брачуется с преславной Марфою!
Неумолчно ухали колокола.
Но перезвоны и благовествования не оживляли столицы и ни в ком не будили ни радости ни умиления.
Лютый мор, разгуливавший до того по стране, перекинулся наконец и на Москву. На окраинах он заразил уже воздух своим зловонным дыханием. С каждым днем все реже показывались люди на улицах, так как по приказу объезжего головы, всякого заболевшего немедленно отправляли в Разбойный приказ и там зарывали живьем в заготовленные заранее ямы.
Только блаженные продолжали по-прежнему смело расхаживать по городу и вести ожесточенные споры между собой и с опричниной.
– Горе вам, фарисеи! Разверзлась ныне вся преисподняя! Грядет час, егда взыщет Господь сто краты за души умученных!
– Радуйся и веселися, Русия! Царь брачуется с преславною Марфою! – заглушали блаженных царевы людишки.
– Третий брак – не в брак перед Господом! – надрывались смелые обличители.
С окраин мор перекинулся на избы торговых людей.
В городе появились усиленные отряды ратников и стрельцов. Сам Малюта дважды в день проверял рогатки и станы.
Но смерть, прорвавшись в город, вселила жуткую отвагу в живых. Отчаявшиеся люди, чуя неминуемую гибель, потеряли страх к соглядатаям и пищалям. Понемногу развязывались языки. Вначале неуверенный, ропот крепчал и ширился.
Позднею ночью, укутанный до глаз в медвежью шубу, из Кремля вышел Большой Колпак. Останавливавшим его дозорным он неохотно протягивал цедулу, скрепленную царевой печатью, и торопливо шел дальше.
В лесу блаженный сбросил шубу, завалил ее хворостом и немощно развалился на заиндевелой листве.
Вериги резали старческое тело, вызывая тупую боль. От стужи кожа на спине собралась гусиными бугорочками, и посинел, как у удавленника, затылок. Изредка Колпак соблазнительно поглядывал на хворост, под которым лежала шуба, но каждый раз гнал от себя искушение.
– Господи, не попусти! Защити, Володычица Пресвятая! – со страхом шептали губы, а непослушный взгляд тянулся настойчиво к хворосту.
Большой Колпак поднялся и ушел далеко в чащу. Он решил лучше замерзнуть, чем нарушить без нужды государственной свой обет и облачиться в одежды.
За долгие годы ни один человек не видел старика одетым. До глубокой осени расхаживал блаженный нагим, а к зиме уходил в свою одинокую келью-пещеру и там оставался до первой оттепели, пребывая в молитве и суровом посте.
Облюбовав берлогу, Колпак, кряхтя, забрался в нее и стал на колени.
Сквозь колючую шапку деревьев на него глядели изодранные лохмотья черного неба. Зябкий ветер, точно резвясь, трепал его сивую бороду и щедро серебрил ее инеем.
– Не для себя, Господи! Не для себя! – стукнул себя старик в грудь кулаком. – Не для себя! Не вмени же во грех нарушенное обетованье мое. Ради для помазанника твоего облачился аз в грешные одежды земли, презрев одежды светлые духа. Благослови, Господи Боже мой, меня на служение царю моему! И укрепи державу и силу и славу раба твоего Иоанна.
Так, в молитве, он незаметно забылся неспокойным, старческим сном…
Еще не брезжил рассвет, а блаженный уже был на торгу. Едва пригнувшись и вытянув шею, точно готовый нырнуть, стоял он средь площади.
Сходился народ, с любопытством следил за старцем, но никто не смел поклониться ему или испросить благословения, чтобы не нарушить святости единения блаженного с небом.
Вдруг Колпак вздрогнул и быстро, по-молодому, опустился на колени. Стаей вспугнутых черных птиц в воздухе взметнулись шапки и картузы, сорванные суеверной толпой с голов.
– Чада мои! – любовно собрал губы блаженный. – Мор-то… черная смерть: она, братие, всему причиною…
И почти бессвязным лепетом:
– Смерть та черная… басурмен черный-черный… а зверь, яко в Апокалипсисе. И рог – Вельзевулова опашь.
Толпа ничего не понимала.
– Вразуми, отец праведной. По грехом нашим не дано нам понять глаголов твоих.
Блаженный громко высморкался, вытер руку о бороду и с отеческим состраданием поглядел на людишек.
– Зверь-то от хана, от персюка, Тахмаси, в гостинец погибельной царю доставлен. Слон-от зверь из Апокалипсиса. А черный басурмен через зверя нагоняет смерть на православных.
Не успела толпа разобраться в словах юродивого, как вдруг в разных концах торга вспыхнули гневные крики:
– Секи! Секи их, нечистых!
Точно огонь, поднесенный к зелейной казне, слова эти оглушительным взрывом отозвались в сердцах людей.
– Секи их! Секи!
Слуги Грязного ринулись к улице, где жили араб со слоном. За ними всесокрушающей лавиной неслась нашедшая выход гневу и возмущению, одураченная толпа.
Араба застали на молитве.
– Секи!
В воздухе замелькали клочья одежды и окровавленные куски человечьего мяса.
К слону никто не решался ворваться первым. Но зверь сам пошел навстречу погибели. Когда истерзанного хозяина его зарыли, он разобрал хоботом деревянную стену и пошел на могилу.
Дождь стрел уложил его на месте.
* * *
Перед венцом Собакин пятью колымагами доставил на особный двор добро, отданное за дочерью.
Иоанн сам принимал короба и поверял содержимое их. Жадно склонившись над дарами, он вздрагивающими пальцами ощупывал и взвешивал на ладони каждый слиток золота и каждый камень.
Важно подбоченясь, в стороне стоял отец невесты.
– Ты жемчуг к вые прикинь, государь! – хвастливо бросал время от времени торговый гость. – От шведов сдобыл, по особному уговору. А алмазы – не каменья, а Ерусалим-дорога в ночи!
Грозный сдерживал восхищение и хмурил лоб.
– Обетовал ты серебра контарь да денег московских мушерму.
– А что новагородской торговой гость обетовал, тому и быть, государь!
Собакин мигнул. Холопи с трудом внесли последний короб.
Не в силах сдержаться, царь по-ребячьи прищелкнул языком и распустил в радостную улыбку лицо.
В тот же день, едва живая от страха, шла под венец Марфа Собакина, третья жена Иоанна.
В новом кафтане, с головы до ног увешенный бисером, жемчугом, алмазами и сверкающими побрякушками, за отцом вышагивал Федор.
Дальше, в третьем ряду, понуро двигался Иван-царевич.
– А что? Кто тысяцкой при отце?! – неожиданно поворачивался к брату Федор, дразнил его языком и ловил руку отца. – Больши аз ныне Ивашеньки? А?
Грозный не зло кривил губы:
– Больши… Токмо не гомони.
Однако царевич не успокаивался и тянул Катырева за рукав:
– Зришь Ивашеньку? Он в третьем ряде, а аз тут же, за батюшкой!
Боярин искоса поглядывал на Ивана-царевича и, чтобы не навлечь на себя его гнев, нарочито вслух говорил:
– Царевичу не можно ныне в посаженных ходить… Царевич сам ныне жених.
Щеки Федора до отказа раздувались от распиравшей его гордости.
* * *
Неделю праздновал Иоанн свою свадьбу.
По ночам опричники жгли на улицах смоляные костры, тешились пальбой из пищалей и пушек и непробудно пили.
Все московские простолюдины были оделены просяными лепешками и ковшом вина.
Стрельцы, пушкари и подьячие ревели до одури на всех перекрестках:
– Веселися, Русия! Ныне сочетался царь браком с преславною Марфою!
А царица, едва приходил сумрак ночи, билась в жгучих слезах перед киотами:
– Избави, Пречистая, от хмельного царя! Избави от доли Темрюковны и великого множества иных загубленных душ! Избави! Избави! Избави!
* * *
К концу недели прискакал с Камы князь Петр Шуйский.
Грозному не понравился предложенный князем план города Лаишева.
– Не тако ставил крепость на Свияге Василий. Надобно, чтобы тот город нагайцам, яко лисице силок.
И подумав:
– Спошлю с тобой того Ваську. Сробит он город, тогда мы сызнов его в железы обрядим. Тако и будет до конца его дней. Робить на воле, а отсиживаться в подземелье.
Розмысл спокойно выслушал от Скуратова цареву волю и твердо, тоном, не допускающим возражения, объявил:
– Не будет. Того не будет. Краше конец живота, нежели глазеть на великие скорби холопьи.
Малюта оторопел.
– Не будет?! – захлебнулся он и ударил Выводкова кулаком по лицу.
– А не будет! Убей, а не будет!
Василию дали одну ночь на размышление.
– Ослушаешься – живым в землю зароем, – пригрозил Скуратов и приказал стрельцам рыть могилу у ног прикованного к стене узника.
Утром в темницу пришли Вяземский и Алексей Басманов.
На пороге остановился поп с крестом и дарами.
– Надумал! – не дожидаясь вопроса, буркнул Василий. – Токмо не поглазев, не ведаю, како творить град на той земле.
* * *
Окруженный сильным отрядом, Выводков поскакал с Петром Шуйским на Каму.
Прибыв на место, он принялся за изучение края.
Ратники, по строгому приказу Малюты, не спускали с розмысла глаз.
Но по всему было видно, что Василий не помышлял о побеге. Любимая работа захватила его целиком. Шуйский, с нескрываемой завистью, рассматривал груды затейливых набросков и в то же время не мог побороть в себе восхищения перед умельством смерда.
Проходили дни. Выводков все чаще отлучался то к ближним холмам, то к необъятной степи, густо заросшей травой, то к непрохожему лесу.
Дозорные понемногу привыкли к его отлучкам.
В одно утро розмысл заявил, что должен осмотреть дальний курган и сам потребовал в помощь себе стрельца.
Нагрузившись шестами и веревками для обмера, Василий, весело болтая со своим спутником, пошел в сторону степи…
Уже давно скрылось солнце, и степь заволокло студнем тумана, в мреющем небе засуетились уже золотистые пчелы, и незримый кашевар вытащил из-под спуда ярко начищенную кастрюлю, доверху полную мглистым, тягучим медом, а Выводков не возвращался.
Всполошившийся Шуйский погнал на розыски ратников.
Поздней ночью нашли связанного по рукам и ногам стрельца.
Отряд рассыпался по лесным трущобам и степи.
Но розмысл бесследно исчез.
Часть третья
Глава первая
Ветерок монотонной песенкой баюкает лениво перекатывающиеся зеленые волны и чуть колышет в дальних краях прозрачную ткань небосвода.
За высокой, в рост человека, травой почти не видно Василия. Лишь свистящий писк мыши, невзначай подвернувшейся под пяту, да пугливый взлет птицы выдают присутствие незваного гостя.
Выводков не разбирает дороги, идет куда несут ноги. Еще в первые дни, когда повстречавшиеся с ним чумаки предупредили, что поволжские дороги заняты татарвой, он резко свернул на полудень и пошел наугад.
«Не едина ли стать куда итти, – думалось, как когда-то давно, в былые годы. – Всюду на земле много простора, а жить одинокому негде».
А знойная степь не убывала. Прозрачный шатер небосвода точно тешился над бродягой: то казался он до осязания близким, то вдруг вновь широко раздавался, то уходил куда-то, волоча за собой ввысь вздыбившуюся, непослушную землю.
В одну из ночей, устроившись на ночлег, Василий услышал подле себя какие-то шорохи. Он привстал на колено и выхватил из-за пояса нож.
«Почудилось, – успокоенно отбилось в мозгу. – То трава гомонит».
И снова лег, сладко зажмурившись.
Шорох усиливался.
«Чтo за притча такая? Кому тут бродить?»
Кто-то, несомненно, подкрадывался. Вскоре можно было различить человеческое дыхание.
– Кого бог даровал? – сердито крикнул Василий и зажал в руке нож.
В то же мгновение перед Выводковым выросла огромная тень.
– А били нам тарпаны[56] да волки челом на ту пригоду, что в вотчине моей объявился чужой человек.
Тень отставила длинные плети рук и, колыхнувшись, неслышно, шлепнулась на траву.
– Далече, милок?
Выводков лег на спину и уставился в небо.
Тень недовольно причмокнула:
– И народ же нынче пошел! Шатаются по чужим вотчинам и хоть бы тебе поклонились хозяину!
И с дружеской улыбкой:
– Небось во время оно и кликали тебя по имени как-никак?
Выводков поудобнее улегся, положил руку под голову и прицыкивающе сплюнул.
– Кликали Васькой, да поустали. А ныне беглым висельником величают.
Сосед широко раскинул ноги и залился счастливым смешком.
– Тезки, выходит, все мои гостки! С тоей же и мы перекладинки спрыгнумши!
Он собрался еще что-то сказать, но неожиданно схватился за грудь и забился в клокочущем кашле.
– В-в-водицы! – уловил Василий с трудом.
Зубы незнакомца беспомощно стучались о железное горлышко фляги: вода проливалась на сбившуюся куделью бородку, и скользкими мокрицами бежали капельки по груди, вызывая брезгливую дрожь во всем теле.
Стихнув немного, сосед приподнялся.
– Кашель-то свой – не боярской.
Выводков не понял.
– Свои же донцы окулачили.
Он снова повеселел.
– По-нашему, по-донскому, кличут меня, милок, Харцызом. А харцыз есть слово преважное – вор. Эвона, кой тебе именитый гость подвернулся!
Легким движением плеч Василий придвинулся ближе к Харцызу.
– А у нас в Московии воров не кулачат, а с головушкой разлучают.
Донец поддакнул убежденно:
– И наше казачество не помилует, коли в другойцы попадешься. Да и како инако с теми харцызами? – Разгладив не без важности усы, он хвастливо причмокнул. – Токмо, кой в ногах умишко держит, – тому и с головушкой разлуки нету.
И, приставив к губам кулак, промычал:
– Сбег аз, милок, из-под самой под той секиры. Эвона, а?
От долгой ходьбы сладко млели и отдыхали ноги Василия. Баюкающая песенка ветерка навевала тихий, уютный сон. Чья-то теплая рука нежно смежала глаза. Далеким мирным журчанием ручейка касались слуха негромкие слова соседа. Пряное дыхание трав вливалось в душу целительной свежестью. Чуть вздымалась, истомно потягиваясь, земля.
– Спишь? – прислушался Харцыз и сам уютнее устроился, подложив под щеку обе ладони. – Спи, милок, спи, покель не проспал умишка в ногах.
Шепот стихал, переходил незаметно в сочный, запойный храп.
В небе из конца в конец ложилась Ерусалим-дорога.
Утром первым проснулся Василий, с недоумением оглядел соседа, но тотчас же припомнил вчерашнюю встречу.
Харцыз лежал навзничь, раскинув тонкие плети рук, и храпел. По исполосованной груди беспокойно сновали заблудившиеся красные муравьи. На перебитом носу, точно у обнюхивающего воздух паучка, чуть шевелились рыжие волоски бородавки. От виска до брови ползла глубокая борозда свежего шрама.
– Добро молодца попотчевали, – не удержался и вслух подумал Василий.
Харцыз приоткрыл один глаз (на месте другого серела глубокая впадина).
– Аль Богу молишься?
И поднялся.
– В кисете – синь сарафан, а в сарафане – сам крымский хан. Вона, а? Помолись-ко по-нашему.
Умывшись пучком росистой травы, бродяги молча переглянулись.
– Хлебца бы отведать, – облизнулся Выводков.
– А пожалуем к запорожцам, будут и хлеб и горилка.
При упоминании о запорожцах у Василия, впервые за долгие дни, пробудилось желание узнать, куда он идет.
– Нешто мы в Запорожье?
Харцыз передразнил его:
– Нешто! У, семиребрый! А то ж куда? Известно, к Днепру шагаем.
Срывая на ходу полевой чеснок и жадно набивая им рты, они двинулись в путь.
Харцыз ни на мгновение не умолкал. Он рассказывал про Дон, про молодецкие набеги, про казачью привольную жизнь.
За несколько часов бродяги подружились так, как будто были знакомы долгие годы, а к вечеру они целовали друг другу крест на том, что побратались навек.
Перед тем как устроиться на ночлег, Харцыз припал вдруг ухом к земле.
– Тарпан! – шепнул он и с наслаждением подернул остаточком носа.
Вскоре и Выводков услышал мягкий топот копыт.
Нетерпеливо перекинув со спины на впалый живот котомку, Харцыз достал капкан.
Топот приближался. Тишина Дикого поля пробуждалась фыркающим и злобным ржанием.
– Учуял, ляший, кадык тебе в глотку! – выругался Харцыз и притаился в траве.
Из-за зеленой стены высунулась толстая голова тарпана. Опущенные остро уши слегка приподнялись и насторожились.
Выводков сделал движение, чтобы броситься с капканом вперед, но тут же почувствовал такую страшную боль в затылке, что едва не лишился сознания.
Глаз товарища с ненавистью впился в его лицо. В неслышной брани чуть подпрыгивали судорожно сомкнутые губы.
– Пусти! – шепнул Василий и тряхнул головой, тщетно стараясь освободиться от впившихся клещами в его затылок пальцев.
– А ни духом единым не объявляйся, – скорее понял он, чем услышал предупреждение.
Огненный взгляд тарпана пронизывал толщу травы. Как у рассерженного тигра, медленно колебался, змеино изгибаясь, короткий хвост. Курчавая грива дыбилась, собираясь жестким гребнем.
Василий восхищенно уставился на коня.
– Эх бы такого конька да содеять на воротах двора особного.
– Цыц, семиребрый!
Отдаленный шум надвигался все ближе. Казалось, будто тысячи челюстей впились в землю и ожесточенно рвут ее в клочья.
«А не уйти ли? – опомнился розмысл. – Не раздавили бы, проваленные!»
И с ужасом протер глаза.
– Харцыз! Эй, где ты, Харцыз?!
Не найдя товарища, он решительно повернулся, чтобы пуститься наутек от приближающегося табуна, как вдруг его оглушил пронзительный свист.
– Реви лешим! Лешим реви, окаянный! – взметнулся хрип Харцыза и снова сменился пронзительным свистом.
Перепуганный табун рванулся назад. Ухватившись изо всех сил за конец капкана, былинкой несся по полю Харцыз. Шею тарпана туго перехватила петля. Но конь не сдавался и, задыхаясь, бешено мчался вдогон за скрывшимся табуном. Василий на лету вцепился в товарища.
Обессиленный конь на полном ходу рухнул на бок. Густые клубы белого пара непроницаемым покровом окутали его брюхо. Изо рта ключом била тягучая пена.
Охотники поднялись в кровь истерзанные и еле живые.
Однако, несмотря на страшную боль, пальцы мертвой хваткой держали конец капкана.
– Добро? – подмигнул отдышавшийся немного Харцыз.
И прищурив хвастливо единственный глаз:
– Так то ж никакая скотина от меня не уйдет! Не зря же Харцызом меня величают! Эвона, а?
С того дня по-новому пошла жизнь бродяг. Все их помыслы, и любовь, и заботы были перенесены без остатка на изловленного коня.
Василий бегал вокруг полонянника, по-отечески заглядывал в налитые кровью глаза, придумывал для него самые нежные слова и прозвища и прилагал все умение свое, чтобы приручить дикаря.
Тарпан долго спорил с людьми, но понемногу начал сдаваться и проявлять признаки послушания.
Харцыз, умильно следивший за стараниями товарища, как-то великодушно ему объявил:
– За братство за наше жалую тебя своей долей того тарпана. Володей им в полном самодержавстве.
И с хитрой улыбочкой:
– Токмо доглядай за коньком своим в оба. А проморгаешь, ей-богу ж, уворую его. Бо не можно мне без того, чтоб на чужое добро не позариться. Эвона, а?
* * *
Приближалась осень. Розмысл принялся за устройство землянки. В яме было два хода: один – открытый, другой, еле видный, брал начало далеко в стороне. Тут же в землянке было и стойло тарпана.
Харцыз занялся охотой: ставил западни на зайцев, лисиц и волков, свежевал добычу и густо посыпал ее солью, добытой у чумаков. Запасы бережно складывались в выложенный дерном погребок.
Темными вечерами, когда нечего было делать, товарищи раскладывали в землянке костер и до поздней ночи вели тихие, дружеские беседы о былой своей жизни.
Каждый раз перед сном Харцыз удивленно повторял одно и то же:
– Покажи милость, Васька, обскажи ты мне – Харцыз аз аль не Харцыз?
И, обнимая друга, тыкался остаточком носа в лицо (волоски бородавки неприятно щекотали кожу и раздражали).
– Кой аз к ляху Харцыз, коли досель тарпана того не уворовал!
Выводков мягко отстранялся и, против желания, брезгливо вытирал ладонью щеку.
– Нешто кто ворует свое? Тарпану-то и ты хозяин!
Но Харцыз хмурил пыльные полоски бровей.
– Подменили Харцыза! Не признаешь Харцыза!
Он воодушевлялся и гордо таращил глаз.
– Бывало, коль нету добычи, родную епанчу свою лямзил и был таков! Ищи ветра в поле! А ныне… да что и сказывать! Подменили доброго молодца!
Как-то Харцыз ушел проверить силки и не вернулся. Изо дня в день скакал Выводков на тарпане по дикому полю, разыскивая товарища.
Близилась глубокая осень. Небо обвисло, собралось бурыми складками и беспрестанно низвергало на землю хлещущие потоки дождя. Промозглый ветер упрямо пробирался сквозь щели в землянку, набрасывался на испуганно припавший к земле костер, жестоко раздирал и гасил огонь и воюще шарил по иззябшему телу Василия.
На Выводкова все чаще нападала тоска одиночества, – тянуло к людям, к говору человеческому.
В минуты отчаяния он решительно складывал свою котомку и собирался навсегда покинуть землянку.
Но темна и необъятна была могила дикого поля, и некуда было уйти от нее, не рискуя набрести на становище татарской орды или погибнуть под зубами волчьей стаи.
– Нету дороженьки нам, – безнадежно вздыхал розмысл и склонялся к морде пригорюнившегося тарпана.
Конь чуть слышно пофыркивал, точно выражал сочувствие, шершавым языком полизывал жесткую бороду хозяина и рыл копытами землю.
– Тако вот, конечек мой! Сызнов бобыли мы с тобой!
Вглядываясь в сырую, нависшую мглу, Василий кривил губы в жуткую усмешку, подобно человеку, покончившему всякие расчеты с жизнью.
– Доли холопьей искал. А доля-то вся в земле засталась!
Неожиданно вытягивалось и стыло лицо, жилы на руках напрягались тугими канатами, и пальцы сами собой собирались в железный кулак.
– Волю бы мне! Распотешиться таким бы пожаром, чтобы вся Русия полымем заходила!
Грозные выкрики горячили тарпана, и он, всхрапывая, бросался к выходу и бил исступленно копытами в дверь. А в поле скулил по-прежнему ветер, хлюпающе бежал куда-то по невидным лужам, путался в мокрых зарослях и, отчаявшись выбраться на дорогу, злобно лаял в низко нависшее небо.
Измученный Выводков ложился ближе к огню и забывался в тяжелом полубреду.
В одну из таких ночей бродяга пробудился от необычного шума, доносившегося из-за двери.
– Тпрр, гирей некрещеный! – услышал он рассерженный окрик.
В то же мгновение в землянку ввалился Харцыз.
– Встречай гостя, милок!
И застыл в могучих объятиях товарища.
Когда Выводков пришел немного в себя, Харцыз принялся разгружать колымагу, наполовину завалил землянку тюками и вытащил из одного узла две расшитые золотом шубы.
Розмысл удивленно вытаращил глаза.
– Аль у бояр побывал?
– К Гирею хаживал в гости.
За едой, приукрашивая и привирая, Харцыз подробно рассказывал, как он, истосковавшись по чужому добру, ушел искать счастья и как удалось ему обворовать татар, возвращавшихся с набега в свой юрт.
Перед сном донец вспомнил о коне, впряженном в арбу:
– Гирейку-то покорми! Ячмень вон в том углу.
Василий бросился к кулю и, позабыв о просьбе товарища, высыпал все зерно перед тарпаном.
Харцыз недовольно покрутил головой:
– Ладно же! Не покормишь некрещеного моего – не обессудь: весь ячмень у тарпана сворую. Вот, ей-богу тебе! Эвона, а?
Глава вторая
С первыми вешними днями Выводков и Харцыз покинули землянку, оставив в ней кафтаны и шубы боярские, и ушли берегом Ингула в сторону Запорожья.
Точно опара, сдобренная благоуханными снадобьями, на глазах весело поднималась пышная зелень Дикого поля. Откуда-то, с полуденной стороны, говорливыми тучами плыли в поднебесье обильные вереницы птиц. Не раз меткая стрела Василия резала голубые просторы и змеей падала к ногам, неся с собой истекающую кровью добычу. По ночам бродяги садились на коней и скакали на разведку к дальним дорогам. Но нигде не было признаков близости человека. За месяц пути не слышно было ни конского топота, ни скрипа колес. Лишь пригревшийся ветерок пел свою бесконечную песенку, да кое-когда выло и стонало зверье в борьбе друг с другом.
Василий не имел никакого представления о дороге. Харцыз же ухмылялся хвастливо и уверенно шел вперед.
– Что поле, милок, что море – едина стать. Нету тебе ни кургана ни дерева, и вехи не видно. – И поводил ноздрями, обнюхивая воздух. – Токмо ни к чему нам приметы те. Были бы солнце да ветер, да звезды ночные.
Продвигаться с каждым днем становилось труднее. Кони путались в буйной траве, точно в тенетах. Солнце закрасило лица и обнаженные груди бронзовыми узорами и жгло головы раскаленными иглами.
– Плювию бы, – вздыхал Выводков, изнемогая от невыносимой жары. – То ли у нас на Москве. Абие тебе и тучка в небе, а и плювией покропит людишек впору!
И с затаенной надеждой оглядывал стеклянный небосвод.
– Наносит! – крикнул он как-то товарищу, мирно похрапывавшему под арбой.
Харцыз сонно потянулся, припал ухом к земле и вдруг привскочил.
– Лихо идет!
Розмысл весело потирал руки. С восхода, заслоняя солнце, на поле двигалась огромная туча. Встревоженный воздух наливался живым, странным гулом. Кони испуганно прядали и рвались с места.
Туча росла, заволакивала небосвод и, казалось, краями своими задевала землю.
Харцыз вскочил на коня.
– За мной!
Выводков ничего не понимал и не двигался с места.
– За мной! – зло повторил Харцыз, но сам неожиданно прыгнул в траву.
– Дождались мы с тобой дождичка. Никуда не уйти от него. Чуешь – гудет?
Гулливая туча застыла на мгновение и рухнула наземь непроницаемой серой толщей.
– Кстись! – заревел Выводков, в ужасе закрывая глаза. – Нечистая сила нагрянула!
– Кстись, коли рука без дела болтается. Авось спугнешь ту силу нечистую, – ядовито усмехнулся Харцыз и сплюнул сквозь зубы. – По-вашему, по-московскому, – то нечистая сила, а по-нашему оно – саранча.
Выводков завороженно уставился в поле.
Какой-то сказочный чародей с сухим шелестом то и дело взмахивал серыми рукавами, и тотчас же на месте, где только что расстилался кудрявый ковер травы, ложилась голая степь.
К полудню Дикое поле являло собой выжженную солнцем пустыню. На многие версты вокруг не осталось ни былинки, ни признака какой бы то ни было жизни.
– Скачем? – предложил наконец розмысл и приготовился сесть на тарпана.
– Поскачешь! – махнул рукой Харцыз и попробовал разбухшие животы коней. – Объелись, горемычные, саранчи, травушку щиплючи.
Кое-как протащившись до вечера, кони отказались двигаться дальше и вскоре пали.
Василий опустился на труп тарпана и так, не шевелясь, просидел до зари, пока насильно его не увел за собой товарищ.
– Чего зря кручиниться? Токмо поклонись мне пониже, нынче же сдобуду тебе аргамака.
– А моего не вернешь…
– Эка, лихо какое! Еще краше из кышла угоню!
И, не понимая тоски Василия, выругался сочной бранью.
* * *
На берегу Днепра бродяги разложили костер и, похлебав горячей воды, улеглись на ночлег.
Дозорные казаки прискакали на огонек.
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, – пробасил с расстановкой один из казаков.
– Аминь! – по-дьячковски, горлом вытянул Харцыз и, крестясь, незаметно подтолкнул локтем розмысла.
– Аминь! – послушно повторил Выводков и в свою очередь перекрестился.
– Добры люди, а либо вороги?
– Мы-то?
Харцыз заливчато рассмеялся и шлепнул изо всех сил казака по животу.
– Ну, ты! Не дюже братайся! – прикрикнули запорожцы. – Перво-наперво выкладывай, по какому делу до нас прикинулись.
Оборвав смех, бродяга поднял торжественно руку.
– А прикинулись к тому, чтобы вкупе с низовым товариством ляхов поганых с татарвой поколачивать, а и московским боярам могилы рыть.
В ладье перевезли бродяг на Хортицкий остров, что против Конских вод у крымских кочевищ.
Запорожцы любопытно обступили прибывших, но не задали им ни одного вопроса.
Харцыз облюбовал стожок сена и, не спрашивая позволения, устроился там с Василием на ночь.
Утром казаки увели гостей на луг.
– Мы накосим травы, а вы, добрые люди, кашу варите, – приказал строго один из запорожцев. – Да чтоб сыра не была, чтоб и не перекипела.
Вскинув на плечи косы, казаки скрылись в траве.
Харцыз хитро прищурился.
– Пробуют паны, какие мы есть с тобой люди.
И, отставив для убедительности указательный палец, что-то зашептал товарищу на ухо.
Налив в котел воды, Выводков развел костер и занялся варкой каши.
Как только пшено поспело, он взобрался на курган и окликнул косарей.
Запорожцы притаились в траве и не отзывались.
– Готова та каша! – надрывался розмысл, сопровождая каждое слово отборной бранью.
– Добре горланит! – перемигивались запорожцы и довольно покручивали свисающие на кадыки пышные кренделя усов.
Охрипший Василий наконец с ожесточением плюнул и вернулся к костру.
– Садись, милок, – пригласил его Харцыз, набивая рот кашей. – Да потчуйся так, чтоб в котле дно видать стало.
Вскоре вернулись казаки.
– Так-то вы хозяев дождались! – набросились они на кашеваров. – Годи ж вам жрать, прорвы не нашего бога!
Харцыз засучил рукава.
– А не обскажешь ли, Васька, куда сих панов черти носили, покель наша каша спела?
Выводков ожесточенно дул на дымящееся вкусно пшено и, обжигаясь, уписывал ложку за ложкой, не обращая никакого внимания на казаков.
– Гладите-ка, паны, как гости с хозяевами кохаются! Так геть же к бисову батьке отсель!
Не спеша облизав ложку, Василий перекрестился, уселся разморенно на траву и, сквозь сладкий зевок, протянул:
– Дрыхнули б доле… Нешто докликаешься вас, лодырей?
Запорожцы побросали косы и разразились гогочущим смехом:
– Ото ж товариство! Ото ж даровал нам Господь цыкавых панов!
И, стараясь принять серьезный вид, один за другим чинно подошли к гостям.
– Будьте же вы нам братьями, паны-молодцы! Да гоноруйте по гроб перед ляхами, татарами некрещеными и боярами, как показали нам гонор свой молодецкий!
Старик-казак уселся между новенькими и дружески обнял их. На его лоснящемся лице засветилась отеческая улыбка. Толстый, в прожилках нос ткнулся в котел.
– Добре, хлопцы, обмуштровали!
Он одобрительно тряхнул оселедцем.
– И откуда, спали меня девичьи очи, на свете своевольники такие берутся?
Харцыз отвалился от котла и, устроившись подле товарищей, тотчас же захрапел.
– Как тебя кликать-то? – потрепал старик Василия по плечу.
– Васькой кстили. А то Харцыз, братом нареченным доводится мне.
Запорожец сунул палец в нос и задумчиво уставился в небо.
– За кошем всякому воля – в харцызах быть, а в кошу – и из думки повыкиньте!
* * *
Василию пришлась по мысли бесшабашная жизнь казаков. С утра до ночи разгуливал он по кошу и знакомился с порядками запорожскими.
Его поражала и приводила в восторг каждая мелочь. Особенно казалось непостижимым отношение рядовых казаков к кошевому, полковникам и писарям. Все, от младшего до набольшего, держались друг с другом как старые, испытанные друзья. Это было ново и трогательно до слез.
Когда впервые повели Выводкова к войсковому старшине, он, не задумываясь, пал на колени и трижды стукнулся о землю лбом.
Старшина освирепел:
– Не погань, москаль, низового молодецкого товариства! Все тут паны-казаки, а не холопи!
И, подняв смущенного новичка, сочно поцеловал его в губы.
– От так-то, коханый мой, нам боле с руки!
С тех пор еще больше полюбилось розмыслу Запорожье.
Захлебываясь, рассказывал он своим товарищам о том, что пережил на Московии, и вдохновенно бил себя в грудь кулаками.
– Думкою чуял аз, что схоронилась та сторона за лесами да за морями, где нету ни бояр ни дьяков, а живут холопи, како те братья, да каждый сам себе господарь и всем холоп!
Казаки сочувственно поддакивали и хмуро супились.
– А и будет! А и гукнем, перекинемся через Дикое поле, Волгу с Доном поднимем, да и придем на постой к боярам тем и дьякам! Уж мы погостюем!
Среди мирных бесед Выводков вскакивал вдруг и, багровея от восхищения, спрашивал:
– Вот ты б, к прикладу, Нерыдайменематы, а либо ты, Рогозяный Дид, да вы, паны-казаки, Сторчаус да Шкода, – поведайте мне, неразумному, како сталось такое, что колико в Запорожьи людишек, а все – и ляхи, и литовцы, и болгаре, и жиды крещеные – одинаково паны да братья?
Шкода важно отставлял правую ногу, обутую в сафьяновый сапог, когда-то содранный с убитого им мурзы, левую в опорке, зарывал в песок – и рычал, дико вращая глазами:
– Волю, Василько, имеем за дражайшую вещь, потому что видим: рыбам, птицам, также и зверям и всякому созданию есть оная мила.
Рогозяный Дид подхватывал чавкающе:
– А до роду нам заботы нету. Пускай ты хоть из рыбы родом, от пугача плодом!
И все, в обнимку, шли шумно в шинок.
Нерыдайменематы трескуче затягивал песню:
Вдоволь всего-то уж там…Остальные дробно октавили:
И зверя прыскучего, И птицы летучия, И рыбы пло-ву-у-чи-я…Запевала долго загонял вверх последнее слово и потом вдруг победно ревел:
Вдоволь-то уж там И травушки-муравушки, Добрым коням на потравушку, Чтоб горячи были, Панам-молодцам на сла-ву-уш-ку-у-у!Не доходя до шинка, Василий подхватывал кого-нибудь из друзей и лихо пускался в пляс. Широчайшие шаровары его, дар кошевого, шатрами развевались по ветру и резво хлестал по лицу выбившийся из-под шапки отрастающий оселедец.
С разных концов сбегались казаки. Гремели литавры и трубы; из шинка, на четвереньках, ползли к пляшущим пьяные.
– Гуляй, низовое!
Кош оглушали залихватские песни, гул и вольные, как ветер в степи, разбойничьи посвисты.
Харцыз, вечно пьяный, просыпался от неистового шума и сам начинал голосить:
– Помилуйте православную душу! Единую чарку подайте!
Его усаживали на лавку и подносили горилки.
– Пей, Загублено Око!
Пьяный беспомощно раскачивался по сторонам, больно стучался головой о стол и, расплескивая горилку, тяжело сползал с лавки.
– Единую чарку… калаур! Единую чарку! – икающе просил он, ничего не соображая и, сворачиваясь клубочком, водил изумленно глазом по вонючему полу.
Едва Василий входил в шинок, Сторчаус подносил ему чарку и неизменно поворачивал голову к двери.
– Чи я сам себе отворил, чи кто меня пропустил?
– Пропустил! Лупынос пропустил! – нарочно утверждали казаки, чтоб не потерять случая повеселиться.
Сторчаус выплевывал люльку себе на руку и больно дергал оселедец.
– Дура беспамятная! Вертайся назад!
И, окруженный товарищами, шел торопливо на улицу.
– Раздайсь! – рычал он грозно и сильным ударом лба вышибал дверь.
– Ото ж теперь памятно! Брешешь, панове, не обдуришь! Бо, ей-богу, сидит горобец! – умиленно поглаживал он вскочившую на лбу шишку и победно поднимал чарку.
Шум стихал. Красные лица окружающих млели в предвкушении новой потехи.
– Кто ты? – строго щурил Сторчаус кошачьи, с зеленоватым оттенком, глаза.
– Из жита! – тоненько взвизгивал Нерыдайменематы.
– Откель ты?
– Из неба!
– А куда ты?
– Куда треба!
Щеки Сторчауса раздувались тыквой, и, багровея, подплясывала шишка на лбу.
– А билет у тебя есть?
Нерыдайменематы чиликал в ответ по-воробьиному:
– Не-не, нету, нема!
– Так тут же тебе и тюрьма!
И снова кутерьма, шум, крики, смех.
– Расступись, душа казацкая! Оболью!
Выводкову неловко: который раз гуляет с товарищами в шинке, а уплатить не может. То, что и другие не платят, не успокаивает его.
«Должно быть, свой у них счет с шинкарем», – думает он тоскливо и незаметно вздыхает.
Шкода лезет к нему с поцелуями.
– По коханочке забаламутился?
– Кака там коханочка!
Шкода не отстает и допытывается. Гнида, маленький и плешивый казачонка, взбирается, пошатываясь на лавку и с глубоким чувством чмокает в бритую голову розмысла.
– Оба два мы с тобой горемычные! Ни единого разу не померялись еще силой ни с ляхом ни с татарвой!
Его краснеющие глазки туманятся пьяной слезой.
– Не займай! – ревет вдруг свирепо Рогозяный Дид. – Не тревожь душу казацкую!
Едва сдерживая готовые прорваться слезы, Дид стучится больно о стену головой и в безысходной тоске жалуется кому-то:
– Ужели ж и дале так поведет атаман? Ужели придется сложить живот на Сечи, а не в честном бою?
– И то! – вздыхают грустно казаки. – Пораскисли мы от безделья, позастыла и удаль!
Слова эти – нож острый Диду. Он уже не может сдержаться, вскакивает неожиданно на стойку, взмахивает рукой так, как будто рубит басурменские головы саблей, и, задыхаясь, ревет:
– На орду, паны-молодцы! Распотешиться с полонянками да покормить ими батьку Днипро.
Печально свесили головы запорожцы. Потянулись руки к чаркам да на полпути безжизненно свесились со стола.
– Куда там горилка, когда сердце истосковалось по крови шляхетской! Ударить бы сейчас вольницей всей на врага или один на один стать лицом к лицу с кичливым ляхом.
Пыл прошел у Рогозяного Дида. Ткнулся он седым усом в стол, залитый обильно горилкой.
Гнида знает, что нужно сейчас старому запорожцу. Незаметно достает со стены кобзу и подсовывает ее Рогозяному.
Точно льняную головку любимого внука, что до времени гуляет еще в кышле без казацких забот, погладили пальцы кобзу.
И задушевной песней, уютной и теплой, как батько Днипро в вечер летний, истомный, баюкают себя запорожцы:
Струны мои золотии, грайте ж мени зтыха… Нехай казак нетяжыще та забуде лыхо…Что так сжимается грудь у Василия? И почему вспомнилась вдруг шелкокудрая девушка? Он слышит чей-то шепот, печальный и тихий, как вздох камыша в дремлющей заводи. И вот уже отчетливо доносится ее голос.
– Чую, Клашенька, чую! – беззвучно шевелит губами розмысл и закрытыми глазами вглядывается куда-то в одному ему видную даль. И чудится, будто идет он пустынной дорогой, мимо заколоченных деревень, а отовсюду, со всех концов, крадутся к нему какие-то страшные тени. «Мор…»– шепчут оскаленные, беззубые челюсти. «Мор…»– К нему тянутся мертвые руки, мертвецы бегут на него, забили дороги, не пропускают… Но он бежит туда, к мелькающим стенам Кремля. И видит, как из тьмы отделяется худой человек, сутулый, с острыми, приподнятыми плечами. На продолговатом лице человека хищно сверкают маленькие ястребиные глазки. «Царь! Спаси бог тебя, царь!» – Вздрагивает клин бороды, сквозь губы с змеиным шуршанием протискивается смешок. «Сказывай, Вася, сказывай, розмысл!» – «Лихо нам, царь! Лихо холопям твоим на родимой земле!» Левый глаз царя жутко прищуривается: «Убрать! Одеть в железы!»
Василий очнулся и в жестоком гневе кричит через казацкие головы:
– Будь ты проклят от века до века, царь всея Русии!
Сторчаус постучал пальцем по носу Выводкова:
– Попридержись, пьяное быдло!
И тихим вздохом подхватил грустный припев:
Струны мои золотии, грайте ж мени зтыха… Нехай казак нетяжыще та забуде лыхо…– Научи! Господи, научи мя правде твоей! – плакал надрывно Василий. – Спаси, Господи, люди твоя!
Глава третья
Неугомонно гремят литавры. Легкий ветерок услужливо подхватывает призывные звуки, кружит их весело в пропитанном дегтем, горилкой, лампадным маслом и зноем воздухе, бережно сносит к горделиво стремящемуся куда-то Днепру. И кажется, будто синие волны с материнской лаской подхватывают угасающие перезвоны и уносят вдаль за собой светлым, тающим благовестом.
Кош проснулся с зарей и в первый раз за долгие месяцы приубрался. Сторчаус важно расхаживает по площади в штофном узорчатом кафтане, туго обхваченном пестрым шелковым поясом, и в червонных, с золотыми подковами, чеботах. Его кошачьи глаза то и дело обращаются с жадной тоской к шинку. С похмелья немилосердно трещит голова, а во рту такая неразбериха, как будто ночевал в нем целый выводок нечисти. И сейчас еще в груди скребется бесенок, тщетно пытаясь вырваться вон из крещеной души. «Не поспел, видно, с третьими петухами шмыгнуть в преисподнюю», – думает с ненавистью казак и скрежещет зубами. «Чарку бы! Так бы я огрел тебя, рыло свинячее, – там бы тебе и капут! Знал бы ты, как в православной груди на шабаш собираться, гнида турецкая!» Но Сторчаус не поддается искушению и злобно дергает головой, чтобы отвлечь взгляд от искусителя-шинка.
Шишка на лбу от грузного шага чуть вздрагивает расплющенной сливой. Густо смазанный лампадным маслом оселедец забился под расчесанное ухо и неугомонно нашептывает: «Одну не страшно… Одну же единую…» Запорожец на мгновение останавливается и вдруг изо всех сил впивается пальцами в оселедец. «А не пытай, бисов сын, душу крещеную! А замолчи, нечистая сила! Знаем мы чарку! Только покуштовать!» И снова важно вышагивает, довольный непрочной победой над искусителем. Побрякивает на боку кривая сабля в серебряной гриве на рукоятке, грозно поблескивают ярко начищенные пистолеты, ятаган и кинжалы, обвесившие до отказа грудь, бока и спину.
По одному собираются на площадь казаки. Они не разговаривают друг с другом, но шум стоит такой, как будто рада уже в полном разгаре. То запорожцы, размахивая руками, думают вслух. Каждый делает вид, что не слушает никого, но в то же время настороженно прислушивается к чужим словам. Понемногу сход разбивается на малые группы. Группы растут, сплачиваются тесней, вызывающе поглядывают на противников.
– Будет потеха! – нежась в реке, весело подмигивает Харцыз в сторону площади.
Василий склонился над зеркальным затоном и задумчиво перебирает опущенные вниз, по-запорожски, усы.
– Да ты, Василько, мне поверь, а не затону. Как взгляну на тебя, так и решаю: любую бабу приворожит казаче!
Выводков не слушает и отвечает вслух своим мыслям:
– Пораскинешь думкой – сдается: вон они, тут, недалече за степью, годы мои прожитые… А глянешь на воду, поглазеешь, како инеем усы убрались да лик, будто кто взборонил его – и закручинишься: далеко те годы ушли, а меня близ конца живота спокинули!
К берегу стремглав бежал Шкода.
– Годи вы миловаться! Геть на раду скорей!
Площадь кипела бурлящей толпой:
– Геть! Не надо нам Часныка!
– Часныка! Геть Загубыколеса! Он до баб дюже прыток, а не до сабли казацкой!
Группы наступали друг на друга и только ждали сигнала, чтобы решить спор кулачным боем.
– Цыть! – скрипнул зубами Нерыдайменематы. – Рогозяный Дид зараз будет брехать!
Дид поднял руку и, дождавшись, пока стихло немного, проникновенно оглядел толпу.
– Славное низовое товариство!
– Не надо! Геть Рогозяного!
– Цыть! – надрываясь, перекрикивал Маты врагов. – Дайте Диду сбрехать!
– Пускай брешет на ветер, а нам очи не порошит небывальщиной!
– Славное низовое товариство! – еще проникновеннее повторил Рогозяный. – С полвека бывал я на выборах кошевого, и не раз молодечество самого меня ставило батькой над панами-казаками. Так есть тому причина послушать, что я вам зараз буду брехать.
И выхватив саблю, взмахнул ею угрожающе над лысой своей головой.
– Или время теперь такое, что не слушают старых бойцов? Так геть же и сабля моя!
Тихо стало на площади, как в кышле после набега татарского.
– Кого нам в кошевых надо?
Рогозяный Дид больно щелкнул себя по лбу и убежденно тряхнул оселедцем.
– Чтоб не зазнавался, да чтоб все паны-молодцы были ему родные хлопчики!
– Правду, а, ей-богу, правду брешет Дид Рогозяный! – поддержали казаки.
– Да был бы он храбрым, а еще разуменьем находчив, да похитрее ляхов, татарвы и москалей.
– Дело! Ей-богу, дело! Мели дале, Диду!
Харцыз измерил на глаз силы противных групп и расчетливо обдумывал, куда ему пристать.
Долго говорил Рогозяный. Смело перечислял он все грехи кошевого, вспомнил о том, что за год пришлось лишь один раз выступить в поход против татар, тогда как в былое время и недели не засиживались казаки без молодецких набегов.
Василий пробился на круг.
– Казаки! А и правду чешет старик! Колико аз тут горилку пью вашу, а досель не зрел ратного дела! Соромно мне за себя! – Он сорвал с себя епанчу. – Краше в кышло идти да обабиться, нежели от того Часныка безутешно сдожидаться ратного клича!
Рогозяный Дид знал, чем взять казаков. И не зря сговорился он с единомышленниками выпустить под конец москаля, не получившего еще боевого крещения. Участь Часныка была решена. Как один человек, рявкнула рада:
– Не посрамим Запорожье! Волим под Загубыколеса!
Загубыколесо сидел на завалинке у куреня и лениво посасывал прокопченную свою люльку. Когда к нему подошла толпа, он нехотя встал и, точно ничего не зная, удивленно обвел всех глазами. Только предательская усмешка не хотела таиться в тяжелых, седых усах и торжествующе разгуливала по изрытому шрамами и бороздами лицу.
– Чем прошкодился я перед товариством, что вся рада ко мне пожаловала?
Сторчаус сложил смиренно руки на животе и, едва сдерживая поднимающуюся к горлу муть винного перегара, чуть разжал губы:
– От славного низового товариства батьке нашему низкий поклон.
Загубыколесо сердито плюнул:
– От еще выдумали! Велика честь для меня славное атаманство принять! Не достоин!
И сделал попытку скрыться в курень.
Казаки потоптались на месте, переждали немного и снова объявили решение рады.
Избранный вновь отказался, как требовал запорожский обычай, и скрылся за дверью.
За ним юркнуло несколько человек.
Нерыдайменемати и Сторчаус взяли под руки атамана. Шкода и Рогозяный Дид подтолкнули его сзади коленом.
– Иди, иди, скурвый сын, бо тебя нам надо, теперь ты наш батько-атаман, будешь у нас паном наикоханым!
Бешеными криками, свистом и улюлюканьем встретила атамана площадь.
Загубыколесо, подталкиваемый пинками, очутился наконец на кругу. Шумно попыхивая люлькой, он непрестанно сплевывал через левый угол губ и с нарочитым безразличием мурлыкал какую-то песенку.
Рогозяный Дид перекрестился на все четыре стороны, взял с ладони Шкоды приготовленную щепотку грязи, поплевал на нее и торжественно мазнул по макушке кошевого.
– От тебе, батько, помазанье, чтоб не забывал ты свого рода казацкого да не зазнавался перед молодечеством, – раздельно произнес Дид.
Атаман сразу преобразился:
– За ласку да за велику честь от щирого казацкого сердца спасибо славному низовому товариству!
Гнида прыгнул на спину Шкоде и заголосил:
– Будь, пан, здоровый да гладкий! Дай тебе боже лебединый вик и журавлиный крик!
Стройным хором повторила рада за Гнидой положенное пожелание и расступилась.
К кошевому гордо двигалось шествие.
С низким поклоном принял Загубыколесо клейноды[57], знамя и литавры, передал их писарю, а сам, высоко подняв булаву и серебряный, позолоченный шар, унизанный бирюзой, изумрудами и яхонтами, направился неторопливо к куреню.
Покончив с выборами, рада шумно бросилась к длинному ряду столов, расставленных на улице.
Дрожащими руками Сторчаус схватил кринку с горилкой и страстно прилип к ней губами.
Полилось рекой вино. Перепачканный в соломахе и рыбьей ухе, Харцыз придвинул к себе целую горку кринок и мисок. С волчьим рычанием заталкивал он в рот говядину, дичь, вареники, галушки, мамалыгу, локшину, коржи и все, что попадалось под руку.
До поздней ночи не стихали песни и пьяный гомон.
Когда опустели столы, Сторчаус, Василий, Шкода и Рогозяный Дид, выводя ногами восьмерки, поплелись в обнимку в шинок.
– Стоп! – загородил Сторчаус собой дверь. И, пощупав любовно висок, заложил люльку за пояс. – А ну-ка, чи мой лоб не сильнее ли той вражьей двери?
И вышиб ударом лба дверь.
Выводков, точно вспомнив о чем-то, оттолкнулся от стены и, тщетно пытаясь выплюнуть забившиеся в рот усы, пошел от товарищей.
Шкода вцепился в его епанчу.
– Так вон оно какое твое побратимство?!
Указательный палец Василия беспомощно скользил по губам. Зубы крепко прикусили усы и не выпускали их.
– Тьфу! – сплюнул он и, понатужившись, разжал рот. – Пусти!
– Так вон оно – побратимство!
– Ей-богу, пусти! Опостылело пить задаром. Соромно в очи глазеть шинкарю.
Рогозяный Дид облапил розмысла и ткнулся слюнящимися губами в его щеку.
– Не на то казак пьет, что есть, а на то, что будет.
И сквозь счастливый смех:
– Годи нам ганчыркой[58] валяться! Будем мы за батькой Загубыколесом гулять в поле широком да кровью татарской траву поить!
Шкода толкнул Василия в открытую дверь.
* * *
Харцыз спал с лица и, к великому удивлению товарищей, не притрагивался к горилке.
По ночам он будил Василия и горько жаловался:
– Так то ж, братику, хоть в Днипро с головой… Так никакой мочи не стало терпеть… Чую, что ежели еще малость дней не пойдем в поход, – ей-богу, обхарцызю начисто самого атамана!
Выводков дружески напоминал:
– Аль запамятовал, что харцызов в Запорожьи смертью лютой изводят?
– Так на то ж и я плачусь. А как хочешь, только, ей-богу, не выдержу!
И сквозь пощелкивающие от страха зубы:
– Понадумали ж люди в лянцюгах[59] морить воров-молодцов!
Еще несколько дней крепился Харцыз. Все, что было у розмысла, он давно уже перетащил в свой угол и умолял товарища позволить ему заложить краденое у шинкаря.
– Буй ты, Харцыз! Как есть, буй неразумный! Притащишь в шинок – тут тебе и конец.
Потеряв последнюю каплю терпения, Харцыз пополз поздней ночью в курень и стащил у Сторчауса червонные, с золотыми подковами, чеботы. Его сердце наполнилось чувством неизбывного счастья: он был твердо уверен, что кража удалась на славу – еще два-три шага, и темная ночь укроет его и спасет. Щеки, приникшие к добыче, полыхали горячим румянцем.
– Коханые мои… чеботочки мои!.. – шептал он, захлебываясь и хмелея.
– Ну-ну! Блукаете, полунощники! – выругался сквозь сон Сторчаус.
От неожиданности Харцыз разжал руки. Чеботы грохнули на пол.
– Ратуйте! – разорвалось над самым ухом. – Ратуйте!
Выброшенной волной на берег рыбой забился пойманный в могучих объятиях.
– Душегуба поймал! Ратуйте, добрые люди!
* * *
Три дня продержали Харцыза на площади прикованным к позорному столбу. Рой комаров облепил его голое тело сплошным серым саваном.
У столба, на столе, стояло ведерко с горилкой.
Полные негодующего презрения, подходили к преступнику запорожцы.
– Пей, скурвый сын! – И тыкали краем ведерка в мертвенно сжатые губы. – Пей!
Василий пошел к атаману.
– Нареченного братства для помилуйте того Харцыза!
Загубыколесо ничего не ответил, только омерзительно сплюнул и указал глазами на дверь, а Рогозяный Дид и Сторчаус, когда услышали просьбу, заботливо очертили Выводкова большим кругом и принялись торопливо завораживать его от смерти:
Не на том млыну молотылося, Не у том гаю спородылося. То ж з татарами зробылося Да и з ляхом прыключылося!И затопали исступленно ногами:
– Геть! Геть от нашего Василька да до бисовой матери к тому Харцызу.
Свесив голову, Василий ушел далеко на луг, чтобы не слышать воплей товарища.
За ним увязался приставленный на всякий случай Гнида.
– Ото ж тебе лыхо, – вздыхал сокрушенно маленький казачок, поскребывая усердно хищно загнутыми ногтями тонкие ноги свои. – Ото ж, когда попутает бес на чужое позариться!
– Молчи ты! Чего увязался! – грубо оттолкнул розмысл спутника.
Гнида гордо выставил тощую грудь.
– А у нас, у казаков: кто за вора заступится, который своего брата-запорожца обворовал, тот и сам вор. А еще тебе, пан Василько, така моя мова: кто и выдаст казака, того хороним в землю живым.
Гнида помуслил пальцы и провел ими по расчесанным до крови икрам.
– По первому разу помиловал тебя атаман. А только помни: двух грехов не прощают казаки: воровства да еще того, кто Иудой окажется. Потому, знаем мы крепко: одного выдадим – всех нас сукины сыны ляхи, або татарва некрещеная, або бояре по одному разволокут.
Выводков заткнул пальцами уши и, наклонившись, закричал в лицо Гниде:
– Ежели на то приставили тебя ко мне, чтобы про израду болтать, – сам аз, без наущенья, ведаю, что краше змеею родиться, нежели Иудино имя носить!
Казачок любовно поглядел на Василия.
– Ты не серчай. От щирого сердца я с тобой балакаю. – И прислушался. – Должно, добивают Харцыза. Ишь, как хруст далеко слыхать!
Глава четвертая
С тех пор как Иван-царевич женился на Евдокии Сабуровой, Грозный утратил покой. Среди сидения в думе он разгонял вдруг советников, запирался от всех в опочивальню или пил горькую. Образ Евдокии грезился наяву и во сне, всюду преследовал его, разжигая похотливые страсти. Особенно тяжело было ночью. Стоило на мгновение закрыть глаза и забыться, как ясно чувствовалось ее присутствие. «Ты… ты мой единственный! – дразнил душу сладостный шепот. – Токмо единый ты». Солнечными лучами ложились прозрачные пальчики на желтое, вытянутое лицо и горячим хмелем кружило голову страстное, прерывистое дыхание.
Грозный пробуждался в зверином томлении, вскакивал с постели и замирал перед образом Володимира равноапостольного.
Но молитва не помогала.
Все близкие женщины опостылели Иоанну: и четвертая жена, Анна Колтовская, и Анна Васильчикова, и Василиса Мелентьева. Жену он приказал заточить в монастырь, а наложниц прогнал от себя.
В минуты, когда одиночество становилось непереносимым, царь призывал к себе Бориса, Скуратова и Фуникова и заставлял их безумолчно говорить.
Под убаюкивающее жужжание советников он часами лежал на постели, чуть покачиваясь и тщетно стремясь заснуть.
Под утро вставал, измученный бессонной ночью, и снова замирал в немой мольбе перед образом.
В опочивальню неслышно входил протопоп. Начиналась долгая монастырская служба.
После утрени Грозный подходил к Евстафию под благословение и неизменно вздыхал:
– Мнозие борят мя страсти!
– Покайся, преславной. Вынь грех перед Господом, – ворковал протопоп.
Лицо царя неожиданно багровело, и стыли в ужасе маленькие глаза.
– Не за кровь ли боярскую взыскует Бог?
Малюта возмущенно причмокивал:
– Мудрость твоя не в погибель, а во спасение души и царства.
Проникнутые глубокой верой слова советника трогали Иоанна, отвлекая ненадолго от главного.
– Ты, Евстафьюшка, помолись… равно помолись о спасении душ другов моих, невинно приявших смерть, и ворогов.
Рука, точно хобот, обнюхивающий подозрительно воздух, творила медлительный крест.
– Молись, Евстафьюшка, о душах убиенных боляр…
Протопоп послушно поворачивался к иконам и служил панихиду. Строгий и неподвижный, стоял на коленях Грозный. За ним, припав лбами к полу, молились советники.
Успокоенный царь с трудом поднимался с колен и укладывался в постель.
– Сосни, государь! – отвешивали земной поклон советники.
Иоанн болезненно поеживался:
– Токмо забыться бы – и то милость была б от Бога великая!
Едва близкие уходили, в опочивальню из смежного терема прокрадывался Федька Басманов.
– Не ломит ли ноженьки, государь? – спрашивал он тоненьким голосом, собирая по-девичьи алую щепотку губ.
– Колодами бухнут, Федюша. А в чреслах индо тьма блох шебуршит.
Басманов присаживался на постель и нежно водил рукой по синим жилистым икрам.
Грозный истомно жмурился и потягивался.
– Выше, Федюшенька. Эвона, к поясу. Не торопясь. Перстом почеши.
Нисходило тихое забытье…
– Перстом, Евдокиюшка. Выше, эвона, к поясу…
И чудилось уже шелковое шуршание сарафана, плотно облегающего упругие груди, и трепетное дыхание, и кружил уже голову горячим хмелем зовущий взгляд синих глаз.
– Прочь!
– Аз тут, государь! Федюшка твой.
– Прочь!
Опричник вскакивал и уходил.
Царь тотчас же поднимался за ним и искоса поглядывал через оконце на терем снохи.
«Дрыхнет! – зло думалось о старшем сыне. – А либо в подземелье с бабами тешится, блудник!»
Наконец Иоанн нашел выход. В одну из бессонных ночей он позвал к себе Малюту и, без обиняков, огорошил его вопросом:
– Ежели церковь расторгнет брачные узы – брак тот брак аль не брак?
Скуратов пытливо взглянул на царя и, догадавшись, какой ответ угоден ему, уверенно тряхнул головой:
– Брак той не брак!
Обняв опричника, Грозный смущенно потупился.
– Давненько аз Ивашу не видывал.
– Кликнуть, преславной?
– Не надо! Пускай тешится с бабой своей!
Для Скуратова все стало ясно.
– Что ему в бабе той? Мы ему иных многих доставим, а женушка пускай поотдохнет.
И решительно направился к выходу.
– Сказываю, не надо!
– Не за царевичем аз, государь, – за протопопом.
И ушел, приказав сенным дозорным немедленно позвать в опочивальню Евстафия.
Протопоп, выслушав Иоанна, беспомощно свесил голову.
– Не можно… То противно канонам, преславной.
– А коли аз, государь, волю расторгнуть?
– Не можно… Свободи от гре…
Его прервал свирепый окрик:
– Твори!
Иоанн замахнулся посохом на затаившего дыхание духовника.
Вошедший Малюта взял с аналоя кипарисовый крест.
– Твори!
Протопоп склонился перед киотом.
Царь умиленно закатил глаза:
– Вот и без греха ныне буду любить ее!
И позвал к себе царевича Ивана.
Давно уже не было такого веселья на особном дворе. Все были подняты на ноги: и скоморохи, и песенник, и волынщики.
Царь не отходил ни на шаг от старшего сына и усиленно подпаивал его.
Перед всенощной к пирующим пришел Грязной и, подсев к царевичу, что-то шепнул ему с таинственной улыбочкой на ухо.
– Да ну? – подмигнул Иван и зарделся. – Сказываешь, писаная красавица?
– Краше и на дне моря не сыщешь! Прямо тебе ядрена, како орех, да бела – белее лебеди белой.
Крепко ухватившись за руку объезжего головы, Иван, пьяно вихляясь из стороны в сторону, ушел из трапезной.
Грозный деловито переглянулся с Малютой и постучал согнутым пальцем по серебряной мушерме.
– Никак ко всенощной благовестят?
Опричники встали из-за столов.
– Благовестят, государь!
Легким движением головы царь отпустил всех от себя и ушел в опочивальню.
Вскоре в дверь просунулась голова Малюты.
– Доставил, преславной!
И пропустил в опочивальню укутанную с головой в пестрый персидский платок женщину.
Грозный подошел вплотную к опричнику.
– Подземельем волок?
– Како наказывал, государь!
– А царевич?
– Пирует. Дым коромыслом стоит.
И едва слышно:
– Спит да блюет. Опился до краю.
– Ну, тако. Ступай себе с богом.
Оставшись с женщиной наедине, царь сам снял с нее платок и сердечно заглянул в глаза.
– Садись. На постельку садись, дитятко красное.
Евдокия, тронутая лаской тестя, благодарно коснулась губами его плеча.
– А головушку на грудь склони мою стариковскую.
Он взял ее за двойной подбородок и приложился лбом к пухлой щеке.
– А и доподлинно ль стар аз, Дуняшенька?
– По мне, государь, еще жития тебе ворох великой годов!
– А на добром слове спаси тебя Бог, царевна моя синеокая!
Сиплое дыхание рвалось прерывисто из груди, обдавая женщину винным перегаром и дурным запахом гниющих десен.
– Ты ближе… еще…
Одна рука туго обвивалась вокруг шеи, другая нащупывала свечу на столике.
– Погасла, экая своевольница! – хихикнул царь и вдруг резко толкнул сноху. – Гаси лампад!
Евдокия бросилась к двери.
– Нишкни! Слышишь?! Аль запамятовала, перед кем стоишь?!
И рванул с нее ферязь.
– Бога для! Государь! Царевичу како аз очи буду казать?!
Иоанн потащил женщину на постель.
– А ежели единым словом Ивашке обмолвишься – в стену живьем замурую!
Скрюченные пальцы тискали пышные груди. Пересохшие губы запойно впились в холодные губы обмершей женщины…
* * *
Иван-царевич терялся в догадках. Была Евдокия цветущая и жизнерадостная, любила потешить себя другойцы плясками и веселыми песнями; своим беззаботным смехом всегда, даже в минуты хандры, умела расшевелить его и вернуть доброе настроение – и вдруг стала неузнаваемой.
Что ни день сохла она все больше и больше, по ночам жутко кричала во сне или, стиснув мертвенно зубы, билась перед образом в жестоких рыданиях и на все расспросы отвечала одними заученными словами:
– Не ведаю! Нечистый, видно, вошел в меня… Ничего не ведаю, мой господарь…
Царевич перестал пить, учинил за женой строгий надзор и никуда не отпускал ее из светлицы.
Но Грозный почти ежедневно давал сыну какое-либо срочное поручение и то заставлял его чинить опрос преступникам, то отсылал в приказы учиться приказным делам, то просто придирался ко всякой мелочи и, будто в гневе, запирал его с Борисом в крестовой, а сам, как юноша, трепещущий от восторгов первой любви, мчался стрелой в опочивальню, где ждала уже его, приведенная Малютою, Евдокия.
Однажды сноха сама пришла к нему.
– Помилуй меня, государь! – упала она на колени и облобызала царский сапог. – Не можно нам больше жить во грехе…
– Не чистый, чать, понедельник? Не срок будто каяться? Пошто в ноги падаешь?
И подняв ее, усадил на постель.
Евдокия неожиданно бухнула:
– На сносях аз, царь!
Какое-то странное чувство, похожее на брезгливость, шевельнулось в груди Иоанна и отозвалось неприятной дрожью во всем существе.
Пошарив прищуренными глазами по изменившемуся лицу снохи, он зло уставился на ее живот.
– Мой? Аль Ивашкин?
Щеки Евдокии покрылись серыми пятнами. Глаза тяжело заволоклись слезами.
– Не ведаю, государь…
– А не ведаешь – не тревожь зря царя своего!
Он с омерзением оттолкнул ее от себя.
– И не стой! Токмо бы мне, государю, в бабьих делах разбираться!
Прогнав сноху, Иоанн пошел в хоромы детей. Из терема Федора доносились пофыркиванье и кашляющий смешок.
– Покарал Господь юродивеньким! – заскрипел царь зубами и посохом открыл дверь.
Царевич сидел верхом на Катыреве и хлестал кнутом воздух. Отдувающийся боярин встряхивал отчаянно головой, ржал, фыркал и, подражая коню, рыл ногами пол. От натуги лицо его покрылось багровыми желваками и было похоже на вываливающуюся из квашни дряблую шапку теста. С каждым вздохом из ноздрей со свистом выталкивались мутные пузырьки, лопались с легоньким потрескиванием и ложились серыми личинками на желтых усах.
Увидев отца, царевич свалился на пол.
– Юродствуешь, мымра?!
– Тешусь, батюшка, коньком-скакунком… С досуга аз.
– А то бывает и недосуг у тебя?
Федор похлопал себя рукой по щекам и болезненно улыбнулся.
– Бывает, батюшка. Фряжские забавы творю. – И хвастливо показал на валяющийся в углу деревянный обрубочек. – Роблю аргамака, како навычен бе Ваською-розмыслом.
При упоминании о Выводкове, Грозный зажал сыну ладонью рот. Царевич вобрал голову в плечи и присел, защищаясь от удара.
Грозный ухватил сына за ухо.
– Ужо доберусь до тебя! Повыкину блажь! У Годунова не то будет тебе!
Катырев, как стоял на четвереньках до прихода царя, так и остался, не смея ни разогнуться ни передохнуть.
Царевич сунулся было к боярину под защиту, но неожиданно для себя упал в ноги отцу.
– Батюшка!
– Ну!
– Не вели Борису томить меня премудростию государственною.
Он чуть приподнял голову и исподлобья поглядел на безмолвно стоявшего тут же Годунова.
– Мнихом бы мне… в монастырь… – Лицо вытянулось в заискивающую улыбку. – Служил бы аз Господу Богу… (Приподнявшись с колен, царевич благоговейно перекрестился на образа.) Динь-динь-динь-дон! Тако при благовесте великопостном божественно душеньке грешной моей. А очи смежишь – и чуешь, яко херувимы слетаются над звонницею. Сизокрылые… светлые… Светлей инея светлого. И все машут, все машут крылышками своими святыми.
Боярин забулькал горлом так, как будто хотел подавить подступающие рыдания.
Иоанн с глубоким сожалением поглядел на сына и, ничего не сказав, вышел из терема.
Царевич разогнул спину и сжал кулаки. Катырев ласково поманил его к себе.
– Не гневайся, молитвенник наш. Не к лику тебе. Да и батюшка ласков был ныне с тобой.
Чтобы разрядить нарастающий гнев, Федор взобрался на спину боярина и изо всех сил хлестнул его кнутом по ногам.
– Фыркай ты, куча навозная!
Катырев грузно забегал по терему.
– Стой!
– Стою, царевич!
– Куда батюшка делся? – И приложился ухом к стене: – К Ивашке шествует. Не быть бы оказии!
…Иван-царевич холодно встретил отца и небрежно, по обязанности, едва приложился к его руке.
– А и не весел ты что-то, Ивашенька.
– Не с чего радоваться. Умучила меня Евдокия.
Он заломил больно пальцы и глухо вздохнул.
– То резва была, яко тот ручеек, что с красных холмов бежит, то ни с чего лужею киснет.
– Не сдалась бы тебе та лужа болотом чертовым!
Иван тревожно насторожился.
– Млад ты, оттого многого и не разумеешь.
Он привлек к себе сына и что-то зашептал ему на ухо.
– Убью! – вдруг рванулся царевич и бросился к светлице жены.
Услышав крик, Федор спрыгнул с боярина и испуганно подполз под лавку.
– Тако и чуяло сердце мое. По глазам батюшки зрел – будет оказия.
Вытащив из-за пазухи шелковый кисетик с образками, он достал крохотную иконку своего ангела и описал ею в воздухе круг.
– Защити меня, святителю, от длани батюшкиной и от всяческой скверны!
Грозный нагнал Ивана в сенях и насильно увел к себе.
У двери опочивальни стояли с дозором Малюта и Алексей Басманов.
– Пошли Бог многая лета царю и плоти преславной его!
Царевич гневно поглядел на опричника.
– Пошто очей не разверзли моих доселе?
– Како прознали, абие попечаловались царю.
Они пропустили Ивана в дверь и притихли.
– Не томите ж, покель сабли моей не отведали, псы!
Басманов отступил за спину Малюты.
– Воля твоя, Иван Иоаннович, а токмо похвалялся Микита, отродье князь Федора Львова, будто в подклете подземном, егда в боярышнях ходила та Евдокия, миловался он с нею изрядно.
Царевич размахнулся с плеча и ударил Басманова кулаком по лицу.
– За потварь обоих в огне сожгу!
– Сожги, царевич, токмо, что проведали, то нерушимо.
Малюта ожесточенно затеребил свою рыжую бороду.
– По то и сохнет, что тугу держит великую. Прослышала, будто на Москве Микита, и затужила!
* * *
Вотчину и все добро оговоренного князя царь отписал в опричнину.
Федора Львова с сыном доставили на Москву и заперли в темнице Разбойного приказа.
Евдокия до того опешила от неожиданности, что не могла ни слова ответить приступившему к ней с допросом мужу.
– А скажешь, тварь! – склонился к ней Иван и больно впился пальцами в ее горло.
Она еще больше растерялась и отвела взор.
– Не любо в очи глазеть! А миловаться с полюбовником любо?!
Царевич, твердо убежденный в том, что уличил Евдокию, поскакал в Разбойный приказ и приступил к пытке Львовых.
Чем яростнее оправдывались оговоренные, тем больше распалялся Иван.
Всю ночь тщетно бились с Микитой, вымогая от него признание в любовной связи с Евдокией.
Иван метался от приказа к особному двору и с звериной радостью рассказывал жене о том, как пытают Микиту.
– А утресь с ним вместе зароем тебя! Тешься тогда без опаски! – припугнул он ее под конец и ушел.
…Поздней ночью Евдокию, извивающуюся в страшных мучениях от преждевременных родов, увезли в заточение в один из отдаленных монастырей.
Глава пятая
С тех пор как не стало Евдокии, опостылела Иоанну Москва. Потянуло подальше от стольного шума и мирской суети.
Отобрав лучших своих опричников, Грозный ушел колымагами в Александровскую слободу и там дни и ночи предавался посту и молитве.
Кое-когда выслушивал он строго гонцов и советников, нехотя отдавал распоряжения и снова, запахнувшись в подрясник, шел с покаянной душой в полутемную церковку.
У крыльца, ведущего в покои, по обетованию, данному Грозным Богу, работные людишки ставили храм во имя святой Евдокии.
После обедни Грозный, подоткнув за черный кушак полы подрясника, нахлобучивал на глаза скуфейку, кланялся на все четыре стороны и помогал, во искупление грехов, работным.
Усердно перетаскивал он камни и кирпичи, отекшими ногами своими, не гнушаясь, размешивал глину и при каждом движении робко призывал имя ангела своего, Иоанна Постного.
Участливо поглядывал со звонницы на государя царский пономарь Малюта, осторожно перебирая языки колоколов.
Смиренные, великопостные перезвоны наполняли душу Иоанна тихой, примиряющей грустью.
– Благостен Господь Бог, – неожиданно разгибался он и отставлял для креста перепачканные в грязь тонкие пальцы.
Людишки нерешительно бросали работу и выжидающе поглядывали на спекулатарей.
Иоанн чуть поворачивал голову к холопям и сокрушенно вздыхал:
– Токмо бы вам, нерадивым, баклушничать.
И вновь принимался за прерванную работу.
Иван-царевич редко показывался в слободе. Собрав кружок детей боярских, он без конца бражничал и предавался охоте.
В Петров день близкие устроили для Ивана потеху, на которую, ради праздника, пришел поглядеть и царь.
В дальнем конце слободы, на кругу, обнесенном высокими палями, стоял с рогатиною холоп. Точно затравленный зверь, он беспрерывно озирался по сторонам, тщетно ища спасения.
Грозного под руки ввели на помост. Хмельной царевич сидел на балясах и, беспечно болтая в воздухе ногами, щелкал орехи. Увидев отца, он подхватил его руку, чуть приложился к ней и тотчас же отвернулся недружелюбно.
Как только царь занял свое место, дверь сарая с шумом распахнулась. На пороге показался огромный бурый медведь.
Притаившиеся на крышах стрельцы больно ударили зверя батогами по голове. Медведь свирепо оскалил пасть и с неожиданной стремительностью бросился на прижавшегося к палям холопя.
Грозный недовольно перегнулся через балясы.
– Тако царя с царевичем тешишь?!
И, сорвав с головы подвернувшегося опричника скуфейку, швырнул ее сердито на круг.
Медведь с воем подхватил скуфейку. Охотник изловчился и взмахнул рогатиной. Однако зверь, испытанный в единоборстве, не поддался обману. Едва взметнулась рогатина, он оттолкнулся в сторону, припал к земле и, подпрыгнув, подмял под себя человека.
– Другого! – свирепо зарычал Иоанн. – Да поумелей который!
Стрельцы пропустили на круг очередного охотника. Облизывая кровь, остервенелый зверь поднялся на задние лапы.
Воспаленным взглядом следили за боем царь и царевич.
Отчаявшийся холоп стрелой налетел на противника и всадил конец рогатины между его передними лапами. Медведь взвыл и грудью наддал на врага. Охотник счастливо оскалился. Исход единоборства был предрешен. Если бы зверь отпрянул назад, он избавился бы от рогатины; сделанное же движение погубило его: другой конец рогатины впился до половины в разверзнутую пасть.
Стрельцы торжественно вынесли на руках охотника с круга и поднесли ему в награду овкач вина.
Вечером, перед всенощной, царь повелел внести в поминанье задранного медведем неудачливого охотника.
* * *
Так, мирно и благочинно, текла жизнь в Александровской слободе. С украин приходили добрые вести. Царева рать взяла у ливонцев Дерпт и наступала на Ригу.
Тревожил лишь Иоанна недостаток в казне. Он знал, что с обнищавшей Московии больше нечего взять, и не очень рассчитывал на помощь русийских торговых людей.
На совете, когда Челяднин заикнулся о богатствах гостинодворцев, Грозный резко его оборвал:
– Допрежь надобно путь торговый пробить к персюкам и в еуропейские страны, а там и молвь держать сию. Покель же не одолеем ворога да не укрепим торга со басурмены, не можно в разор вводить гостинодворцев.
Фуников поддакнул царю и предложил неосторожно:
– Одолеем, преславной, Литву да ливонцев – с лихвой возместим. А ныне показал бы ты милость да пожаловал для рати коликую долю своей казны.
Грозный сморщил лоб и прищурился.
– А волил бы аз ведать, колико ты, Микита, с Ивашкой Висковатым неправедно своровал от моей казны?
Казначей смутился и отвел в сторону взгляд.
Опричники возмущенно переглянулись.
– Не можно, государь, воров имать середь особных твоих людей.
Малюта низко поклонился Грозному.
– Пожалуй суд снарядить противу воров тех.
В тот же день Скуратов, Вяземский и Алексей Басманов отправились на Москву чинить следствие.
Толпы людишек приходили в приказную избу с челобитными на дьяка и казначея.
Покончив с допросом, опричники произвели обыск в усадьбах обвиняемых и нашли, по указаниям тиунов, в земле целый склад драгоценных камней и сосудов, украденных из царевых хранилищ.
Когда Челяднин прочитал следственную грамоту о преступлениях – не только Фуникова и Висковатого, но и других приказных, опричных и земских, – Иоанн не выдержал до конца и, схватившись за голову, упал перед образом.
– Боже мой! Волкам отдал ты державу мою на растерзание!
И полный негодования, тут же приступил к суду…
Из отобранного у преступников добра царь не отдал ни деньги на содержание рати.
– То мое уворовано! – фыркал он злобно и торопливо подсчитывал на сливяных косточках отобранную казну. – А что у людишек неправедно оттянули – и то мое! Мое то, ибо и людишки русийские все мои!
По Московии были разосланы гонцы, возвещавшие о боярах и опричниках, приговоренных к смерти за мшел.
На казни Фуникова и Висковатого присутствовали сам царь и Иван-царевич.
Сгорбившийся и в одну ночь поседевший казначей обезумевшим взглядом следил за тем, как облачали дьяка в холщовый саван и, после долгих издевательств, поволокли на виселицу.
Когда очередь дошла до Фуникова, Малюта вытащил из узла связку соболиного меха.
– Не инако, государь, любо было Микишке в тепле себя хоронить, коли соболями полны скрыни набил!
Грозный зажал в кулак бороду.
– А коли по мысли вору тепло, – потешим его теплом тем да пожарче!
Каты сорвали с казначея одежды и подвесили его за плечи к перекладине подле котла с кипящей водой и варом.
Царевич взобрался на лесенку, принял от дьяка ведро с кипятком и обдал с головы до ног приговоренного.
В то же мгновение Скуратов вылил на Фуникова ушат студеной воды.
– Чтоб не упрел, голубок!
Жестокий крик вырвался из груди пытаемого и потонул в тихом утреннем благовесте.
– Не дюже! Не беленись! – захлебывался Грозный, подсказывая сыну, как лучше орудовать с ведрами.
После обедни Иоанн, постукивая посохом, направился трапезовать.
Борис, сказавшийся накануне больным, пришел в трапезную последним.
Царевич подразнил его языком.
– Проглазел ты потеху!
Годунов притворно вздохнул и стал подле аналоя.
– Из Новагорода гости челом тебе бьют, государь, – сообщил он и, поморщившись от боли, ухватился за поясницу.
– Из Новагорода? – переспросил царь. – Чего им еще?
Борис внимательно поглядел на Грозного.
– Богат и славен тот Новагород, мой государь! Много сказывают те гости, злата и каменьев бесценных у зацных[60] людей да в монастырях!
Он помолчал и, заметив, как все жадно насторожились, прибавил завистливо:
– Лифляндцы, литовцы, ляхи, шведы, фряги с фламандцами – все охочи до Новагорода, до торга его могутного.
Иоанн привстал и больно сдавил руками виски.
– Да эдак-то, ежели и фряги и шведы… ежели попустить – чего доброго, и на Москву ничего не застанется…
Челяднин шумно отставил от себя миску с кислыми щами.
– И то, государь, наши гостиносотенцы печалуются на торг новагородской! – Он разгоряченно вышел из-за стола. – Давеча, царь, держали мы с Годуновым думу и порешили…
– Ведаю! – перебил его царь и отвернулся к оконцу.
Борис откашлялся в кулак и опустился на колени.
– Дозволь, государь!
– Дозволь… все дозволь! А проку от вас, что от чиликанья воробьиного.
– Пожаловал бы ты, како допрежь, позакрывать дворы торговые в Новагороде да большую толику новагородских и псковских торговых гостей на низ увести, в низовые новагородские земли.
Малюта разочарованно оттопырил губы:
– И кака в том радость, в уводе?
На лице Иоанна плеснулась снисходительная улыбка.
– В ратном деле да в израде – орел ты, Малюта. Ну а для государственности не вышел умишком. Не взыщи. Не вышел, Малюта.
И, смачно обсасывая голову вареной стерлядки, потрепал свободной рукой по щеке опричника.
– Тех на низ, а московских гостиносотенцев замест их посадить. Разумеешь затею Борисову? Чтобы торг-то с басурмены не новагородцы, а наши людишки вели.
Расцветший Годунов торопливо прибавил:
– Да чтоб некому было чмутить!
– Чмутить чтобы некому! – поддакнул Иоанн, стукнув братиной по столу.
Челяднин причмокнул уверенно:
– На свою погибель милуются те новагородцы через богомерзкого Курбского да литовского короля с погаными ляхами. Перехватили мы грамоту…
Острыми углами приподнялись плечи царя.
– Волю утресь же зрети те грамоты!
* * *
– Израда! Израда! – трезвонили усердно по Московии языки. – Ляхам Новагород замыслил отдаться! Сам митрополит Филипп благословил игумена уволочить тайно святыни монастырские на Польшу премерзкую!
Воеводы и окладчики скликали рать.
Холопи, вооруженные бердышами и стрелами, покорно готовились к бою.
Пять полков подтянулись к Москве. В середине шел полк, главный над четырьмя остальными. Воеводство над ним принял сам Иоанн.
Против рати царевой поднялся весь край новагородский.
Грозный, прежде чем начать бой, отправил послов в противный лагерь.
– Не люба государю кровь человеческая, – объявили послы. – Отдайтесь на милость цареву, и не сотворит он над вами недоброго.
Новагородцы дерзко посмеялись над словами Грозного.
– А кто может устояти противу Бога да и Господина Великого Новагорода? – кичливо кричали они вдогон ускакавшим послам.
Взбешенный Иоанн в ту же ночь выступил в поход.
Две недели держались дружины новагородские. Наконец Грозному удалось обложить город.
В последний раз он объявил осажденным:
– Ежели не отдадитесь на милость мою – в Волхове утоплю всех крамольников!
Дружины ничего не ответили и приготовились к обороне.
Под градом стрел, презирая смерть, бесстрашно гнал Малюта к стенам полки.
Утром, с лихими песнями и победными трубными кличами, рать прорвалась на улицы города и сразу же приступила к погрому.
На другой день, окруженный сотней опричников, в Новагород прискакал Иоанн.
У заставы его встретил архиепископ Феофил.
– Ты бы римской церкви поклон отвесил, Иуда, а не мне, царю православному! – с омерзением сплюнул царь.
Феофил поднял клятвенно руку.
– Верую, государь, во едину святую соборную и апостольскую церковь и такожде исповедую едино крещение, яко и ты, преславной!
Поклонившись до земли, он благословил опричников и обратился к царю:
– Не покажешь ли милость, не откушаешь ли в смиренной моей обители хлеба-соли с дороги?
Царь переглянулся с Малютой и смежил глаза в задорной усмешке.
Предвкушая потеху, Скуратов потер с наслаждением руки.
– Покажи милость архиепископу, царь!
И, уловив утвердительный кивок, повернулся к опричнине:
– Коли по чести, горазды и мы пожаловать архиепископа честью!
Стрельцы и ратники, разместившись в усадьбах торговых людей, устроили пир.
Изголодавшиеся людишки в мгновение ока уничтожили все найденные съестные припасы.
По улицам сновали женщины и с замирающим сердцем заглядывали в изуродованные копытами лошадей лица убитых.
Солнце посылало земле последние улыбчатые лучи свои. Над Волховом мирно расстилался тающий полог тумана. На город спускались тихие, предвечерние сумерки…
Глава шестая
Грозный продрал глаза и тупо уставился в усыпанную золотистыми звездами подволоку.
– Где мы? – обдал он винным перегаром Малюту.
Опричник, стоявший всю ночь с дозором подле входа, подскочил к царевой постели.
– В трапезной архиепископской, государь!
И, заметив испуг на припухшем от хмеля и сна лице Иоанна, успокаивающе указал на дверь.
– Полны хоромины наших людишек. Не тревожься, преславной!
В трапезную, под дозором Алексея и Федьки Басмановых, вошел монах.
Царь почтительно поднялся с постели и сложил пригоршней ладони.
– Благослови, отец.
Монах смущенно остановился.
– Ты, государь, пожалуй меня своим благословением.
– Бла-го-сло-ви!
Острый конец посоха хищно цокнул о пол.
Лихорадно задергались тонкие губы монаха, и широко раздавшиеся зрачки застыли на кулаке, судорожно стиснувшем посох.
– Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиня-града Златоустова, святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет тя, яко благ и человеколюбец.
Приняв благословение, Грозный отвесил земной поклон и покаянно обратился к иконам:
– От юности моея мнози борют мя страсти; но сам мя заступи и спаси, Спасе мой!
Исполнив свой долг перед Богом, он деловито шепнул Басмановым:
– Абие воздать бы милость архиепископу.
И к монаху:
– Облачился бы владыко в ризы пасхальные да пожаловал к нам!
Малюта собрал на дворе всех послушников и огорошил их чудовищной вестью:
– По царевой великой милости, попируете ныне, отцы, на свадьбе владычней.
Старичок-келарь с ужасом поглядел на безмолвных монахов и бесстрашно шагнул к Скуратову:
– Ирод! Иуда! Холоп Вельзевулов!
Стрельцы набросились на старика и уволокли его в погреб.
Послушники попятились незаметно к воротам.
Покорный зову царя, Феофил немедля явился в трапезную.
– Благослови тебя Бог, государь!
– Благословено имя Господне отныне и во веки, – благоговейно собрал губы Иоанн. – А за хлеб за соль, владыко, жалую аз тебя…
Он замолчал и неожиданно усиленно подул на пальцы.
Басманов неожиданно облапил Феофила.
– Жалует тебя государь женою пригожею!
Архиепископ добродушно улыбнулся.
– Вот люди сказывают, что грозен наш царь, а ты и с постели тешишься, яко младенец безгрешной.
Иоанн притопнул на захохотавшего Федьку Басманова и привлек Феофила к себе.
– Хоть ты и древний старик, а мужем будешь еще на славу. Тако аз сказываю?
– Тако, преславной! – не переставая улыбаться, закачал головой архиепископ.
– А ежели тако, внемли!
Царь зло оттолкнул от себя старика.
– Не любо было тебе быть православным, молись римской ереси, богоотступник…
Со всех монастырей, с богатыми свадебными дарами, собрались игумены и иеромонахи в архиепископские покои.
Когда все приготовления были готовы и стрельцы выволокли на двор отчаянно упиравшегося Феофила, – на крыльцо не спеша вышел царь.
Понуро построились монахи в круг.
Среди двора, со связанными на спине руками, стоял старик-келарь.
Стрельцы открыли ворота и пропустили Скуратова, торжественно ведшего на поводу белую жеребую кобылу.
Иоанн низко поклонился архиепископу:
– Вот жена твоя, еретик! Скачи на ней, горлице ясной, на Москву да послужи под конец живота волынщиком пляшущему медведю!
Феофила усадили насильно на лошадь.
Келарь, не помня себя, рванулся к царю.
– Басурмен! Вельзевул!
Владыко остановил его жестом руки.
– Не сокрушенно, а радостно заповедано Христом идти на мученичество во имя его!
Опричники связали ноги Феофила под брюхом лошади и накинули на шею его пеструю ленточку, привязанную к волынке.
Келарь рухнулся наземь.
– Сокруши, Господи, нечестивых!
– Умолкни! – гневно прикрикнул архиепископ. – То воля Божия!
И повернулся гордо к царю:
– То не истина, что творишь ты с Русией, а испытание Божие за грехи! То не истина, что возвеличил ты худородных, а господарей предаешь позорам некаким и мученической кончине!
– Обрядить его в колпак скомороший! – едва сдерживаясь, чтобы не вцепиться в горло владыке, крикнул Грозный и вонзил посох в круп лошади.
С мертвящим ужасом следили новагородцы за скачущим архиепископом.
Федька Басманов с улюлюканьем мчался за всадником, волоча за собой на капкане мертвого келаря.
Малюта выгнал монахов на улицу.
– Гони их к владыке! – приказал Грозный и вскочил на аргамака.
Высоко задрав подрясники, монахи, преследуемые ратниками, побежали по городу.
– Гуй! Гуй! Гони их, еретиков!
Вдоволь натешившись, царь свернул в хоромы торгового гостя Сыркова.
– Волю попировать у могутнейшего из зацных! – насмешливо поклонился он закованному в железы хозяину и поднес к его рту корец вина. – Пей, Федор, перед дорожкою к ляхам!
Сырков плотно стиснул зубы и отвернулся.
Малюта больно ущипнул его.
– А не люба тебе царева подача, отведай песьей кровы своей!
И кулаком ударил скованного по щеке.
* * *
Вечером Грозный обрядился игуменом и сам отслужил торжественное молебствование. Собор был полон согнанными со всех дворов новагородцами.
Усердно, по монастырскому чину, молился царь. Ему благоговейно прислуживал Федька Басманов.
Опричники, не поднимаясь с колен, вполголоса подпевали дьячкам.
Иоанн вышел на амвон благословить молящихся.
– Ко кресту! – зашептал Друцкой сбившимся в левом притворе женщинам.
В тихой молитве едва колебался клин бороды Иоанна; рука, сжимавшая серебряный крест, размеренно тыкалась в губы женщин, а прищуренный взгляд неотрывно щупал окаменевшие лица.
Друцкой, заметив наконец как царево лицо зарделось в мимолетной улыбке, уверенно подошел к девушке, приложившейся ко кресту, и торопливо увел ее на паперть.
За ним с воем побежала какая-то старуха.
– Отдай! – обхватила она ноги опричника.
Друцкой мигнул стрельцам.
Старухе заткнули рот и уволокли…
Ночью Федька Басманов услышал сквозь сон чьи-то сдержанные рыдания.
– Аль баба? – насторожился он и пошел на звуки.
В каморке, под лесенкой, связанная по рукам и ногам, лежала уведенная Друцким из церкви девушка.
Федька зажег сальный огарок и склонился над полонянкой.
– Откель принесло тебя, красная?
Девушка оттолкнулась в угол. Воспаленные от слез глаза ее с мольбой и страхом уставились на опричника.
– Кромешник ваш с разодранным ухом сказывает – для царя меня уготовал.
Басманов заскрежетал зубами.
– Сызнов Друцкой замест бабы потваренной охальничает!
Коротким взмахом кинжала он разрезал веревки.
– Ты нишкни, красная, а аз поглазею дозорных.
На крыльце, у окон и по всему двору стояли стрельцы. Опричник понял, что уйти незамеченным из хором невозможно, и торопливо вернулся в каморку.
– А не тешиться ему с тобой, красная! – горячо шепнул он полонянке и, прежде чем она успела что-либо понять, пырнул ее кинжалом в грудь.
Вскоре в опочивальню Грозного ворвался Друцкой.
– Израда, царь!
И робко:
– Убили ту девку, преславной…
Царь гулко вздохнул и почувствовал, как по всему телу пролилась сладостная истома.
– Буй! Нешто можно тако пугать по ночам!
Разувшись, Федька Басманов пробрался в опочивальню.
– Ты, что ли, Федька? – чуть приподнял голову Грозный.
– Аз, государь! – тоненьким бабьим писком откликнулся опричник и, складывая бантиком губы, колышущейся походкой подошел к постели.
– Ноженьки растереть бы тебе на сон, государь. Чать, за день-деньской притомился!
И теплой ладонью нежно провел по бугристым икрам.
Истомно потягиваясь, царь привлек к себе Федьку. Неожиданно он привскочил и вцепился опричнику в волосы.
– Никак кровь на тебе?
– Помилуй, царь! Откель ей тут взяться?
Но смущенно забегавшие глаза выдали его с головой.
– Откель, мымра?! А не ты ль девку ту поколол?
Федька попытался улыбнуться, но, встретившись с хмелеющим взглядом царя, отскочил к двери.
– Откель, смерд?!
Опричник вылетел из опочивальни.
* * *
Утром, после обедни, Грозный приказал вывести Сыркова на двор.
– Сказывай! Честью прошу – куда казну схоронил!
Федор скривил лицо в презрительную усмешку.
– Авось кромешники твои и без подсказа найдут! На то и воры, чтоб чужое песьим духом учуять!
– Ну-у, ты!
– Ну, аз! Эка, признал-таки!
Грозный покрутил в кулаке клин бороды.
– Не в Волхове ли потопил?
Полонянник таинственно прищурился.
– А ты поглазел бы, московской князь!
Малюта замахнулся на Сыркова ножом, но вдруг, осененный удачной мыслью, повернулся к царю:
– А не поглазеет ли сам хозяин казну свою в Волхове?
На длинной веревке потащили Сыркова по городу.
У реки Друцкой сорвал с его шеи крест.
– Пригож с водяными и безо креста!
Усевшись с близкими в ладью, Грозный намотал на руку конец веревки, которой был связан торговый гость, и приказал отчалить от берега.
– Живуч же ты, Федор! – развел царь удивленно руками, когда вытащенный из реки Сырков пришел в себя. И склонил добродушно голову на плечо. – А что гожего, добрый человек, видывал ты под водой?
Сырков собрал весь остаток угасающих сил и судорожно сжал кулаки.
– Великой князь! Видывал аз, како собрались водяные Волхова, Ладоги, Ильменя и, твоей души сдожидаючись, рядили изрядно, в какую преисподнюю да каким кромешникам бросить ее, окаянную!
Иоанн улыбнулся.
– Добро ты узрел! – И с жутким спокойствием потрепал пытаемого по лицу. – Волю аз поглазеть, како душа моя в преисподней будет кипеть!
Он помолчал немного и, смакуя, прибавил:
– Подвесить его к дыбе, да тако, чтобы колени в котел приходились с кипящим варом, да варить, покель душа моя не приобыкнет да покель не поведает он, куда казну схоронил.
Извиваясь в страшных мучениях, Сырков упорно молчал до тех пор, пока не почувствовал, что теряет рассудок.
– Под трапезной… Третья половица ошую окна! – захлебнулся он и без чувств упал на Басманова.
Когда короба с казной и драгоценностями были найдены, опричники изрубили в куски тело Сыркова и бросили в Волхов.
– Ляхам челом ударь! – ревел исступленно Малюта. – Да пониже римской ереси поклонись!
В тот же день казнили всех знатных новагородцев, обвиненных в тайных сношениях с Польшей.
Река кипела криками утопающих и молодецкими песнями опричных людей. Рогатинами, копьями, баграми и топорами били стрельцы по головам осмеливавшихся вынырнуть из воды.
Скуратов, распоряжавшийся казнью, изнывал от усталости, но никому не доверял, сам деловито привязывал детей к женщинам, кошек к груди стариков, камни к ногам юношей и по счету передавал стрельцам.
– Топи их, еретиков!
* * *
Расправившись с Новагородом, Иоанн облачился в смиренные одежды и пошел колымагами на Александровскую слободу.
Связанных холопей, после долгих свар, поделили между собой опричники и угнали в свои поместья.
Обоз из трехсот подвод с золотом, серебром, драгоценными камнями, деньгами и иной добычей, захваченной в хоромах знатных новагородцев и в ста семидесяти пяти разоренных монастырях, сильные отряды ратников препроводили в слободу.
Отслужив благодарственное молебствование, Иоанн отправился к церкви Святой Евдокии встретить обоз.
Упрятав деньги и драгоценности в церковное подземелье, Грозный сам помог вделать в церковь соборные врата, увезенные из Новагорода.
Ключи от врат он не передал келарю Вяземскому, а предусмотрительно повесил себе на грудь.
Глава седьмая
Рогозяный Дид и Шкода вернулись с разведки, полные гордого сознания блестяще выполненной задачи.
Вытащив из ладьи добычу, завернутую в рогожу, Шкода взвалил ее на плечи и, не отвечая на любопытные расспросы обступивших его запорожцев, пошел к кошевому.
Казаки двинулись за ним возбужденной гурьбой и, не надеясь добиться у товарища толку, высказывали самые чудовищные предположения о тюке. Едва кто-либо пытался приблизиться к добыче, – Рогозяный Дид свирепо сучил рукава и так скалил зубы, что и у самых отчаянных головорезов отшибало охоту связаться с ним.
– Ото ж я тебе, батько, бубенцов достал для волов. Чтобы, когда будешь ехать, вызванивало легонько да нечистую силу в поле пугало, – таинственно подмигнул Шкода атаману и бросил поклажу на землю.
В рогоже что-то хряснуло и беспокойно заворочалось. Загубыколесо томительно медленно раскурил люльку, сочно затянулся угарным дымом и, сунув руку за пояс штофных шаровар, с наслаждением почесал низ живота.
Тут уж не мог стерпеть даже выдержаннейший по спокойствию Сторчаус.
– Вижу я, коханые мои паны, – ядовито ухмыльнулся он, – что атаман по щирому своему сердцу задумал поделить тот гостинец: половину бубенцов своим волам оставить, а другую долю – панам-молодцам на тарпанов отдать.
И выхватил из ножен молнией сверкнувшую на солнце кривую саблю.
Шкода едва успел удержать его руку.
– Ты ж, бисов Сторча, чуть не отправил на шибеницу некрещеную душу!
Сгоравшие от любопытства запорожцы расцвели в блаженной улыбке.
Нерыдайменематы, не задумываясь, наступил на тюк.
– Поперхнись я первою чаркою, коли бубенцы те по-татарски не брешут.
Прошмыгнувший между ног Шкоды Гнида, бесшабашно посвистывая, пырнул ножом по швам рогожи.
– Вылезай трошки побалакать до купы, – нежно попросил он и постучал кулаком по тому месту, где должна была находиться голова полонянника.
– Язык? – все еще не доверяя себе, заискивающе уставились запорожцы на Рогозяного Дида.
– А может быть, и язык.
И только когда из рогожи высунулась бритая голова татарина, Рогозяный Дид многозначительно переглянулся со Шкодой и важно заложил за спину руки.
– Не пойму я вас, паны-молодцы! Зачем мы и в поле ходили, ежели не языка изловить?
Он снял шапку и любовно погладил свой оселедец.
– А еще не случалось такого, чтобы Шкода да Рогозяный Дид с разведки без скурвых сынов ворочались!
Широко раздувшимися ноздрями татарин жадно глотал воздух и, казалось, не обращал никакого внимания на запорожцев. Пушок его бороды, едва окаймлявшей приплюснутое лицо, при каждом вздохе корежился и подбирался к вискам желтой муравьиной стайкой. Узенькие щелочки глаз сомкнулись, и лишь легкое колебание бесцветных бровей говорило о том, что полонянник исподволь наблюдает за окружающими.
Атаман внимательно оглядел языка и пустил в него едкую струю дыма.
– Покажи нам очи свои! Чего, скурвый сын, очи прячешь от нас!
Татарин облизал языком губы и что-то забулькал горлом.
– Да, ей-богу, он разумеет мову христианскую! – разочарованно развели руками казаки. – Стреляный, видать, горобец!
Писарь наклонился к полоняннику и что-то спросил его по-татарски.
Бритая голова татарина собралась серыми бугорочками и стала похожей на прибрежную известковую выбоинку, источенную водой, временем и насекомыми.
– Брысь! Не кохайся с паскудой! – крикнул раздраженно Рогозяный Дид и, вцепившись в грудь полонянника, поднял его с земли.
– Будешь балакать?!
До вечера бился Рогозяный Дид с языком, тщетно пытаясь что-либо выпытать от него.
Кошевой приказал разложить костер.
Татарин сразу оживился и стал проявлять большую словоохотливость.
После допроса его заковали в лянцюги и увезли в кышло.
– Ежели набрехал, – погрозился Василий, – изрублю тебя, како того Угря на Москве.
Татарин отчаянно затряс головой.
Выводков передал полонянника в селение и наказал беречь его пуще очей.
На другой день гонцы поскакали по кышлам скликать казаков на рать.
Аргаты[61], крамари[62] и землеробы побросали, не задумываясь, хаты свои, вооружились рушницами, пистолями, боевыми молотами-келепами и ушли в Сечь.
Рогозяный Дид неустанно шмыгал среди молодых казаков, устраивал опытную стрельбу и учил, как обращаться со списами[63].
Перед тем как выступить в поход, Дид сам обрядил Василия.
Обвешенный кинжалами, ножами, пистолями, рогами, полными пороха, с кожаной пряжкой на груди, набитой патронами, Выводков лихо вскочил на коня.
– Чисто Илья-пророк за густейшею хмарою! – восхищенно похлопал Дид по колену розмысла. – И на рыле твоем прописано: раз родила мене маты, раз мене и умираты, хай вы галушкою поперхнулись, басурмены нечистые!
Он хотел еще что-то сказать ласковое, отечески-сердечное, но вдруг задергалась верхняя губа его и повлажнели глаза.
– Стара стала кобыла! – обругал себя Дид и, чтобы не выдать волнения, оглушительно высморкался.
– Славное низовое товариство! – зычно прорычал атаман, повернув коня к приготовившимся в путь запорожцам.
Все благоговейно сняли шапки.
Долго говорил Загубыколесо, сдабривая речь смачной бранью против татар. Горячей волной хлестало по душе казаков каждое проникновенное слово его. Огоньки глаз остро и вызывающе резали дали, перекидывались за рокочущий Днепр и жадно щупали просторы Дикого поля.
Наконец по знаку кошевого, товариство ринулось в путь.
За Днепром войско разбилось на два отряда. Меньший отряд с Василием, Шкодой и Рогозяным Дидом поскакал к полудню.
– Мудруй, Бабак! – приказал Дид Василию. – Бо ты до этого дела сподручней!
Розмысл достал из-за голенища аккуратно сложенный лист бумаги и потряс им в воздухе.
– Ежели не сбрехал язык, лихо достанется той татарве, паны-молодцы!
Он долго изучал местность, сличая ее с чертежом, набросанным со слов языка, и, выверив все, погрозился в сторону татарских кочевищ.
Казаки немедленно приступили к разбрасыванию якирцев.
– Ни дать ни взять – якирцы наши, паны-молодцы, что те птичьи лапы! – в сотый раз восхищался розмысл запорожскому умельству. – И три передних перста, как быть тому подобает, и задний четвертый.
И задумчиво поворачивал голову в сторону далекой Московии.
– Коли даст бог живота, попотчую ужо якирцами цареву конницу!
Отряды сошлись на другой день к вечеру.
– Тут ли заночуем, а либо дале поскачем? – спросил нерешительно кошевой, но тут же рявкнул: – Кто за мной, орлы степовые, гукайте коней!
И помчался вперед.
Молодо-звонко, забывая о ноющей старческой боли в ногах, затянул Рогозяный Дид любимую песню свою:
Гей, из широкого степу, З вильного роздолля…Рокочущими волнами подхватили казаки:
Вылитала орлом сизым Та славная воля!..Гнида, засунув два пальца в рот, заглушал всех свирепым свистом.
Дид приподнимался на стременах, молодецки размахивал келепом и бушующим ураганом рвал степные просторы:
Збыралыся козаченькы В раннюю денныцю, Злыталысь орлыченькы Чуючы здобычу…Кошевой палил, как из пушки, не отставая от Дида:
Выступалы козаченькы В поход з пивночы…А все войско подхватывало бесшабашно:
Злыталыся орлыченькы Клювать вражи очи…Степь, как море. Всюду, куда ни сверни, – колеблющаяся, живая ткань небосвода.
Но не запорожцу бояться заблудиться и пропасть в Диком поле. Ни к чему ему наглухо заросшие густой травой дороги. Есть иные пути, которых никаким умельством не скрыть от казака. Скачет он днем по солнцу, примечает и высокие могилы, и скрутни травы. Кому другому и в голову не взбрело бы, а запорожцу каждый шорох в степи – примета верная.
Не заблудиться казаку и в темную ночь. Вон в бархатной камилавке далекого неба – Воз[64] протянул оглоблю свою в сторону Сулеймановских орд; Волосожар[65] тоже не дремлет, верой и правдой норовит послужить запорожцу, подмигивает по-братски на заход солнца; а уж Ерусалим-дорога так та на то и проложена Богом, чтоб споручествовать крещеной Сечи.
Бывает и так, что наводили татары и ляхи чары на славное низовое товариство. Вдруг, ни с того ни с сего, набегают на звезды густые тучи, и становится в небе, как в курени, когда раскурит казачество бездонные люльки свои. Но и тогда ухмыляется запорожец в длинный свой ус, обнюхивает глухую мглу и уверенно пришпоривает коня.
«Не быть тому, чтобы хоть с мотыльковый лёт, а не дул какой-нибудь самый завалящий бы ветер!»
Дикое поле – не хата: не скроешь в нем дыхание земли. То Москаль вдруг дохнет, то Басурмен, а то и Донец с Ляхом поспорят. И попытайся после такого! Скрой от очей казацких пути-дороженьки степные!..
Скачет войско по Дикому полю под началом Загубыколеса.
Однако не слышно уже ни песен лихих, ни молодецкого посвиста: по примятой траве да по едва уловимому шуму чуют казаки притаившуюся татарву.
И не дело как будто скакать напролом орде, а надо, обязательно надо показаться ей невзначай и свернуть ветром на полдень, в сторону, где разбросал Бабак-Василько якирцы. Только бы аргамаки Девлет-Гирея отведали тех якирцев – завели бы тогда запорожцы потеху!
В задних рядах, покрякивая, скачет Сторчаус. Растрясло его, а может, и продуло каким-нибудь завороженным ветром. Ломит голову, хрипит какая-то чертовщина в груди, и в спине такая катавасия, будто сотня татар списами в ней ковыряет! Ни вздохнуть, ни разогнуться, как надо бы настоящему сечевику.
Атаман посоветовал было вернуться в Хортицы, но Сторчаус так зарычал на него, что пришлось стремя голову замешаться в войске и всю ночь ни единым духом не выдавать себя.
– Не спокину товариства, покель очами вожу! Не такой уродился я, чтобы под бабьей спидницей воевать! – ворчал злобно больной и с отвращением пил то и дело из фляги единственное от всех болезней целебное зелье – горилку, густо сдобренную порохом, солью, тютюном, крапивным настоем и красным перцем.
* * *
Язык не обманул. Крымцы неуклонно двигались в указанном им направлении. Василий с десятком казаков поскакал вперед и показался татарам.
Во вражьем стане поднялся переполох…
Сутки скакали запорожцы по полю, не принимая боя.
Наконец передовые отряды крымцев были увлечены в сторону, где Выводков разбросал якирцы.
Попавшие в ловушку татары с проклятиями бросились назад, к своим. Их окружили тесным кольцом запорожцы.
– За волю за молодецкую! За Сечь православную! – ревел, позабыв о хвори Сторча, орудуя саблей, точно косой.
С залитым кровью лицом в самую гущу ворвался Василий. Вдруг вдали показался бешено скачущий Дид.
– Обошли! – надрываясь, кричал он и отчаянными жестами звал за собой.
С захода на казаков двигалась вражья конница. Ей навстречу несся с головным отрядом Загубыколесо.
Враги сошлись в лоб. Орды росли и смелели.
Василий, как только услышал предупреждение Дида, отделился с десятком и незаметно зашел в тыл татарам.
Засыпав порохом дугу травы, розмысл поджег фитиль.
Громовой раскат оглушил орды и посеял смятение в их рядах. В суеверном ужасе татары отступили к восходу.
Загубыколесо не дал опомниться врагу и всей силой ринулся в бой.
Пламя, вспыхнувшее от взрыва, разрасталось. Ветер гнал багровые языки полыхавшей травы в сторону смятенно бегущих орд.
* * *
Нагруженные богатой добычей, запорожцы весело двинулись в обратный путь.
Недалеко от Днепра тяжело раненный Сторчаус с трудом вылез из отбитой у крымцев арбы.
Василий, с перевязанным лицом, сам еле державшийся на ногах от невыносимой боли в простреленном подбородке, заботливо подошел к товарищу.
– А не приложить ли свежей землицы к тем язвам твоим? – И, смочив слюной горсточку земли, приготовился помазать ею раны.
Сторчаус закрыл глаза и болезненно улыбнулся.
– Паны-молодцы! – крикнул Выводков удаляющемуся войску. – Назад, паны-молодцы!
Безжизненно свесилась голова Сторчауса, упавшего на руки розмысла. Умирающий, напрягая все свои изможденные силы, что-то неслышно шептал.
– Аль худо, дедко? – встревожился Выводков и уложил старика на траву.
Подоспевшие казаки печально сгрудились подле Василия.
Рогозяный Дид склонился над раненым.
– Годи тебе ганчыркой валяться! Седай на конька да в шинок! Чуешь, друже мой верный? Чуешь ли, братику?
Сторчаус приоткрыл глаза и легко, почти без напряжения, зашелестел холодеющими губами:
– Прощевай, Диду, годи! Помордовал на земле, да пора и в родную хату!
По его лицу расплылась тихая, умиротворенная улыбка.
– Как просил у Бога, так и сробилось. Помираю я не под спидныцею бабьей, а в чистом поле молодецкою смертью…
Голос его слабел и прерывался. В горле жутко булькала кровь, с каждым словом все больше набиваясь во рту отвратительной, клейкой жижицей.
– Хай живе Запорожье! – выдохнул он вместе с отлетевшей жизнью.
Казаки сняли шапки и поклонились покойнику до земли.
* * *
Не высыпали, как раньше бывало, навстречу казакам поджидавшие их мирные поселяне.
Пусты были разоренные кышла. Пока шли бои в Диком поле, часть орды сделала крюк и бросилась на поселки.
Крымцы не оставили камня на камне. Лишь горсточка людей вовремя укрылась в больших селах. Остальные были или перебиты или угнаны в полон.
Невольникам связали руки, расставили в ряды десятками, сквозь ремни продели шесты и, набросив на шеи веревки, повели в сторону Крыма.
Цепь верховых крепко держала концы веревок и немилосердно похлестывала полоненных нагайками.
Немногие выдержали бесконечную дорогу, бессильно падали, умирали.
Раз в день, на коротких привалах, невольников кормили павшими лошадьми.
Дети, наваленные крикливой кучей в большие корзины, давили друг друга и задыхались.
Высохшими скелетами добрались пощаженные смертью до турецкого города Кызыкерменя, расположившегося скученным грибным полем на правом берегу Днепра.
Прослышав о прибытии полоненных, в Кызыкермень съехались торговые люди из Кафы[66], Хазлева[67] и Хаджибея[68].
Невольников привели на рынок, ютившийся подле мечети.
С минарета за кгаурами внимательно следил муэдзин. Облюбовав несколько девушек, он призывал хозяина и милостиво объявлял, что оставляет за собой невольниц.
Хозяин морщился, гулко глотал слюну, но все же покорно прикладывал руки к груди и лбу.
– Все, что просит у верных муэдзин, разве может отказать ему кто-нибудь? Бери для Аллаха!
Девушек вели через площадь и, связав, бросали в низенький, сложенный из камня сарай.
Торговые люди деловито разглядывали полоненных, тыкали кулаками в их груди и икры, раздирали пальцами рты и подсчитывали, как при покупке коней, зубы.
– Старье! Много просишь за падаль!
Продавцы возмущенно всплескивали руками:
– Если такое золото – падаль, то какое золото – золото?
Глава восьмая
Главные силы Девлет-Гирея неуклонно продвигались к Московии.
На берегу Лопасни, в Молодях, хан обратился к князю Михаиле Ивановичу Воротынскому:
– Ведомо мне, что у царя и великого князя земля велика и людей множество: в длину земли его ход девять месяцев да поперек шесть месяцев, а мне не дает Казани и Астрахани! А либо одну Астрахань, потому – сором мне от турского султана: с царем и великим князем воюю, а ни Казани ни Астрахани не возьму и ничего с ним не сделаю.
Грозный упал духом, узнав о требовании Девлет-Гирея. Созванная им дума ни к какому решению не пришла.
Земские настаивали на том, чтобы отдать временно крымцам Астрахань и тем спасти от разорения всю Московию. То же советовали Иоанну князь Вяземский и Басманов.
С вторжением татар одна за другой приходили с различных украин недобрые вести.
В Ливонии русийскую рать оттеснили от Дерпта: Литва и Польша, пользуясь набегом крымцев, готовились к наступлению. А тут еще дошли грозные слухи о том, что казаки отрезали все торговые пути и скликают вольницу в поход против вотчинников и других помещиков для вызволения холопей из кабалы.
Распустив думу, царь вызвал к себе Годунова:
– Аль и впрямь смириться мне перед татарином?
Борис напряженно задумался. Грозный терпеливо ждал, вычерчивая что-то посохом по каменному полу.
– Царь! – переступил наконец неуверенно с ноги на ногу Годунов. – Лихо на украйнах.
– Про то аз и сказываю тебе.
– А токмо, преславной, тако прикидываю аз неразумным умишком своим: противу ливонцев у нас одна сабля, противу ляхов да Литвы, государь, другая.
Он загнул два пальца и снова задумчиво наморщил лоб.
– Коликим еще саблям счет поведешь? – теряя терпение, просипел сквозь зубы Грозный.
– Еще, преславной, противу казаков вострая сабля потребна. Не опрокинулись бы те казаки для могутства твоего помехою сильнее татарской!
Грозный презрительно сплюнул и растер ногой плевок.
– Вот казаки твои! Одна опричнина токмо свистнет – и следу не станет от тех разбойников!
Не смея противоречить, Борис подобострастно склонился.
– Велики сила и слава твоя, мой государь! Скрутит опришнина людишек разбойных.
И, словно про себя, вздохнул печально:
– Бегут смерды множеством на Жигули, на Черный Яр да в Дикое поле, в запорожские степи.
Грозный испытующе поглядел на советника. Вкрадчивые слова, в которых переплетались и лесть и горькие истины, вызывали смутное беспокойство и не сулили ничего доброго.
– Ежели б не погиб под Вейссенштейном в бою холоп мой верный Малюта, прибрал бы он к рукам и казаков и протчих крамольников! Ужотко почмутили б при нем!
При воспоминании о Скуратове Иоанн слезливо заморгал и набожно перекрестился.
Годунов грохнулся на колени и сейчас же поднялся.
– Токмо, государь, аз разумею: негоже Гирея новою саблею жаловать.
Царь оживился:
– Верно, Борис! Мудро умишком ворочаешь!
И твердым голосом:
– Немедля спошли гонцов к Воротынскому. Дескать, водит царь тако сказывать Девлет-Гирею: ныне противу нас одна сабля – Крым; а тогда – Казань будет вторая сабля, Астрахань – третья, Нагаи – четвертая!
* * *
Как-то среди ночи к царю в опочивальню ворвался Евстафий.
– Тула горит, государь!
Александровскую слободу пробудили полошные колокола.
Грозный перво-наперво приказал вывезти из слободы драгоценности. Для удобства, работные люди разобрали церковь Святой Евдокии, в подземельях которой хранилось вывезенное из Новагорода добро.
Игумен Ростовского монастыря на коленях подполз к царю, суетившемуся подле кованых сундуков.
– Обрели, преславной, мнихи в святых писаньях глагол откровения…
– Прочь, долговязая мымра! – злобно затрясся Иоанн, сбитый со счета, и, смешав сливяные косточки, толкнул ногой дьяка.
– Сызнов клади!
Игумен отполз на брюхе за кучу щебня и притаился.
Когда колымаги были нагружены, Грозный, все еще хмурясь, поискал глазами по сторонам.
Следивший за каждым его движением, монах высунул голову из-под прикрытия.
Царь нетерпеливо шагнул к щебню.
– Како еще откровение?
Игумен стал на четвереньки и вобрал голову в плечи.
– Было, государь, виденье святому отроку Ананию. И бе – явися к нему ангел Господень с глаголом: ни единый ворог некрещеный не придет, отрок святый, на место сие.
– Доподлинно ли?
– Доподлинно, государь.
И, вскочив, монах торжественно протянул руку в ростовскую сторону.
– Доподлинно, государь, во едином месте будешь ты невредим и здрав – в нашем монастыре.
Вера в слова игумена несколько успокоила перепуганного царя. Не вдаваясь в рассуждения, он приказал везти все добро свое на Ростов, и в ту же ночь сам уехал туда же с детьми и опричниной.
По дороге Грозный вел с монахом непрерывные беседы о слове Божием, о деяниях и подвигах Отцов Церкви и, уже подъезжая к монастырю, невзначай будто, спросил:
– А не было ли откровения Ананию, коликой положен вклад за спасение от некрещеных?
Монах скрыл лицо в своей бороде, чтобы не выдать хитрой усмешки.
– Про то не слыхивал, государь. Да об чем толковать? Сам ведаешь – всякое даяние благо, и всяк дар совершен.
Но Иоанн потребовал назвать точную сумму и, жадно растопырив руки, как будто хотел грудью защитить свое добро, приготовился к торгу.
* * *
Под натиском разгулявшихся орд смятенно бежали русские рати. Только Воротынский еще кое-как держался под Серпуховым, в Гуляй-городе[69]. Войско валилось от голода. Все пути к продовольственным участкам были отрезаны. В кошу же не осталось ни крошки хлеба.
Скрепя сердце, князь разрешил убивать коней на прокорм воинов.
Однажды лазутчики привели в лагерь двух полоненных татар.
– Долго ли простоит крымской царь? – спросили одного из полоненных.
Татарин удивленно развел руками:
– Меня спрашиваете, меньшого, а Дивей-мурзу, господина моего, бросили в яму и не пытаете.
Узнав о высоком происхождении второго полонянника, сам воевода решил чинить опрос.
– Ты ли Дивей-мурза? – огорошил татарина князь.
Полонянник замялся, что-то обдумал и неожиданно гордо ударил себя в грудь кулаком:
– Я! – И, сплюнув через плечо, оскалил крепкие зубы. – Но я мурза невеликий! Есть сильнее меня – крымской хан! С ним поборитесь-ка, русийские необрезанные кгауры!
Воевода подал знак стрельцам. Мурзу связали и за дерзость избили нагайками.
– Будешь ли сказывать?! – кипел возмущенный спокойствием татарина воевода. – Развяжешь свой нечистый язык?!
– А ты не вели холопям соромить меня – мурзу! – высокомерно огрызнулся избиваемый, стараясь ни единой черточкой лица не выдать страданий.
Едва стрельцы прекратили истязания, Дивей лукаво прищурился:
– Ежели бы Девлет-Гирей был взят в полон замест меня, я свободил бы его, а вас, свиней необрезанных, погнал бы холопями в Крым!
Воевода расхохотался:
– Поглазели бы мы, како ты нас одолел бы!
Но мурза не смутился и, полный уверенности в правоте своих слов, протянул по слогам:
– Коней своих на прокорм перебьете, – на чем скакать будете противу нас?
И с презрением:
– В неделю выморим вас голодом в Гуляй-городе вашем!
Взбешенный князь приказал обезглавить обоих татар…
Узнав о гибели Дивей-мурзы, хан сжег Серпухов и уничтожил весь хлеб в подклетных селах.
В диком страхе бежали холопи в леса. Иные, теряя рассудок, отдавались на милость врагов. Однако татарам недосуг было возиться с полонянниками, и они бросали их пачками в пылающие костры.
Уничтожив последний запас коней, Воротынский бежал.
Крымцы преследовали его по пятам.
В воскресенье запылало увеселительное село царя – Коломенское.
Опустели московские дворы, торговые площади. Люди спасались в лесах, в подземельях и погребах, оставив на произвол судьбы свои избы с добром.
– Горим! – вихрем неслось из конца в конец.
Огонь бушевал больше суток. Выгорели Китай-город, Кремль, особный двор и земляной вал.
Разорив Москву и вдоволь натешившись грабежом, орды откатились назад, к Дикому полю. Передовые отряды скакали с дозором, прочищая путь основным силам.
Полоненных уже не убивали, а связывали десятками и гнали вместе со скотом в Крым.
Москва, Серпухов, Калуга, Тула, вплоть до великого Дона и Дикого поля обратились в выжженную пустыню.
* * *
Иоанн осунулся и поседел. У глаз появились новые паутинные сети, лицо изрылось морщинами, и старчески сутулилась узенькая его спина.
– Ты, прародитель наш, Володимир! – с утра до ночи молился он перед киотом. – Ты ведаешь тугу мою смертную!
И больно стучался головой об пол.
– Научи мя оправданиям твоим, Господи! Силою честного креста твоего укрепи мя на царстве!
Позади, на коленях, помахивал безразлично кадилом царевич Федор. Федька Басманов, жеманясь, читал по складам псалтырь.
Чуть мерцала лампада, отбрасывая от молящихся неверные тени…
Как-то во время трапезы к царю с бумагой в руке пришел встревоженный Вяземский.
– Чего еще? – капризно надулся Грозный.
– Челом бьют тебе бояре опальные.
Ноздри Иоанна хищно раздулись, и на шее вертлявой змейкой изогнулась синяя жилка.
– Имени их не называй!
Федор потихонечку отодвинулся от отца и прижался к Басманову.
Царь заметил движение сына и больно ущипнул его за руку.
– Буй! Колико годов маюсь с тобой, а ты и при упоминании о государственности бежишь, яко нечистый от ладана.
Федор бессмысленно улыбнулся:
– Твоя воля, батюшка…
– Поскаль зубы, мымра!
– Твоя воля, батюшка…
– Прочь!
Улучив мгновение, царевич шмыгнул за спину келаря и юркнул в сени.
Грозный принял у Вяземского грамоту и торопливо прочел ее.
– Вот, поглазей! – ткнул он пергаментом в сторону, где только что сидел его сын. – Сбег?!
Басманов сделал шаг к двери.
– Покликать, преславной? – И просунул голову в сени.
– Аз те покличу! – погрозился царевич, торопливо пятясь к своему терему.
Не дождавшись ответа от Иоанна, советник неслышно вернулся к столу.
Федор, успокоившись немного, уселся в своем тереме подле оконца.
– Нешто в мыльню сходить? – скучающе обратился он к Катыреву.
– После трапезы не тяжко ли будет? Краше бы тебе кулачным боем, соколик, потешиться.
Царевич заупрямился:
– Мовь сотворю, а там шутов поглазею.
Прижав палец к губам, он чуть слышно прибавил:
– Вечор Друцкой сказывал, будто Ивашенька ту девку крымскую зело сек да не велел боле пред очи свои ей казаться.
– А тебе, соколик, какая корысть? – с трудом подавил зевок боярин.
– Сулил Друцкой меня той девкой пожаловать.
В жарко натопленной бане стрелец нещадно сек царевича березовым веником.
Катырев, задыхаясь от едкого пара, поливал пестуна своего прохладной водой.
Вдоволь напарившись, Федор передохнул в предбаннике, выпил ковш студеного березовца и пошел в подземную клеть, где хранились его забавы.
Высунув язык и ткнув палец в ноздрю, царевич любовно остановился перед игрушками.
– А ты проходи! – отмахнулся он от прижавшегося к его плечу Катырева. – Сопишь под ухо, како тот боров!
Боярин охотно повернулся к порогу, с трудом протискался в узенькую дверь и затопал по выложенному камнем подземному ходу.
Едва заглохли шаги, царевич подкрался к углу, отвалил каменную плиту и достал из норы игрушечную виселицу.
– Ужотко пощиплют тебя нечистые в преисподней! – злорадно склонился он над деревянным мужичком. – Жалуй-ко в шелковую петельку, мымра!
Что-то зашелестело за дверью. На припухшем лице Федора отразился испуг. С несвойственной ему быстротой он сунул виселицу в нору и придвинул камень.
В клеть вошла наряженная в цветные лохмотья и высокий колпак худощавая девушка.
– Фатьма! – сладко зажмурился царевич и растопырил руки.
В черных глазах шутихи сверкнули острые искорки.
– Твой Иван больно била… некарош била… ты будешь била – не стерпит Фатьма! – И упала вдруг на колени. – Отпусти! Юрт моя нада видеть… Крым нада… Отпусти!
Федор крепко обнял девушку.
– Солнышко мое красное!
* * *
По трубе, потирая весело руки, к выходу спешил Друцкой. На дворе он столкнулся лицом к лицу с Борисом.
– От государя? – спросил Годунов.
– Где уж нам! Тебя сдожидается, а с нами и слова не молвит.
Он с нескрываемым раздражением поглядел на Бориса.
– Подменили царя! То, бывало, без опришнины шагу не ступит, а ныне токмо ты у него и весь свет в оконце! Даром, что в списках особных не вписан!
Годунов свысока поглядел на Друцкого и, не удостоив его ответом, ушел.
– Слыхивал? – встретил Иоанн на пороге советника.
– Слыхивал, мой государь.
– И како надумал?
В первый раз за все время близости своей к царю Борис смело поднял голову.
– Воля твоя, государь, а токмо не одолеть нам ворогов без подмоги земских бояр.
– Прыток ты, кравчий! – схватил Иоанн советника за ворот; но тут же, упавшим голосом, приказал ему сесть.
Приложившись к царевой руке, Борис опустился на край лавки.
– Лихо, мой государь, на Ливонии. Лихо и на всех украйнах.
– А и лихо то, Борис, небывалое!..
– Небывалое, царь!
И снова, с твердой уверенностью:
– Время тако ныне, что и земщина и холопи должны быть примолвлены. Особливо земщина.
– Пошто ей така благодать?
– Авось пожалуешь ежели милостями своими земских, перестанут они под басурмены защиту искать и помышлять зло противу тебя.
– Ну-кася, сказывай, сказывай!
– Токмо и свару у них с тобой, что ратованье за былую силу свою в государственности.
Годунов поднялся и впился немигающими глазами в глаза царя.
– Покель лихо с ливонцы да и с протчие басурмены, негоже гнать родовитых на дружбу с басурменовыми королями. При чмуте погибнешь ты, царь. Нешто не ведомо тебе, что и Москву Девлет-Гирей не пожег бы, ежели б земские не подмогли ему? – Он вытер рукавом лицо и присел. – А, даст бог, побьешь чужеземцев, – сызнов содеешь тако, чтобы, опричь тебя, не было на Русии иного владыки.
На глазах Грозного задрожали слезинки.
– Весь живот положил, чтобы изничтожить удельных, худородных возвысил, торг великой с басурмены наладил – и ни к чему. Все отнял Бог. Что аз ныне Ивашеньке оставлю после себя?
Годунов приложился к цареву подряснику.
– Даст Бог одолеть ворогов, – все обернется.
Схватив со стола пергамент, Иоанн ожесточенно скомкал его и бросил под ноги.
– В челобитной сей они, ехидны ползучие, на опришных кивают! Опришные, вишь, не к лику пришлись им!
Борис на носках подошел к двери, неслышно открыл ее и, убедившись, что никто не подслушивает, подскочил к царю.
– А и Фуников и Висковатой не краше той земщины, царь! А поищешь – и еще кой-каких лиходеев найдешь!
И, не обращая внимания на знакомое причмокивание Иоанна, признак неминуемой бури, упрямо продолжал:
– Для показу вместно сие сотворить. Дескать, доподлинно меняю аз опришных на вас.
– А ежели и верных советников погублю и никакой лихвы от князей не узрю?
Годунов ухмыльнулся:
– Не можно тому быть, государь: больно охочи князь-бояре до власти!
Со двора глухо донеслись говор и смех.
Грозный поглядел мельком в цветное оконце.
На кругу подвыпивший Иван-царевич отплясывал русскую. Шуты и шутихи, кривляясь, орали непотребные песни.
В стороне, разморенно прижимаясь к Катыреву, стоял царевич Федор.
У его ног, в изодранном сарафане, простоволосая и покорная, свернулась комочком Фатьма.
Глава девятая
Иоанн снял опалу с немногих, оставшихся в живых, бояр.
Решив временно примириться с «землей», он изо всех сил пытался показать, что навсегда покончил с опричниной.
Первым вернулся в свою вотчину разоренный Щенятев. В губе его встретили все приказные и духовенство.
В поношенной шубенке и истоптанных сапогах князь держался на коне так, как будто обрядили его в шутовской наряд и заставили лицедействовать.
Едва добравшись до своей усадьбы, он заперся в хоромах и никого не допустил к себе.
На другой день к нему прискакал гонец из Москвы.
– Жалует тебя государь кафтаном парчовым и соболиной шубой, – торжественно поклонился вестник и положил на лавку тяжелый узел…
В обновах Щенятев сразу стал неузнаваем. Он ни минуты лишней не засиживался в хоромах и постоянно старался быть у всех на виду.
В воскресенье на княжий двор согнали холопей.
В парчовом кафтане и в шубе, накинутой на плечи, полный тщеславия, вышел боярин к народу.
Спекулатарь щелкнул кнутом. Людишки повалились наземь, поползли на брюхе к господарю и поочередно поцеловали края кафтана и шубы.
– Аль солодко было при худородных? – подмигнул куда-то в пространство Щенятев, дождавшись пока людишки отползли на середину двора.
Спекулатарь больно хлестнул по спине первого попавшегося холопя.
– К тебе молвь!
Забитый взгляд ввалившихся глаз крестьянина тяжело уставился на боярина.
– Нам, господарь… нам – како пожалуют…
Князь снял кунью шапку и помахал ею в воздухе.
– А жалую аз смердов своих рожью да просом запашным.
Толпа недоверчиво приподняла головы.
– И позабудем отныне о былых невзгодах великих, – горько вздохнул Щенятев. – То Божье было взыскание!
После обедни всем людишкам роздали по десять гривенок зерна и по пять гривенок лука.
Вечером прискакал на коне Прозоровский.
Старинные друзья заперлись в трапезной.
– Каково? – хихикнул гость.
Щенятев радостно потер руки.
– Отменно, Арефьич! Чу-де-са!
И, кичливо:
– Како и предрекали им, тако и подошло: видано ли, чтобы земля русийская на смердах держалась?!
Он показал пальцем в сторону деревушки.
– Отпущу им зерна под пашню, а даст Господь лето пригожее, сызнов полны будут житницы хлеба. И людишки окрепнут, а с ними и сам возвеличусь.
Прозоровский одобрительно крякнул:
– Допрежь всего хлебушек. На хлебушке вся сила земская!
Они перекинулись ехидной улыбочкой.
– А срок придет, – покажем мы и Васильевичу и всем страдниковым отродьям, како без нас господариться!
* * *
Грозный переехал со всем добром своим в отстроенный заново Кремль. В последнее время он чувствовал себя крайне разбитым и почти не поднимался с постели.
В полдень в отцову опочивальню приходил неизменно Иван-царевич и молча усаживался подле оконца.
– Женить бы тебя, Ивашенька, – вздыхал Иоанн. – Внука родил бы ты мне, а себе наследника на стол московской.
– И тако не лихо мне, – отмахивался Иван.
– Почию аз вскоре, сын мой любезной, и не узрю ни снохи ни первенца твоего.
Он любовно заглядывал в глаза царевичу.
– И весь-то ты ликом и очами в покойную матушку.
– А сказывают люди – в тебя аз, батюшка, и ликом и норовом.
В дверь просовывалась голова Федора.
Грозный поджимал презрительно губы.
– Пономарь жалует наш.
И хрипел, грозясь кулаком:
– Схорони ты улыбку свою одержимую!
Федор подползал на коленях к постели.
– Твоя воля, батюшка!..
Иван подмигивал лукаво отцу:
– Вот кого бы женить! Авось поумнел бы при бабе.
Конфузливо тупясь, Федор скромненько усаживался на край постели.
– Ваша с Ивашенькой воля, батюшка!..
Грозный трапезовал вместе с детьми, Борисом и Вяземским. Тут же за столом рассматривались государственные дела и челобитные.
Царь лениво выслушивал доклады и во всем соглашался с мнением Годунова. Только при разговорах о земщине он несколько оживлялся:
– Не верят? А аз им верю?!
И, зло отставляя от себя блюдце, ругался площадной бранью.
Однажды, в беседе, Друцкой, превозмогая испуг, шепнул Иоанну:
– Слух бродит недоброй, царь.
Лицо царя вытянулось и посинело.
– Израда?
– Да, государь! Слух бродит, будто умыслил Челяднин на стол твой сести.
Первым желанием Грозного было наброситься на Друцкого и задушить его собственными руками, но он только лязгнул зубами и глубоко вонзил посох в пол между растопыренными ногами опричника.
Всю ночь провалялся без сна Иоанн. Он сам, давно уже, слабыми намеками дал понять Друцкому, что хочет избавиться от Челяднина, которого ненавидели земские, и знал, что возведенное на окольничего обвинение – нелепая потварь; но, едва услышал о существующем заговоре, как душу смутил рой жестоких сомнений.
«А ежели потварь та в руку? А ежели и впрямь замышляет Челяднин противу меня?» – мучительно скреблось в болезненном воображении, пробуждая в груди таившийся с детства безотчетный страх перед окружающими. И нарочно, с каким-то непонятным наслаждением безумного, царь гнал истину, заставляя себя уверовать в надвигающееся несчастье. С каждым мгновением становилось невыносимее оставаться одному в опочивальне. Казалось, будто сама ночь насторожилась и сейчас бросится на него через оконце тысячами бездушных призраков.
Весь в холодном поту, Иоанн сполз с постели, на четвереньках выбрался в сени и оглушительно закричал.
На крик выскочил из своего терема Федька Басманов.
– Царь! Опамятуйся, мой царь!
– Прочь, змея подколодная! – заревел Иоанн. – Бориса! Бориса с Ивашенькой!
И, только увидев царевича и Годунова, пришел немного в себя.
– Не спокинете?.. – прижался он крепко к плечу Бориса. – И ты, сынок, не спокинешь меня перед кончиной моей?..
– Лекаря бы, батюшка! – тревожно посоветовал Иван, помогая отцу улечься в постель.
– Поздно, дитятко! – безнадежно махнул рукой Грозный. – Не жилец аз ужо на земли.
Царевич почувствовал на своей щеке горячее дыхание больного и понял, что отец сдерживает мучительные рыдания.
– Полно тебе… полно, батюшка!
Иоанн с трудом ткнулся лицом в подушку и придушенно всхлипнул.
– Где ты, Ивашенька?
– Здесь, батюшка, здесь!
– Не спокинешь?..
И, приподнявшись на локтях, устремил мокрые от слез глаза в иконы.
– Пошто отнял ты, Господи, у меня Настасьюшку мою сизокрылую? Пошто разлучил с ангелом моим утешителем?
Он вскочил вдруг с постели и схватил посох.
– Израда! Всюду израда! Полон Кремль израдою черной.
Из груди рвались исступленные вопли; звериный гнев, ужас и смертельная обида мутили рассудок.
– Извели! Настасьюшку, хранителя моего, извели! Иуды! Христопродавцы!
В оконце слизистой мутью сочился рассвет.
* * *
Царя разбудил благовест к поздней обедне. Наскоро умывшись, он пошел в сопровождении Басмановых, Бориса и Ивана-царевича в церковь и сам отслужил обедню.
Сложив на груди руки, девичьим голоском тянул Федька Басманов часы.
Никогда еще так усердно не молился Грозный. Он нарочито затягивал службу и с глубочайшим проникновением произносил каждое слово.
Евстафий не спускал глаз со своего духовного сына и, заразившись молитвенным настроением, призывал на голову царя всю небесную благодать.
На паперти Иоанн ласково потрепал Федора по щеке.
– Поблаговестил бы, Федюша!
Царевич растянул рот до ушей и нежно прижался к Борису.
– Твоя воля, батюшка. А не пожалуешь ли и Бориса ко мне на звонницу?
– Аль полюбился Борис?
– Полюбился, батюшка. Тако он жалостно сказы мне сказывает!
И увлекаясь:
– Аз благовещу Господу Богу, а он божественное поет. И тако душеньке радостно…
– Ну, иди, дитятко, поблаговествуй. А в другайцы и Бориса отдам.
На ступенях храма, по обе стороны паперти, стояли земские и опричники.
Иоанн легким кивком ответил на поклоны и пристально оглядел Челяднина.
– Каково почивать изволил, царь и великой князь всея Русии?
Ошеломленный окольничий в ужасе отступил.
– Несть иного царя, опричь тебя, Иоанн Васильевич!
Земские многозначительно переглянулись.
Клин государевой бороды оттопырился и забегал по сторонам. Глаза почти скрылись в щелочках приспущенных век.
– Убрать! – топнул неожиданно ногой Иоанн и, не торопясь, пошел в хоромы.
На крыльце он задержался.
– После трапезы волю аз судом судить того Челяднина!
* * *
В тереме, отведенном для приема чужеземных послов, на расставленных в три ряда лавках уселись бояре.
Вдоль стены разместились опричники.
Иоанн скромно примостился у двери, на чурбачке.
Стрельцы ввели узника.
– Вот, – мягко и заискивающе улыбнулся Грозный. – Вот человек, кой восхотел сести на стол московской!
До прихода на суд окольничий не терял еще надежды на то, что сумеет оправдаться и вернуть милость царя. Но мягкая, заискивающая улыбка все сказала ему.
В покой с узлом в руке протискался Иван-царевич.
– А восхотел – и сиди, – сквозь сиплый смешок уронил Иоанн.
И строго повернулся к советникам:
– Тако аз молвлю?
Друцкой поклонился за всех, принял от ухмыляющегося царевича узел и развязал его.
Бояре с недоумением поглядели на царские одежды, вытащенные из узла.
– Обряжайся, преславной! – ткнул Иван кулаком в бороду окольничего.
В шапке Мономаха и в царских одеждах, подчиняясь немому приказу Грозного, Челяднин уселся на престол.
– Абие послушаем, чего волил сей человек, – с трудом скрывая сострадание, процедил Годунов.
Дьяк приступил к чтению обвинительной грамоты.
По мере чтения, пергаментная трубка распускалась широкой и длинной лентой и коснулась краем своим дубового пола.
Земские слушали с затаенным дыханием и были уверены, что вот-вот назовут имена бояр, приплетенных к заговору.
Но дьяк перечислил с десяток безвестных служилых людей и не заикнулся о высокородных.
Грозный уперся подбородком в кулак и исподлобья следил за выражением лиц князей и бояр.
«Любо вам, мымры, – думал он с ненавистью, – позоры зреть опришных моих. Погодите ужотко! Будет и на вас мор, окаянных!»
Когда грамота была прочитана, царь упал на колени перед окольничим.
– А не пожалуешь ли меня, Рюриковича, премилостивой подачей поденной, царь?
И, распалясь, ткнул посохом в грудь безмолвного узника.
– Псам его на прокорм!
Царевич подскочил к Челяднину и содрал с него одежды.
На дворе, предупрежденные заранее, толпились псари.
– Гуй! Гуй! – науськивал Друцкой псов на вышедшего из сеней окольничего.
Свора набросилась на жертву.
* * *
После трапезы протопоп робко склонился к царю.
– Какая еще там пригода?
Евстафий сокрушенно покачал головой.
– Записать ли «выбывшего» в поминание?
Грозный прищурился.
– Не со князи ли великие?
Но тотчас же милостиво прибавил:
– Запиши с теми, про коих речено: «Имена же их ты, Господи, веси».
Глава десятая
– Пришло время искать свою долю! – раскатисто гремел Загубыколесо. – Покель Гирейка москалей палит, ухнем мы все его кодло в бисово пекло!
Снова опустела Запорожская Сечь. Как один, откликнулись казаки на призыв кошевого.
С гиком разбойным пронеслись паны-молодцы через Синюху, а на другой день были уже за Бугом, у речки Кодыми.
На сотни верст кругом вымерли татарские кышлаки. Не оставили казаки ни байрака ни скрутня травы – все обыскали, но не нашли и признака близости человека.
Только в Очаковской стороне, в Черталах и Чачиклее стали появляться небольшие отряды ворогов.
Однако отряды эти упорно уклонялись от боя и исчезали так же неожиданно, как появлялись.
Хозяевами разгуливали запорожцы в степи и легко, точно совершая увеселительную прогулку, добрались до Хаджибея.
Передовые отряды, далеко обогнав головные силы, не задумываясь, ринулись на селение. Вдруг вымерший Хаджибей вскипел оглушительным шумом. Как из-под земли, невесть откуда, выросла турецкая рать.
Василий со своей сотней попал в засаду и, если бы не мчавшийся на выручку отряд под командой Рогозяного Дида, не унести бы ни одному из сотни своей головы.
Запорожцы обложили селенье и двинулись на ворогов.
Турки не сдавались. Скованные по ногам невольники, под градом выстрелов, непрерывно подносили ко рвам чаны с варом.
Запорожцы дрогнули.
Заметив смятение, Загубыколесо первый поскакал к рвам.
– Паны-ганчырки! Прохлаждайтесь себе в кышлах с бабами, а меня, казака, не поминайте лихом!
Что вар, пищали и стрелы в сравнении с адовым пламенем слов атамановых, спаливших душу непереносимым стыдом?!
– Чуете, запорожцы, что гикнул нам атаман?! Эй, кто ганчырка, отстань! – заревели казаки и, не помня себя от обиды, метнулись на турок.
* * *
Громя и сжигая все по пути, возвращались казаки с богатой добычей домой.
Упоенный победами, Василий подбил свою сотню не складывать оружия и идти на соединение с Доном и Волгой.
– Слыхали мы, паны-молодцы, что Гирейка пожег Московию, – ожесточенно доказывал розмысл колеблющимся. – Обойдем же Доном и Волгою, разроем гнезда татарские да грянем, покель не оправились они, на тех московитских господарей холопей из кабалы выручать!
– Дело кажет Бабак! – доказывали одни.
– На кой ляд нам Московия та?! – протестовали другие. – Была бы Сечь богата да хватало б горилки и девок!
Спор разгорался. Разбившиеся на враждебные группы казаки наседали друг на друга и угрожающе размахивали келепами.
Гнида пыжом летел из конца в конец и слово в слово с ожесточением повторял все, что говорил Выводков:
– Правильно! Будет, паны-молодцы, холоп, как степовый орел! Правильно, Василько! Будет холоп без бояр и царя, а с выборным атаманом.
Часть запорожцев осталась непреклонной и повернула к Днепру. Остальные, очертя голову, пошли за Василием.
Донцы встретили запорожцев по-царски и закатили в честь их такой пир, что перепившиеся гости к концу дня свалились замертво.
Поутру запорожцев обступили хозяева.
– А теперь дело сказывайте!
Василий подробно рассказал о своем плане похода.
Атаман внимательно выслушал его и увел своих казаков на раду.
Вскоре он вернулся с недоброй вестью:
– Славное низовое товариство! Люба нам ваша молодецкая удаль, да потеха не по плечу.
И, смущенно:
– Не срок еще идти на Москву. Одолеют нас рати царевы. Будем покель трепать их по одному да силушки набираться.
Сухо простившись с донцами, отряд Василия поплелся назад.
Татары джедишкульские, джамбойлуцкие, джедисанские и буджацкие прознали от языков о замыслах запорожцев и объединились в несметные полчища.
Встрепенулось Дикое поле. Ожило рогатками и заставами.
Саранчой налетали орды на войско Василия, гнали к Днепру, уничтожая пачками по пути…
С малой горстью уцелевших товарищей вернулся Выводков в Сечь.
Рогозяный Дид увел упавшего духом розмысла в курень.
– Годи, Бабак, изобиженной бабой рыло кривить! То не пристало сечевику! А послушал бы споначалу меня, старого горобца, – гулял бы ты давно с нами за доброй чаркой да потчевался бы полоняночками.
Выводков брезгливо сплюнул.
– Не за тем мы воюем, чтобы вражьих девушек портить. А токмо меня бы послушались, – гуляли б мы нынче под Тулой с холопьею вольницей!
И, чувствуя, как накипают непослушные слезы, торопливо ушел, чтоб не выдать себя.
* * *
С утра до ночи расхаживал розмысл одиноко по полю или слушал в кышле рассказы отбитых казаками невольников о жизни в полону.
Невыносимо тяжко было Василию глядеть на иссохшие лица бывших невольников, в глазах которых горели жуткие безумные огоньки, – но какая-то настойчивая сила властно влекла его к этим живым мертвецам.
Среди освобожденных полонянников особенное сочувствие розмысла вызывал один, всегда молчаливый и замкнутый в себе, калека. Приткнувшись к плетню, он впивался единственной своей рукой в шелковистые свои волосы и часами, не отрываясь, тупо глядел в одну точку. Его нельзя было расшевелить ни доброй беседой, ни гулливой запорожской пирушкой, ни поповской молитвой. Испытав все средства воздействия, казачество отступилось от него и перестало тревожить.
Только Василий, что ни день, стал все чаще вертеться подле калеки. Его почему-то смущал взгляд молчаливого человека, будил казавшиеся давно похороненными воспоминания, а шелковистые волосы с завиточками, цвета спелой пшеницы, навевали неуемную грусть и умиленные слезы.
– Откель ты родом? – спросил, не выдержав, как-то Василий.
Однорукий нахмурился и бросил сквозь зубы:
– Москаль аз.
– Москаль?
У розмысла упало сердце.
– А кличут?
– Запамятовал. Иваном татары кликали.
И сплюнув:
– У них все москали – Иваны.
Больше ничего не мог добиться Василий в тот день от калеки.
Наутро розмысл пришел в кышло с оскордом.
– Истомился аз от безделья, – положил он руку на плечо Ивана. – Пойду потехи для избу полонянникам ставить. Авось при хозяйстве опамятуетесь от неволи да малость повеселеете.
Калека неожиданно оживился:
– А ты нешто рубленник?
– С дедов ходят в рубленниках Выводковы!
Иван заискивающе улыбнулся.
– Взял бы меня избу ставить.
И показал глазами на болтающийся обрубочек своей правой руки.
– Занозил аз в неволе перст, а он и припух. Ну а разгневался на ту пригоду татарин, что мне робить стало не можно, да и отсек в сердцах руку.
Он говорил с таким безразличным спокойствием, как будто рассказывал о ничтожном пустяке, не представляющем никакого значения для него. Только тоненькие полоски бровей чуть пружинились, собираясь трепещущими треугольничками, да пальцы босых ног зло мяли песок и зарывались глубоко в землю.
– Так идем, что ли?
– Идем!
Облюбовав место, розмысл увлеченно принялся за работу.
Тужась и покрякивая при каждом движении, однорукий разводил усердно глину и добросовестно помогал во всем Выводкову.
В короткий срок хата, похожая на большой белый гриб, была почти готова.
– Для кого робишь хоромы? – спрашивали с добродушной улыбкой казаки.
– А для панов-молодцов, чтоб прохлаждались, сдожидаючись, покель сами бояре московские холопям поклонятся! – грубо ворчал Василий, с ожесточением сплевывая.
Однажды, перед концом работ, калека вдруг подбежал к Выводкову.
– Глазей!
Лоб Ивана собрался глубокими бороздами. Глаза почти с ужасом впились в ладонь, на которой лежал осколок бута.
– Ну, чего тут глазеть? – пожал плечами Василий. – Камень и камень.
– Да ты поглазей! – раздраженно повторил Иван. – Како есть на птицу ту смахивает!
Он вдруг притих и сжал пальцами лоб.
– А кликали птицу…
Выводков не спускал взгляда с глубоких васильковых глаз однорукого. И снова, как в первую встречу, ему начинало казаться в Иване все до жути знакомым. Этот русый пушок бороды так настойчиво напоминал ему его самого в годы далекой юности, а волосы и глаза…
– А кликали птицу…
Василий бросил с силой наземь оскорд.
– Не Гамаюном ли кликали?
Однорукий остолбенел.
– Откель? Ты?! Откель?!
Но, встретившись с взглядом розмысла, вдруг упал на колени.
– Откель ты родом, Бабак?
Выводков, не смея верить себе, как-то бочком, крадучись, подошел к Ивану и склонил к нему посеревшее лицо свое.
– У Замятни… с матерью… с Кланей… с женой моей… жили вы… отца сдожидаючись…
– Батюшка!..
– Дитятко!..
* * *
Косились запорожцы на Выводкова:
– Ну, сын! Ну, дал бог встретиться! А не кохаться же с ним до конца живота!
Стреляйбаба и Гнида не давали прохода Василию:
– Ганчыркой ты стал, а не казаком! И горилкой-то не отдает от тебя. Баба и баба, одно тебе слово!
Но розмысл не обращал внимания на насмешки и старательно избегал встреч с товарищами.
В поле, зарывшись в густую траву, любил он лежать, прижавшись щекою к щеке Ивана. Они бесконечное количество раз вспоминали далекое прошлое, восстанавливая, как что-то чрезвычайно ценное и важное, каждую мелочь, и, излив душу, мечтательно стихали, чтобы сейчас же вновь приняться за прежнее.
Изредка, в сопровождении дозорных, на луг приходили турецкие девушки-полонянки.
Под брань и насмешки, турчанки, изможденные голодом, принимались косить. Им не разрешали ни передохнуть, ни освежиться глотком воды, и, если какая-нибудь из девушек бессильно падала, казаки немедленно поднимали ее нещадными ударами батогов.
– Задери ей спидницу, скурвиной дочери!
Ивашка прятал лицо на груди отца.
– Не можно глазеть мне, как забижают зря тех полонянок!..
Выводков угрюмо поглядывал в сторону запорожцев, но не решался вступиться за девушку.
Только когда казаки однажды зарубили одну, – он не выдержал и подскочил к дозорному.
– Тако спекулатари робят с холопями!
– А мы с некрещеною падалью!
И назло Василию сорвали с полонянок рубахи.
– Налетай, паны-молодцы!
– Не молодцы вы, а разбойники! – заревел розмысл, набрасываясь на Шкоду. – Токмо тем и живы, что делом разбойным! Не те вы, про коих я в думке держал!
Взрыв хохота привел его в бешенство:
– Не те вы, что за морем за окияном блазнились мне!
Не помня себя, он подхватил косу и грозно замахнулся на запорожца.
– Бей его, братцы! То не казак, а друг басурменов! Иуда!
Василия свалили с ног.
* * *
Долго лежал Выводков, полуживой от побоев. Иван не отходил от него ни на шаг и лечил всеми известными ему средствами.
По ночам, крадучись, к больному приходил Гнида с фляжкой горилки.
– Пей, Бабак! Дюже помогает горилка с порохом, тютюном да красным перцем.
Когда розмысл немного поправился, его вызвали на площадь.
Загубыколесо поднял высоко булаву. Тотчас же писарь уселся на землю, поджав под себя ноги, и достал из-за уха остро отточенное гусиное перо.
Нерыдайменематы распахнул красный, с широкими вылетами, жупан, сбил набекрень высокую суконную шапку и поиграл оттопырившейся, как клин бороды Иоанновой, пестрой кисточкой шелковой опояски.
– Славное низовое товариство, – начал он, передвигая люльку из одного угла губ в другой. – А было ли в Сечи, чтобы казак ублажал басурменов?
Его перебил Шкода:
– Та не так! Ты про то побалакай, как за бисовых баб некрещеных казак руку поднял на казака!
Атаман потряс булавой.
– Годи! Послухаем, что повыкладает нам Нерыдай!
– Ото и повыкладаю, что за таку подмогу в лянцюги надо взять да за ребра подвесить! И никаких!
Он сорвал с себя шапку и бросил ее злобно в Василия.
– И никаких! Под ребра! И никаких!
Ни один человек не посмел выступить на защиту Василия. С немым участием поглядывали на преступника его друзья и соратники.
Кошевой не спеша раскурил люльку и уставился на Нерыдайменематы.
– А не поискали бы вы, паны, в казацкой своей башке да не припомнили, как Бабак в поле орудовал для славы нашей Сечи молодецкой?
– Геть! – напали на атамана молодые казаки. – На крюк его, та и годи!
Кошевой наклонился к писарю и неожиданно продиктовал:
– Такой расправы нема, чтобы казак напирал с косою на казака… Пышы!
И, сунув кончик оселедца в зубы, спокойно дождался, пока писарь записал его слова.
– А и такой расправы нема, чтоб хрещеные забижали так себе, байдуже, незаможных невольников… Та пышы!
Рада строго прислушивалась к словам атамана и молчала. Друзья Выводкова поощряюще поглядывали на Загубыколесо.
– Напысал? Ну, то-то ж! Пышы: и порешило славное низовое товариство почитать того Бабака не ворогом казацким, а и ни другом, а так себе: ни рыба ни рак. Та не пышы! И дале: и порешило казачество погнать Бабака того из Сечи. Ты чего стал? Я сам за тебя в носу поковыряю! – прикрикнул кошевой на писаря, засунувшего в раздумье пальцы в обе ноздри.
– Так ли я балакаю, паны?
– Бреши до конца, а там пораскумекаем.
Загубыколесо выплюнул оселедец и отставил правую ногу.
– Выходит, порешило славное низовое…
– Так то ж ты порешил покель, а не мы! – зашумели не зло передние ряды.
– А вы не сбивайте!
И, к писарю:
– Порешило ту ганчырку геть погнать из Сечи. Нехай его где хочет, маты мордует. Та то не пышы! То я для слова.
Молодежь попыталась возмутиться, но Рогозяный Дид с товарищами выхватили сабли из ножен.
– Дюже сопливы еще – спорить со стариками! Геть до шинка подрастать!
Атаман воспользовался минутой и подмигнул писарю.
– Бей печать! И годи! Прощай, Бабак! Пошныркаешь по Дикому полю, а там, после покуты, вертайся на Сечь с повинной башкой.
* * *
Перекинув через плечо котомку и оскорд, ушел Василий с сыном в Дикое поле.
Поздним вечером остановились они у могилы для роздыха.
Василий склонил голову на плечо сына и горько задумался.
Иван нежно обнял отца.
– Не томись, батюшка! Авось обойдется.
Розмысл заломил больно руки.
– Пошто? Кой человек растолкует?
– Ты сядь, батюшка, отдохни.
Выводков подергал носом и срывающимся, полным недоумения, голосом бросил куда-то в пространство:
– Пошто? Пошто великим простором Русия раскинута, а жить одинокому негде? Пошто?!
Глава одиннадцатая
Годунов заботливо укутал в покрывало ноги Грозного и с тоской уставился в распухшее лицо его.
– Не изводи себя, мой государь. Покель аз у одра твоего, не быть, опричь добра, ничему.
Иоанн с трудом поднес исхудалую руку к глазам и стряхнул надоедливую слезу.
– С того Челяднина и пошло. Ходит он, Борис… Куда ни пойду – всюду ходит он за мной…
Он отодвинулся к стене и, вобрав голову в плечи, прибавил таинственно:
– Давеча в церкви… из-за образа Пантелеймона норовил дланью ко мне дотянуться.
Евстафий, стоявший до того у аналоя, подошел к царю с кропилом и свяченой водой.
– Не для своей потехи казнил ты окольничего, преславной, но для укрепления стола.
И, помолясь, покропил больного водой.
Царь сердито отвернулся. Протопоп зашелестел страницами требника.
– Где ты, Борис? Страшно мне, Борис!
Советник присел на постель и негромко фыркнул в кулак.
– Ну, ты! Посмейся!
– Помилуй, царь! Да ежели бы младости даровал Господь твою долю, раздуло бы ту младость от спеси!
Любопытно повернув голову, Грозный показал Евстафию глазами на дверь.
– Умелец ты, Борис, на мудреные словеса!
Он с трудом сел и уперся подбородком в набалдашник посоха.
– Не от баб ли такое слыхивал?
– От всяких, государь.
Годунов хитро прищурился.
– Сама королева аглицкая дочь за тебя прочит, мой преславной!
Лицо царя вспыхнуло.
– Дай-кась поглазеюсь аз в басурменово умельство!
Вздрагивающие пальцы охорашивающе забегали по растрепанным усам и бороде.
Но чем дольше гляделся Иоанн в зеркальце, тем угрюмее сходились брови и блекли глаза.
– Нет, где уж нам женихаться! – печально свесил он голову и выронил из рук зеркальце.
Годунов возмущенно вскочил.
– Ты что же, преславной?! В полсотни с малым годов уже и не женихаться?! Да ежели что… да ежели Бог даст – засохнут коросты на тебе, любой молодец позавидует велелепию лика твоего пресветлого!
Царь невольно выпрямил спину и молодцевато прищелкнул.
– Да оно, ежели на то пошло, и впрямь полсотни с малым – не великая еще кручина.
Он неожиданно громко окликнул Евстафия. Протопоп сейчас же появился у двери.
Грозный поманил его пальцем и уставился с верой на образ.
– Не утешение ли от Господа сия весть аглицкая?
Духовник, не поняв, осклабился:
– Аль не услышит Господь усердных моих молений?!
Истомно потянувшись, Иоанн улегся в постель.
– Ежели с агличанкой побраться, – раздумчиво протянул он, – быть в те поры Русии…
– В торгу великом со басурмены! – торжественно досказал Борис.
Евстафий неодобрительно покачал головой.
– Дозволь, преславной!
– Сызнов канонами потчевать будешь?
– Не положено православным при женах здравствующих жених…
– Прочь!
Едва духовник шмыгнул в сени, царь привлек к себе Годунова.
– Ни единый, опричь тебя, не разумеет заботы моей.
И точно оправдываясь перед собой:
– Господь-то все зрит…
* * *
Всю ночь провел Грозный с пятой женой своей, Марией Нагой.
Давно уж Мария не видела мужа таким заботливым, нежным и ласковым. Изо всех сил стремясь поддержать доброе настроение царя, она в то же время зорко следила за каждым его движением и порывом, тщетно стараясь понять, искренен ли он или прикидывается.
Под утро Иоанн вдруг закручинился.
Царица робко прижалась к его груди.
– Не уйти ли, мой милостивец? Не опостылела ль аз тебе за долгу ночь?
– Куда? Куда идти тебе… – мягко погладил он ее теплую щеку. – Куда идти, ежели всюду вороги нас стерегут?
Его голос зазвучал туго натянутой струной:
– Замышляют противу нас с тобой, Машенька. Да и не токмо нашего живота ищут, но и младенца безвинного Димитрия сулят смертью извести.
«Вот она, ласка его!» – подумала с тоской Мария и чуть отодвинулась.
Царь любовно заглянул в ее глаза.
– Ты не тревожься. Аз все надумал. Покель жив, волос не упадет с головы твоей.
И вкрадчиво:
– Порешил аз схоронить тебя со Димитрием до времени в Угличе…
* * *
До заставы провожал Иоанн жену и сына.
С умилением следили советники и стрельцы за тем, как царь, едва сдерживая рыдания, срывающимся голосом благословил в последний раз отъезжающих.
Уже колымаги скрылись за лесом, а Грозный все еще, заломив руки и поддавшись туловищем вперед, продолжал с надрывом взывать в пространство:
– Господи! Сбереги! Наипаче помилуй плоть и кровь мою, Димитрия младенца!
В первое же воскресенье царь пожелал принять в Кремле аглицких гостей.
Советники с утра обрядились в лучшие свои одежды.
Стрельцы завалили приемный терем ворохами соболиных, росомашьих и бобровых шуб, куньими шапками, слитками золота и блюдами, полными драгоценных камней.
Царь сидел на высоком дубовом кресле и, выслушивая приветствия, небрежно перебирал в руке изумрудные четки.
Когда толмач кончил, – старик-англичанин, не выдержав, склонился над золотым слитком.
Гордая улыбка чуть шевельнула морщинки на лбу Иоанна.
– Ты поведай ему, – подмигнул он толмачу, – что злата у нас, яко листьев на земли в лесу по осени: тако и треплется под ногами.
И, наклоняясь к гостю, по-детски причмокнул:
– Ударишь челом, аз для потехи Москву всю златым мостом покрою.
Выслушав толмача, англичане, едва сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, с сугубым вниманием принялись разглядывать выставленное на показ добро.
Борис поклонился Иоанну:
– Не упрел ли ты, преславной? Разоблачился бы!
Не дожидаясь согласия, он снял с приподнявшегося молодцевато Грозного две шубы, верхний кафтан из обьяри, другой – из тафты, с золотом и алмазами, третий – из голубого атласа, с хризолитами и рубинами, и четвертый – алый, шелковый, с яхонтами и сапфирами.
Старик-гость что-то шепнул соседу.
Царь насторожился:
– Никак, сдается, про варваров помянул басурмен!
Толмач схватился за голову:
– И в думке не было, государь!
Но Иоанн гневно толкнул толмача посохом и жутко уставился на Бориса.
– Не впрямь ли языки правду болтали, будто басурмены варваром меня обзывают?
Борис умоляюще сложил руки.
– А ежели и правда, – не гневайся покель. Не то придут гости в землю свою, королеве чего доброго лихо про тебя наболтают, царь.
Грозный сразу стих и уже милостиво похлопал толмача по плечу:
– Аз ведь без умыслу…
Перед тем как отправиться в трапезную, царь вдруг засуетился:
– Эка память стала!.. Кликни-ко, Друцкой, золотаря, покель сызнов из головы вон не ушло!
В сенях он передал золотой слиток давно поджидавшему умельцу и строго погрозился:
– Токмо допрежь того, как блюдо будешь творить, за весом в оба глазей. Сам ведаешь, что все русийские мои – воры!
Старший гость добродушно хихикнул:
– А и вы, ваше величество, русийской!
Грозный сдвинул брови:
– Кой аз русийской! Русийские – варвары, а мои предки были германцы!
А про себя злобно подумал:
«Показал бы аз тебе, басурмен, кой аз германец! Отведал бы ты моего русийского кулака!»
Во все время пира царь старался держаться как можно ласковее с чужеземцами и ни на мгновение не выдал лицом невыносимой боли в ногах и пояснице.
Вечером, когда гости ушли, он беспомощно упал на руки Годунова.
– Извели меня те басурмены!
Его унесли в опочивальню.
Кремль точно вымер, утонув в гробовой тишине.
Иван-царевич примостился рядом с Борисом на края постели и, затаив дыхание, следил за корчащимся от болей отцом. Федор стоял сумрачно у аналоя.
– Аль по благовесту погребальному стосковался? – неожиданно лязгнул зубами больной.
Царевич вздрогнул и отступил к двери:
– К венцам, батюшка, положены смехоточивые благовесты, а не погребальные.
И, опускаясь на колени:
– Покажи милость, поставь меня сызнов набольшим на твоей свадьбе.
Иван схватил брата за ногу и, как кутенка, оттащил к порогу.
– Ты у Собакиной, ты и у Анны Колтовской набольшим был!
С теплой улыбкой Грозный следил за детьми.
– Не брани, Ивашенька, его. Поставил бы аз тебя набольшим, да противу канонам то: не можно тебе по втором браке твоем.
Царевич вдруг освирепел:
– А сам-то ты по канону?! Пять раз венцы принимал!
– Молчи, Ивашка!
Чуя беду, Борис торопливо встал между спорящими. Иван с силой оттолкнул советника и затопал ногами:
– И не примолкну! И то в счет не беру Васильчикову да Мелентьеву, да и колику силу еще невенчанных!
Забыв о боли, Иоанн кошкой прыгнул на сына. Царевич изловчился и выскочил в сени.
– Пиши! По всей Русии абие весть возвести! – задыхаясь от гнева, вцепился Грозный в горло Годунова. – Федьке стол свой отдаю. А его – в послушники! В чернецы!
* * *
Тоскливо длились кремлевские дни. Как в стане, готовом к бою, кишели сени и двор вооруженными с головы до ног дозорными.
Иоанн запретил проходить кому бы то ни было по хоромам без разрешения Бориса. Сам он перестал показываться на людях. В каждом шорохе и случайном взгляде близких чудились ему лихие замыслы и лицемерие.
Часто тишину ночи раздирали смертельные стенания и крики царя, осаждаемого толпой жестоких призраков. Весь в холодном поту, он судорожно грыз гнилыми зубами подушку, отбивался ногами и руками от невидимых ворогов и с ужасом чувствовал, что гибнет.
Евстафий не отходил от больного, исступленно кропил стены свяченой водой, дул и плевался, изгоняя из опочивальни бесов.
Длинные пальцы царя шарили в воздухе и, беспрерывно сжимаясь в кулаки, так хрустели, как будто прожевывали чьи-то кости.
– Преславной! – стонал время от времени духовник. – Опамятуйся!
Измученный страшной борьбой, Иоанн наконец забывался в тревожном полубреду.
И снова напряженная тишина висла над черным Кремлем, каменными изваяниями стыли перепуганные дозорные, и серым пятном колебался распластавшийся на полу перед образом протопоп.
Утром, после молитвы, Грозный задавал Годунову один и тот же неизменный вопрос:
– Надумали ль те басурмены?
Борис обнадеживающе улыбался:
– Надумают, государь! Где им еще для королевны жениха пригожей сыскать?
Но однажды в опочивальню пришел Друцкой и, остановившись у двери, закрыл руками лицо.
– Аль лихо?
– Грамота, государь, была басурменам от агличанки!
Иоанн с показным спокойствием поиграл бородой и уставился в подволоку.
– Ну а в грамоте что?
– Сказывает агличанка, будто во младости еще пребывает королевна. И надумала в девках покель ее еще держать.
И, отвесив земной поклон, бочком выбрался в сени.
Чтобы избавиться от охватившей все существо гнетущей пристыженности, Грозный приказал подать вина.
Захмелев после первого же глотка, он обнял Ивана-царевича и погляделся в зеркальце.
– Ну како стерпеть тут?
– А ты, батюшка, пренебреги!
– Аль уж аз непригож стал? Аль недостоин агличанки богопротивной?
Царевич сочно поцеловал руку отца.
– А ты им, батюшка, в отмест за охальство – ни гривенки щетины, а ни вот эстолько чего другого!
И уверенно:
– Токмо кивни – стрелой под нози твои наикрасные боярышни кинутся.
Иоанн прищурился перед зеркальцем, пятерней расчесал реденькие волосы свои и обиженно надул губы:
– А?! Каково! Аз девки недостоин басурменской!
Взгляд его упал на ухмылявшегося Федьку Басманова.
– Ты! Твои то козни!
И бросил в опричника зеркальцем.
Звонко расхохотались осколки, рассыпавшись по полу.
Глава двенадцатая
Всюду басурмены переходили в наступление.
Разоренные холопи с украйн тучами убегали на Волгу и Дон.
Не раз Иоанн твердо решал принять на себя воеводство над ратью, но тяжелая болезнь крепко приковала его к Кремлю.
Страна осталась почти без чужеземных умельцев. Часть рудознатцев, золотарей и розмыслов ушла в свои земли, часть вымерла или, заподозренная в израде, погибла в темнице. О приезде же новых нечего было и помышлять: ливонцы не только никого не пропускали в Московию, но и прилагали все силы, чтобы переманить к себе уцелевших.
Языки каждый день докладывали царю через окольничих о злых кознях чужеземцев.
Грозный в бессильной злобе вымещал гнев на близких.
– Продались басурменам! Недолог час и царя своего предадите.
В Покров день царь узнал, что какие-то люди сожгли привезенную из Польши типографию.
Объезжий голова получил приказ немедленно найти виновных.
Следы привели к монастырю. Заподозренных монахов приволокли в Кремль.
Царь пожелал присутствовать лично на опросе преступников.
Во время пытки один из монахов обернулся вдруг к Алексею Басманову:
– Аль за себя радеешь?!
И, извиваясь от боли, крикнул в лицо Иоанну:
– Нас, малых людишек, изводишь, а не чуешь израды, что змеей на груди твоей таится.
Грозный тотчас же ушел из застенка и заперся с Иваном-царевичем в опочивальне.
Притихшие было страхи проснулись с удесятеренной силой.
– Сызнов израда! От младости моей до сего часу, Иваша, таится она у меня за спиной.
Царевич прижался к плечу отца.
– Не томи ты себя думкой черною. То мних, может, потварь возвел на Алексея, чтобы в отместку за пытки тебя душевной пыткой извести.
Царь упрямо затряс головой.
– Ходит! За спиною таится!
Иван раздраженно вскочил.
– Токмо меня баламутишь! Сам-то аз извелся!
– Извелся?
– Извелся!
Иван пытливо поглядел на отца.
– Параскева на сносях, а…
Грозный не дал ему договорить:
– То не кручина. То Богом положенная стать бабья! Пускай ведуньи кручинятся!
Царевич сжал кулаки.
– Прознать бы! Токмо прознать бы, по-божьи ль она аль по Евдокиину?
Грозный отвернулся к киоту. Взгляд царевича тупо уставился на согнутую спину отца.
– Батюшка!
Царь чуть повернул голову и смущенно поглядел на сына.
Страшное подозрение прокралось в душу Ивана.
– Чудно мне, батюшка, что был ты немалое время велико ласков с моей Евдокией, а под остатние дни не в меру с нею гневен.
– Ты к чему клонишь?!
– К тому же.
И с мольбой:
– Дозволь уйти!
Грозный покорно пропустил сына в сени.
* * *
Скучно и боязно было в опочивальне царю, хоть и полны были сени дозорными и из соседнего терема неумолчно доносился мягкий голос Бориса.
Иоанн поднялся с постели и просунул голову в дверь. Советники торопливо вскочили с лавки. Басманов, стараясь скрыть в застывших глазах ужас, подполз на коленях к царю.
– Недобрые вести, преславной! – тихо выдохнул он, чтобы отвести разговор о себе.
– К добрым-то вестям мы с младости не приобыкли, – с ледяным спокойствием обронил царь.
Годунов стал впереди Басманова.
– Сказывают, преславной, что явился в Диком поле могутный казак-разбойник, по прозвищу Бабак.
– Ну!
– Набрал тот Бабак казаков из Черкас, Канева, Браславля да с Волги и Дона великую силу.
– Ну!
– И со споручники свои, со разбойники, Карпом, Андрушом, Лесуном да Белоусом, не дает проходу караванам крымских и турских торговых гостей, что с нами торг торгуют.
Царь напряженно слушал советника. В мозгу то зрели смелые планы, и тогда в глазах вспыхивали гордые искорки уверенности в себе, то вдруг представлялись в воображении разоренные области, несметные басурменовы рати, неуклонно продвигающиеся к украйнам, – и снова опускались беспомощно руки, и все казалось безвозвратно потерянным.
– Князьям уделы верну! – крикнул он неожиданно. – Пускай ведают, за что бьются!
Борис вытаращил глаза:
– Ты ли молвишь тако?
– Молчи!
Посох угрожающе застучался об пол. Жажда действовать, повелевать, так закружиться в работе, чтобы ни на мгновение не чувствовать себя самого, ураганом ворвалась в душу Грозного.
– Отныне аз воеводствую! Един!
Он бессмысленно заметался по терему, опрокидывая все на пути. Какой-то страшный огонь сжигал его и властно подбирался к мутнеющемуся рассудку.
– Коня! Малюту!
И вдруг, беспомощно зашатавшись, замертво упал.
Отлежавшись в постели, Иоанн изумленно приоткрыл глаза и так поглядел на Басманова, как будто впервые за всю жизнь увидел его.
На землистое лицо легла примиренная улыбка.
– Борис!..
– Что, мой преславной?
– Ты здесь, Борис?
– Подле тебя, мой царь!
Грозный подложил ладонь под щеку и мечтательно уставился в стрельчатое окно.
– Здравья бы мне. Поглазеть, что у меня на Арбате, на улице опришной. Со кречеты да аргамаки позабавиться маненько.
Басманов с песьим умилением приподнял голову.
– Будут и кречеты и аргамаки. Дал бы токмо Господь здравия тебе.
Незримая усмешка чуть шевельнула усы царя. В глазах засветились лукавые искорки.
– Да что нам сетовать! Зальем мы тугу вином да скоморошьею потехой! – И вскакивая с постели: – Пир пировать!
* * *
Поздней ночью, оставшись наедине с пьяным Федькой Басмановым, обряженным в сарафан, Грозный нежно спросил:
– Аль и впрямь люб аз тебе?
– Люб, государь! – тупо соображая, заворочал непослушным языком опричник.
– А ежели б израду нашел, – како бы поступил?
– Своего живота лишусь, государь, а израды не попущу!
Грузно опираясь на посох, царь вышел в соседний терем и поманил за собой Федьку.
– Глазей!
На полу, упираясь затылком в порог, раскатисто храпел Алексей Басманов.
Иоанн заложил одну руку в бок, другой мягко поглаживал пыжившийся клин бороды.
– Про пожар небось слыхивал?
Жуткий холодок царапнул спину опричника и заиграл корнями волос, сразу выгнав из головы хмель.
– Избави, царь!..
Грозный, не торопясь, с каким-то нечеловеческим наслаждением, достал из-за пазухи нож.
– В сердце… ге-ге-ге-ге… Израду – в сердце!
– Избави, царь!..
Две искорки застывших зрачков колюче впились в обезумевшие глаза Басманова.
– В сердце! Ге-ге-ге-ге…
Вздрагивающая рука угрожающе потянулась к горлу опричника.
– Коли!
Точно в бреду, принял Федька нож от Грозного и пырнул им в грудь отца.
– Да и ты, пес, за ним беги! – побагровел вдруг царь и, с бешеной быстротой выхватив нож из груди убитого, полоснул им по горлу Федьку. – Опостылел!
Хихикающий смешок угрожающе рос, наполнил терем грохочущим хохотом и разлился по хоромам звериным воем.
– Царь! Преславной царь! – взывал тщетно прибежавший на шум Годунов. – Опамятуйся, царь!
Грозный неожиданно оборвал хохот.
– Убрать!
И, торопливо утирая руки о полу кафтана, попятился к опочивальне.
* * *
Гостинодворцы пришли с челобитной к царю.
– Разор, государь! Дыхнуть Бабак нам не дает! Все пути торговые занял, разбойник!
Заблюда трижды перекрестился на образ и с опаской поглядел на царя.
– Дозволь!
– Реки!
– Слух идет – Вяземской-князь с Куракой-Унковским и Темкиным под короля Литовского надумали отдаться.
Пряслов сердито фыркнул:
– По то и Бабаку воля, что чмутьяны с Литвой взяли его под свою окаянную руку.
Рожков отстранил Пряслова и, погрозив Заблюде, пытавшемуся что-то сказать, строго наморщил лоб:
– Не милы нам, царь, князь-бояре, да не обессудь: еще постылей те Вяземской да Унковской.
Грозный жалко усмехнулся:
– Выходит – в земских спасение?
– Да и не в Вяземских!
– Так в ком же?! В ком?!
На другой день, во время сна, были задушены Вяземский, Темкин и Курака.
* * *
Иван-царевич по-отцовски приподнял острые плечи и раздраженно махнул рукой:
– Аль при мне блудить тебе несподручно, что все норовишь на охоту меня спровадить?
Параскева обвила руками вздутый свой живот и обиженно вздохнула:
– Извелся ты, господарь, в думках нечистых, а вины аз за собой не ведаю.
Прищуренный взгляд едко скользнул по ее лицу.
– Все-то вы, Соловы, бабы распутные!
И, багровея, больно вцепился в руку жены.
– Не зрел аз нешто, как ты вечор в оконце батюшке кивала?!
Через силу сдерживаясь, чтоб не избить жену, он выскочил в терем брата.
Федор сидел за мраморным столиком и, высунув кончик языка, безучастно пересыпал с руки на руку горсть сверкающих камешков.
В углу, на медвежьей полости, сладко спал Катырев.
Увидев возбужденного брата, царевич потихоньку оттолкнулся к краю столика и, будто вспомнив о чем-то, суетливо подошел к боярыне.
Но Иван не обратил внимания на Федора и, вызвав стольника, приказал подать вина.
Через дощатую переборку слышно было, как Параскева сдушенно стонет и шепчет проникновенно молитвы.
– Блудная девка! – зло скривил губы Иван, вырывая у вошедшего стольника мушерму и ковш.
За окном шептались о чем-то увядшие листья. Небо супилось, собирало угрюмо свинцовые брови свои. Над лесом клубилась грязная ткань тумана. В сенях гулко отдавались шаги дозорных.
Вдруг Иван приложил к уху ладонь.
– Отец! – узнал он шаркающую походку Грозного и дробные постукивания посоха.
И тотчас же из светлицы Параскевы донесся ворчливый голос:
– Ужо недосуг и принарядиться для меня! У-у, мымра!
Параскева застенчиво закрыла руками полуобнаженную грудь.
Неслышно поднявшись из-за стола, Иван на носках подошел к двери и чуть приоткрыл ее.
– Убери ты брюхо кобылье! – уже громко прикрикнул царь.
Сноха что-то забормотала, оправдываясь, и отошла за скрыню.
Слабый голос женщины, смущение ее, вздутый живот, трепетно колеблющиеся груди и нервное дыхание пробудили в Грозном чувство гадливости, непостижимо смешанное с каким-то животным томлением.
Не отдавая себе отчета, он вплотную подошел к Параскеве.
– Бесстыжая! Ты бы еще нагой встретила царя!
Иван ворвался в светлицу.
– Не займай, отец!
Грозный оттолкнул плечом сына и назло ему облапил сноху.
– Отец!
Сведенные судорогой пальцы царевича впились в горло Иоанна.
– Мало девок тебе?! Мало тешился с Евдокиюшкой моей?!
Федор, подглядывавший в щелочку за ссорой, забывая осторожность, прыгнул к брату и оторвал его от отца.
Грозный рухнул на лавку.
– Уйди, Ивашка! – зловеще пристукнул он посохом и налитыми кровью глазами уставился на сына. – Уйди!
– Уйти?! Вас тут оставивши?! – заревел исступленно Иван. – Убей! Убей, а не уйду!
– Молчи!
– И замолчу, коли убьешь! – Царевич рвал на себе рубаху, обдавал отца потоком бешеной пены, дикой руганью и жестоко бил себя в грудь кулаком.
– Убей! А не отдам ее, покуда жив! Будет с тебя! Будет Евдокии да Марфы! Да Анны! Да тьмы безвинных девок!
– Молчи!
– Ан не замолчу! На весь свет кричать буду, како ты и матушку мою, покойную Анастасию, извел!
Грозный вскочил и, отпрянув к стене, сжался так, как будто остановился на краю бездонной пропасти.
– Настасьюшку?! Аз?! Мою пресветлую аз погубил?!
– Да! Ты!
Черный мрак окутал мозг царя.
– Так сгинь же!
С визгом взметнулся посох.
Страшный крик на мгновение пробудил сознание Иоанна, но тотчас же все потонуло в густом тумане.
– Батюшка! Батюшка! Батюшка! – прижавшись к обомлевшей Параскеве, бессмысленно выл Федор, распуская лицо в жуткую улыбку безумного. – Батюшка! Батюшка!
Грозный тихонько опустился на пол. Порыв дикого гнева уже проходил, сменяясь страшным предчувствием.
– Иваша! Сын!
Закрыв плотно глаза, Грозный пощупал рукой воздух.
– Аз кличу тебя, Иваша! Иди же! Аз… аз кличу… Отец твой…
Светлица молчала черным молчанием смерти.
Грозный на животе подполз ближе к двери. Пальцы ткнулись в клейкую жижу.
Затаив дыхание, он отпрянул назад и нащупал посох. С убийственной медлительностью поползли извивающиеся червями пальцы от холодной глади набалдашника к острию.
На мгновение рука замерла у залитого кровью виска царевича.
– Нет, нет! – почти спокойно шевельнул Грозный губами и приоткрыл глаза.
Перед ним, широко раскинув ноги, лежал мертвый царевич. В раскроенном виске торчало медное острие наконечника…
– Нет, нет! Не верю! Иваша! – хихикнул вдруг Иоанн и, сорвавшись, ринулся через темные сени на двор.
– Спасите!..
Точно призрак метался он по ночному Кремлю, с ревом отскакивал от перепуганных на смерть дозорных, бился головой о стены, падал и вновь бежал, гонимый ужасом и безумием, пока не очутился в притворе церкви Иоанна Лествичника.
– Бог! Разверзни преисподнюю! Бог!!!
Глава тринадцатая
– К обедне бы сходить мне, Борис…
Годунов недовольно причмокнул:
– Лежать тебе надо, мой царь.
Но Иоанн не послушался и, кряхтя, поднялся с постели.
Тоненькие руки беспомощно всплеснулись в воздухе и упали на плечи советника. Перед глазами несметными роями золотых паучков вспыхнули нестерпимо яркие искорки. Опочивальня подпрыгнула, закружилась и рухнула куда-то в черную пропасть, увлекая все за собой.
Борис усадил больного в кресло.
– Благовестят никак? – тихо спросил Иоанн, отдышавшись немного, и отставил два пальца для креста.
Прозрачная щека его ткнулась в приподнятый угол плеча. Примятый клин бороды жалко топырился, как будто испытывал боль. Из-под сбившейся на глаза потной пряди пепельно-желтых волос чуть светился стеклянный зрачок правого глаза.
– Вот и песенка вся!..
Губы чуть передернулись в желчной улыбочке.
– Жил, жил человек, и несть человека!
Евстафий высунулся из-за аналоя.
– Не внемли гласу лукавого, ибо не дано человекам ведети об отмеренных Господом днех.
Грозный примиренно вздохнул:
– Чует душа моя… чует свой час.
И, испуганно прижавшись к Борису, застучал дробно перегнившими тычками зубов.
– Боязно… вон она… за спиной… токмо невпопад главу обернуть, и узришь ее… вон она… Борис… боязно мне…
Бодрящей струей пролился в мрачную опочивальню торжественный благовест.
Протопоп набожно перекрестился и стал на колени перед аналоем.
Грозный повернулся к оконцу.
Весело кружась в прозрачном воздухе, пуховой периной падал на землю снег. Чуть маячил на золотом кресте церковного купола отдыхающий ворон. На звоннице ожесточенно дергал веревки увлекшийся пономарь.
– Ты бы в постелю, преславной! – предложил Борис, заметив, как темнеет и супится лицо царя.
Иоанн зло впился пальцами в ручку кресла.
– Не допрежь ли сроку хоронишь, Борис?! – И с неожиданной силой вскочил: – Не лег бы ты наперед меня в землю! – Он, шатаясь, пошел к постели. – Федьку!
Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, в опочивальню тотчас же явился царевич.
Грозный больно ущипнул его за ухо.
– Изничтожь ты улыбку свою одержимую!
Федор приложился к плечу отца.
– Твоя воля, батюшка…
Он вобрал в себя воздух и раздул пузырем щеки, чтобы как-нибудь согнать каменную улыбку, не сходившую с лица со дня смерти брата.
– Еще! Тужься еще, сука пономарева!
– Твоя воля, батюшка…
Иоанн с омерзением сплюнул и исподлобья взглянул на Евстафия.
– Ты бы, что ли, глаголом каким заговорил бы его.
Федор заломил руки:
– Ужо и ведунья колико раз заговаривала на уголек, а не спокидает меня та улыбка постылая! Хоть ты что с окаянной с ней сотвори! Како со смерти Ива…
– Молчи!
Грозный заткнул пальцами уши в зарылся в подушки.
Покорно уставившись на иконы, Евстафий привычно, как раз навсегда налаженное для него дело, тянул без всякого выражения слова молитв.
Перед поминанием мертвых, он обернулся с немым вопросом к царю.
– Молись!
– Молюсь, государь!
И нараспев:
– Помяни, Господи, души усопших раб твоих, Федора, Алексея, Петра, Мисаила…
– Помяни, Господи, души усопших раб твоих… – проникновенно повторил царь за духовником. – Федора, Алексея…
– Иоанна, Афанасия, Микиты… – все быстрее выталкивал протопоп.
– Иоанна, Афанасия, Микиты… – цедил сквозь зубы Грозный, непрерывно крестясь.
– И иных, имена же их ты, Господи, веси…
– …имена же их ты, господи, веси…
Окончив, протопоп покропил святой водой присутствующих и стены.
Иоанн присел на постели и, кивнув вошедшему дьяку, печально поглядел на царевича.
– Ты внемли, Федя. Скоро сам будешь самодержавцем всея Русии.
Царевич сжал руками виски.
– И не придумаю, пошто мя, хилого, хощет покарать Господь державою?
Тяжкий вздох вырвался из груди царя:
– Вся надежда на тебя, Борис.
Он умоляюще взглянул на советника.
– Заповедаю: како мне служил, послужи и ему, неразумному. Не дай сбиться духом немощному с хитросплетенной дороги государственности русийской.
Годунов страдальчески перекосил лицо.
– Не хорони ты себя, государь! Слушать не можно мне!
Дьяк взял со стола грамоту и, дождавшись разрешения, прочел ее.
– Печалуются? – по слогам, сквозь зубы, прошипел Иоанн. – Рыбники со хамовники печалуются? Невмоготу стало жить?
Его глаза сузились и потемнели. На шее шевельнулась синеющая жила. Чуть оттопырился, обнюхивая воздух, клин бороды.
– Ты все, Борис! Не поблажать им, а скрутить их, смердов!
Он вдруг вскочил и оттолкнул от себя с силой царевича.
– Не аз буду, ежели не сниму с тебя юродивой улыбки! Отврати лик, мымра!
И к дьяку:
– Читай.
Дьяк взял со стола цедулу и, исподлобья поглядывая на Грозного, усевшегося в кресло, испуганно зажевал губами:
Великой государь, царь всея Русии…
– Не тяни отходную, Михайло. Читай складнее!
Дьяк сжался от окрика и срывающимся голосом затараторил:
«Видывал аз, како ты со князь-бояре расправлялся. И еще думку держал в те поры: изведешь бояр – воззришь на холопей. Ан по-иному повел ты, царь! Добро боярское пожаловал опришнине, а от той милости твоей холопям была ль корысть? И аз верой тебе служил. А чаял поп ведать тебе кручины великие холопьи. А ты божьим ли откровением меня в темницу вверг да Ондреичу-подьячему за тое цедулу мою с Волги руку отсек, а цедулу огнем пожег? Не Божьим гласом то, а дияволовым наущением содеял. И таково все дни живота нашего зрели холопи от тебя и дьяков твоих едину тугу да лютость. И узрев сие, спорешили мы сами сдобыть себе долю свою, а на тебя ополчиться ратью великою, всехолопьею! А по той пригоде спосылаю аз назад пожалование мя в московские дворяны да во дьяки-розмыслы. Жалуй ты воров своих, а аз покель пребуду в холопях, да в вольных! А еще, великой князь, отто вся казаки велегласно тебе реку: аз, Васька Выводков, Бабак, да Иван Выводков, Безрукой, с протчими вольные казаки, спосылаем тебе отныне и до века со всемроды царские анаф…»
– Молчи!
Дьяк бросился в ноги Иоанну.
– Молчи! – захлебнулся от крика Грозный и схватил посох. – Молчи! Молчи!!!
Он налился звериным гневом:
– Ниц! Сжечь на костре! Огнем!
И, зашатавшись, упал на руки Бориса.
– Помираю…
На постели, резко упавшим голосом, царь попросил:
– Повели, Евстафий, благовестить благовестом погребальным.
Царевич крадучись поглядел на стынущее лицо отца. Странное чувство шевельнулось в нем. Он испуганно отшатнулся и зашептал про себя молитву. Но злорадство брало верх над жалостью к умирающему и с каждым мгновением росло, закипая в груди торжествующим и бурным хохотом.
Грозный попытался что-то сказать, но только беспомощно махнул рукой.
Годунов склонился к уху больного:
– Лекарь-фряг сдожидается, мой государь!
Сжав кулаки, царь чрезмерным усилием воли глухо выдохнул:
– Не лекаря, а игумена… Постриг приять…
Советник пытливо заглянул в чуть приоткрывшиеся глаза. Сомнения не было. Перед ним лежал человек, доживающий последние минуты.
– Игумена!.. Во мнихи волю… – резко, по-прежнему властно, крикнул Грозный и вдруг капризно надул губы:
– Позабавиться бы фряжскою потехою в остатний раз, покель игумены приидут.
Борис торопливо достал из-под постели шашки.
* * *
Скорбно перекликались колокола. Сонм монашества московского черной тучей устремился в Кремль.
Полный величественного смирения, творил игумен чин пострига.
И, свершив обряд, благословляюще простер над Иоанном руки.
– Не оставь, Господи, недостойного раба твоего, многострадального инока Иону.
Блаженная улыбка разлилась по землистому лицу царя.
По подушке, точно почуяв волю, не спеша полз жирный, налитый кровью, клоп. Ткнувшись в шею умирающего, он задержался на мгновение и деловито засуетился в растрепавшемся клине бороды.
Царевич взял руку отца.
Неприятный холодок тупо отдался в груди и в концах пальцев.
Чуть зашелестели губы Иоанна:
– Наипаче… Ваську… розмысла… остерегай… ся… Со разбой… ным… и… хол… оп… пи…
Уловив взгляд сына, он побагровел и весь собрался, точно готовый прыгнуть.
– Убр…
Лютый холод сковал вдруг сердце. Рука, поднятая на Федора, упала мертво, по-мышиному скребнув ногтями деревянную половицу.
Евстафий благоговейно опустился на колени.
– Почил царь и великой князь всея Русии!
Царевич бочком вышел из опочивальни, но на дворе гордо запрокинул голову и быстро направился к звоннице.
– Изыди! – оттолкнул он пономаря.
Чахлый мартовский день заухал, закружился в пьяной пляске набатных перезвонов.
Полные ужаса, из хором бежали на двор монахи.
– Царевич! Царь преславной! Каноном положено великопостным благовестить перезвоном!
– Изыдите!
Федор лихо вскидывал плечами, тряс исступленно головой и не слушал уговоров. Бурным, всесокрушающим потоком била удаль в его груди.
– Погребальным перезвоном по канону! Царевич! Царь преславной!..
– Изыдите!
– Царевич! Бога для! Побойся Бога!
– Эй, вы там! Изыдите!!! Аз ныне – Феодор Иоаннович – всея Русии государь!!!
* * *
А в келье монастырской монашек ветхий, осенив себя трикраты меленьким крестом, сгорбился над желтым и сырым, как его лицо, пергаментом и вывел неверной рукой последние слова в мрачном и полном кровавых дней своем летописании:
«В лето от сотворении мира семь тысящ девяносто второе, а от Рождества Господа нашего Исуса Христа тысяча пятьсот восемьдесят четвертое, осемнадесятого дни, месяца марта, в бозе почил царь и великой князь всея Русии, Иоанн Четвертый Васильевич, во иночестве ж раб божий Иона. Аминь».
Примечания
1
Л е х т а ю т – щекочут.
(обратно)2
Т а л о в е н ь – вор.
(обратно)3
П о ч и н о к – новая деревня.
(обратно)4
О с е р е н е е т – потеплеет.
(обратно)5
У д у р – ложь.
(обратно)6
П о в а л у ш а – летние покои.
(обратно)7
П я д ь – четыре вершка.
(обратно)8
А р м а т а – воинство.
(обратно)9
И з р а д а – измена.
(обратно)10
К р ы н я – комод с выдвижными ящиками.
(обратно)11
В о л о с н и к – шапочка шелковая в жемчугах.
(обратно)12
У б р у с – белый платок.
(обратно)13
А б и е – тотчас.
(обратно)14
П о т в а р е н н а я б а б а – сводница.
(обратно)15
Г р и в а – кайма.
(обратно)16
Б у й – глупый, дурак.
(обратно)17
Е р у с а л и м-д о р о г а – Млечный Путь.
(обратно)18
В е ж и – шатры.
(обратно)19
Ф р я г и – немцы.
(обратно)20
Л о к о т ь – десять вершков.
(обратно)21
К о н т ы р ь – два с половиной пуда.
(обратно)22
Б а т м а н – десять пудов.
(обратно)23
Н е д е л ь щ и к – вызывающий на суд.
(обратно)24
О к о л ь н и ч и й – судья.
(обратно)25
Д е н г а – полкопейки.
(обратно)26
Ч е т ь – поддесятины.
(обратно)27
П е ч е н е г – лизоблюд.
(обратно)28
П л ю в и я – дождь.
(обратно)29
М ш е л – взятка.
(обратно)30
Ж и в о т – холопи.
(обратно)31
Ч е р д а к – терем.
(обратно)32
Г у л ь б и щ е – балкон.
(обратно)33
П р а п о р ц ы – флюгера.
(обратно)34
У ш к а л – наездник.
(обратно)35
Ж и л е ц – дворянин, изредка заседающий в думе.
(обратно)36
П р и т о р – расход.
(обратно)37
Д о с к и – доски на бревне, на которых в праздник раскачивались девушки.
(обратно)38
Т ь м а – десять тысяч.
(обратно)39
С у р ь м ы – трубы.
(обратно)40
Н а к р ы – литавры.
(обратно)41
К а з н а з е л е й н а я – порох.
(обратно)42
Р о з м ы с л – инженер.
(обратно)43
О п а ш ь – хвост.
(обратно)44
М о в ь т в о р и т ь – париться в бане.
(обратно)45
Г р и в е н к а – фунт.
(обратно)46
П о д е н н а я п о д а ч а – надкусанный ломоть, знак царской милости.
(обратно)47
Б а х а р ь – сказочник, сказитель.
(обратно)48
Р а – Волга.
(обратно)49
Ю р т – земля, владение.
(обратно)50
Ч е р н а я с о т н я – мелкие торговцы.
(обратно)51
О б л о м ы – скатные пристройки, выдающиеся в наружную стену.
(обратно)52
П р я с л а – пространства между башнями.
(обратно)53
К о л п а к – мера веса, около тонны.
(обратно)54
Ш е с т о п е р – начальнический жезл.
(обратно)55
Лаишев.
(обратно)56
Т а р п а н ы – дикие лошади.
(обратно)57
К л е й н о д ы – бунчук, булава, печать с гербом.
(обратно)58
Г а н ч ы р к а – тряпка.
(обратно)59
Л я н ц ю г и – оковы.
(обратно)60
З а ц н ы й – знатный.
(обратно)61
А р г а т ы – наймиты.
(обратно)62
К р а м а р и – мелкие торговцы.
(обратно)63
С п и с ы – пики.
(обратно)64
В о з – Медведица.
(обратно)65
В о л о с о ж а р – Плеяды.
(обратно)66
К а ф а – Феодосия.
(обратно)67
Х а з л е в – Евпатория.
(обратно)68
Х а д ж и б е й – Одесса.
(обратно)69
Г у л я й-г о р о д – передвижная крепость.
(обратно)
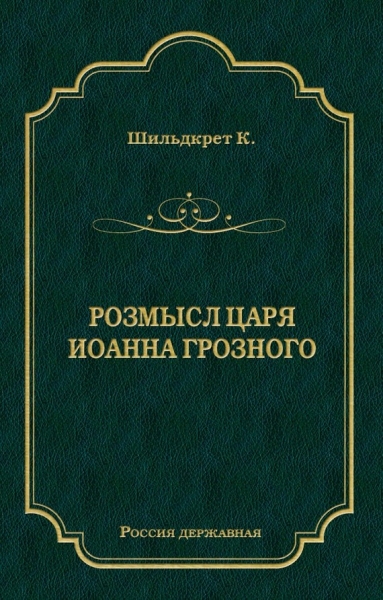



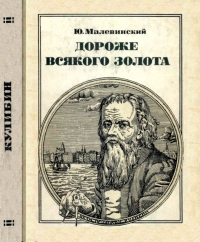
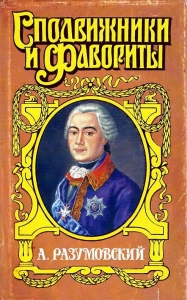
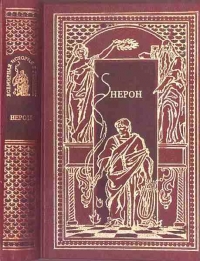
Комментарии к книге «Розмысл царя Иоанна Грозного», Константин Георгиевич Шильдкрет
Всего 0 комментариев