Н. М. Сементовский Кочубей
© ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *
I
Утренний туман покрыл седой пеленой спящую Диканьку; казалось, море разлилось во все стороны безпредельно. Кое-где лишь виднелись зеленые вершины столетних дубов, выступавшие из седого тумана, казавшиеся черными утесами; да блестел среди этого моря золотой крест Диканской церкви. Солнце еще не всходило, и восток только что начал румяниться.
В будинках Генерального писаря Василия Леонтиевича Кочубея все спали, не спал только он, да жена его, Любовь Федоровна; они сидели вдвоем у растворенного в сад окна, и печаль ясно выражалась на их лицах. Долго сидели они молча; потом Любовь Федоровна поправила белый платок, которым была повязана ее голова, и сказала:
– Почем знать, может быть, первая пуля попадет в его сердце, ты этого не знаешь… да, может, и умрет не сегодня завтра: в походе не на лежанке сидеть, – ну да что и говорить: будь умный, так и добудешь, а ворон ловить начнешь, так сам на себя пеняй! Тогда, сделай милость, и не показывайся мне на глаза, иди себе куда хочешь, живи себе как вздумаешь! Лучше одно горе перенести, чем весь свой век терпеть и посмешищем быть для других.
– Любовь Федоровна, Любовь Федоровна! – укоризненно сказал Кочубей, покачав головой. – Что ты говоришь, подумай сама, тебе хочется, чтоб сейчас булава, бунчуки и все у ног твоих лежало!.. Любонько, Любонько!.. Когда Бог не даст, человек ничего не сделает!..
– Я тебе не татарским языком говорю, как начнешь ловить ворон, так Бог и ничего вовек не даст!
– А! – воскликнул Кочубей, вскочив с кресла и махнув рукой. – Что говорить! Ты знаешь, я бы последний кусок хлеба отдал, лишь бы булава в моих руках была!.. Ты сама знаешь, да что и говорить!..
– Я тебе говорю на всякий случай, чтоб знал свое дело!
– Да разве я не знаю?
– Да, случается!
– Когда же?
– Было, да прошло, чтоб не было только вперед. Прошу тебя и заклинаю, Василий, не надейся ни на кого, сам ухитряйся да умудряйся, не жалей ни золота, ничего другого, побратайся со всеми полковниками, со всеми обозными, есаулами, угощай казаков, ласкай гетмана, – вот и вся мудрость!
– Добре, добре!
– То-то, смотри же! Пора, солнце всходит, я приготовила тебе на дорогу всего, и в бричку надобно укладывать?..
– Да, пора!
– Пойду разбужу людей.
Любовь Федоровна ушла; Василий Леонтиевич встал перед иконами и начал молиться; молитва его была кратка, тороплива, но горяча; он не хотел, чтобы Любовь Федоровна видела его молящимся, и, поспешно перекрестясь несколько раз, сделал земной поклон и опять сел на свое место. В ту же минуту в спальню вошла Любовь Федоровна.
– Давно все готово, коней повели до воды, и сейчас будут запрягать.
– Слава Господу.
– Я тебе на дорогу приказала положить в бричку святой воды, херувимского ладана, просфиру святую и кусок дарника, сделаешься нездоров, – в дороге все может случиться – вот и напьешься святой воды, съешь кусочек святого, и Бог тебя помилует…
– Спасибо, Любонько!
Василий Леонтиевич поцеловал ее руки, а Любовь Федоровна поцеловала его в голову.
В спальню вошла девочка и сказала, что коней запрягли.
– Скажи, чтоб принесли Мотреньку, – велела ей Любовь Федоровна.
Девка ушла.
Василий Леонтиевич встал, помолился и приложился ко всем иконам, Любовь Федоровна сделала то же; они прошли в другие комнаты, везде помолились и приложились к иконам; и потом все собрались в гостиную и сели, воцарилось молчание. Василий Леонтиевич встал, а за ним и все, он три раза перекрестился и, обратясь к жене, перекрестил ее, жена перекрестила Василия Леонтиевича, и они попрощались. Потом Василий Леонтиевич благословил спавшую на руках у мамки малютку Мотреньку, крестницу Ивана Степановича Мазепы, поцеловал ее, простился со всеми, принял от Любови Федоровны хлеб-соль, вышел на рундук, еще раз поцеловался с женою и сел в кибитку.
Любовь Федоровна перекрестила едущих. Бричка покатила по улице между маленькими низенькими хатами… и скоро скрылась вдали.
II
Степь, беспредельная как дума и гладкая как море, покрытая опаленною знойным солнцем травою, простиралась во все стороны и далеко-далеко, казалось, сходилась с голубым небом, на котором не было ни одного облачка. Солнце стояло среди неба и рассыпало палящие лучи свои. Тысячи кузнечиков не умолкая пронзительно кричали в сухой траве, а перепелка сидела под тенью шелковистого ковыля с раскрытым клювом от зноя и жажды.
В степи на курганах стояли казачьи пикеты: по три и более казаков с длинными пиками; иные из них, не двигаясь с места, смотрели вдаль, на дымку испарений, исходивших от земли, и были уверены в истине поверия отцов своих, утверждавших, что это святой Петр пасет свое духовное стадо; иные же разъезжали то в одну, то в другую сторону, высматривая, не покажется ли где ненавистный татарин.
Среди этой безграничной степи раскинут был казачий табор; полосатые, пурпурные, желтые, зеленые, белые шатры, – военная добыча казаков прежних лет, отнятая ими у турок и поляков, – были кое-как наскоро поставлены на воткнутые в землю пики. Вокруг шатров стояли рядами несколько тысяч возов, тяжело нагруженных разными военными и съестными припасами; возы эти служили в степи казакам и крепостными стенами.
Изнуренное невыносимым зноем войско отдыхало, дожидая вечерней зари, чтобы вновь двинуться в глубь Крымских степей и наказать неугомонных татар.
В одном месте несколько сот казаков, спрятав головы в тень, под возы, беспечно спали; в другом, под навесом, толпились вокруг седого старца бандуриста, который играл на бандуре, пел про старые годы, про Наливайка, спаленного поляками, про Богдана и Чаплинского; в третьем курили люльки и слушали сказки, в четвертом… да не перечесть, что делали несколько десятков тысяч храбрых казаков.
Шум, крик, ржание жаждущих коней, звуки литавр и бубнов не умолкали ни на минуту.
Направо от табора, в четверти версты, виднелись два вершника; они ездили в ту и в другую сторону, то приближались к табору, то скрывались за горизонтом.
Сторожевые казаки не обращали на них внимания; то наши! – говорили они между собою и были спокойны. Поездив по степи, вершники приблизились мало-помалу к табору; их легко можно было рассмотреть: один из них был лет сорока двух, роста среднего, лицом смугл и сухощав, большие черные сросшиеся брови, нависшие над узкими, также черными, ярко горевшими глазами, делали выражение лица его суровым, гордым и вместе с тем проницательным; повисшие черные с проседью усы прикрывали чуть усмехающиеся уста. Казак был виден и красив собою; на нем был жупан светло-зеленой шелковой материи, вышитый на груди золотыми снурками; палевые шелковые шаровары так широки и длинны, что не только закрывали красные его чёботы на высоких серебряных каблуках, но, когда он стоял на земле, казалось, что он одет в женскую юбку; по застегнутому стану повязан широкий, розового бархата пояс с вышитым золотом гербом Гетманщины, на поясе турецкая сабля с рукояткой, осыпанной драгоценными камнями; за поясом два пистолета, оправленные серебром; конь у него белый, арабский.
Другой казак роста немного повыше среднего, лицо хоть и полное, но бледное; черные большие глаза, нос прямой, усы черные, из-под бархатной красной шапки, опушенной соболем, виднелись как смоль черные волосы, закрывавшие почти до самых бровей широкий его лоб. Шелковый, стального цвета жупан, также обшитый золотым снурком; розового цвета шаровары и, как у первого казака, красного сафьяна сапоги с серебряными подковками; через плечо на золотой цепи висел кинжал; на зеленом бархатном поясе золотая сабля с длинною золотою кистью; конь у него был вороной.
– Так, мой наимилейший кум, так! – сказал казак, сидевший на белом коне.
Василий Леонтиевич поморщился, приподнял правой рукой шапку, а левой почесал затылок и сказал:
– Когда так, так и так!
– Да таки-так!
– Да все что-то не так! А нечего делать, надобно кончать, когда начали.
– Пора, кум, давно пора кончать, кипит да кипит вода, скоро и вся выбежит, если не отставишь от огня горшок.
– Да когда же кончать?
– Да завтра, если не сегодня, а лучше сегодня!
– Завтра!..
– Все завтра да завтра… чего будем ожидать? Полковники согласны, Голицын его не любит, казаки – что нам!.. Это не те годы, когда всякий кричал, кого хотел; теперь не то: кого мы захотели, тот и гетман!..
– Все лучше подождать до поры до времени.
– Ждать да ждать, и умрем, так все будем ждать; нет, видно, Василий Леонтиевич, не хочешь ты сам себе добра, видно, для тебя тяжка булава! А жаль, ты истинным батьком был бы для всех казаков; не хочешь сам носить булаву, так кого изберешь, тому и отдашь.
– Пане кум, не говори этого, ты в славе у московских воевод и бояр, тебя уважают цари; а я – писарь, мне не дадут булаву, и если не тебе, так кому другому, а все не мне!
– Кому другому? Мне или тебе! Я не возьму. Цари хотят, чтобы я жил в Москве; скажу тебе как наилюбезнейшему, наиближайшему другу, я не хотел бы ехать в Московщину, да что ж будешь делать, знаешь, кум, не хочет коза на торг, так силою поведут; нет, кум, ни кого не выберут, кроме тебя.
– Кум, тяжко, тяжко, крепко тяжко слушать мне слова твои, что я не хочу сам себе добра, что я гетмана уважаю!.. Нет, кум, нет, не такая думка в голове моей: двадцать лет служил я ему, и что ж за это? До генерального писаря дослужился, – очень много, не вмещу всего и в мешок! – нет, я докажу тебе, что и сам сумею держать в руках булаву, раз ее держал нечестивый чабан Самуйлович. Пусть паны полковники говорят, что я живу жиночим умом, что жена управляет мною, пусть говорят, что хотят, а я докажу, враг наш Самуйлович не будет гетманствовать, не будет!..
– Докажи, кум, докажи! И я твой товарищ и брат!
– Гетман пугало, что на горохе стоит; голова черепок, а не разумный человек!
– Так, кум, так, твоя правда!
– Знаю, что так!
– Куй же железо, пока оно красно!
– Будем ковать! Поедем до Дмитрия Григориевича, вот то голова!
– Поедем!
Мазепа и Кочубей поехали к табору. Подстрекаемый, с одной стороны, безотвязными докуками жены, умной, но властолюбивой, а с другой медоточивыми словами хитрого Мазепы, добрый, лихой, но неустойчивый в своем характере, истый казак Кочубей, страстный охотник, как и многие из украинцев, позываться и доносить, наперекор внутренним обличениям своего сердца, свыкся наконец с обольстительною мыслию – быть гетманом и решился, по наущениям Мазепы, действовать против Самуйловича. Простота не рассчитала, к чему приведет ее коварство!
Под одним пунцовым, с белыми полосами шатром, на турецком ковре, сидело в кружок пять человек полковников; они были почти все без жупанов, в одних только шальварах из красной, синей и зеленой нанки, повязанных кушаками, длинные концы которых с правого бока спускались до самых колен; перед ними лежал небольшой плоский бочонок, а на белой хустке с вышитыми красным шелком петушками стояли небольшие серебряные чарки. По углам шатра сложены были собольи и лисьи шубы, покрытые бархатом; несколько жупанов, ружей, пистолетов, две или три сабли, столько же шапок, опушенных мехом, и разная другая одежда.
Смуглое лицо, нос как у коршуна, черные подбритые и подстриженные в кружок волосы, узкие глаза и длинные повисшие усы отличали одного из полковников, который время от времени пускал дым изо рта, куря люльку, и поправлял табак маленьким медным гвоздем, висевшим на ремешке, привязанном к коротенькому чубуку. Сидевший напротив него полковник, будто для противоположности с первым, был чрезвычайно красен лицом, волосы на голове белые, а усы и густые, нависшие на глаза брови черные. Полковник этот украдкою часто посматривал на прочих и в раздумье качал головою; остальные, склонив головы на руки, сидели задумавшись.
За шатром слышалась песенка казака, стоявшего на страже у полковничьего шатра, – он пел про Саву Чалого.
Ой, чим мини вас, панове, Чим вас привитати? Даровав мени Господь сына, Буду в кумы брати. Ой, мы не того до тебя пришли, Щоб до тебе кумовати; А мы с того до тебя пришли, Щобы тебе разчитаты.Полковники долго прислушивались к грустной песенке, потом краснолицый спросил полковника, смуглого лицом.
– Что ж ты это все думаешь, Дмитрий Григорьевич?
– Ничего!
– Как ничего?
– Да так-таки – ничего!
– Нет, не ничего!
– Что ж думать, пане Лизогуб?
– Если б воля наша, чего бы мы не сделали, паны полковники! – сказал старик полковник, у которого седые как лунь волосы только оставались на висках. – Так, паны полковники, правду я сказал?
– Так-таки-так, пане Солонино.
– Эге, что так?
– Да таки-так!
– Вот чего захотел полковник Солонино, воли! Воли захотел, да и не добро оно! – усмехаясь, сказал также седой полковник, у которого на носу и на левой щеке был рубец от турецких сабель, Степан Забела, и покрутил свои длинные седые усы. – Воли захотел! – повторил он громче прежнего, скидывая с себя малинового цвета, обшитый золотыми снурками суконный жупан. – Лови в степи ветра: поймаешь его за чуприну, пане Солонино – добудешь и волю, а пока добудешь, кури люльку до вечера, а там будет тебе воля на всю ночь с полком в Крым поспешать к зичливым приятелям твоим татарам.
– Тяжко, крепко тяжко, да что ж делать, паны полковники! – сказал Дмитрий Григорьевич Раич.
– Что делать будем? – спросил пан Лизогуб. – Бродить по степям, пока ветер не навеет татарву, а навеет, так уже известно вам, паны полковники, что делать с татарвою; а не знаете что – так спросите московского великого пана Голицына, он недалеко от нас, – и научит, так что и чуприна будет мокра, да в другой раз зато и носа не покажешь ему; а не то, спроси у гетмана, и то человек разумный, только жалко – не своим умом живет, а московским!..
– Гей! Гей! Да молчи, пане Лизогуб, пусть им обоим лиха година, на что ты беду накликаешь на свою седую голову, посмотри на меня: я все молчу, да жду лучшего, делай ты так, и добре будет!
– Молчать, все молчать, пане Степан, нет, не такое время пришло, чтоб молча сидели и слова не сказали, когда кто прийдет до нас да скажет: «Клади, пане полковник, голову под секиру, я отрубю ее ни за то ни за се, а так, чтобы не было у тебя ее на плечах!» – Нет, пане Солонино, ты первый противиться будешь этому, сам первый не положишь голову под секиру, всякому воля своя дорога, всякий бережет и голову, и жизнь, и добро свое!
– Обождите немного, неделю-другую походим по степям, враг принесет татарву, повеселеет сердце, посватаются саблюки наши с татарскими головами, и горе забудем!
– Что ты говоришь, пане Раич, до конца света скоро дойдем, а все проклятой татарвы не будет! – сказал Солонина.
– Нет, пане Раич, видно, татары знают, где раки-то зимуют! Не видать, кажется, нам их, как не видать своего затылка; это не богдановские годы, не Виговский гетманует, не полезут теперь до нас: не одни наши гарматы страшны им, и московских боятся; пронюхали, что и москали просятся в гости до них; а москали, правду сказать, не наши братики-казаки, что пальнет с рушници да с пистоля, кольнет списом, махнет саблюкою – да и поминай как звали! И собаками не найдешь казака в степи, так улепетнет в Гетманщину до жены да до детей. Нет, паны полковники, минулось, что было, не воротятся старые годы, не будем и мы молодыми. Ох-ох-ох!.. Покрути свои седые усы, погладь чуприну, когда голова не лыса, посмотри, остра ли твоя сабля, цела ли рушница, да и не думай больше ни о чем, перекрестись вставая и ложась, что голова твоя на плечах, а что будет завтра, о том и не думай, а о жене и детях не вспоминай, словно бы их у тебя никогда и не было! – сказал Лизогуб.
– А все кто виноват, паны полковники?.. Подумайте сами, кто всему причиною? Старый гетман! Правду так правду резать: гетман всему виною, Генеральная старшина все знает и подтверждает, а мы так как воды в рот набрали.
– Твоя правда, Дмитрий Григорьевич, гетман всему причиною, а все от чего? – от того, что слушает москалив, водится с москалями, одних москалив как черт болото знает. А мы ему что? – посмотрит на нас, махнет рукою, вот и все наше, мы ему не паны-браты.
– Так-так, пане Лизогуб, крепко гетман наш набрался московского духа, старый уже, пора ему и в домовину, – а все еще не туда смотрит, пора ему и в… Да что ж делать, хоть бы одумался!
– Одуматься! Пане Забело, одуматься гетману; ты слышал, что рассказывал пан Кочубей, что подтвердил и пан есаул Мазепа, слышал?
– Да, слышал!
– Ну то-то, так не говори, враг знает чего!
– Слово твое правдивое, пане Раич, правду говорят и паны старшина: есаул и писарь; ну, писарь, хоть себе и так, легонький на язык, любит и прибавить, такая его уже натура, а Иван Степанович у нас голова, не гетманской чета, нет; да и у московских царей таких людей немного найдется, человек письменный, всякого мудрого проведет, набожный, правдивый и ко всякому почтителен, за то и Бог его не оставит, меньше казакует, чем Кочубей, да уже Генеральный есаул, а погляди, чего доброго, десяток лет не пройдет, и булаву отдадут ему, это так!
– А что пан есаул говорил? – спросил Лизогуб.
– Что говорил? Говорил, что гетман такой думки, если бы и все войско казачье пропало от жару или без воды, так жалеть не будет, а приехавши в Батурин, до всех икон по три свечки поставит и спокойно заживет себе с женою и детьми.
– Добрый гетман, грех после этого сказать, что он не аспид! – сказал Раич.
– Когда б ему сто пуль в сердце или сто стрел татарских в рот влетело! – сердито сказал Солонина.
– Молчите, паны дорогие, генеральные паны есаул и писарь до нас идут! – сказал Забела.
Полковники замолчали.
– Идут, так и придут, паны добрые, так, паны полковники?
– Так, пане Раич!
– Что будет, то будет, а будет что Бог даст! А я тем часом налью себе чарочку меду, да за ваше здоровье, паны мои дорогие, хорошенько выпью; а когда захочете да не постыдитесь пить, так и вам всем налью!
Лизогуб взял бочонок и налил в свою, а потом и другие чарки меду, поднял чарку и сказал:
– А ну-те, почестуемся!
Дмитрашко, Раич, Забела и Солонина взяли чарки.
– Будьте здоровы, пане полковники!
– Будь здоров, пане полковник!
– Ну, чокнемся, паны!
Чарки ударились бок об бок и в одно время полковники осушили их до дна. Потом все они встали с ковра, кто успел – надел жупан и прицепил саблю, кто не успел, и так оставался, нимало не заботясь о своем одеянии.
– Доброго здоровья, мирного утешения, счастливого пребывания усердно вам желаю, паны полковники! – сказал Мазепа, кланяясь на обе стороны.
– И вам Господь Бог да пошлет, вельможный есаул, многая милости, временные и вечные блага! – отвечали полковники, и все кланялись есаулу в пояс.
Поклонившись несколько раз Генеральному есаулу, полковник Раич обратился к Кочубею и сказал:
– Многия милости, покорнейше просим, пане писарь, пожалуйте! Здоровья и благоденствия широ все желаем.
Василий Леонтиевич кланялся на все стороны; полковники также низко откланивались; и потом, когда пан есаул сел на подложенную ему на ковре малинового бархата подушку, сел пан писарь, а за ним Раич, как хозяин, пригласил сесть и панов полковников.
Дмитрий Григорьевич громко позвал своего хлопца, и через несколько секунд вбежал под навес в красной куртке и в синих шальварах, с подстриженными выше ушей в кружок волосами, небольшой казачок.
– Хоменко, бегом мне принеси с обоза баклагу с венгерским!
Хоменко, выслушав приказание пана полковника, опрометью выбежал из-под шатра и побежал к обозу.
– О чем, паны полковники, беседовали? – ласково спросил Мазепа.
Некоторые из полковников тяжко вздохнули, другие язвительно улыбнулись, а полковник Лизогуб сказал:
– Про нашего гетмана, вельможный пане есаул!
– Эге, про гетмана! – сказал Забела и почесал затылок.
– Так-таки, вельможный пане, про нашего гетмана; что это он делает с нами, куда мы идем, зачем и для чего; миля или две до речки Московки, а там Конския воды, а все нет того, что нужно; а казачество, Боже мой, Боже, мрет да мрет каждый день от жару и от безводья, а кони, а мы-то все!.. Что с этого всего будет?
– Что-нибудь да будет! – с лукавою усмешкою сказал Кочубей и искоса посмотрел на Мазепу.
– Может быть, и твоя правда, кум, не знаю, – отвечал Мазепа.
– Да будет-то будет, да что будет? – спросил Забела.
– А что будет? Помрем все от жару, а волки соберутся да нашим же мясом и поминать нас будут, а гетман поедет в Батурин.
Прочие полковники сидели задумавшись и тяжело вздыхали.
Хоменко, задыхаясь, вбежал в шатер и положил перед паном Раичем бочонок.
– Вот это лучше пить, паны старшина и полковники, чем горевать, давайте-ка сюда чарки!
Дмитрий Григорьевич собрал чарки в одно место, откупорил бочонок, наполнил и поднес прежде всех пану есаулу, потом пану писарю, а потом пригласил разобрать чарки полковников.
– Доброго здоровья, пане полковник, от широго сердца желаю тебе! – сказал есаул, и за ним, кланяясь, повторили это приветствие все прочие и осушили чарки.
– Еще по чарке, ласковые паны!
Все хвалили вино и подали свои чарки; Дмитрий Григорьевич наполнил их вновь и просил гостей пить.
Все выпили.
– Еще по чарке, паны мои добродийство!..
– Будет, будет, пане полковник, не донесем ног, будет стыдно, это не дома, а в таборе.
– Ничего, паны старшина и полковники, будьте ласковы, еще по чарке, по одной чарке.
– Нет, будет!
– Будет!
– Ну, по чарке, так и по чарке! – сказал Лизогуб и первый подал свою чарку.
Снова чарки наполнились и снова осушили их до капли.
Дмитрий Григорьевич не приглашал уже гостей подать ему чарки, молча он старался украдкою наполнять их, полковники нехотя отклоняли его от этого просьбами, но Раич успел налить все чарки.
Разговор оживился, иные из полковников говорили между собою, другие вмешивались, и в шатре зашумело веселие.
Когда гостеприимный полковник Раич в седьмой раз наливал осушенные до дна чарки, общий разговор склонился на гетмана Самуйловича: все осуждали его поступки, один Мазепа молчал и, когда обращались к нему с вопросом, двусмысленно отвечал:
– Так, паны полковники, так; да что ж делать?
– Что делать? – сказал Кочубей, осушая чарку. – Разве мы дети, не знаем, что делать, когда нас всех хотят уморить! А донос в Москву? А начто от царей прислан Голицын? Ударим ему челом, вот и вся соломоновская мудрость.
Все были уже навеселе, но, услышав слова Кочубея, вдруг полковники замолчали; Мазепа окинул проницательным взором собрание.
– Как думаешь, пане есаул, справедлива речь моя?
– Не знаю, что сказать; всякое даяние благо и всяк дар совершен!
– Эге, что так! – воскликнул Кочубей, не разобрав слов Мазепы. – Зачем же вы, пане полковники, молчите, когда я указал вам прямую дорогу?
– Донос! Гм… гм – донос, пане писарь, да что ж будем доносить?
– Как что доносить, пане Солонино? Что знаем, все донесем, не будет у нас такого гетмана!
– А что знаем, пане писарь?
– Что знаем, пане полковник? Вот слушай меня, что знаем!
– А ну-те, пане писарь, послушаем, что скажете нам! – в одно слово сказали гости.
– Вы, паны полковники, разве не знаете, что гетман делает в ваших полках? Не при вас ли он приказывал казакам служить не московским царям, а ему, разве не при вас это деялось?
Все молчали.
– Вы этого не видали и не слыхали?
– Да так, пане писарь, да все оно что-то не так! – сказал Лизогуб.
– Не так! Ну, добро; а не продавал ли он за червонцы полковничьи уряды, не притеснял ли он Генеральных старшин, не ласкал ли он таких людей, которых и держать-то бы в Гетманщине совестно и грешно? Не грабил ли он все, что хотел? А что скажете и на это, паны?
– Так, пане писарь, есть и правда: не только забирал, что хотел, гетман, отнимали силою и его сыны, что хотели, – сказал Мазепа.
– То-то, паны полковники, а указ царский: отпускать в Польшу хлеб, исполнял он? Татарам посылал продавать, мы все знаем! Чего же ты, пане Дмитрий Григорьевич, сидишь, как сыч насупившись, не тебя ли гетман за святую правду хотел четвертовать, да Бог избавил от смерти, а ты еще молчишь, ты лучше нас знаешь про его нечестивые дела!..
– Пане писарь, я раз попробовал, да и будет с меня! Делайте, что начали, а я от вас не отстану и первый скажу слово за нового гетмана.
– То-то, что нового гетмана! – сказал Кочубей.
– Нового!
– Нового, да умного!
– Нового, так и нового! – с восторгом кричали все.
– Венгерского! – сказал Лизогуб и поспешно налил все чарки.
– Ну-те, паны, по чарке!
– Будьте здоровы! – сказали все и осушили чарки.
– Нового, так и нового! А старый пусть сидит с завязанными очами да болеет; недаром же говорил, что от этого похода и последнее его здоровье пропадет, а всему виною князь Голицын, – лучше, говорит гетман, в Москве бы сидел, да московския грани берег, а не в степь выступать.
– Когда нового, так кого же? – спросил Солонина.
– Известно кого! Генерального обозного Борковского; он человек правдивый, добрый! Хоть и скряга, да не наше дело, гетманом щедрый будет, – сказал Забела.
– Не быть ему гетманом, – сказал Лизогуб.
– Отчего так?
– Да так!
– Кто ж будет?
– Кто будет, тот будет, только не Борковский!
– Ну а Василий Леонтиевич, – сказал с усмешкою Раич и обеими руками погладил свою чуприну.
Кочубей встал, низко поклонился Раичу, а потом всем полковникам, сказал, что есть еще постарше его, и благодарил за предложенную честь.
– Ну когда не хочешь, пане писарь, и просить не будем! – сказал Лизогуб.
– Найдется и без меня достойный, хоть бы и Иван Степанович!
Мазепа низко кланялся и говорил, что честь эта для него очень велика, что он не заслужил еще любви панов полковников, но сам их всех без души любит, готов голову отдать за всякого. И до этого будучи совершенно трезв, начал притворяться, будто бы хмелен.
– Я… я правдою служу Богу милосердому; известно, люблю вас, паны мои полковники, крепко люблю, люблю как родных братьев, а что будет дальше, то Бог даст; а пока жив буду, не перестану уважать и любить всех вас щирым сердцем; дайте же мне всякого из вас обнять и до своего сердца прижать, дайте, мои благодетели! – Мазепа обнимал и целовал каждого и плакал. – Теперь венгерского, запьем наше товарищество и щиру дружбу! – Мазепа налил чарку и, подняв ее вверх, сказал восторженно: – Паны мои полковники, будьте по век ваш счастливы и благополучны!
– Мы все тебя любим, пане есаул, все любим щиро, – сказал Солонина, и все вместе осушили чарки.
– Все любим! – подтвердил Лизогуб.
– И поважаем! – прибавил Раич.
– Спасибо, паны полковники, спасибо! Ну, теперь и в свои шатры пора, ляжем отдохнем немного, а там зайдет солнце, загорятся зирочки, вот мы, смотря на них, пойдем дальше; а теперь пора, ляжем, пане куме, и у тебя и у меня крепко шумит в голове, пойдем.
– Пора, пора, пойдем, пане есаул!
Мазепа и Кочубей поклонились гостям и, шатаясь, ушли.
– Ну, пане Раич, я, как ты хочешь себе, а окутаюсь твоею шубою, да здесь и засну, до шатра моего далеко, не дойду.
– Добре сделаешь, пане полковник Лизогуб, и вы, паны, ложитесь: у меня всем вам и шуб и всего достанет.
– Так-и-так, а ну, паны, до гурту! Да и заснем; знаете пословицу: в гурти и каша естся, – сказал Забела и лег, окутавшись собольею шубою, покрытою алым бархатом; примеру его последовали все полковники, и сам пан Раич лег вместе с ними и уснул.
III
В полдень погода переменилась: солнце сделалось так красно, как будто бы кровью налилось, голубой безоблачный свод неба покрылся серым туманом, повеял ветерок и разнес в воздухе удушливый запах дыма.
– Не быть добру, – сказал Кочубей Самуйловичу, стоя за ним, облокотясь на высокую спинку стула, на котором, повязав белым платком глаза, сидел гетман, у входа в персидский шатер, подаренный ему султаном.
Выслушав слова Кочубея, Самуйлович долго молчал, потом покачал головою и сказал:
– Горе мне, великое горе на старости лет моих, при остальных днях жизни моей! Кому знать лучше, как не тебе, Василий Леонтиевич, сердце и душу мою; знаешь, что против царей наших никогда я не помышлял неправедно, рано и вечер молился за них Богу милосердному, просил Господа, чтоб наша отчизна была достойна милостей царских! А теперь сердце мне говорит: не ждать веселия и добра; есть люди, я знаю, они идут против меня, хотят моего несчастия, желают смерти моей, я все знаю, но молчу и горюю! Воеводы и боярин видят, как я живу, да что ж, когда, может быть, им нужно другого гетмана! Болею, очи мои помрачились, а я пошел с верными казаками в степь; и что теперь ожидает нас? Впереди и позади огонь и смерть, верная смерть!.. Татары запалили степь; за нами пепелище – зола да земля, нигде ни травки, ни былинки – горе, тяжкое горе! А назад пойти – меня же обвинят… Рассуди сам, Василий Леонтиевич, виною ли я в том! Не боюсь, когда скажут, что я всему злу причиною, пусть говорят, что хотят, совесть у меня чистая, в сердце не было и нет грешных помыслов – не боюсь! Есть у меня надежда, крепкая и верная надежда – сам Бог заступится за меня, Василий Леонтиевич, сам Господь сохранит и помилует! Воля вольная врагам моим, что хотят, то пусть и делают!
Самуйлович склонил голову на грудь.
– Ясновельможный гетмане, проклятый тот человек, который посягнет на твою жизнь! Ты у нас родной отец всякому; кто тебя не любит, скажи сам, и кто посягнет на жизнь твою? Нет, гетман, того аспида на куски разорвали бы мы!.. Кому ты не делал добра – всякому казаку! А зло – никому, и кто ж тот, который задумал тебя обижать?!
– Так, пане Кочубей, все так, а есть и у меня враги, да еще и немало их; они когда-то были моими приятелями, и я их любил, но теперь совсем не то.
– Проклятые те люди, гетман!
– Не проклинай их, пане писарь, Господь с ними, не проклинай; ты сам человек письменный, ты знаешь и сам, и в церкви не раз слышал Евангелие, что Господь Бог простил распинавшим его, Иисус Христос молился за них, так и нам указал поступать.
– Бог сам проклянет таких людей, проклянет и детей их!
– Василий Леонтиевич, на все воля Божия, сам Он, милосердный, все посылает: и смерть и живот – и надо мною свершится Его воля святая… Я старец дряхлый, пень трухлявый, насилу хожу, почти ничего не вижу, пора мне в могилу, там покойно! Одно только мучит, крепко мучит меня, не дает мне ни днем, ни ночью покоя: мне бы хотелось, чтоб вы, старшины, полковники, казаки и все, выбрали еще до смерти моей себе другого гетмана, чтоб видел я, будете ли вы счастливы. Когда будете, покойно сердце и душа моя будут – тогда хоть и в домовину…
Кочубей молчал, гетман читал про себя молитву и время от времени тяжело вздыхал.
В это время небосклон покрылся множеством летевших птиц; многие из них от зноя и смрада, наполнявшего воздух, падали на землю бездыханные; по степи бежали зайцы, волки, дикие кабаны, лисицы, дикие лошади и другие звери; все они были так утомлены, что допускали ловить себя и беспрепятственно отдавались в руки казаков, но, по казаческому поверью, грешно было ловить бежавших зверей и брать падавших птиц.
– Звери бегут стаями, а небо покрыто птицами, – сказал Кочубей гетману и тяжко вздохнул.
– Близко пожар! Пошли казаков вперед верст за пять, не добудут ли языка, не разведают ли, как далеко от нас горит степь и в какой стороне.
Кочубей ушел исполнить приказание гетмана, а между тем два сердюка подняли ослабевшего старца, взявши под руки, и ввели его в шатер.
Через час войско начало собираться в поход, вмиг сняли шатры, убрали все в обоз, казаки оседлали лошадей, громко заиграли в трубы, ударили в литавры и бубны, стройные рати полков в минуту построились и двинулись вперед к переправе через речку Московку.
Багровое солнце скатилось на запад, с утра голубое небо, покрывшееся в полдень серым туманом, теперь час от часу покрывалось заревом, краснело, краснело и вечером превратилось в пламенное море, по которому густые огненные клубы черного дыма катились, как разъяренные морские волны, кругом во все стороны; где прежде, казалось, золотая степь сходилась с сапфирным небом, разлился страшный адский огонь; в воздухе шумел порывистый ветер.
Казаки шли на отдаленный еще огонь и дым; само войско приняло огненный вид. Гарь и удушливый дым становились чувствительны, а полки все двигались вперед.
От добытых языков татарских узнали, что степь горит на пространстве двухсот верст. Гетман не верил пленным и не хотел согласиться с мнением полковников, желавших не идти далее и отступить назад.
Самуйлович полагал, что войско успеет приблизиться к реке и будет вне всякой опасности, тем более что в стороне за Московкою в шести верстах горела степь.
За полночь передовые полки увидели по той стороне реки необозримые волны огня, перевивавшиеся беспрестанно с густыми черными клубами дыма; это видели они уже не зарево, но самый пожар. По степи лежали там и сям рассеянные табуны диких лошадей, вепри, волки и другие звери, нередко преграждавшие путь казакам; звери были мертвы или при последнем издыхании.
С каждой минутой, с каждым шагом казаков вперед жар усиливался, изнеможденные воины, удушаемые дымом, падали на землю десятками, – каждый думал лишь о себе, – и падшим не подавали помощи, оставляя их на произвол судьбы, сами спешили все ближе и ближе к пламенному морю, желая приблизиться к реке.
Огненные полосы лилися вслед одна за другою, или перегоняли одна другую, или сливались вместе, увеличивались, как морские валы, и потом, достигнув огромной скирды сена, приготовленного за несколько дней для полков, вмиг, как тайфун на море, подымались к небу огненным винтом и грозили, казалось, погибелью целому свету. Раскаленные брызги горевшего сена, разметываемого во все стороны порывами ветра, летали по огненному воздуху и, падая на черную, обгорелую землю, долго еще дымились.
Несколько раз казаки, возмущаемые недовольными на гетмана, готовились воротиться назад; даже иные полковники оставили полки свои и ехали сзади. Гетман заметил это и, забыв дряхлость, старость и болезнь, с повязанною головою, сел на коня и, поддерживаемый казаками, поехал впереди всего войска. Ободренные казаки забыли отчаяние и спешили за Самуйловичем.
Казалось, самая стихия, увидев пред собою старца гетмана, не желая противостоять ему, начала утихать; волны огня уменьшались, дым разлился поверх огненных потоков и на несколько мгновений скрыл небо и землю непроницаемым мраком; войско остановилось среди тьмы, дожидаясь проблеска огня. Вдруг забушевал порывистый вихрь, раздался страшный треск, и с новою силою, с новою неизобразимой яростью со всех сторон покатились огненные валы и устремились прямо на казаков.
– Мы погибли! – сказал Мазепа, окутанный с ног до головы в белый плащ, гетману, ехавшему по правую его сторону.
– Молись, не погибнем! – с христианской твердостью отвечал гетман.
– Пропали мы, пропали, гетман! Через тебя пропали! – закричал не своим голосом Кочубей, ехавший рука об руку с Мазепою, и сколько доставало силы у коня его, поскакал назад; примеру Кочубея последовали некоторые из полковников и других чинов, увлекшихся или трусостью, или неправедною местью против гетмана.
– С коней! – закричал гетман и первый бодро соскочил с коня. – Молитесь, казаки, Богу милосердному! Да спасет и помилует, молитесь! – с воодушевлением и верою воскликнул Самуйлович, повергся на колени и громко начал читать молитву.
Вслед за гетманом все войско в благоговении молилось.
Ветер призатих, сердца молившихся оживали надеждою… Но вот, с новою яростью загудело, зашумело: страшные порывы взметали столбы огней, ломали, сокрушали их, бушевали новыми волнами; всем уже казалось, что вот-вот эти волны подкатятся под ноги казачьих коней и через мгновение необозримые ряды воинов потопятся непреодолимым стремлением пылающего моря.
– Светопреставление!.. Мы пропали! – ревели отчаянные вопли по рядам.
– Господи, помилуй! – громогласно и умиленно воскликнул гетман.
– Господи, помилуй! – единодушно повторило за ним все войско.
Вдруг все затихло… изумленные озирались – и не верили глазам своим.
– Владычице!.. Милосердная Заступница!.. Господи, слава Тебе!.. – слышались повсюду радостные восклицания. Последний страх был напрасен: то было гудение и свист ветра, внезапно переменившего направление. Пламя и дым быстро повернули в степь; от силы нового жестокого ветра огненные волны с яростью, одна за другою, отхлынули назад и помчались по направлению бури.
Воздух освежился, изнеможденные казаки, с каждым мгновением ожидавшие гибельной смерти, радостно вздохнули, увидев, что опасность миновала.
Не вставая с колен, восторженный старец поднял дряхлеющие руки вверх и, возведя глаза, исполненные радостных слез, громогласно произносил отрывистые речи благодарственного псалма: «Благослови душе моя Господа!.. и вся внутренняя моя Имя Святое Его…» Войско последовало его примеру. Голос старца мало-помалу ослабевал. Изможденный гетман наконец сел на траву, но лицо его сияло величием праведника. Он повел глазами кругом себя; все столпились к нему, многие бросились к ногам его, приносили повинную, клялись в своем ропоте и малодушии, ублажали его веру и упование.
– Близь, Господь, сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет! – величественно проговорил гетман, придавая вес каждому слову, когда восторг окружавших позатих. – Вы испугались смерти! А разве, идя на войну, мы не на смерть идем!.. Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. За нашу гордость, неповиновение и крамолы Господь страхом смерти обличил наш грех и покарал малодушием. За наше смирение и покаяние помиловал нас. Вразумитесь этим случаем, дети, не гетмана бойтесь, а Бога! Не творите козней и крамол против власти праведной и законной, не ходите на совет нечестивых, на пути крамольников не стойте – и Господь вас сохранит и помилует.
Все слушали, поникнув взорами.
– На коней… и назад! – скомандовал гетман, когда по его приказанию его подняли, и он осмотрел еще пылавшую вдали окрестность. Раскаленная земля невдалеке от войска пылала еще в разных местах, и поэтому гетман решил, отступив назад, дать отдых казакам.
Противники гетмана торжествовали, они уже забыли недавний урок Божий. Дух крамолы отогнал от них Духа Божия, святые укоры гетмана острием вонзились в зачерствелые сердца их и озлобляли на новые крамолы.
Два дня после этого шли казаки назад; и кроме серого неба, покрытого дымом, да пепла, развеваемого ветром, да трупов погибших людей и зверей ничего не встречали более.
Между тем продолжительный поход в степи истощил все запасы, взятые казаками в дорогу, и недостаток в пище начал быть ощутимым.
Но вот пришли полки к речке Анчакрак, переправились через нее и, соединясь с московскими полками, остановились.
Собрался военный совет из боярина, воевод московских, гетмана, старшин и полковников казачьих войск; долго рассуждали о том: идти ли вперед или воротиться назад? – мнения были несогласны. Гетман, а за ним и воеводы говорили, что пожара другого не может быть, травы нет на степи, которая могла бы гореть, а пойдет дождь, подрастет молодая, тогда для лошадей будет корм, и они благополучно дойдут. Старшины и полковники гетманские противоречили этому и требовали непременно воротиться назад. Боярин согласился с мнением есаула Мазепы, который первый подал мысль воротиться, – и решили отступить войскам до реки Коломана.
В тот же день московское войско пошло в обратный путь, а казаки пока что отдыхали на месте.
Вечером, когда кровавое солнце заходило за кровавый же запад, у изломанного пушечного станка столпились паны полковники.
Григорий Дмитриевич кричал, что он докажет, будто бы сам гетман посоветовал крымскому хану зажечь степь.
– Твоя правда, пане полковник, – сказал Кочубей, – все он один делает, никого к совету не призывает!
– А Генеральной старшине какая от него честь! Больше от гнева и непохвальных его слов мучатся, нежели покойно живут, – сказал Мазепа и, заложив руки за спину, начал ходить перед полковниками то в одну, то в другую сторону.
– Паны полковники, донос писать, так и писать, – сказал Кочубей.
– Жалко старика, доживал бы он своего веку, да и только! – сказал Лизогуб.
– Пане Лизогуб, когда дела не знаешь, так сидел бы молча, а не пустое городил… а может быть, гетман насыпал тебе десять шапок червонцев, что ты так ласков до него! – сказал Кочубей.
– Да нет, то я так сказал!
– Ну, когда так, то лучше слушай нас, так, паны?
– Так, так!
– Справедлива речь!
– Так-таки, так!
– Ну, писать или как, говорите, паны полковники?
– Да хоть и писать!
– Ну, писать, так и писать!
– Что ж писать будем? Говорите, со мною есть папира и каламарь; все есть, я человек с запасом. Садитесь, паны, подле меня, в кружок – да без всякого стыда говорите, что писать! – сказал Кочубей, разворотил лист бумаги, вынул из кармана чернильницу, перо и приготовился писать.
– Ну, говорите!
– Пиши, пане писарь, что Самуйлович – зичливый приятель татарам, а враг смертный полякам! – сказал Мазепа.
– Добре, напишу! – Кочубей записал.
– Пиши, пане, что гетман говорил: Москва за свои гроши купила себе лихо! – сказал Забела.
– От-се пиши, пане, се крепко добре! – сказал Дмитрий Григорьевич.
– Пиши, пане писарь, да не оглядайся! – сказал Лизогуб.
– Говорил: Брюховецкий добре сделал, что изменил, – и он то же сделает.
– И се добре, пане Забело!
– Григорий, сын гетмана, дядьки, братья, племянники, да… и все родичи при гетмане часто говорили дерзкие речи о царях; а Самуйлович не только свою родню не удерживал от того, да и сам частенько им потакал, – сказал Мазепа и потом, обратясь к полковникам, прибавил: – Старый поп Иван, приятель гетманский, на все штуки молодец, и даром что на голове десять волосин осталось, а враг его не проведет, – гетман его одного слушает.
– Да есть у гетмана и не один поп Иван – приятель.
– Да поп лучший из всех, пане Лизогуб, – сказал Мазепа.
– Так, пане есаул, так!
– Еще что, думайте, а что не вздумает, после сам я все добавлю, перепишу на другую папиру, да все и подпишемся!
– Не любит московских бояр и воевод; и дочку свою хотел выдать за поляка князя Четвертинского, а не за русского воеводу, известно вам, паны полковники?
– Известно, пане есаул! – сказал Солонина.
– Всему свету известно, не только одним нам, – сказал Раич.
– Знаем! – отвечал Забела.
– Все знаем! – подтвердил Лизогуб.
– Будет, довольно с него; сам после допишешь, что вспомнишь, да принесешь до нас, мы и подпишем и потолкуем, когда и как подать папиру.
– Когда и как, пане Лизогуб! Известно уже кому и когда; да не хлопочи, это не наше дело, есть у нас на это есаул, так, пане есаул? Тебе следует челобитную нашу отдать боярину и просить от всех нас, чтобы отослал в Москву до царей.
– Да хоть и так, немного хлопот, боярин сам давно хотел, чтоб другой был у нас гетман, а теперь и рад будет, есть повинная голова, которая спалила степь, так напишет и в Москву.
– Ну и добре!
– Да как добре!
– Пойдем же теперь до меня да запьем беду нашу венгерским, все будет повеселее, когда зашумит в голове. Пойдем, пане куме, – сказал Мазепа, обратился к полковникам, взял под руку Раича и Кочубея и пошел вперед.
– Что за ласковый пан, наш есаул, ей-ей, и в свете не найти добрейшего!
– А ты, пане Лизогуб, только сегодня и разгадал нашего пана! – сказал Солонина. – Ere… re… ну так! А сколько десятков лет живешь вместе?
– Да ну тебя, пане Солонино!..
– Добрая душа! Грех сказать, по-моему, так я б и булаву ему отдал, – говорил Лизогуб.
– Да таки-так!..
Полковники, Мазепа и Кочубей вошли в шатер.
С этого дня в полках появились явные возмутители. Они разглашали, что гетман тайно посылал приятелей своих, казаков, жечь степь; говорили, что он давно готовился изменить царям и побрататься с турецким султаном, и если бы удалось, так и теперь предал бы всех казаков проклятой татарве. Ропот, как прилив морской, разлился по всему табору; днем и ночью густые толпы казаков стояли у палатки князя Голицына, кричали и требовали, чтобы старый гетман был закован в кандалы и отправлен в Москву или чтобы немедленно казнили его в таборе. Лизогуб, Раич, Забела и Кочубей уговаривали казаков на площадях, превозносили гетмана похвалами, говорили, что он дряхл, стар и хоть для одного этого оставить его в спокойствии, и в то же время собирали зачинщиков у своих шатров, поили их водкой, медом и пивом и научали их, чтобы они неотступно требовали перемены гетмана.
Но большая часть достойных богобоязненных казаков, беспредельно любивших своего «старого батьку», слышать не хотели о наветах, которые на его счет разносились по войску; не имея средств опровергнуть клеветы дельными уликами, они напоминали другим все дела и поступки прошлой, праведной жизни гетмана, его ласку, любовь и правосудие ко всем.
– Да что и говорить, – прибавляли они восторженно, – грешного человека не послушает Господь! А кто богочтец, того послушает!.. Испеклись бы позавчера наши грешные души в пекле, а грешные тела – в степи, когда б не его вера да молитва святая!.. Не так еще покарает Бог Иуду-предателя, Даоана и Авирона, крамольников и наветников… Итак, уже старому немного жить… взмилуйтеся, братики, над своими душами… не побивайте своего родного батька…
Такие увещания образумливали даже самых буйных, но только на время. Явятся поджигатели, и снова забеснуются, и проклинают гетмана, и требуют нового.
Мазепа с утра до вечера сидел в палатке князя Голицына и утешал его в скуке, уговаривал, чтобы боярин не беспокоился неудачею похода, что вся вина падет на Самуйловича. Боярин любил Мазепу и был внимателен к его увещаниям.
Последние два дня Мазепа, сказавшись больным, не является уже к гетману, хотя Самуйлович неоднократно посылал за ним. В свою очередь, Кочубей всевозможными средствами старался угождать гетману; он еще надеялся, что Мазепа будет отозван в Москву и булава достанется ему. Вместе с этим Генеральный писарь ласкался к Самуйловичу и жаловался ему на казаков, которые, как он говорил, от радости, что возвращаются в Гетманщину, покупают в ближних корчмах водку и, напившись допьяна, никого не слушают, бунтуют и требуют смерти гетмана, старшин и полковников, и дружески советовал Самуйловичу перейти поближе к московскому войску для большой безопасности.
– Господь просвещение мое и Спаситель мой, – кого убоюся! – твердым голосом проговорил старец, перекрестился и, молитвенно поникнув головою, замолчал. Кочубей вышел: грозны для него были твердость Самуйловича и слова чтений Евангелия; душно ему было в этом воздухе, проникнутом, казалось, невинностью и благовонием.
Гетман сидел безвыходно в своем шатре, день и ночь слушал Евангелие, которое читал или любимый его духовник, священник Иоанн, или, иногда, сын гетмана Яков. Перед постелью на небольшом столике лежал перламутровый крест с частицами святых мощей – дар гетману одного иеромонаха, бывшего на поклонении у гроба Господня, и небольшая, в золотом окладе икона Почаевской Божией Матери. С этими святынями гетман всегда выступал в поход.
В ту минуту, когда Кочубей вошел в шатер, гетман лежал в постели и внимательно слушал тихое чтение отца Иоанна; небольшая лампадка стояла на столике перед книгою и разливала тусклый свет…
Кочубей доложил, что никакие меры не действуют для удержания казаков от бунта, и спросил, что делать прикажет гетман.
Самуйлович перекрестился и сказал:
– Господи, да мимо меня идет сия чаша! – И, обратясь к Кочубею, сказал: – Проси тех, которые возмутили, чтоб они успокоили их, попросили бы и от меня, если помнят старого своего гетмана! Вижу, Василий Леонтиевич, что скоро меня не будет среди вас!..
– Гетман, живи для нашего счастия!
– Жить мне, когда уже продавщик получил золото от купившего мою жизнь!..
Кочубей смутился, услыша слова Самуйловича, и долго ничего не мог отвечать.
Отец Иоанн продолжал читать Евангелие. Гетман не глядел в лицо Кочубею.
– Кто же, Иуда, продал жизнь твою, гетман?
– Сам ты знаешь лучше, нежели я! Несть тайно, еже не будет яве, – скоро все откроется, скоро и Бог всех нас рассудит! А суд Божий не человеческий! О, страшен грешникам суд небесный! Он ждет многих, многих ждет. Тогда золото не поможет… не укроются пред Судьею небесным никакие грехи…
Кочубей не знал, что отвечать, и украдкою, стараясь, чтоб не заметил его гетман, вышел вон из шатра.
Донос на гетмана был уже подан Мазепою Голицыну, а от него с гонцом отправлен в Москву вместе с собственным его обвинением гетмана, на которого он слагал всю неудачу Крымского похода.
Войска двинулись к речке Орчику, потом перешли луга, приблизились к широкому, быстро текущему Коломаку и остановились табором на одну версту от полкового города Полтавы.
Гетман, страшась, чтобы казаки не причинили ему какого-либо вреда, остановился по левую сторону Коломака, а табор казачий устроил на правом берегу.
Самуйлович никого уже не принимал к себе под предлогом тяжкой болезни.
Рано утром 21 июля 1687 года больной гетман, как будто бы предчувствуя, что скоро должен идти на страдание, сказал:
– Отче Иван, слушай меня последний раз: прежде всего прошу тебя, помолись Господу Богу, чтоб Он удостоил меня приобщиться Святых Своих Тайн; почему знать, может, враги мои и скоро уже начнут тащить сети, которые они расставили мне… и… после этого прошу тебя, немедленно поезжай в святой Киев или куда сам заблагорассудишь! Не приимешь совета моего – погибнешь: первого тебя возьмут и будут пытать, скажут, ты все должен знать, что делал гетман, и, не зная, что отвечать, ты погибнешь. Поезжай в Киев, в Святую Лавру, и исполни давнишний обет твой надеть черную ризу и молись, молись, отец Иван, за грешную душу мою, молись рано и вечер, да спасусь… Что же, отец Иван, скажи мне, утешь меня, согласен ли ехать в Киев?..
– Прийму благодетельный совет твой, гетман, и поеду.
– Сегодня же, сегодня я прощусь с тобою! Душа моя радуется, что послушал меня… и теперь я спокойно умру: есть кому молиться за меня Господу милосердному!.. Ну, иди же в церковь, и я за тобою прийду.
В этот день гетман исповедовался и приобщился Святых Таин, потом, пообедав с отцом Иоанном, побеседовал с ним о суете мира сего, о жизни вечной и, обняв его со слезами, простился на вечную разлуку.
В тот же день к вечеру чрез селение Коломак отец Иоанн выехал в Киев. Вскоре после выезда его боярин Василий Васильевич получил царский указ на посланный донос от старшин и полковников; никто не знал, что содержал в себе этот указ!
Мазепа, по обыкновению, с утра до вечера был неразлучен с князем Голицыным, но и от него никто и ничего не мог узнать.
Между тем Кочубей боролся сам с собою, и хотя он еще надеялся быть гетманом, полагаясь на слова Мазепы, уверившего его, что он будет отозван в Москву, со всем тем тревожная совесть часто преследовала его неотразимою мыслию: «Ох, тяжко! Ну, да если я задаром сгубил невинного старца, а булава достанется другому!» – Кочубей вздрагивал, вскакивал с места и старался успокоить совесть и надеждою, что Любонька его будет утешена, возбудить свое мужество; и поэтому распространял между полковниками слух, будто бы в указе сказано, чтобы Голицын озаботился избранием в гетманы верного и достойного; и что таковым назван Кочубей и еще некоторые из полковников, а Самуйловича за измену казнить.
Полковники и казаки зашумели и требовали, чтобы новый гетман был избран вольными голосами, по вековечному праву, существовавшему в Гетманщине, и что они не жалуют ни Борковского, ни Кочубея; лучше изберут простого казака, какого сами захотят; говорили, что Кочубей сам возвел на гетмана никогда не бывалые преступления, первый подал голос написать донос и, написав, не прочитал ни полковнику Гамалее, ни Борковскому, а упросил их подписать.
– Не будет того, чтобы Кочубею отдали гетманскую булаву, хотя крепко-накрепко жена его, Любовь Федоровна, наказала ему быть гетманом, – не такая голова у Кочубея. Любовь Федоровна, другое дело, жена умная, любит пановать, да жалко, не растут у нее ни усы, ни борода, ни чуприна, а то, пожалуй, выбрали бы ее и в гетманы! – сказал, усмехаясь, Забела.
– Лучше пусть уши и нос Любовь Федоровна отгрызет своему Василию, нежели быть ему гетманом! – сказал Дмитрий Раич.
Кочубей не догадывался об этом и по-прежнему старался всеми мерами угождать Голицыну и Мазепе.
– Слушай, пане мой милый, слушай, Василий Леонтиевич, – сказал Мазепа, когда вошел Кочубей десятый раз на одном часу в палатку князя Голицына. – Сию минуту распорядись тайно поставить стражу вокруг гетманского шатра, пора посадить старую ворону в клетку, не запоет ли соловьем!
– Пора, давно пора, – с радостною улыбкою повторил Кочубей.
– Вокруг всего стана также поставить пикеты, чтобы кто из табора не дал знать сыну гетмана Григорию, что батько его попался в расправу, да чтобы кто-нибудь из гетманских приятелей не ушел от нас, особенно прикажи смотреть за попом Иваном и за слугами гетмана.
– Так-так, вельможный есаул… все сделаю, пора, давно пора уже его на виселицу, тот проклятый поп всему виною, не раз он и на нас наговаривал гетману, – сам завяжу петлю на его шее, – сказал Кочубей и поспешно ушел.
IV
На дворе ночь, темно-голубое, безоблачное небо покрылось миллионами ярко горевших звезд, было тихо в таборе, казаки спали; в селении Коломак слышался лай собак, в поле громко кричал перепел.
В Коломаке в церкви Благовещения начался благовест к заутрени! Гетман услышал звон колокола, собрал последние силы и, поддерживаемый слугами, пошел в церковь.
В шатре оставался сын его Яков и продолжал читать Евангелие, страдания Спасителя, которое он читал вслух для отца. Было далеко за полночь, в шатер гетмана вошли солдаты Новгородского полка, предводимые Кочубеем.
– Где отец твой? – грозно закричал Кочубей.
– Нет его, а ты, Иуда, зачем? – спросил Яков Кочубея, выбежал из шатра и опрометью побежал к церкви, чтобы предостеречь отца.
– Ловите проклятое гетманское отродье, ловите!
Шагах в двадцати от шатра схватили Якова, посадили на лошадь и вместе с ним поехали в церковь.
Перед растворенными царскими вратами седой священник читал дрожащим голосом Евангелие от Матфея, беседу Иисуса Христа с учениками. Тускло теплилась лампада пред образом Тайной Вечери, висевшим над царскими вратами, да две свечи горели у местных образов.
У иконы Божией Матери, стоя на коленях и склонив повязанную белым платком голову на железную решетку, находившуюся подле алтаря, слушал гетман чтение, по его просьбе происходившее.
В то время, когда Кочубей и солдаты вошли в притвор церкви, священник произносил:
– Имже бо судом судите, судят вам: и в ню же меру мерите, возмерится вам…
Кочубей ясно слышал эти слова, и непонятное, невыразимо тяжкое чувство стеснило его сердце, он возвел глаза свои к иконе Тайной Вечери, но свет помрачился, туман разлился перед ним и все в глазах его исчезло, он даже ничего не слышал, хотел было молиться, но уста не растворились, хотел перекреститься – рука не подымалась.
Кончилось чтение, но поразившие его слова не умолкали для него. Ему слышалось, как их громко произносили во храме нечеловеческим слабым голосом. В таком состоянии находился Кочубей несколько мгновений; потом все предстало пред ним в прежнем виде, тоска отлегла от сердца, и взор его обратился к гетману.
Между тем начинало светать; звезды одна за другою исчезали с небосклона; прохладный утренний ветерок пролетал в церковь сквозь растворенные окна. Кончилась заутреня. Казак-слуга подошел к гетману, подал ему серебряную булаву, на которую опирался старик, Самуйлович тихими шагами выходил из церкви; у входа Кочубей остановил его и сказал:
– Ясновельможный гетмане, боярин князь Василий Васильевич прислал просить тебя к себе!
– Это ты, Кочубей? – кротко сказал гетман.
– Я, Самуйлович!
– Дай же мне последний раз перекреститься в церкви.
Гетман стал на колени, сделал три земных поклона.
В сердце Кочубея опять громко послышались слова Евангелия, Кочубей смутился и не знал, что ему делать.
– Ну, вези меня куда нужно! – сказал гетман и вышел из церкви.
Его посадили в простую бричку, запряженную парою, управлял которой рыжий еврей.
Сын гетмана Яков ехал верхом по правую сторону отца и тяжело вздыхал.
– Не тоскуй, Яков! Богу угодно так, не тоскуй! – сказал гетман спокойным голосом. Яков молчал.
– Куда везут меня?
– К боярину! – отвечал один из солдат.
Во всю дорогу гетман более ничего не говорил.
Бричка, в которой сидел гетман, и провожавшие его приблизились к московскому лагерю и, проехав его, остановились, не доезжая белой с голубыми полосами княжеской палатки, вокруг которой толпилось несколько тысяч казаков и московских воинов; в шатре шумели и громко спорили старшины и полковники.
Казаки, издали увидевшие бричку, в которой везли гетмана, опрометью побежали к нему и с сожалением спрашивали: «За что батька нашего посадили в бричку, за что его хотят судить?» Были многие в числе этих казаков, которые подавали мысль силою освободить гетмана, но гетман строго запретил им, и никто не смел приступиться к исполнению этого намерения; были и такие, которые, напившись у полковничьих шатров водки и пива, кричали и требовали казни гетмана, не зная сами, за что и для чего.
Опираясь левою рукою на булаву, а правою на сына Якова, старик гетман с завязанными белым платком глазами вошел в палатку князя Голицына. Было еще довольно сумрачно, но все могли заметить бледное лицо страдальца, на котором, впрочем, ясно выражалось душевное спокойствие. Гетман поклонился и встал у стола напротив князя Голицына, сидевшего в охабене алого бархата, в высокой собольей шапке; на груди его блестела золотая гривна; перед ним лежали бумаги, и самая верхняя – с огромною красною печатью. По обеим сторонам боярина сидели старшины, полковники, воеводы и знатные казаки; у входа в палатку стояли стражи.
В палатке как по мановению волшебного жезла вмиг воцарилось молчание.
– Гетман, сын его Яков и шесть человек слуг взяты под стражу, а поп Иван и некоторые из слуг неизвестно где скрылись! – сказал Кочубей.
– Попа и слуг поймать, особенно попа, он сам изменник! – сказал Мазепа.
Голицын и все прочие молчали.
– Иван Самуйлович! Ты обвинен в измене московским царям! – сказал Голицын.
– Кто меня обвинил в измене царям? – спокойно спросил гетман и старался приподнять повязки на глазах.
– Старшины, полковники и казаки.
– Вот-то, боярин, самые честные люди!
– Ты изменник – всем известно, и еще притворяешься! – сказал Кочубей.
– Кочубей, это ты говоришь? А давно ли уверял, что ты мой приятель и слуга? Так и вместе со мною изменник! Как же это будет?..
– Изменник, что говоришь! Не ты ли приказал палить степь? Не по твоим ли хитростям мы не дошли до Перекопа? Думал, что хитростей твоих никто не разгадает? Полагал, что беда падет на боярина и на нас, а ты себе спокойно будешь гетманствовать да дружбу вести с проклятыми татарами и турками? Злополучная голова твоя, не так Бог дал; теперь отвечай, а мы послушаем тебя! – сказал Кочубей.
– Ты правду сказал, что Бог не так дал. Он один видит, один и знает, кто из людей, по Его благодати, праведен, и кто, по ослеплению своего сердца грешный.
– О, ты праведник! – закричал Раич и ударил концом сабли своей несколько раз об ножку стола.
Гетман молчал.
Голицын встал с кресла, снял обеими руками шапку, положил ее перед собою, взял со стола царский указ, приосанился и прочел его вслух.
– Боярин, старшина и полковники! – начал Самуйлович. – Вам нужна моя седая голова? Вот она, – он наклонил голову, – я перед вами, делайте, что задумали, исполняйте свое желание; говорить же мне, что я не изменял московским царям, что степь запалили татары, что я верою и правдою служил Богу милосердному и царям, все равно, этого вам не нужно. Прошу одного – ради верной службы моей казачеству, ради любви моей к вам, паны полковники, – вы знали меня и сами любили меня, – одного прошу, паны мои добродии, пощадите жену и детей моих; о своей пощаде не прошу, сего не можно переменить, да и лучше погибну один я – а не все вы; теперь останется одна семья сиротами, и тогда осталось бы двадцать, больше нечего мне говорить вам; десяток лет, другой пройдет, и все мы, которые теперь в шатре, будем на том свете; и всех нас рассудит праведный Судия; а пока то будет, простите меня, когда обидел кого, и Бог простит вас!.. Теперь, что положили, что порешили – делайте, больше ни слова не скажу.
Полковники начали кричать и поносить Самуйловича. Кочубей возводил на него небывалые преступления, Мазепа молчал и время от времени только наклонялся к Голицыну и что-то тихо говорил ему на ухо.
Гетман безмолвно стоял.
– И ты, проклятое создание, – закричал Раич, обратясь к Якову Самуйловичу, – и ты заодно с своим батьком, и тебе, и твоему другому брату одна будет честь!..
– Добре, пане!
– Еще и добре! Эге, щенок! – И, обнажив саблю, Раич замахнулся, намереваясь ударить по голове гетмана, но Голицын мановением руки остановил вышедшего из границ полковника Раича.
– Казнить! Четвертовать!
– Казнить!
– Гетмана казнить!.. Казнить! – повторяли прочие полковники.
Казаки, стоявшие у палатки, одни кричали и требовали казни гетмана, а тысячи молчали и с горестию ожидали конца участи любимого гетмана.
– Подай мне булаву твою, Самуйлович, – сказал Голицын.
– Вот она, боярин, отдай же ее тому, у кого совесть перед смертию будет так же покойна, как теперь у меня, и Гетманщина будет счастлива, и казаки будут благословлять тебя, и верою и правдою будут служить царям московским… а выберешь из предателей своего гетмана – предадут и тебя, и казачину, и Москву. Таков праведный суд Божий. Простите меня, боярин, и вы, старшина, полковники и честное казачество, бойтесь Бога и любите друг друга. Вот вам предсмертная заповедь вашего батьки и гетмана. – Самуйлович прослезился, перекрестил предстоявших. – Господь Бог да благословит всех вас…
Голос Самуйловича прервался; он возвел глаза к небу и, поцеловав крест, вырезанный на булаве, почтительно подал ее Голицыну.
Голицын принял булаву и, взяв Самуйловича под руку, вывел его из палатки. Казаки, преданные гетману, порывались приблизиться к руке его, но стража не допустила к нему многочисленную толпу.
Гетман и сын его сели в приготовленную телегу, с ними поместился русский есаул, и их окружил конвой.
Когда все уже было готово, Самуйлович привстал с своего места, оборотился к казакам и почти сквозь слезы сказал:
– Дети мои, дети, прощайте! Не поминайте лихом! Ни вы меня, ни я вас не увижу более в этом свете.
Он снял шапку, три раза перекрестился – и телега покатилась по Московской дороге.
V
Это деялось, вечной памяти, в 1687 году, 25 июля.
Среди обширной равнины, пролегавшей по берегу реки Коломака, в то время широкой и быстрой, а ныне почти иссякшей, с раннего утра начали стекаться казаки и народ, съехавшийся нарочно к этому дню, для избрания нового гетмана. Среди казаков, в красных, голубых, светло-зеленых куртках, среди обшитых мехом бархатных и суконных, высоких и низких шапок, среди длинных черных и седых усов виднелись бритые головы лицарей из-за Порогов, с длинными оселедцами, закрученными за ухо; виднелись и черные очи Марусь, Ганн, Ульян, с лентами и цветами на головах, в байковых и шелковых кофточках, в червонных и мережаных запасках и плахтах; виднелись и бледные старухи с длинными и широкими белыми на головах намитками, в червонных чеботах на высоких каблуках; кой-где слышались тоненькие голоски девчат, которые, опустив черные очи в землю, улыбаясь, отвечали на остроты запорожца, стоявшего перед ними, опершись одной рукой на саблю, а другою взявшись под бок; слышались жалобы стариков, разговаривавших между собою про старые годы, они хвалили прошедшее и порицали настоящее; были здесь и евреи в черных кафтанах, с рыжими пейсами, спускавшимися из-под черных бархатных ермолок; сгорбившись, они бегали между народом, стараясь попасть в средину; были и поляки в своих кунтушах и, взявшись за руки, постукивая саблями, да крутя усы, важно прохаживались по площади. За толпами народа сидели в разных местах старухи и перед ними были навалены горы арбузов и дынь; в решетах и кадках краснели вишни, сливы, яблоки, раки, лежала вареная рыба, маковники, вокруг летали роями мухи, а у ног торговок, под тенью, лежали свернувшись собаки, лакомясь запахом рыбы и вареного мяса; и здесь было много занимательных сцен: толпились казаки и казачки, сидели слепые бандуристы, прославляли казачьи победы и просили милостыни; сидели и лежали с опаленными руками и ногами некогда храбрые гайдамаки, попавшиеся в руки поляков, которые умели платить степным лицарям за их наезды…
Когда солнце взошло высоко, пришли стрельцы и выборное войско московских полков и заняли место, назначенное для избрания, обступив его со всех четырех сторон, среди площади, которую окружило войско, и вмиг раскинули пеструю, с золотыми цветами, дорогую палатку, внесли в нее образа и все, что следовало, из походной казачьей церкви. Саженях в пяти против входа в походную церковь поставили небольшой стол и покрыли его дорогим персидским ковром; вокруг стола разместили длинные скамьи, а для боярина и знатных чинов принесли походные кресла, обшитые золотою парчою.
Священники, находившиеся при войске и из ближних мест, и монахи Кресто-Воздвиженского полтавского монастыря собрались в походную церковь и облачились. В это время раздался пушечный выстрел, и через несколько минут к церкви подошло 800 казаков, 1200 пеших воинов и обступили вокруг церковь и стол.
Раздался второй выстрел, и священники с иконами, крестами, хоругвями вышли из церкви и приблизились к той стороне, откуда должны были ехать боярин и все чины.
Раздался третий выстрел – народ засуетился, с нетерпением ожидая начала избрания. И вот, заиграли в трубы, ударили в барабаны, расписанные золотом и красками, били в позолоченные литавры и звонкие бубны, и вдали увидели едущих московских воевод. Среди них на белом арабском жеребце ехал боярин Василий Васильевич Голицын, он держал в левой руке гетманскую булаву; рядом с ним ехали воеводы Новгородского полка, по правую руку на вороном коне Алексей Семенович Шеин, он осенял боярина знаменем Большого полка с изображением Нерукотворного Образа. Знамя это было в Казанском походе с царем Иоанном Васильевичем. По левую – ехал князь Данило Семенович Борятинский, он осенял Голицына пурпурным Новгородского полка знаменем; впереди боярина воеводы везли знамена тех полков, к которым они принадлежали.
В свите боярина ехал князь Константин Осипович Щербатов, Аггей Шепелев, Емельян Украинцов, Венедикт Змиев, князь Владимир Дмитриевич Долгорукий, Петр Сидоров, Леонтий Неплюев, Борис Петрович Шереметев, знатные лица полков Низовых, Белгородских, Рязанских, Новгородских и Большого полка.
За боярином в отдалении ехали малороссийские чины, по сторонам – полковники, в средине – Генеральная старшина. Полковники держали в руках свои перначи, Генеральный есаул вез большой золотой бунчук, а судья и писарь меньшие бунчуки.
Ветер развевал пурпурные и золотые знамена, и лучи солнца горели на золотой булаве и бунчуках.
Тихо приблизился боярин к площади, все окружавшие его и сам он сошли с коней и, подойдя ко кресту, пошли за духовенством в церковь.
Отошла Литургия и начался молебен; когда возгласили многолетие царям, на площади казаки стреляли из ружей. По окончании молебствия Голицын вышел на площадь, поклонился на все стороны народу, подошел к столу, положил гетманские клейноды и сел на приготовленное для него кресло; по правую и левую стороны уселись московские воеводы, старшины, за ними полковники и потом прочие знатные чины.
Шум и говор среди народа прекратился; воцарилось безмолвие. Голицын встал с кресла, важно снял шапку, поднял вверх гетманскую булаву, так что всякий из стоявших легко мог ее видеть, и громко сказал:
– Великие цари-государи повелели мне объявить вам, верные и храбрые казаки, чтобы вы избрали среди себя нового гетмана; Самуйловича же за измену и всякие неправды отставить! Кому вы желаете вручить сию булаву?..
Шум разлился в народе, но ни один голос не произносил имени избираемого.
Голицын выше поднял булаву и громче спросил:
– Кому желаете вручить булаву?
– Борковскому! – раздался голос с левой стороны и повторился двумя или тремя с правой. – Борковского! Борковского!
Налево закричали вдруг десятка два голосов:
– Григорию Самуйловичу, Григорию!
Вокруг столика, среди полковников, послышалось довольно громко:
– Тс-с-с-с, тс-с-с-с!
– Ивану Степановичу! – сказал кто-то, почти у самого столика.
– Ивану Степановичу? – спросил Голицын.
– Ивану Степановичу!
– Да! Мазепе!
– Нет, Борковскому!
– Григорию Самуйловичу!
– Мазепе!
– Борковскому!.. Борковскому!.. – кричали в разных углах.
– Кочубею! – произнес кто-то пискливым голоском.
Полковники захохотали, а за ними и близ стоявшие казаки.
– Борковскому! Борковскому!
– Мазепу! – тихо произнес один из полковников.
– Ну, Мазепу так и – Мазепу! – сказал Голицын.
– Борковского! Борковского! Борковского!..
– Ивана Степановича? Так, паны полковники, Мазепу?
– Да хоть и так!
– Да, таки-так!
Мазепа стоял у стола, беспрестанно кланялся в пояс Голицыну, старшинам и народу.
Голицын подозвал Мазепу и, подавая булаву, сказал:
– Генеральные старшины, полковники и верные казаки единодушно желают, чтобы ты был у них гетманом!
По существовавшему обычаю Мазепа начал отказываться и благодарил за честь, но Голицын вручил ему булаву и прибавил:
– Служи, гетман, верою и правдою Богу, царю и храброму казачеству!
В народе поднялся страшный шум и крик – смельчаки поминутно произносили имя Борковского, а некоторые Гамалея; войско, окружавшее площадь, искоса посматривало на шумевших, ожидая, не потешатся ли их сабли на казачьих головах. Голицын, будто ничего не видя и не слыша, занимался Мазепой.
Мазепа принял булаву и поклонился на все четыре стороны.
Тотчас же новый гетман присягнул в верности царям, а за ним присягнули в верности ему старшины, полковники и прочие чины.
Народ долго еще шумел, волновался, многие были недовольны избранием Мазепы.
С площади все чины поехали к Голицыну и окончили у него этот день банкетом.
Полковник Солонина и Лизогуб ехали вместе и разговаривали:
– Вот, пане Солонино, и воля твоя, теперь делай что хочешь… вот правда так правда, что мы за свои гроши купили себе лихо.
– Да похоже на то, пане Лизогубе!
– Да чтобы враг душу мою взял, если я не правду говорю.
– Что ж делать…
– А кто?.. – спросил Солонина, покачавши головою.
– Да кто!
– Сами!
– Да таки все не без греха.
– А все Кочубей… он больше всех…
– Да и новобранец не дурен: всех обошел.
– Да и судья…
– Да и тот таки…
– А жаль старика…
– Жаль! Добрый батько был…
– Променяли голубя на ястреба…
– Повыклюет же он им слепые очи…
– Чтоб всем им сто ворогов за пазуху.
– Да хоть и двести вместе.
– От-то еще лучше!
– Да таки так!
– Да хоть и так!
Так-то вот оно и сплошь и рядом на белом свете, после всякой человеческой неправды: и близок локоть, да не укусишь!..
Надо было видеть бедного Кочубея на банкете у Голицына: стыд, страх, досада, обманутые надежды, укоры совести поминутно сменялись на лице его, он ничего не мог есть, вино не забирало его; напрасно Мазепа торжествующим голосом взывал к нему: «Куме, а куме». Куму легче бы вынести сто ударов татарской нагайки-дротянки, чем один торжествующий взгляд Мазепы. Кочубею чудилось, что все присутствующие перемигиваются и перешептываются на его счет. Оно так и было. Он сидел как на ножах. Стремглав умчался с банкета, когда все встали. Дорогою и дома преследовали его два грозных призрака: Самуйлович, благословлявший всех, и Любовь Федоровна, ужасная Любовь Федоровна!!!
VI
В 1666 году, когда в Переяславле вспыхнул мятеж против гетмана Брюховецкого, казаки напали на укрепление, зажгли город в разных местах и начали резню. Пользуясь этим случаем, казаки Петра Дорошенка ворвались в Переяславль и начали грабить, что хотели. Жители принуждены были спасаться бегством, особенно женщины, которым в таких случаях не было никакой пощады: с бесчестием лишались они жизни, и всегда самым позорным образом.
Когда запылал Переяславский замок, жены и дочери знатных казаков, проводимые отчаянными жидами, уходили из города, платя им за спасение свое, за провоз в Канев, Трактемиров или Киев несметную сумму. Нередко убегавшие и их проводники попадались в руки казаков, и тогда не было уже никакого помилования – как одним, так и другим.
В числе женщин, спасавшихся бегством из Переяславля, была дочь знаменитого казака Кариенка, родственника, по жене, несчастному Самуйловичу. Отец Анны был в день ее побега убит, а мать поднята на копья и сожжена на огне.
Анну спас любимый ею казак, который препоручил ее старому своему знакомцу Иоселю, за провоз ее в Киев тот вперед взял две пригоршни червонцев.
Ночью под заревом страшного пожара переправились они через огненную Альту, а потом, проехав широкий Трубеж, скрылись в непроходимом лесу и, пробираясь среди чащи деревьев, держали в ту сторону, где пролегала дорога к Днепру. Утром увидели они очерчивавшиеся на небосклоне синею полосою Днепровские горы и чуть-чуть видневшийся на высоте их Трактемиров.
Анна решила, приехав в Киев, осуществить давнишнюю свою мысль: остаться на всю жизнь в одном из тамошних монастырей; дорогою она мечтала о той непорочной, святой радости, которой будет наслаждаться, живя в тихих, безмятежных стенах обители и во всякое время посещая Святую Лавру и ее пещеры.
На третий день они выехали из Борисполя. Перед ними черною непроницаемою стеною тянулся сосновый лес; по двум другим сторонам желтый песок, как желтое море, терялся в голубом небе – и больше ничего; ни один предмет не повстречался им, который мог бы развлечь внимание. Медленно двигалась бричка по глубокому песку, и это еще более увеличивало нетерпение их скорее увидеть святой град.
Но вот над лесом на голубом небе загорелась яркая звездочка и скрылась за вершиною сосны; вот опять она горит, и лучи ее как будто рассыпаются на крест. Так, нет сомнения, видна Святая Лавра! Это сияет святой крест. И поспешно, по обычаю малороссиян, путницы выскочили из брички, пали ниц на землю и начали молиться.
Поздно вечером, когда выехали они из лесу, открылся перед глазами их во всей красоте великий святой град, построенный на горах, и несчетное число золотых глав храмов, блестевших как солнце; а кресты сияли словно звезды. Направо узнали они церковь Рождества Богородицы, в то время деревянную и весьма небольшую, налево золотоверхий Михайловский монастырь, а выше всех Святую Лавру. Направо, у подошвы горы, казалось, простирался в самый Днепр многолюдный Подол.
Днепр широкою голубою лентою опоясывал Киевские горы и далеко-далеко скрывался налево в густоте садов, среди которых белел Киево-Михайловский Выдубецкий монастырь, а направо за лесом мачт не видно было конца Киева.
Приехав в Киев, путницы остановились на Подоле, в низкой и ветхой хижине еврея, промышлявшего обрезыванием червонцев. До утра надобно было им остаться в этой хижине, хотя крайне этого не хотелось, но Иосель уговорил и обещал завтра сам отыскать им комнату поближе к Лавре. Нечего делать, надобно было согласиться, и, усталые с дороги, они бросились на постель, сладкий сон смежил глаза. А между тем Иосель рассудил, что лучше иметь у себя четыре, чем две пригоршни червонцов, и в ту же ночь продал всех трех малороссиянок польским панам; и в то время, когда невинные жертвы беспечно спали, приехали гайдуки, разобрали несчастных и повезли к своим ясновельможным, которых в то время весьма много съехалось в Киев по случаю предполагавшегося заключения вечного мира России с Польшею.
Анна была хороша собою. Смуглая, черные пламенные очи, лоб и нос – одна прелестная линия, под алыми губками – два ряда жемчужных зубов.
Граф Замбеуш, которому она досталась, окружил Анну роскошью и блеском. В первое время она в доме его была не то что невольница, а как законная жена, для которой он ничего не жалел, что имел или что мог иметь, исполнял все ее требования, старался предупреждать малейшие желания. Будучи набожною, Анна требовала от графа, чтобы он подольше остался в Киеве, если уже судьба назначала ей навсегда расстаться с этими местами. Граф и это исполнил: он дал слово целый год прожить в Киеве; это утешало душевно страждущую Анну.
Одно только мучило набожную пленницу: она не могла посещать храмы и тайно молиться без бдительных аргусов – двух пажей графа, постоянно следивших за каждым ее шагом; все были твердо уверены, что при первом удобном случае Анна пренебрежет роскошью и блеском, окружавшими ее, и уйдет от графа.
Ревностный, или, лучше, безрассудный, папист, граф требовал, чтобы Анна приняла родное ему исповедание. Однажды он решительно сказал ей, что в таком только случае и может быть она его законною женой. С этого времени поселилась между ними вечная и непримиримая ненависть. Граф мог требовать этого от нее, ибо со дня ее заточения проходил уже десятый месяц, и Анна придумывала все средства, чтобы будущее дитя ее было окрещено в православном исповедании. Граф не подозревал этой мысли; конечно, он видел состояние пленницы, но все прочее было сокрыто от него; между тем, чрез посредство приближенных к ней малороссиянок, Анна, сказавшись заблаговременно больною, слегла в постель, и потом, когда родила дочь, тайно, в то время, когда граф уехал с своими приятелями в окрестности Киева, она пригласила русского священника; и дочь ее, нареченная Юлиею, была окрещена в православном исповедании. По возвращении своем граф узнал об этом, и в тот же день торжественно, за городом, на вершине одной из самых высоких Киевских гор, повесил трех своих гайдуков и четырех женщин, находившихся при Анне; он пытался было удушить даже новорожденную, но крики и моления отчаянной матери укротили остервеневшего графа, не знавшего предела своей мести.
VII
Верстах в пяти от города стоял высокий замок на вершине довольно покатой горы, с трех сторон опоясанной неширокой, но чрезвычайно прозрачной рекой, по берегам ее прекрасными кущами росли, смотрясь в воду, перемешанные друг с другом белоствольные плакучие березы, липы, широколиственные клены и вековые дубы, а под тенью их, как яркий зеленый бархат, росла молодая травка; местами по реке порос зелеными кругами камыш, между которым спокойно плавали дикие утки или, воткнув длинную серую шею, кричал водяной бугай и прерывал безмолвие окрестностей. Желтая песчаная гора, кое-где поросшая ползучим кустарником, оканчивалась острою вершиною, на которой чернел поросший мохом и даже кустарником, кое-где разрушенный временем замок. В нем смешались все стили, и вместе с этим не было ни одного настоящего, верного, правильного: безобразное соединялось с самым строгим и изящным вкусом, богатство украшений с жалкой простотою, удобность с неудобством; но по преимуществу можно было назвать замок этот готическим: высокие башенки с узкими, длинными окнами, свинцовые крыши, оканчивавшиеся острыми шпилями, на которых неумолкаемо скрипели флюгера, лепились одна подле другой на каждой стороне замка. Средняя башня, самая большая, возвышалась над прочими и оканчивалась чрезвычайно длинным шпилем, согнутым бурею в правую сторону; к концу его прикреплен был вырезанный из жести петух, также согнутый. Вокруг, ниже башен, устроена терраса; на ней некогда стояли часовые, оберегавшие замок от незваных гостей. Сверх этого широкая и высокая каменная стена с бойницами со всех сторон окружала замок; на стене стояли пушки; подъезд был с одной стороны, где устроен был подъемный мост, переброшенный через глубокую пропасть, на дне которой с ужасною быстротою мчалась по камням река и росли в несколько обхватов деревья, казавшиеся, если смотреть на них с моста, небольшими кустарниками.
Замок принадлежал польскому графу Иозефу Замбеушу, потомку некогда страшного по своим бесчеловечным поступкам графа Яна Замбеуша.
Граф Иозеф Замбеуш, лет под пятьдесят, плотный, краснощекий мужчина, рыжие волосы и такие же усы, лицо покрыто морщинами, но все еще полное и здоровое, он более всего любил женщин, но был страстный охотник и охоту предпочитал всему на свете. Прекрасное ружье, умная, хорошо выученная собака были драгоценнейшие сокровища для него в мире, и за них он готов был отдать даже свою собственную душу, а червонцы давал всегда пригоршнями, не считая их. Он был страшный эгоист и хвастун. Жена его давно умерла, от нее он имел сына, служившего в королевской гвардии.
В этот-то замок граф приехал с Анной с Юлией, и со дня приезда для несчастной Анны настало время горчайшего страдания, время непрестанных слез и черной печали и вместе с этим время самого упоительного ее наслаждения: запершись в комнате с малюткою дочерью, она все свои мечты, все надежды, радости, утешения сосредоточивала в одной Юлии, она воображала ее прелестною невестою, выходящею замуж за знатного вельможу, но непременно за православного. Потом представляла Юлию матерью, окруженною детьми, а себя старушкой, ласкающей их. Часто мысли ее вдруг менялись, и она как будто видела перед собою Юлию в черной монашеской рясе с четками в руках; несказанно радовалась она тогда, искренне молилась Господу, чтобы Он даровал Юлии это блаженство, и, схватив ее, целовала, прижимала к сердцу и осеняла с молитвою крестным знамением. Страдалица-мать полагала, что дочь молитвами своими искупит и ее невольный грех, ее вечный ропот на свою неволю и горькую участь. В таких сладких мечтах время мчалось, как только мчится быстро время, и незаметно золотое лето сменялось румяною осенью, осень белою зимою, а зима зеленою весною – и пятнадцатая весна наступила для ее дочери.
Юлия расцвела, как малороссийская роза.
Густые, светлые шелковистые волосы ее, по тогдашнему обыкновению в Польше, были перевиты сзади в виде корзинки зелеными листьями плюща и барвинком; белое нежное лицо оттенялось румянцем, едва заметным на щеках; прямой носик, маленькие коралловые губки скрывали ряды перламутровых зубов, черные глаза, осененные черными же длинными ресницами, по большей части были опущены в землю – знак скромности и сознание собственного достоинства; рост ее был немного выше среднего. Вот, по возможности, верное изображение прелестной наружности Юлии; но душа и сердце ее были еще прелестнее: Юлия наследовала во всей полноте преданность своей матери к Богу.
В самом начале граф Замбеуш не обращал никакого внимания на Юлию, она была для него какое-то позорное отвратительное существо, на которое он не мог смотреть без явного негодования и презрения. Он любил ее мать в цветущие годы ее молодости, как вообще подобные люди любят женщин привлекательных наружностью, которые служат предметом страстного упоения и разнообразия жизни для человека, погрязнувшего в тине чувственности, смотрящего на мир с своей точки, с точки порочного наслаждения.
Притом, в замке графа, как и прежде, это было даже при жизни законной его жены, жили десятки женщин, похищенных в полках Гетманщины, привезенных из Кракова, купленных дорогою ценою у татар.
На воспитание Юлии он еще менее обращал внимания, и это невнимание сослужило величайшую пользу для нее: семена, посеянные матерью в сердце ее, возросли и если еще не приносили плодов, то, по крайней мере, роскошно цвели.
Постоянные игры, тысячи новых ежедневных забав, служивших для увеселения не только живших в замке, но и дальних его окрестностей; танцы, блестящие балы, на которых собиралась лучшая польская молодежь, охота, в которой принимали участие даже женщины самых знатнейших фамилий, не прельщали Юлию: она удалялась от всего этого, считала себя отверженною всем миром, всеми людьми и жаждала, искренне жаждала уединения с матерью и молитвы, искала единственно в Спасителе любви, – и нашла.
В самом деле: дочь преступления! Это прежде всего поражало сердце ее; дочь с презрением оставленной и забытой малороссиянки, беспредельно разделенной верой и нравом со всеми людьми, ее окружавшими; дочь, не получившая того воспитания и образования, которым так резко отличались от нее все прочие девицы; наконец, не только не любимая отцом, но отверженная им… могла ли она быть с прочими, могла ли она увлечься и наслаждаться суетностью, забыв прямое назначение свое – терпеть, молиться и страдать? Нет, она видела преданность своей матери к Богу, она затвердила от нее, что счастливые часы только те, когда сердце стремится к Господу Искупителю, и когда даже все мысли, а не только дела, согласны с святыми евангельскими заповедями, – и так поступала по ее указанию, и была счастлива.
Смирение, прежде всего прочего, как и следовало быть, утвердилось в душе Юлии, а с ним вместе и христианское отвержение самой себя. Но это все было так, что она и сама не замечала этого в себе: часто думая о себе, она считала себя ничтожнейшим существом, жалкою девочкою, а все прочие люди казались ей с достоинствами, не доступными для нее. Но вместе с тем эти достоинства не восхищали ее, не очаровывали, не увлекали к подражанию, но казались тяжкими и постылыми. Удаленная от суеты света и людей, хотя она и жила среди всего этого, с утра до вечера под руководством матери, она приучилась читать и усваивать себе Евангелие, и чрез это чудесный мир, мир, не достигаемый для многих, может быть, и не воображаемый многими, открылся перед ней; и не только с радостью, но с явным презрением и ужасом Юлия уклонялась от суеты, поэтому нередко служила она предметом насмешек и даже брани для прочих, но это еще более увеличивало ее святое отчуждение.
VIII
У ворот графского сада, прилегавшего к замку, стоял, опершись на палку, седой старик нищий; под левою рукою была у него небольшая котомка, в которую он складывал куски хлеба, в правой – длинная палка; одеяние его было рубищем, он низко кланялся всякому прохожему: кто давал милостыню, за того молился, крестясь; кто проходил, не подавая ему, он и тех благословлял; в замке графа мало было подававших ему, никто не обращал на него внимания, однако же старик несколько часов кряду, иногда и целый день просиживал у ворот.
В этот раз нищий только что пришел, положил котомку и палку на землю, а сам сел на скамью, вдруг из ближней аллеи показалась в черном платье, с перламутровым крестиком на груди девушка; она перебежала мостик, перекинутый через довольно широкий ручеек, извивавшийся по саду, подошла к нищему и с ним вместе возвратилась в сад; потом через тенистую просадь поспешно прошли они и скрылись в лесу, соединенном с садом. Час, а может, и более, не возвращались ни девушка, ни старик; потом вдруг, как молодая серна, девушка перебежала в другом конце сада две аллеи и, испугавшись попавшегося навстречу ей чрезмерно толстого седого пана Кржембицкого, приехавшего к графу в гости, бросилась в другую сторону и, перебежав куртину, скрылась в замке. Кржембицкий сперва преследовал девушку, но, видя, что не догонит ее, остановился и жадным взором смотрел ей вслед. Чрез несколько минут Кржембицкий вошел в залу, названную графом королевскою, в память того, что некогда Стефан Баторий, проезжая через Ровно, остановился в этом замке.
Зала эта была очень велика, по сторонам свод поддерживали двадцать четыре колонны с позолоченными капителями, три ряда окон, из коих первые из разноцветных стекол преимущественно голубого и розового цвета, ярко освещали всю внутренность. По стенам, разрисованным арабесками, стояли мраморные бюсты предков графа, а между ними вылепленные из алебастра, раскрашенные и раззолоченные гербы фамилии Замбеуша; у одной стены, прямо против главного входа, поставлена под бархатным навесом, обшитым золотою бахромою, колоссальная статуя Стефана Батория; на пьедестале было вырезано: «1573 год» и латинская надпись, гласившая, что в этот год Баторий пожаловал прадеду Замбеуша большое количество земли и денег за храбрость и знатность фамилии; последние слова, это было заметно, вырезаны позже: быть может, это было сделано по приказанию графа Иозефа, ибо надпись очень сообразна с его характером.
За статуей, по левую и правую сторону навеса, висели ружья, сабли, пистолеты, кинжалы, железная булава и два небольших древка, одно наверху с полумесяцем, а другое – с рыбой. Это были трофеи предков графа, отнятые у врагов. Граф Иозеф, с правой стороны, подле древка с полумесяцем, которое, может быть, некогда служило турецкому или татарскому полчищу знаменем, повесил огромную голову медведя, искусно сохраненную, и ружье, которым он убил этого лесного князя, под головою на стене вырезал на латинском языке надпись: «Убивать медведей, волков и лисиц столько же трудно и славно, как побеждать турок, татар и казаков».
Железные стулья с вычурными высокими узористыми спинками стояли у стен вокруг залы; черные кожаные подушки их по бокам были обиты медными гвоздями с круглыми шляпками. Двери и подоконные доски – с выпуклыми резными изображениями различных битв, пиршеств, охоты, победителями или торжествующими героями представлены предки графа, это легко можно узнать по сходству лиц резных изображений с бюстами.
В растворенные двери залы виднелись другие комнаты, также богато убранные.
Граф Замбуеш сидел у окна и курил файку: коротенький черный мундштучок с пенковою трубкою, оправленною в серебро. На нем был малинового бархата кунтуш, на голове – небольшая турецкая феска.
В залу вошел Кржембицкий, короткий приятель графа, у которого пан жил несколько недель сряду.
– Что то за красавица у тебя, граф! – сказал пан Кржембицкий.
– То есть, не понимаю?
– Я говорю, что то за красавица твоя панна Юлия, дьявол возьми меня, если я видел лучше и милее ее девицу на свете.
– Где ты ее видел?
– Сейчас в саду, как маленькая птичка, с цветка на цветок перепрыгивала.
– А то пан Кржембицкий, еще я не знал, что у тебя горячее сердце, о то не худо и под старость!
– Этому лучший пример ты сам, граф!
Граф, довольный ответом Кржембицкого, захохотал во все горло.
– Ну, я отдам тебе Юлию, что ты мне дашь?
– Если бы ты, граф Замбеуш, был дьявол, я бы тебе и души своей не пожалел за Юлию, а как ты знатный граф и известный в целой Польше охотник, то я не знаю, что тебе дать!
– Я готов помириться с тобою на паре добрых борзых, пане Кржембицкий! – Граф захохотал.
– И две пары достану первейших гончих.
– Сейчас явится сюда Юлия, посмотрим-ка, пане Кржембицкий, как бьется у тебя сердце!
Граф захлопал в ладоши, и в залу вбежал небольшой молоденький негр с отрезанными ушами и носом; он был весь одет в красном.
– Сейчас чтоб была здесь панна Юлия!
Негр исчез.
– Я не терплю проклятой девчонки казацкой веры… и с матерью с утра до вечера читает да читает святые книги; я добре дьявольское племя мучил и все делал, но нет, ничто не помогает: мать из Гетманщины, то от детей добра не будет.
– Ты, граф, не любишь казаков, а они храбрые воины.
– С бабами первейший народ в мире по храбрости, а с поляками на войне то первейшие трусы, и я с моими охотниками и собаками целую Гетманщину завоюю, диявол возьми меня, – правда!..
– Правда, граф, но в таком только случае, когда я буду полковником в твоем войске, а без меня ты завоюешь одних баб, казаки будут догонять тебя и, разбивши собачье войско твое, отнимут добычу, и ты ни с чем возвратишься в замок!..
– Пожалуй, я дам тебе чин генерала в моем собачьем войске!
– О то добре, пане, целый свет завоюем!
Негр явился в комнату Юлии; она с матерью о чем-то разговаривала.
Вся комната их была уставлена образами, и перед образом Пречистой Девы горела лампада, в углу стоял аналой, на нем лежал раскрытый молитвенник.
– Панна Юлия, тотчас иди к графу, он в зале!
– Зачем это, не увидал ли он меня, когда я была в саду? – спросила Юлия и сначала покраснела, потом побледнела и не знала, что ей делать. Наскоро поправила она рассыпавшиеся волосы, перевила их свежими зелеными листьями барвинка и побежала вслед за негром.
– Ну, что скажешь, пан Кржембицкий? – спросил граф, когда Юлия, потупив глаза, остановилась перед ним.
– Что ж мне сказать: панна Юлия так хороша собой, что нет лучше ее в мире.
На глазах Юлии навернулись слезы.
– Прочь, прочь, проклятое адское существо, прочь отсюда, чтобы и духа твоего не было слышно, а то сейчас вот на том дереве повешу! – закричал Замбеуш и застучал ногами об пол.
Юлия опрометью убежала.
– Не могу равнодушно смотреть, пане Кржембицкий, на это дьявольское существо, когда вспомню, как она воспитана матерью: живая до Бога лезет; дьявол возьми, пару добрых собак достань и бери ее, а не то так я затравлю ее собаками, а мать непременно повешу.
На другой день утром мать и дочь выбежали в сад и, осмотревшись во все стороны, поспешно побежали по просади к воротам, у которых, по обыкновению, стоял старик нищий; увидев бегущих, старик поднял котомку, взял палку и пошел в сад вместе с Анною и Юлиею; перебежав через лужайку, они скрылись в лесу и часа через два, не ранее, возвратились домой. На следующее утро то же самое; нередко старик нищий приходил и вечером, и всегда мать и Юлия встречали его, подавали ему милостыню. Графские гайдуки, а более всего женщины, стали замечать эти встречи, подозревали Юлию и мать ее в каких-то тайных замыслах, но то были одни неверные догадки, и только.
Две невольницы графа видели, прогуливаясь утром в саду, когда нищий пошел вместе с Юлией в лес, сел с нею на пригорке и долго, долго говорил ей что-то с жаром, указывая часто на небо и прикладывая руку к сердцу.
Были и такие, в числе женщин, подсматривавших за Юлией, которые доказывали, что старик – отец Юлии; некоторые говорили, что это колдун, который гадает Юлии о будущей судьбе ее, и сами желали сблизиться с ним. Было много толков, но истины не было нисколько. Между тем женские языки нередко лепетали графу о таком отношении Юлии и ее матери к старику, и граф приказал строго присматривать за ними и узнать, что за человек нищий.
Прошло несколько дней, старик не показывался ни у ворот, ни в лесу, Юлия и мать ее не выходили в сад; и все вновь решили, что нищий был действительно бедняк, что он получил милостыню и, собрав хлеба и денег, ушел в другой замок. Но в это же самое время негр начал беспрестанно скрываться из замка и всегда перебегал через сад и лес. Начали подозревать негра, и в самом деле, он часто бегал в комнату Юлии, это донесли графу.
Замбеуш позвал негра, начал расспрашивать его о старике нищем, о Юлии и матери ее, но все его объяснения ничего не объяснили. Граф предоставил решение этого вопроса времени и обстоятельствам, но подтвердил вновь строго смотреть всем за Юлиею и ее матерью.
Вечером Анна и Юлия сидели в саду под березой; обе они были чрезвычайно грустны.
Долго молчала Юлия, подперев голову левою рукою, и, потом вздохнув, сказала:
– Мамо, мамо! Пошлет ли Бог нам счастливый день, когда мы будем молиться в Лавре… как бы я молилась… Мамо, мамо, скоро ли будем в пещерах!
– Молись Богу милосердному, молись, моя доню, молись серденько! – говорила мать, прижимая к груди дочь. – Бог даст, и будем в Киеве, тогда сама поведу тебя и в ближние и в дальные пещеры, будем в Софийском, отслужим молебен Варваре Великомученице и перстень тебе куплю. Молись только Богу!
– Ох, мамо, мамо! Когда б ты знала, как болит мое серденько, и сама не знаю отчего, ты знаешь, я Богу молюсь, а все так тяжко, так тяжко, боюсь чего-то, и сама не знаю чего!
– То так, моя доню, нечистый мутит нашу душу, хочет искусить нас; положи Матери Божией десять поклонов, когда будешь ложиться спать, и пошлет она тебе радость и утешение.
– Отчего я тогда не могла молиться, как была в Киеве, отчего мне не было тогда хоть пять лет, я бы, мамо, осталась в Киеве, и ты б не покинула меня; мы жили бы в Божием граде!..
– Молчи, доню, да молись!..
– Молюсь и буду молиться, мамо!.. А завтра, когда наши поедут на охоту, я пойду к нему…
– Пойди, доню, от меня поклонись, скажи, что скоро, скоро Бог вынесет нас отсюда!
Они встали и пошли в замок. Из кустов, соседних с деревом, под которым сидели мать и дочь, выбежали две графские любовницы и хохоча побежали в замок.
IX
Граф Иозеф Замбеуш с коротенькою файкой в зубах, заложив красные жилистые руки в широкие полосатые шальвары, без кунтуша, в рубахе красного цвета, ходил по широкому псарному двору, бранил псарей на чем свет стоит и обещал по сто пуль вогнать в лоб каждого, который осмелится хотя пальцем тронуть его собаку. Псари, стременные и прочие чины охотничьей кавалерии Замбеуша приготовляли все к отъезду в поле.
Три месяца прошло, как граф не полевал: всегда как только собирался, что-нибудь да помешает ему; и Замбеуш рассказывал всем, как чрезвычайное происшествие, что он так долго не был на охоте.
– За три месяца мыши полевой не убить!.. А?! Что скажет всякий, кто знает меня?! А?!. Граф Замбеуш с ума сошел – три месяца не был на охоте, – подумает каждый охотник! Да так оно и есть… Что же мне делать, когда нет ни одного порядочного стрелка, который бы попал в слона в пяти шагах, а не то что в лисицу или волка; что ж мне делать? Я стыжусь сказать это моим соседям… Как, скажут они, граф Замбеуш, первый охотник в Волынии, а нет у него стрелков! А, дьявол возьми, это истинная правда!..
Граф докурил трубку, вынул ее изо рта, закрутил рыжие усы свои и, одной рукой помахивая чубучком, а другою лаская борзую, выходил из псарни; навстречу ему неожиданно шел граф Жаба-Кржевецкий, приятель Замбеуша, сходный с ним и характером и наружностью. Жаба был пониже ростом Замбеуша.
Замбеуш рассчитывал, что сын его женится на старшей дочери Жабы, и поэтому-то дружба их была тесная.
– Я к тебе, граф Иозеф, прямо от пана Любецкого: что за собака добрая у него Пулкан, знаешь, граф Иозеф, во всей Польше нет подобной, то первая из первых собак во всем крае! А черт знает проклятого пана Любецкого, откуда он выкарабкал это сокровище, или он душу свою продал дьяволу за Пулкана! – это просто сокровище, а не собака, и жены не нужно вернее и умнее Пулкана; ну просто я без ума, граф, от этой собаки!
– Да что ты говоришь, граф Жаба, я знаю Пулкана, ну, добрая собака, да уж не то, что ты говоришь, в целом крае не отыскать, у меня Подстрелит и Коханка такие же собаки, а я тебе, граф Жаба, скажу, что Коханки ни за что в мире не отдам, для меня не может быть ничего милее в жизни, чем Коханка, ей же, Богу милосердному известно, что я говорю тебе правду!
– Знаком ли с тобою пан Любецкий?
– А то дьявол возьмет душу его, чтобы я знался с Любецким: его предки камни клали, когда прадед мой строил замок, а я чтоб дружбу с ним заводил, – черт косматый его возьмет!..
– Но то, граф, не дело говоришь, пан Любецкий бедный человек, но древней шляхетной фамилии!
– Когда род Пулкана шляхетный, то и пан Любецкий шляхтич – ибо он сам собачьей породы, это я наверно знаю, то истина!
– Он славный охотник, прошлую зиму сам четырех вепрей убил, а волков и лисиц без счета.
– Все пустое говоришь, граф Жаба, я не убил двух вепрей, а чтобы поганый холоп убил четырех!.. Не говори этого, ты лучше дай мне пистолет, пули и скажи: на, граф Замбеуш, заряди пистолет и выстрели себе в лоб, то я скорее соглашусь это сделать, нежели слушать такой вздор; ты безжалостно мучишь меня, граф Жаба.
– Ты, граф Замбеуш, вели гербы свои на дверях и на кунтушах войска твоего почистить, а то что-то достоинства твои не всем ясно видны!
– До гербов моих никому нет дела, я сам знаю мои достоинства!
– Но другим-то они не ясно видны! – сказал раздосадованный Жаба.
– В гербе моем нет пресмыкающихся, которые скачут, там голова шляхетного оленя с рогами.
– Осла с большими ушами! – с досадою сказал довольно громко граф Жаба, поняв колкую насмешку Замбеуша, относившуюся к его фамилии, поспешно ушел из псарни, сел в свою одноколку и поскакал, не сказав ни слова графу Замбеушу.
Граф Иозеф послал вслед графу Жабе тысячу проклятий и чертовщин и, рассерженный, ушел в замок. Не прошло получаса, как в окно Замбеуш увидел, что по дороге к замку тащится целый обоз жидовских брик, обтянутых белою холстиной; по мере приближения фургонов Замбеуш заметил, что за каждою брикою привязаны своры собак; это так несказанно обрадовало его, что он приказал немедленно готовиться к выезду на охоту. Вышел на крыльцо и здесь от радости свистел, прыгал, пел песни, от нетерпения махал рукою, давая знать едущим, чтобы они скорее приближались.
И вот, на широкий двор въехало несколько бричек, запряженных по четыре тощих коней, управляемых несчастными хилыми возницами, которые немилосердно хлыстали длинными бичами по бокам изнуренных животных.
Собаки лаяли и визжали, эта суматоха была приятна графу. В бриках, свернувшись, лежали усталые и заболевшие в дороге собаки и наложены были целые горы всяких охотничьих припасов. Когда первая бричка подъехала к каменному столбу, к которому обыкновенно привязывали вершники лошадей, с фургона поспешно выскочил мужчина лет тридцати пяти, одетый в охотничью куртку синего цвета, в широких красных шальварах с белыми серебряными лампасами и вооруженный, в полном смысле слова, с ног до головы: при нем были две сабли, три или более разной величины кинжала, пистолет, патроны в красном сафьянном патронташе висели через плечо и десятки цепочек вились по груди и по бокам. Гость был брюнетом, длинные черные усы, огромные густые бакенбарды делали лицо его странным и вместе с этим очень интересным.
Закрутив усы, поправив сабли и пристукнув правою ногою так сильно, что едва от сапога не отлетела шпора, гость подошел к графу.
Начались поклоны, а потом дружеские объятия и горячие целованья. Гость был Любецкий, которого за час тому граф называл холопом, дьяволом и прочее.
– Я слышал, что по всей Польше, граф, славишься своею охотою; вот я приехал к тебе с моими сворами: не угодно ли будет твоему графскому достоинству посмотреть, какова и у меня охота. Граф Жаба-Кржевецкий был у меня сегодня и взял с меня честное слово, что я заеду сегодня к тебе; вот я и заехал, не поедешь ли, граф, со мною на охоту?
Граф, прельщенный огромным числом собак, которые, как нарочно, были от первой до последней превосходны во всех статьях, не знал меры восхищению; он тысячу раз обнимал и целовал Любецкого, называл старым другом и приказал позвать к себе пана Кржембицкого.
Явился пан Кржембицкий.
– Вот, пан Кржембицкий, украдь или отвоюй у пана Любецкого пару собак, то я тебе отдам, что ты просил у меня, – с веселостию сказал Замбеуш.
– Добре, бардзо добре, граф, достану, я давнишний друг и приятель Любецкого, мы помиримся с ним, а собаки будут твои!..
Любецкий смеялся:
– Не думаю, чтобы твой Пулкан был лучше моей Коханки, пан Любецкий!
– Попробуем!
– Через час будем на охоте.
– Добре!
В это самое время нищий показался у ворот замка, а вслед за ним Анна; это не ускользнуло от взора графа. Дав знать рукою двум стоявшим подле него стрелкам, чтобы схватили Анну, Замбеуш, рассерженный, вбежал в комнату Юлии, которая в эту минуту, стоя на коленях в углу перед образом, молилась. Граф ударил ее два раза кулаком по голове, и девушка без чувств упала наземь. Кровь полилась у нее изо рта; Замбеуш выбежал навстречу к стрелкам, которые вели Анну, и приказал связать ее.
Из милосердия одна старуха, прислуживавшая Анне и Юлии, подняла несчастную жертву ненависти графа, умыла ей лицо и положила в постель. Юлия скоро пришла в чувство. Женщина сказала Юлии, что мать ее связанная – в подземелье. Это не поразило Юлию, выросшую посреди таких ужасов и жестокостей и привыкшую с детства еще смотреть на все в воле Божией и сердечно предаваться ей; у Юлии еще достало столько твердости и присутствия духа, что она наскоро надела черное платье и вышла на крыльцо в ту самую минуту, когда псарня готовилась тронуться в путь.
На крыльце стоял граф в коротеньком бархатном полукафтанье алого цвета. Он и другие не заметили Юлии.
Вокруг графа Замбеуша толпились пан Кржембицкий, пан Любецкий, пан Цапля-Жидомор, пан Загреба и еще несколько шляхтичей и восторженно хлопотали о своем псарном походе. Замбеушу подвели турецкого белого жеребца, он вскочил на него, отъехал несколько шагов вперед и затрубил, давая знать, чтобы все двинулось.
Одних охотников в свите Замбеуша было более двухсот, собак несчетное множество. За всадниками тащилось несколько фургонов, и в одном из них лежала связанная полумертвая, несчастная Анна, а в предпоследнем фургоне, связанные, в железной клетке два волка и лисица. Юлия поклонилась матери, благословила ее в слезах, упав на колени, провожала ее глазами, пока можно было видеть. Сердце ее разрывалось. Когда уже все уехали, незаметно подошел к ней старец, что-то сказал ей, и они поспешно вышли за ворота замка и скоро скрылись из вида.
Среди разноцветной толпы резко отличался граф на белом скакуне; он быстро мчался впереди всех или осаживал коня и, оставаясь сзади, с заметным нетерпением окидывал взором многолюдный охотничий стан.
По правую сторону его ехал негр, через плечо у него висела серебряная бутыль, наполненная водкой, которую граф пил для большей отваги во время охоты и потчевал отличившихся охотников.
Граф был, однако, скучен и сердит, впрочем, это нисколько не препятствовало веселию, крикам и шуму прочих ехавших.
Долго гарцевали они по зеленой высокой траве.
Вдали навстречу графу показался в повозке несчастный рыжий еврей; увидев скачущую перед собой кавалькаду, он хотел своротить с дороги, но при повороте сломилася в телеге ось, и он должен был остаться на месте; подъехал рассерженный граф, выстрелил из пистолета в коня и убил его, еврея приказал связать и положить в бричку. Приказание его тотчас было исполнено.
Приблизились к леску. Граф дал знак, чтобы выпустили одного из двух волков; развязали зверя, приготовили Пулкана и Коханку. Вырвавшийся на свободу волк побежал вдаль, за ним два соперника, Коханка и Пулкан, весь стан занимала мысль: кто выиграет, чья лучше собака?
Граф, горя нетерпением, кричит, трубит, скачет вперед. Пан Любецкий – тоже; охотники рассыпались по полю в разные стороны, поднялась тревога…
Вот Пулкан отстает, волка догоняет Коханка. Граф кричит от восторга, но миг – увертливый волк своротил в сторону, Пулкан устремился вслед за ним стрелой, и волк не успел еще сделать несколько скачков, как был уже под Пулканом, Коханка далеко отстала от него и даже не побежала разделить добычу с своим соперником.
Остервенелый граф подозвал к себе Коханку, приказал взять ее на цепь и, подъехав к лесу, на первом дереве повесил еврея, собаку и свою несчастную прежнюю любимицу Анну. Спокойно, как будто бы он сделал обыкновенное дело, не заслуживающее внимания, поехал он вперед; за ним двинулись все прочие.
Отъехав несколько верст, он послал негра в замок известить Юлию о смерти ее матери и приказал повешенных не снимать с дерева.
Негр приехал, но при всем старании отыскать Юлию не смог, ее не было в замке; он бросился в сад, нет ее, побежал в лес – то же самое, вихрем помчался он в поле по дороге, куда граф направил свой поезд, и через полчаса настиг охотников, выезжавших из леса. Негр сказал графу, что Юлия ушла. В тот же миг граф возвратился к замку и разослал во все стороны верховых отыскать и схватить Юлию; за ее голову обещал тысячу червонцев. Понеслись всадники во все стороны, граф стоял на лошади недалеко от замка, потом тихою рысью поехал к синевшему вдали городу. Он придумывал казнь для бежавшей, и все, что только ни приходило на мысль, казалось ему слабым и ничтожным.
Тихо подъехал он к развалинам. Покрытые серым мохом и поросшие местами кустарником, эти развалины огромного здания, некогда бывшей Иезуитской академии, стояли на горе, направо при въезде в город. Величественность оставшихся стен, стройность и красота уцелевших колонн, мраморные украшения капителей, портики, архитравы, фризы были так изящно сделаны, что невольно заставляют сожалеть о богатых развалинах; и своими обломками эти остатки великолепного здания так заняли и привлекли графа, что он все ближе и ближе подъезжал к ним, его привлекла огромная терраса и внутренность нескольких комнат.
Взор его обратился к фундаменту, он искал удобного места пройти в середину развалин, и вдруг у разрушенного портика увидел сидящего на упавшей колонне старца нищего, которого нередко видал в замке; он ускорил бег коня, но не успел еще сделать и двух шагов вперед, как Юлия, услышавшая топот, подбежала к старцу, торопливо положила свою руку на его плечо и указала ему на едущего графа. Старик поспешно встал, взял Юлию за руку и, почти неся ее на руках, скрылся в развалинах. В ту же минуту и граф остановился у лежавшей колонны, соскочил с лошади, побежал по следам старика вовнутрь, но не увидел ни Юлии, ни старика. Не прошло и пяти минут, вся свита графская окружила развалины.
Сначала граф приказал искать Юлию и старика вокруг развалин, все бросились осматривать уголки, колонны, куски камней, упавших с высоты здания, но все старания были напрасны.
Приказав охотникам окружить здание, граф с приближенными вошел в первый этаж. Перед ним открылась пространная площадь, замкнутая высокими стенами, в нишах кое-где оставались изломанные статуи или разбитые лежали на земле; в амбразурах окон свинцовые переплеты, и по ним вилась зеленая повилика; над головой графа висел свод, украшенный лепными арабесками, он каждую минуту угрожал падением; выше свода белел освещенный солнцем второй ряд комнат, ярко раскрашенных фресками; потолка не было, а сквозь отверстия виднелся третий ярус, покрытый поросшим по стенам кустарником.
За огромною залою в первом этаже в обе стороны открывались две другие залы, немного менее первой, и правая из них вверху оканчивалась куполом, вокруг которого лепные изображения апостолов и евангелистов свидетельствовали, что зала была некогда церковью. На уцелевшей стене осталось лепное колоссальное распятие, оно обозначало место престола.
По левую руку одна комната следовала за другою, все они были с готическими, узкими окнами.
Осмотрев внимательно все углы и все комнаты и не найдя Юлии и старика, по разрушенной террасе граф и прочие взбежали во второй ярус, прошли длинный ряд живописно разрисованных комнат и по каменной винтовой лестнице взошли на третий этаж, осмотрели каждую колонну, поддерживавшую потолок, поднимали упавшие карнизы, но все было напрасно.
Внизу кто-то из охотников закричал, что нашел железные двери. Граф и все прочие поспешили сойти вниз, к железной двери, находившейся в огромной зале, у стены. Заметно было, что дверь не была хорошо притворена и что Юлия и старик непременно скрылись за нею.
Недалеко от двери Кржембицкий поднял котомку с кусками хлеба и переломленную палку старика, доказательства были ясны: все определили, что через несколько минут Юлия и старик будут в руках графа.
Со скрипом отворилась железная дверь, и из-под мрачного подземелья пахнул удушливый ветер. Никто не решился войти в него первый. Ступеней лестницы было не видно, и поэтому зажгли огонь, привязали к зажженной походной лампе графа длинный снурок, спустили лампу в подземелье, но, опустившись аршина на два, лампа остановилась на чем-то каменном, огонь осветил несколько ступеней. Кржембицкий первый ступил на лестницу и, придерживаясь кое-как за ступени винтовой лестницы, начал сходить вниз, за ним последовал граф, пан Цапля, пан Загреба и еще человек до десяти охотников. Зажгли два фонаря, принесенные от соседних жителей, и несколько свечей; глубоко вниз извивалась крутая лестница, по которой сходили отважные охотники, и наконец привела она их в огромное подземелье, куда ни один луч света не мог проникнуть. Подняли огонь над головами, желая увидеть пределы подземелья, но не видели; поставив одного охотника у лестницы, Кржембицкий пошел прямо вперед, за ним все прочие; шагов пятьдесят они сделали по ровному месту, вдруг Замбеушу что-то круглое попалось под ногу, он нагнулся и поднял, то был человеческий череп, он со страхом бросил его… Охотники шли далее, и вот неожиданно пан Кржембицкий ударился лбом об сырую стену и ощупью нашел длинный проход, довольно узкий… Вошли в проход, он был чрезмерно длинен; наконец, прошли и его, вошли в пещеру, и перед ними виднелись какие-то предметы; всмотревшись, увидели: по одну сторону стоят сгнившие гробы, из-под разломанных крышек выставляются ноги мертвеца в странной обуви; там видна с украшениями голова, там лежат рядом несколько скелетов и между ними совершенно целые трупы, почерневшие от времени; по другой стороне два или три железных гроба, и из-под крышки одного высунулся кусок багряной материи, далее железная крышка с гербами и отрубленная рука, под ногами сотни трупов, тысячи черепов, рук, ног, голов, костей. Граф поднял одну голову: в темя ее были вбиты три гвоздя – причина смерти страдальца, поднял другую, и на черепе был железный обруч, кости черепа во многих местах треснули.
Вначале все были храбры, но, увидев вокруг себя этот мир жесточайшей пытки и зверства, как сами ни были зачерствелы в жестокости и зверстве, – струсили! Не знали, куда идти, и вместо того, чтобы поворотить налево, поворотили направо и снова начали опускаться вниз, в другое подземелье в подземелье.
Некоторые советовали воротиться, другие не только советовали, но молили, теряли всякое присутствие духа. Между тем передние сошли уже в глубокий погреб, и прежде всего поразил их гигантского роста сидящий у стены, прикованный цепью за шею, скелет; чуть видневшаяся на каменной стене надпись определяла, что это – казак Завиша. Кржембицкий и Цапля сделали несколько шагов вперед, где стояла открытая гробница, в ней лежал круль, – как гласила надпись на гробе; но какой круль именно – не известно; подле круля с железною короною на голове стоял на коленях, припавши к его руке, другой труп, совершенно высохший. В одном углу лежали несколько женских неповрежденных трупов, и один из них рассечен от головы пополам; в другом – три младенца.
Как ни увлекало любопытство, но ужас и трепет до такой степени обуяли всех, что забыли и цель своих поисков и только спешили назад: беспрестанный треск и хлопанье костей под ногами, эхом раздававшиеся в подземелье, заглушали отрывистые слова, которыми каждый старался ободрить себя.
– Что это? – спрашивали они друг друга, когда уже близко были к выходу.
– А это была Академия отцов иезуитов, – сказал кто-то.
– Эге! От-то кости и трупы проклятых недоверков, схизматиков, казацких, галицких и литовских русинов.
– Было же трудов и подвигов святым отцам иезуитам над этими погибшими поганцами, во время Унии…
– Помянет пан Буг несказанные труды и поты их во славу Бога и Его святейшего наместника, отца нашего Папы! – сказал Цапля, набожно перекрестился и приклонился.
Все также перекрестились.
– Жаль, что теперь не те времена и отцы иезуиты поутомились! – прибавил Замбеуш. – Всех бы схизматиков-казаков, москалей сюда, – рай бы Божий воцарился на земле, очищенной от такой адской скверны!
Все подкрепляли его слова своими благожеланиями ближнему своему. Так благоговейно сокращали они свой тяжкий путь.
С трудом нашли они выход из первой пещеры в коридор, медленно двигаясь вперед: кости замедляли шаги; но вот вдали трепетной звездой блеснула лампа охотника, стоявшего у лестницы, и быстро приблизились они к ней, взобрались наверх и отрадно вдохнули в себя воздух. Граф не сомневался, что Юлия и старик спрятались в подземелье, – приказал запереть дверь и наложить на нее упавшие колонны; приказание его было тотчас исполнено.
– Пусть здесь она погибнет, достойнее смерти для нее я не знаю… Страшно и одну минуту оставаться под этими сводами. Да умрут они здесь.
Ровно две недели после этого стояла стража у железных дверей, и действительно, Юлия и старец с этого времени не показывались в замке, и слуха о них не было.
X
Тихая ночь Украины рассыпала по сапфирному небу миллионы звезд, одна другой ярче, одна другой краше; полный месяц с вечным изображением – Каин убивает Авеля катился по небу и купался в тихом и светлом, как зеркало, Сейме; ярко лучи его горели на серебряном куполе церкви Святой Троицы, стоявшей на площади Батурина, и золотились на кресте церкви Св. Николая, поставленном на полумесяце.
Батурин спал не безмятежно: не такие были годы, чтобы спать спокойно. Казак в горе ложился и не знал, встанет ли он завтра, будет ли голова его на плечах. Слово, сказанное без всякого намерения или даже и не сказанное, достаточной было причиною, чтобы голова храброго казака, старого бандуриста, несчастной невинной девицы была всенародно отсечена на площади палачом и тело брошено на съедение псам.
Было тяжкое время, одна неудовлетворенная просьба негодного компанейского казака или нечестивого сердюка лишала каждого жизни. Горе, черное было горе казаку, попавшемуся в руки этих демонов, – мазепинских телохранителей… Их все боялись, зато и они, в свою очередь, были отвержены всеми.
Кровь верных казаков часто лилась во всех городах Гетманщины, а в Батурине, столице Мазепы, лилась она ручьем; колодку, на которой рубили головы, не успевали уносить с Троицкой площади, палачи не успевали обмывать руки свои, покрытые кровью, на секире ручьи крови не иссякали. Уже и старшина и полковники не смели, как прежде бывало, сходиться в гурте и тарабарить до рассвета о делах гетмана. Теперь если и случайно встретятся двое, то наперед кругом себя оглянутся. «А що?» – спрашивает один полушепотом. «Эге!» – отвечает другой, взглянув на небо или пожимая плечами. – «Прощай, братику». – «Прощай!» Горе, тяжкое горе было в Гетманщине. Но наставало и еще худшее.
Со всех сторон в Батурин съезжались в бричках и в польских фургонах паны, казаки и знатные люди. В господах, хатах и будинках горели свечи и каганцы; у растворенных окон сидели краснощекие и черноокие панночки, мечтая о предстоящем празднестве, о котором год от года трубит народ во всех городах, селах и деревнях Украины и Польши; празднество это было день именин гетмана Мазепы.
Недалеко от церкви Спаса стоял длинный одноэтажный дом с чрезвычайно высокою крышей, искусно покрытою свинцовыми листами; навес над небольшим рундуком поддерживали четыре каменные колонны; широкий двор окружен был довольно красивою решеткой с каменными столбами, среди двора по сторонам стояли два каменных столба с железными кольцами, за эти кольца приезжавшие к гетману вершники привязывали коней. По другой стороне дома густой сад, расположенный по горе, кончался плакучими березами и высокими стройными тополями на берегу прозрачного Сейма.
Часу в десятом вечера на двор дома въехала запряженная тройкою вороных коней плетеная широкая и длинная бричка; у подошедших двух жолнеров приехавший спросил:
– Где Иван Степанович?
– Тут! – отвечал один из них.
– Ну, слава милосердому Богу! – сказал путник, перекрестился, проворно соскочил с брички и, несмотря на старость лет, скорыми шагами пошел в дом.
Два небольших негра, одетых в красные жупаны, в белых чалмах на голове, отворили перед ним дверь, и путник вошел в пространную комнату.
На вызолоченных и обитых розовою шелковою материею мягких диванах в разных позах дремали казачки, молодые негры и две прехорошенькие белокурые девочки, одетые по-турецки; на драгоценном, выложенном мозаикою позолоченном столе в высоких серебряных подсвечниках горели свечи; в огромных синих вазах стояли свежие цветы; по стенам висели портреты царя Иоанна и Петра Алексеевичей, Алексея Семеновича Шеина, князя Голицына, графа Головкина – царских министров, а на противоположной стене портреты полковников, некоторых гетманов, в стороне на простенке, между двумя круглыми зеркалами, в золотых рамках портреты польского короля Стефана Батория и двух польских женщин чрезвычайно обворожительной наружности; одна из них была изображена как будто бы подающая смотрящему на нее откушенное ею яблоко, а другая – сама себя целует в правое плечо; внизу под этим портретом была латинская надпись, но рама прикрывала ее. На окнах пестрые турецкой материи шторы с огромными кистями.
Вдоль стен тянулись позолоченные, с высокими спинками стулья. За этой комнатой ряд других, не менее богато убранных.
Пройдя коридор, гость приблизился к гетманской спальне; два солдата стояли на часах у дверей, опросили приблизившегося, и через некоторое время подросток-негр отворил перед ним дверь.
На столе, покрытом красным сукном, вышитым шелком и золотом цветами, стояло несколько свечей в высоких подсвечниках.
На столе лежали кучи бумаг и книг на польском, немецком и латинском языках; перед столиком висел портрет монахини, старухи чрезвычайно бледной лицом; на левой стороне – Анны Степановны Обыдовской, на правой – какой-то миловидной польки, в углу этого портрета был нарисован герб с королевскою короною.
Направо, у стены стояла кровать, покрытая шелковым алым одеялом; стена была обита персидским ковром, и на нем развешаны драгоценные сабли, пистолеты, кинжалы и несколько ружей. В углу висел образ Иоанна Крестителя, и перед ним горела серебряная лампадка; пониже образа на красной ленте висел золотой крест величиною в четверть аршина, внутри его сохранялись частицы Святых Мощей.
Гетман сидел в длинном широком кунтуше на богатом позолоченном кресле, обитом лиловым бархатом, и читал какую-то латинскую книгу.
Когда вошел к нему приехавший, он поспешно встал и бросился в объятия гостя.
Они друг друга крепко прижимали и целовали.
– Здравствуй, мой дорогой куме, здравствуй, мой приятель, брате мой – Василий Леонтиевич!!!
– Господи Боже, хвала и слава Тебе, что привел меня, грешного, видеть здравого и благоденствующего ясновельможного моего гетмана! Сердце радуется, уста не выразят того, что на душе, молюсь и духом веселюсь!..
– Ну, кум дорогой, кум, радость моя, садись! Садись, ты устал! Откуда Бог принес? Вот две недели не видел тебя, где ты пропадал, мой родич, дорогой куме?
– Да ездил по деревням, которые ты по милости своей, ясневельможный, пожаловал мне.
– Ну добре, а что ж, все как следует?
– Да так, слава Господу, все добре. Поспешал сегодня до тебе, куме, чтобы завтра веселиться в Бахмаче на твоих именинах – первейшая радость, утешение сердца моего, когда ты будешь жив и благополучен!
– Спасибо, спасибо, куме, ты для меня дороже родного брата, ты один сердца моего утешитель, сам люблю тебя, как никого в свете не любил, не буду тебе больше говорить сего: кто крепко любит, тот не рассказует про то.
Кочубей обнял и со слезами поцеловал Мазепу.
– Пусть свет на чем хочет, на том и стоит, а я живу и одного тебя почитаю, одного тебя люблю и поважаю, а все остальное провались в землю! Завсегда звикл мою, к великой милости твоей, заховати найзичливейшую приязнь, с которою и в домовину лягу; учиню тебе чинючи: что в каких хуторах и деревнях ни ездил, везде недобрии люди слухи черные на тебе, куме, доказуют и ни добра, а зла твоей гетманской душе желают, и все то зачинается от полковников и знатных чинов казацкого войска, да и попы и чернецы не в стороне от сего, а и сами подтверждают и зло кохают.
– Болит мое сердце, болеет и душа! Господи, Господи, наказуешь Ты мене для тяжкого испытания!..
– Приехал я под Ирклеев, Хруль, арендатор, прийшел до мене по вечерней заре и начал говорить: «В город Золотоношу черница прийшла и неизвестный поп старец, из-под святого Киева-града Божьего, и старым людям, и казакам хвалилася, что в Киеве святом слышала людей польских, пашквилующих на твою гетманскую славу и на твое гетманство, и сами они писание скверное читали; черница молода, лет шесть-на-десять», – я, поважаючи кума ясневельможного, черницу под караул взять повелев, в Бахмач привести, а попа стареца допытать: откуда и кто он. Но поп, как учинилось, на Запороги через Ирклеевский курень отъехал; полагаю, нелишне, чтобы ты, ясневельможный куме, и от себя послал за черницею, чтоб без помехи приставили ее в Бахмач, и буде она виновна в чем – в пример казни перед народом.
– И черницы и попы все на мою бедную невинную голову! Бог, да царь, да ты один, найзичливейший приятель, мой куме, любишь меня! Чтоб веселиться завтра, я с горя, тяжкого горя крепко смеяться буду: и горе смеется! Когда б только ты сего не знал, куме мой, куме. Ох! Ох! Ох! Тяжко, тяжко, когда горе смеется, да что же делать!..
– Ясневельможный куме, плюнь на горе да веселись! Ничего не думай – и вся Гетманщина засмеется, как та дивчина, которая червону розу в косу вплетает!
– Ох! Так, да не так.
– Да так! Ну, ласце и приятельству твоему отдаюсь я: поеду до жены и детей – с дороги прямо к тебе!
– Прощай, куме, ты от мене, а слезы в очи мои, другой бы веселился, а я целу ночь проплачу, горько проплачу, какая радость, когда вся Гетманщина идет против мене. Я, скажут, причиною, что голова летит за головою под секирою – а не подумают, не рассудят, что не я сужу, а есть кому и без гетманской головы судить. Теперь судья не то, что в стародавние годы, есть, кто пануе в Гетманщине, а гетман, как сояшник старий, какой воробец ни прилетит, всякий клюет его семя… Прощай, куме, поклонись жене, и поцелуй дочку мою, и завтра все – в Бахмач. Вы знаете, что праздник мой для вас одних, а ни для кого другого.
Кочубей обнял гетмана.
– Прощай, куме, прощай.
– Господь да сохранит тебя!
Кочубей ушел через пять минут после ухода его тихими шагами вошел в комнату гетмана мужчина средних лет в длинном черном платье, подпоясанный широким ременным поясом, волосы на голове его подстрижены в кружок; на груди висел большой серебряный крест.
– Будь здоров, Заленский.
Иезуит сказал приветствие на латинском языке и в пояс поклонился гетману.
– Давно приехал?
– Сейчас!
– С Бахмача?
– С Бахмача!
– Благополучно?
– Слава Иисусу Христу! Все заняты приготовлением к завтрашнему празднику! Батурин наполнился приезжими, как я слышал, ни одной хаты нет без постояльцев; приехало много людей и панов с Польши.
– Не знаешь кто?
– Граф Потоцкий приехал, граф Забела, граф Четвертинский, граф Жаба-Кржевецкий, князь Збаражский, граф Замбеуш, князь Радзивилл и много других.
– То все зичливые приятели, не забывают меня, спасибо!
– О, ясневельможный, тебя забыть, тебе все покоряется: ты друг и приятель короля польского, любимец шведского и русского, недаром же все они присылают к тебе послов.
– Ну, правда твоя, Заленский, до какого только часу все они почитают меня искренним приятелем… вот и московский царь… Но знаешь ты меня лучше, может быть, чем кто другой… Ну вот, что хочу сказать тебе, Заленский, слушай: сейчас был у меня пан, который больше всего на свете боится жены своей, пан Кочубей; он уверен, что я его больше всего на свете люблю, счастлив дурень думкой!.. А Кочубей еще счастливее и дурня… жаль только, что жена совсем его замучила; он говорил, что приехал с Ирклеева, был в Полтаве, в Диканьке, народ восстает против меня! Слушай же, найди мне человек с десять верных и добрых компанейцев и послать их в города, переодев простыми казаками, да наказать, чтоб за всеми зорко примечали, а паче всего за полковниками и попами. Вот, может быть, и поп Иван найдется, все будет пожива катови, а казакам и народу диво да любо глядеть, как голова от шеи отскочит. Завтра казнить Соломона; и распусти слух, что сам царь повелел немедленно, как только получится указ, казнить Соломона: от-то лучше, будут говорить, хотя завтра и праздник и мои именины, а я таки все исполняю царский указ: не дремлет, дескать, гетман, скажут, да и сами спать не захотят…
– Так это святая правда! – сказал иезуит.
– Завтра же разослать компанейцов и выслать по дороге к Ирклееву из Желдатского баталиона казаков навстречу чернице, которую пан Кочубей приказал привести в Бахмач. Черница про нечестивые письма спевала в Ирклееве, не знаю, заспевает ли на встряске?
– Заспевает!..
– И я твоей думки, ну а компанейцам прикажи всякого казака, который слово пикнет про меня, хватать да ночью везть в Батурин; черт побери, еще им мало! Так поставим на всякой улице по три виселицы, да по десяти колодок на площадях, пусть каты тешатся, – какая нам нужда; да хоть и народ сумует, зато мы с тобою будем смеяться.
– С проклятыми казаками так и следует делать!
– Прощай!
Иезуит поклонился и вышел.
Между тем Кочубей приехал в свой дом. Любовь Федоровна сидела на кресле в спальне и, сложив три розовых пальчика рученки Мотреньки, стоявшей перед образом на коленях, учила ее креститься и читать «Отче наш»; в эту минуту Василий Леонтиевич скорыми шагами вошел в комнату и закричал:
– Здравствуй, Любонька, здравствуй, сердце мое!
Любовь Федоровна, не ожидая прихода мужа, испугалась крика, вмиг оборотила голову к Василию Леонтиевичу и сказала:
– А ну, Господь с тобою, чего ты так кричишь? Рад, что приехал, вишь, давно не виделся, соскучил! Ну, здравствуй, тихо бы сказал, а то на все горло кричит, как гетман на сердюка… Я тебе не гетманская покличка, не в поле, не с полковниками, где венгерское дерет ваши горла… Ну, здравствуй!
Любовь Федоровна поцеловала мужа.
– Все благополучно?
– Слава богу! – тихо отвечал Кочубей.
– Садись, а я Мотреньку поучу молиться Богу. Ну, читай же, моя галочко: Отче наш…
– Оце нас… мамо, спать хочется!..
– Ну, дай я тебя перекрещу, и беги ложись спать!
Любовь Федоровна перекрестила Мотреньку.
– Иди ко мне, Мотренька, иди, серденько! – сказал Василий Леонтиевич.
Мотренька подошла к отцу. Он приподнял ее, поцеловал в уста, глазки, перекрестил и сказал:
– Иди с Богом, да рости велика!
Любовь Федоровна отворила дверь и Мотренька, потирая ручонкой глазки, убежала.
– Где был ты в эти две недели?
– Был везде!
– Везде, – ты мне говори прямо, где был, а не везде; ты знаешь… я не люблю слушать, когда враг знает, что городишь.
– Был в Диканьке, в Полтаве, в Хороле, в Лубнах, в Ирклееве.
– Ну так бы и говорил!
– А теперь заезжал до гетмана, сказал ему, что слышал по дороге, как казаки и народ отзываются про дела его. Да черницу одну под караул посадить велел, и об этом известил ясневельможного.
– Опять за свое, опять!.. Когда я выучу тебя, чтоб ты слушал меня! Скажи, Василий, сделай Божескую милость, что тебе с того, что ты гетману всякое слово доносишь? Что он, обзолотит твою голову, отдаст тебе булаву, что он сделает тебе? Слушай, ты знаешь, не одну, может быть, отрубили голову из-за тебя… Бог не простит этого ни тебе, ни ему, кайся да молись! – ну скажи мне, для чего черницу-то велел ты взять?
– Пашквилует на гетмана.
– Да что за дело тебе да этого!
– Да гетман кум наш!
– А я твоя жинка, ты слушай меня, а не гетмана! – закричала рассерженная Любовь Федоровна. – Грей, грей змею за пазухой, она тебе даст меду!..
– Да что слушать тебя, ты мешаешься не в свое дело!
– Не в свое дело!.. Вот как добро после этого будет!.. Василий, ты запропастил свою душу, не таков ты был, когда не знался с гетманом! Я и сама обманулась: думала, что ты будешь гетманом, а не Мазепа, – да нет, опеклась!.. Проклятая тварь! Снюхался с московскими панами, да и булаву взял!.. Постой же, когда ты сам для себя не хочешь стараться, так я постараюсь за тебя – и будет в наших руках булава… обожди немного: недолго наживет Мазепа, – казаки скоро спровадят его на тот свет. Недаром же говорил Иван Сибилев в ратуши, что когда ратные люди соберутся, то гетману будет конец и выберут другого…
– А Иван Степанович чем не гетман!
– Гетман!!. Тебе бы, а не ему след гетманствовать!.. Стыдился бы говорить еще!.. Не сумел держать коня, когда повод был в руках!.. Пожалей меня и детей, когда себя не жалеешь… а лучше слушай, что я тебе говорю, да так и делай. Вот чего я хочу!
– Да разве я не слушаю тебя!
– Знаю, как слушаешь!
– Как хочешь, так и делай.
– Спрашивать тебя не стану!
– Да ты такая!
– То-то что такая! Людей с гетманом не гублю, а хочу, чтоб ты был счастлив… Пойди-ка лучше да ударь десять поклонов перед иконами, да помолись, чтоб Господь Бог простил грехи твои, что несчастную черницу представил гетману; да и спать пора, завтра все одно ехать в Бахмач…
– Господь Бог да простит меня…
– Нет, нет, нет… десять поклонов ударь… не будет убытка!.. Ударь! Ударь!.. Спина не сломится!
– Да буду молиться!..
– Десять поклонов, как себе хочешь… А ну же, давай, и я с тобой вместе молиться буду, становись!..
Любовь Федоровна стала пред образом на колени, подле нее стал Василий Леонтиевич. Любовь Федоровна громко читала молитвы…
Долго молились они оба, потом Любовь Федоровна, окончив молитву, встала и сказала:
– Ну, ударь же десять поклонов, да кайся!
Василий Леонтиевич ударил десять поклонов, приговаривая: «Боже, милостив буди мне, грешному!» – встал, поцеловал жену и благословил ее, жена благословила мужа.
Через полчаса в доме Кочубея было везде темно, двери заперты, и все спали глубоким сном.
XI
Еще на небе горела утренняя звездочка и только что начинал краснеть восток, а по улицам Батурина ходили уже головы и десятники, стуча в деревянную доску деревянным молотком, давали знать народу, что на Троицкой площади приготовляется, ради дня именин гетмана, кровавый банкет.
– А что, опять банкет будет? – спросил старик, высунув нос в круглое окно своей хаты.
– Иди на площадь, там увидишь!
– Да нет, будут попы служить молебен, сегодня праздник гетманский! – сказала жена старику.
– У нас теперь, что неделя, то и гетманский праздник…
– Я тебе говорю, что гетманский праздник, сегодня Иван Купала, вчера девчата через огонь скакали, сама видела, как марену рубили и ставили, а сестра Феська, что у гетмана живет, и купало наряжала любистиком, мареною, с шавлиею барвинком квичали, и я свою ленту красную на марену отдала.
– Да недаром же десятник сказал, чтоб собирался народ на Троицкую площадь; пойдем посмотрим, а может быть, в самом деле, как вечной памяти бывало за Самуйловичем, что десять бочек горелки, да по десяти меду и пива выкатят, да и чествуют народ, а пирогов с капустою да паляниц, – а, Боже, Твоя воля! – сколько тогда раздавали народу.
– Может быть, и теперь будет так!
– Ну пойдем!
Только вышел старик со старухой из хаты, – и во всех церквах Батурина зазвонили на раннюю обедню.
– Ну так и есть, что Иван Степанович для всех батуринцев приготовил банкет: выпьем по чарке за его здоровье… во все дзвоны звонят, не беда, слава Господу милосердому; теперь молятся по всей Украйне за спасение его души, так и мы выпьем, чем почестуют, да и доброе слово скажем, так, жинко?
– Сам знаешь, что так!
– Так-таки, так!
На Николаевской площади со всех батуринских и окольных селений священники с хоругвями, крестами и иконами служили молебен собором и с коленопреклонением о здравии гетмана Ивана Степановича, не много было здесь простого народа, большею частию молились гости, приехавшие на праздник к Мазепе, зато вся Троицкая площадь, как поле маком, была покрыта народом.
Посредине Троицкой площади на помощенных досках лежала простая деревянная колодка, с секирою стоял кат-москаль в красной рубашке. Подмостки окружали сердюки, компанейцы и желдаты, а за ними стояли музыканты.
Когда отслужили молебен, приехал Мазепа, с ним был Кочубей, два польских пана и два казачьих полковника. Они были все веселы, а гетман часто отирал слезы, которые текли по щекам его.
Привезли в повозке скованного чернеца, расковали, кат снял с него одежду; помолился чернец, поклонился на все четыре стороны, ударил три поклона и благодушно положил голову на колодку…
– Бенкетует! Чтобы так бенкетовала его лихая година! – говорил народ, и сколько ни было здесь тысяч, все они в душе проклинали гетмана… а гетман, притворившись плачущим, с радостию поехал в Бахмач.
XII
В двух милях от Батурина в селе Бахмаче стоял гетманский замок Гончаровка; в два этажа большой каменный дом, за ним сад, окруженный каменною оградою. У ворот и везде, где следовало, стояли часовые, а перед самым домом на широком дворе построилась компания надворной хоругви в желтых жупанах, батальон желдатской – в красных, а сердюки в голубых; перед войском стояла музыка. По другую сторону толпы народа и некоторые из приехавших гостей. Все это ожидало гетмана из Батурина. И вот заклубилась по дороге пыль, и скоро гетман подъехал к крыльцу; заиграли в трубы, ударили в бубны, литавры, а стоявшие у самого крыльца евреи – представители своего народа поднесли гетману на серебряном блюде пряники, варенья и плоды, заиграли на цимбалах, скрипках и бубнах, поздравили гетмана с праздником. У самых дверей архимандрит, сопровождаемый духовенством, поднес гетману просфиру, зерна пшеницы, елей и вино, гетман подошел под благословение, принял святой дар, поблагодарил архимандрита и пригласил войти в залу.
Два гайдука, одетые в красные жупаны с золотыми выкладками, отворили двери в залу, и в эту же минуту на хорах заиграла прекрасная стройная духовая музыка, присланная Мазепе в дар от княгини Дульской.
Важно вошел гетман в залу, все собравшиеся встретили его низкими поклонами.
Мазепа в этот день был в шелковом жупане серебряного цвета, подпоясанный золотым поясом, сабля его была драгоценная. Сказав несколько ласковых слов знатнейшим из панов, гетман вошел в ту комнату, где чинно в ряд на креслах и длинном, во всю стену диване сидели женщины; прежде всех Мазепа поклонился сидевшей против дверей довольно дородной, невысокой брюнетке средних лет приятной наружности; женщина эта приподнялась немного, и поклонилась; гетман подошел к ней – Любовь Федоровна протянула руку, Мазепа ее поцеловал.
– С именинами поздравляю, счастлив тебя Господь! – сказала она довольно гордо. Гетман низко кланялся, потом поцеловал руки еще двум или трем женщинам и уселся подле Любови Федоровны, она, усмехаясь, погрозила ему пальцем, гетман наклонил к ней ухо, и она что-то сказала ему.
– Исполнил царский указ, его воля… переступить не смею…
– Все-таки не в такой день!..
– Кума моя милая… не в моей воле!..
– Все не хорошо!..
– Сам знаю!..
Любовь Федоровна покачала головою и умолкла, потом погладила по голове дочь свою Мотреньку, стоявшую подле нее, которая пристально смотрела на крестного отца своего.
– Иди ко мне, дочко моя, мое серденько, – сказал Мазепа, поднял Мотреньку, посадил к себе на колени и поцеловал ее в уста…
– Ну, что ты сегодня делала, в куколки играла?
– Я в церкви за тебя Богу молилась!..
– Умница, за это я тебе дам родзинок, вишень, всего, чего захочешь!
– Дай мне вот это! – сказала Мотренька, перебирая золотые снурки на груди гетмана, которыми был вышит его кафтан, присланный от царя.
– Этого нельзя!
– Нет, можно!
– Нельзя!
– Ну, я тебя за усы! – И Мотренька начала тормошить Мазепу за поседевшие его усы.
– Это царь дал, доню, этого тебе нельзя дать!
– Ну тебе и так царь даст! – сказала она и ручонкой своей, играя, ударила его по щеке. Гетман покраснел. В эту минуту в голове его мелкнула мысль: что, если бы в самом деле царь схватил его за усы и ударил по щеке!.. Но мысль его перебил вошедший в залу граф Потоцкий с графом Замбеушом, а вслед за этим в зале зашумели. Гетман поспешно встал и пошел навстречу приехавшим из Польши ко дню его именин графине Марьяне Потоцкой, Жозефине Четвертинской, Люции Збаражской, Ангелике Вавиловой и, по крайней мере, еще сорока женщинам и девицам, шедшим вслед за графинями, приехавшими также из других мест: Подолии, Волыни и Киева.
Собралось всех женщин до двухсот, а мужчин и не перечесть, – во всяком случае, более трехсот знатных. Не только сам замок, но и все флигеля были наполнены панами и панянками. В саду были нарочно к этому дню раскинуты дорогие шатры, и все еще было тесно. В самом замке комнаты были отведены одним женщинам, более почетным и преимущественно приехавшим из Польши…
Когда все съехались, в большой зале и в других комнатах столы покрыли белыми шелковыми скатертями, поставили тарелки, разрисованные синенькими полосками и звездочками, серебряные чарки, такие же вилки, ножи, серебряные фляги с венгерским, бутылки с медами, водками и другими напитками, и когда все прочее приготовили, на огромном серебряном подносе внесли четыре гайдука отварного осетра и поставили на главном столе против женщин, которые благосклонно смотрели на книши, пирожки-затворники, пирожки с сыром, колбасы, начиненного поросенка, приливную рыбу, маринированную дичь, все хвалили и заранее наслаждались приятностию блюд, прельщались искусною позолотою и раскраскою шишек и коржиков, подаваемых на стол, по обычаю казаков, в день именин.
Гетман отрезал несколько кусков осетрины и книша, пригласил женщин кушать и, положив на тарелку один кусок рыбы, поднес графине Потоцкой, прекрасной собою блондинке с черными глазами и ямками на розовых щеках. Графиня привстала и, улыбаясь, сказала гетману приветствие на польском языке. Гетман отвечал ей тем же; потом он взял еще несколько кусков и поднес Кочубеевой, графине Збаражской, Четвертинской, Искриной и другим.
Графиня Марьяна Потоцкая подошла к Мазепе, который резал у стола пирог, попросила его, чтобы оставил свою работу, и пригласила сесть подле себя. Мазепа с особенным удовольствием повиновался.
– Что, гетман, прикажешь пожелать тебе для твоих именин?
– Чтобы я помолодел! – усмехаясь, сказал Мазепа.
– Ох, не хочу этого желать, гетман так красив и мил собою, что если бы пожелать ему молодых лет, значило бы пожелать худшего! – говорила графиня, приятно улыбаясь.
– Нет, гетман, нет, то не добро будет, когда ты помолодеешь, все тебя любят теперь, а тогда все перестанут! – сказала Четвертинская.
Гетман кланялся и, улыбаясь, благодарил обеих.
– Нет, гетман, лучше я пожелаю скорее видеть тебя в наших краях! – сказала Збаражская, также очаровательная брюнетка, и еще весьма молодая. Пламенные глаза ее были покрыты страстною влагою.
Мазепа также страстно посмотрел на нее, тихонько вздохнул, поклонился и замолчал.
Перед завтраком гайдуки подносили на серебряных подносах водки в графинчиках, которых на каждом подносе поставлено было не менее двенадцати. Гетман шел вслед за подносившими и, останавливаясь пред каждым паном, приглашал: «Паны, добродийство, просим всенижайше горелочки прикушать» – и, указывая на графинчики, приговаривал:
– От обомленья, от воздыханья, от спотыканья, от перхоты, от сухоты, от жалю и туги, от всякой недуги, от боязни, от приязни… от се чиста, се душиста, се нерцивка, се гвоздикивка, се полынна, а се тминна.
В зале завтракали духовенство и все прочие мужчины, приехавшие к гетману с поздравлением.
Музыка играла польские и малороссийские песни во все продолжение закуски. За завтраком венгерское, дедовский мед, вишневка, малиновка, рябиновка и другие наливки рекой лились. Несмотря на то что три часа назад тому на Троицкой площади был кровавый пир, веселье в замке гетмана шумело; и даже те, которым бы следовало оплакивать безвинно казненного, забыли прошлое; таков уже наш свет и таковы люди всех веков и народов, если они не отрешились своего «я» и блюдут его благосостояние…
На дворе перед замком Мазепа угощал свою придворную гвардию, своих верных телохранителей, сам ходил по рядам их, старшим из казаков наливал чарки меду и угощал.
Вслед за завтраком начался и обед. Гетман пригласил гостей сесть за столы, все уселись, и гайдуки поставили перед гостями огромные чаши с борщом, гости сами наполняли тарелки.
В гостиной вместо гайдуков услуживали молоденькие негры с отрезанными ушами, носами и языками; у гетмана таких негров было до двадцати пяти, они были присланы ему в подарок от турецкого султана. Негры, как и все слуги гетмана, были во всем красном с золотыми снурками. Граф Потоцкий, Кочубей, Борковский, Искра, граф Замбеуш, граф Четвертинский, граф Жаба-Кржевецкий, князь Радзивилл и некоторые из полковников и других старшин сидели в гостиной за особенным столом, а сам гетман сидел с женщинами и веселил все общество.
Кушаньям не было счета, начиная от борща, вареников с сыром, мандрикок, дошли наконец до блюд польской кухни. Кончилось подаванье кушаньев, но гости долго еще, по обычаю, не вставали из-за столов и, разговаривая, смеялись, шутили и были все необыкновенно веселы; начались тосты, пили столетний мед: здоровье гетмана прежде всех, потом здоровье всей Гетманщины, третий тост – здоровье Генеральной старшины, четвертый – здоровье полковников и всего казачества. Гетман налил себе меду в чарку, поднял ее вверх и, обратясь к женщинам, сказал: «Один пью за ваше здоровье – выпью не венгерского, а меду, мед слаще, будьте здоровы!» За гетманом пили здоровье женщин все прочие паны.
Почти в четыре часа встали из-за стола. Женщины ушли в сад, а мужчины кто куда вздумал – духовенство уехало в Батурин, не дожидая вечернего банкета.
Начало темнеть, в замке все приготовлено было к танцам; женщины переодевались, мужчины тоже надевали ярких цветов жупаны. На столах в гостиной поставили десерт: повидло, орехи в патоке, груши в меду с гвоздичками, родзинки, цельники меда, кавуны, дыни, яблоки, груши, вишни, малину, клубнику и все прочие плоды, которыми изобилует благословенная Малороссия. Два гайдука, один из числа присланных Мазепе от друга его Станислава Лещинского, а другой Демьян, любимый слуга Мазепы, надели вместо жупанов куртки и белые шальвары и принесли в зал огромные турбаны. На хорах музыка заиграла польскую – и зала в минуту наполнилась гостьми.
Вошел Мазепа и остановился подле панов Генеральной старшины и полковников.
– Не из Польши ли сей гайдучище?
– Из Польши!
– Посмотрим, как танцует вприсядку, Демьяна знаю, тот славно танцует, – сказал толстый, невысокий ростом брюнет; это был пан Искра, служивший тогда в Полтавском полку.
– Ну, пане Искро, они оба за тебя не справятся! – сказал писарь Скоропадский.
– Да, может быть, и так!
– Да таки-так!
– Вот, Искро, коли любишь нас, задай жару после сих дурней!
– Постойте, поглядим на сих молодцов!
Среди залы образовалось пространство. Гости теснились у стен, Демьян и польский гайдук взяли турбаны, моргнули друг на друга, закрутили усы, пристукнули ногами, Демьян заиграл, и оба разом пустились вприсядку, припевая:
На-в-городи постернак, постернак; Чи яж тоби не казак, не казак, Чи я ж тебе не люблю, не люблю, Чи я ж тобе червичкив не куплю. Куплю, куплю, чорнобрива, Куплю, куплю того дива, Буду сердце ходить, Буду сердце любить, Ой гопь, гопака Полюбила казака…Все паны и пани были в восхищении и выхваляли ловкость Демьяна, черноусого казака ростом почти в сажень и чрезвычайно красивого.
За пляскою гайдуков начались польские танцы: стали в танок, взявшись по паре за руки, музыканты на цимбалах, бубне, скрипках и басе заиграли «Журавля», и начался танец, подобный польскому; танцевали все, даже и графини, чинно, не разговаривая.
Кончился «Журавель», все уселись по местам, и началось угощенье. Гетман женщинам подносил повидло, пастилу, орехи в меду, орешки масляные, родзинки. А гайдуки подносили панам добродиям наливки и мед; женщины соромились, и гетман должен был перед каждою стоять несколько минут и упрашивать попробовать хотя чего-нибудь… Графиня Потоцкая и княгиня Збаражская любовались скромностию малороссийских панн.
Когда порядком зашумело в головах панов от ежеминутных потчиваний, отчего никто не смел ни под каким предлогом отказываться, гетман вошел в залу и спросил:
– А что, паны добродии, не танцуете! Пане Искро, ты охотник до танцев, стыдно, ей-же, стыдно!
– А ну, пане, танцевать! – сказал Кочубей, взявши Искру за руку, желая всегда и во всем угождать Мазепе.
– Ну-ну, я не прочь, пане Кочубею, ну, метелицы!..
– Метелицы! Метелицы! – сказал гетман и пошел в гостиную приглашать панн.
– Метелицы, так и метелицы, – повторяли панны, – Ей вы, игрецы, метелицы!
– Ей-же-ей, не вытерплю: вот так-таки сами ноги и танцуют! А ну-те, пании, пании, скорее! А ну-те, где твоя пани, Кочубей? Я с твоею потанцую!
– Вот идет!
Искра подхватил Любовь Федоровну, другие паны разобрали панн, стали в кружок и начали припевать:
Ой, на дворе метелица. Чому старый не женится? Бо не час, не пора, Бо ще стара не вмира.Кружились то в одну, то в другую сторону.
Польские графини и графы и кто умел из малороссиян танцевали после метелицы краковяк и мазуречку. Сам гетман с графинею Потоцкою стоял в первой паре; он ловкостию своею удивлял всех, никто из присутствовавших не танцевал лучше его.
Мазепа, как будто бы для доказательства своей ловкости, то каблуком ударит об пол и три раза оборотится на одной ноге, то станет на колено и поворотит панну вокруг себя, то пустит ее вперед и, ловко подскочив, ударит каблук об каблук, поворотится, схватит панну за руку и поплывет с нею по зале.
Гайдуки не переставали угощать ни панн, ни панов. Все веселилось непритворно; кончилась и мазуречка, и многие графини оставили бал; иные из панов хотели танцевать, другие затягивали песни. Музыканты заиграли песню «У соседа хата бела», и в один голос все запели.
– Все веселую да веселую, а нет того, чтоб и сердце заплакало! – сказал Кочубей, и вместе с ним многие полковники запросили, чтоб заиграли что-нибудь заунывное, и заиграли:
Ой, не ходи, Грицю, да на вечерницу, Бо на вечернице девки чаровницы…Спели сумуючи эту песню паны и пании.
– Все еще не такая; другой, да лучшей!
– Казацкой! – сказал Искра.
Заиграли казацкой:
Ой, по пид горою, По пид зеленою.Запели паны в один голос, да и заплакали крупными слезами, не зная, от чего и для чего: такая уж была натура у старосветских панов.
Кончился банкет. Не многие из панов могли идти, хмель подкосил всем ноги и развязал языки: говорили много, но не проговаривались, к досаде гетмана.
Рано утром гетман лежал еще в постели; вошел Заленский в спальню и сказал:
– Привезли черницу, я приказал посадить ее в мурованную комнату.
– Добре сделал; знаешь, Заленский, я думаю, что именно это та самая черница, что в Киев принесла пашквиль: я догадался, когда Кочубей сказал мне об ней. О добре, добре, казнили чернеца, казнить и черницу, славная парочка будет на том свете! Заленский, думка у меня такая, лучше черницу четвертовать, да один кусок в местечко Печерское отправить, чтоб повесили на шест, другой в Батурине останется, третий в Конотоп, а четвертый в Роме или хоть и в Полтаву, чтоб все намотали себе на ус, а у кого нет усов, то чтоб памятовали так.
– Правда твоя, ясневельможный.
– Привести сюда черницу, я сам допрошу.
Заленский исчез, а гетман вышел в другой покой, соседний со спальней, где обыкновенно он тайно принимал посланцев от королей и вел секретную переписку. Сел в кресло, перед ним лежали булава и бунчук, на лице его изображался страшный гнев. Через несколько минут тихо отворилась небольшая дверь комнаты, и Заленский ввел в покой на железной цепи юную девицу.
Сначала сердито посмотрел на нее гетман, но, пораженный ее красотою, растерялся и долгое время не мог спросить ее, о чем хотел.
– Кто ты? – произнес он спустя минуты две.
Девица молчала.
– Не страшись и праведно отвечай!
– Ты мене погубишь, если я скажу тебе, кто я!
– Не погублю!
– Слушай, гетман: матери моей нет более на свете, а она была все мое сокровище, пойду и я к ней, – это лучше, нежели мучиться так, как мучусь я на этом свете. Прикажи казнить меня, но кто я, не открою тебе, и ты не спрашивай.
– Я заставлю!
– Нет!
– Навстряску! Живую на огне сожгу!
– Что хочешь делай!
– Ты пашквиль принесла в Киев и подала игуменье Фроловского монастыря?
– В Киеве я была, Господь милосердный удостоил меня молиться в Святой Лавре и во всех монастырях, но пашквиля никакого я не отдавала.
– Погибнешь, говори истину!
– Я истину сказала!
– Ты черница?
– Послушница!
– Из какого монастыря?
– Из Фроловского.
– А зачем в Ирклееве была?
– От такого же, как и ты, бежала – от родного отца скрылась: убить хотел!
– Кто ты, что ты, я не знаю, но сердце мое полюбило тебя за прямоту души твоей!.. Мне тебя жаль!..
– Лучше не любить и не жалеть… я ничего не знаю, ничего не ведаю, перед людьми безгрешна, Матерь Божия видит! Пусти меня! И раз ты праведный гетман, огради от всякой беды; я буду молиться в монастыре за спасение души твоей!
– Галочко моя, не быть тебе в монастыре! Забудь монастырь да признайся лучше в вине своей, так счастлива будешь!
Послушница опустила глаза в землю и ничего не отвечала.
– Молчишь и отвечать не хочешь? Приготовляйся же, завтра будут тебя четвертовать!
– Слава Господу Богу, слава Пречистой Матери! – говорила девица крестясь – и светлая радость сияла на лице ее.
– Сковать по рукам и по ногам и в подземелье, а завтра на встряску и четвертовать, слышал, Заленский?
– Слышу, ясневельможный!
– Ну, отведи ее и сию минуту приди ко мне!
Иезуит и девица ушли. Мазепа ходил по комнате в глубоком раздумье.
Через несколько минут воротился иезуит.
– Пилою по суставам будем пилить, так, ясневельможный? – и во всем сознается!
Гетман покачал головою:
– Нет, Заленский, гарной дивчины жаль, как маковка червона; посади ее в мурованный покой, сними цепь и спроси, что она хочет. Сейчас же пойди к ней!
Заленский досадливо поморщился и исчез. Гетман продолжал ходить с одного конца комнаты в другой. Опять явился Заленский и сказал, что послушница просит оставить в покое икону, крест, лампаду и принести Евангелие.
– Исполнить все, что хочет, останься с нею и хитро проведай, откуда она, услужи мне в этом.
– Слушаю!
– Ну ступай, а вечером я опять ее буду допрашивать!
Вечером вновь предстала пленница пред гетманом.
– Что спросишь, гетман? – с необыкновенной твердостию сказала пленница.
Мазепа и в этот раз не нашелся, что отвечать.
– Спрашивай же во имя Господа Бога, и я во имя Пресвятой Девы Марии буду отвечать!
– Откуда ты, кто ты?
– С одного мира с тобой! Я великая грешница и молю Господа, чтобы даровал мне принести покаяние во грехах!
Она перекрестилась.
– Ты из Польши?
– Жила на Волыни.
– Ты пашквиль принесла во Фроловский монастырь?
– Мучения мне не страшны: они даруют жизнь вечную, а греха боюсь: я бы сказала, если бы принесла пашквиль, но ничего я не знаю и не ведаю.
– Заленский, выйди!
Заленский ушел.
– Слушай, я не буду мучить тебя, если бы ты и величайшая преступница была… Ты красавица такая, зачем тебе в монастырь идти!
– Господи Боже милосердный, заступи и сохрани меня!
– Что тебе так страшны слова мои? Я полюбил тебя!..
– Избави меня, Господи, от всякия мирския злыя вещи и отврати козни дьявольския!..
– Девчино, девчино! Знаем вас, не первая и не последняя!
Сказал Мазепа и махнул рукою.
– Я буду содержать тебя как царицу в замке, ты будешь моею коханкою!
Пленница крестилась.
– Это все ничего, ничего, моя галочка, день-другой, а после привыкнешь, и дело на лад пойдет; и волк рвется первый день с цепи, а потом смирно лежит!..
Пленница стояла, опустив глаза перед гетманом, продолжала читать про себя молитву и крестилась.
– Слушай, я буду тебя любить: скажи мне, кто ты, какого рода и как имя твое?
– Неправды не скажу: смертного греха не хочу привить на душу, истины не открою, как ты себе хочешь! Казни меня, прошу тебя, казни, я умру и Царствия Небесного достигну!
– Жаль же мне тебя, коханочка моя, серденько моя, галочка моя!
Гетман хотел обнять ее, девица увернулась. Величественно-грозный вид беззащитной чистоты сердечной на минуту остановил старого сластолюбца.
– Перестань, гетман!.. Христом Богом заклинаю тебя, не прикасайся ко мне, я Богу дала обет чистоты, не погуби души своей… разорит того сам Господь, кто дом Его растлит.
Борьба невольного чувства страха, обиженного самолюбия, пыла страсти выражалась на лице Мазепы; удержанный на мгновение, Мазепа заминался в словах, отзывавшихся стыдом, лаской и досадой.
– Знаю, ты притворяешься!.. Эге, галочка, не поможет… сюда ступай, сюда, полно тебе притворяться благочестивою!
Одной рукой Мазепа схватил девицу за плечо, другою сорвал с головы ее небольшую бархатную шапочку, и шелковые светлые волосы волною покатились по ее плечам. Девица защищалась.
– Четвертовать аспида, четвертовать!
Глаза Мазепы запылали страстью; схватив правою рукою за ее платье, силился разорвать его ворот, кричал, что в ту же минуту будет четвертовать – и готов был пасть к ногам ее.
– Прикажи четвертовать, но не порочь меня, не губи себя, гетман! Ты гетман – и позор сам делаешь, как проклятый враг человеков… пока жива, не дам наругаться… Гетман, пощади меня, пощади меня! Прикажи четвертовать, но не порочь…
Устыженный Мазепа, видя безуспешность своего замысла, со злостью оттолкнул ее от себя.
– Завтра четвертовать!
– Сегодня лучше, меньше буду мучиться! – спокойно сказала девица, поправляя платье и надевая на голову шапочку.
– Не надевай, скоро опять сбросим.
– Тогда то и будет.
– Слушай, девчино! – говорил Мазепа, скрывая свою досаду и стыд. – Я от тебя ничего не хочу, не хочу даже знать, кто ты, я буду тебя кохать, буду тебя до моего сердца прижимать, ты будешь у меня в золоте ходить, будешь пановать, не огорчай только меня… полюби, моя серденько, прижми меня до сердца своего, дай поцеловать карие очи твои, белое лице твое… коханочко моя, голубочко моя… не думай, чтоб я в самом деле хотел тебя мучить!
– Мучь, аспид-искуситель, убей!.. Лучше я умру, а не отдамся в дьявольские руки твои, не погибну от греха!.. Пречистая Матерь Божия спасет меня!..
– Побери тебя нечистый! В самом деле ты думаешь, что я… я только хотел узнать тебя… постой, моя зозуленько, не так закукуешь.
Гетман захлопал в ладоши, в комнату вбежал негр.
– Заленского сюда!
Негр в один миг как тень исчез.
– Постой, зозуленько, не так закукуешь! – говорил гетман, и губы его тряслись от ярости.
– Бог меня спасет, – с христианскою твердостью сказала девица, перекрестилась и замолчала; она вся погрузилась в молитву. Вошел Заленский.
– Сейчас ее на встряску!.. В котел с кипятком, и когда останется жива – в тело вбивать гвозди, начавши с ног до головы.
– Добре, – сказал иезуит.
– Ну, веди ее… я сейчас приду в подвал.
Заленский и девица ушли, вслед за ними вышел и гетман.
XIII
С ужасом и недоумением взираем мы на прошедшие времена жестокосердия людей в недрах христианства, когда, с одной стороны, дух насилия, жестокости, так полно выразившийся в инквизиции, разливался с Римского Запада по всему лицу земли и проникал жизнь народов, думы и убеждения людей, ложился в основу их систем правосудия, правления и нравоисправления; в то же время, с другой стороны, дух любви Божественной управлял и мыслями, и сердцами, и всею жизнью душ, искренно и самоотверженно служивших Богу Искупителю. Во имя того же Бога Любви столько любви и столько злобы!
И что всего поразительнее: те и другие с полною уверенностью и спокойствием приступали к престолу Божию, словно они одинаково совершали дела Богоугодные. Человек, пылающий властолюбием, жестокостью, ненавистью, простирал свои руки, облитые кровью братий, виновных или невинных, к тому Богу, который всем и все прощает и кровь Свою пролил за всех грешников; и набожный злодей злодеяния свои пересчитывал пред лицом Его как великие заслуги и подвиги во славу Его.
В подвал замка, в довольно просторную комнату со сводами, Заленский привел несчастную черницу, которая с такою искреннею готовностью предпочла мучения и смерть греху. Вместе с иезуитом пришел гайдук гетмана Демьян, еще один гайдук и негр. Среди комнаты висели железные цепи, вдетые в железные кольца в середине потолка, на этих цепях подымали страдальцев на встряску. Иезуит устроил их в последнее время по лучшей системе. В одном углу подвала стоял котел с кипятком и лежали другие орудия для истязания жертв.
Гетман пришел и сел в железное кресло, которое также раскаливали и сажали в него пытаемых. В это время девица казалась не земною: необыкновенное спокойствие души, бодрость, отсутствие малейшей боязни и страха.
– Дай Богу помолиться, гетман!
– Молись!
Девица трогательно читала молитву вслух.
Гетман пожирал ее глазами. На лицах Демьяна и Заленского играла радостная улыбка. Но слова молящейся стали доходить до сердца Мазепы и смущать его, он закричал:
– Ну, полно молиться, Бог простит тебе грехи.
Девица кончила молитву и сама подошла к цепям.
Демьян схватил ее ногу и начал надевать кольцо.
– Постой, я сама надену скорее! – И поспешно надела она кольцо на ногу, потом на левую и на правую руку. Заленский радостно потянул цепи вверх, несчастная повисла в воздухе, упираясь правою ногою в пол.
Гетман сделал знак, чтобы помедлили надевать кольцо.
– Ну, наденьте же кольцо на ногу! – спокойно сказала она.
– Подай сюда прутья, Заленский, раскалились ли они?
Заленский вынул добела раскаленные прутья.
– Посмотри! – сказал Мазепа, показывая несчастной раскаленные прутья.
Девица радостно улыбнулась.
– Добре?
– Да!..
– Ну, тебе это не страшно; так лучше в кипяток, снимайте!
Демьян и Заленский сняли кольца с рук и ног, гетман взял ее за руку и подвел к котлу, в котором белым ключом кипела вода.
– Хочешь купаться?
Девица перекрестилась и готовилась прыгнуть в котел.
– Голубка моя! – воскликнул удивленный гетман, удерживая ее, и страстно впился губами в плечи девицы. Потом, взглянув на окружающих, оставил ее и, проходя подле смеющегося Демьяна, слегка ударил его по плечу и сказал:
– Одень ее и до меня приведи. – Демьян смеялся, хорошо постигая сердце Мазепы.
– Чего ты смеешься, гайдучье племя?
– Ничего, не бойся, это не нашего поля ягода!..
– Не нашего? Ну да постой!
Гетман ушел.
Через полчаса опять несчастная девица стояла перед Мазепою.
– Ну что ж ты меня не мучил?
– Тебя ли мне мучить, я буду тебя как душу свою любить, червона роза!
– Души у тебя давно нет; иезуитам ты ее продал да неверам, християнская ли душа та, которая только и знает, что вешать да головы рубить праведным людям?.. Стыдись, гетман, побойся Бога, не вечно будешь жить на свете; вспомни, что и тебя положат в домовину; хоть ты теперь и ясневельможный пан, а ведь заодно все будем лежать в земле, как лежат уже те, которым ты отрубил головы; ты забыл, что умрешь! Помни, да хорошо помни: и над тобою насыплют могилу, тогда каяться поздно: после смерти нет покаяния! Одумайся, гетман!.. Одумайся, и спаси свою душу!
Никогда еще гетману не приходилось встречать людей, подобных ей. Много перебывало в его руках озлобленно-бесстрашных, которые, заливаясь проклятиями, испускали дыхание, не дрогнув ни в одной из жесточайших пыток. Но тут бесстрашие бесплотных – и немощь девицы, жажда страданий, слово любви на устах, во взорах кротость и нежность, красота телесная и видимая сила Божия во всех действиях, – зачерствелая душа гетмана смутилась. Когда девица заговорила ему о покаянии, он походил на человека, внезапно пробужденного в мрачном подземелье: ничего не видит, не понимает; шум, его разбудивший, смутно отзывается в ушах, нестройные мысли снуют в голове его. В таком состоянии был Мазепа, взволнованный безуспешною борьбою с слабою девушкой, уничтоженный бесполезными угрозами пытки; смягченный, можно сказать, расплавленный, присутствием красоты, столь властной над людьми, подобно ему растленными, – и в то же время невольно уступивший ужасу часа смертного, о котором с такою любовью, с такой силою и мольбою говорили ему.
Гетман задумался, неподвижный взор его устремлен был на девицу.
– Что ж думаешь? Время каяться, гетман! Гетман, Божий суд – страшный Суд: не за себя одного отдашь Богу ответ, а и за всех, которыми управляешь!
Гетман молчал.
– Церкви Божии разоряешь; чернецам, которые за тебя молили Господа, ты головы рубишь, невинных горько обижаешь, всем дал знать себя, одному тебе чтобы было хорошо жить на свете, поживешь десяток лет или два, а там, когда дадут за все дела твои восковой крест в руки, чтоб ты отнес его Господу Христу и похвалился, как гетманствовал во имя Его, – не знаю, будет ли там житье такое тебе, как здесь!!
– Кто ты? Скажи мне, кто ты? – спросил гетман, очнувшись от задумчивости.
– Ты видишь, кто я такая; я та, которая говорит тебе правду!
– Господи Боже, что это стоит перед мной?
– Если бы ты чаще вспоминал имя Господне, в сердце твоем меньше было бы зла.
– Чего ты хочешь от меня?
– Чего ты от меня хочешь? Пусти меня.
– Не пущу. Я тебя буду кохать, ты у меня будешь в золоте ходить, слушай, ты будешь счастлива!
– Одумайся, гетман, что ты говоришь? И ты хочешь сделать меня счастливою, когда сам несчастнейший в свете человек? Ты душегубец, ты безбожник, и после этого – где твое счастие?..
Помолчав немного, гетман сказал кротко:
– Теперь, может быть, я и такой в твоих глазах, но я не безбожник… я одну тебя буду любить!.. Ты гарна!.. Крепко гарна!..
– Люби Бога, делай добро и будет с тебя!
– Буду любить и тебя… я люблю Бога и делаю добро. Скажи мне, что хочешь ты от меня! Знай, что в Бахмаче ты и умрешь, разве я прежде тебя умру, тогда ты вольна на все четыре стороны, а до того я тебя буду кохать, вот мое все счастие, ты будешь жить как гетманша, я перед тобою золото рассыплю.
– Пусти меня в монастырь, откуда взял меня, недобрый человек; я за спасение души твоей буду молить Бога!
– Живи и молись со мною вместе, вот тебе комната, – сказал гетман, растворив дверь в соседнюю комнату, в которой окна были переплетены железною решеткою.
Эта комната была подле спальни гетмана.
Поселилась несчастная. Она проводила почти целые сутки в безмолвии, молитве и строжайшем посте; спала, и то самое краткое время, сидя на полу под образами. Напрасно гетман старался прельстить ее роскошью одежд, мягкостью постели, сладостью кушаньев и напитков. Она ни к чему не прикасалась, стараясь только противостоять греховным помыслам Мазепы и побеждать его страсти.
По желанию заключенной гетман украсил покой ее дорогими образами, подарил ей в роскошном переплете Евангелие, молитвенник и драгоценных камней четки. В первое время он почти беспрестанно вертелся в ее комнате.
Эти дни были тяжки для нее. Мазепа неотступно требовал ее любви; она в его присутствии молилась вслух о его обращении и исправлении. Вначале Мазепа не мог выносить этой молитвы и уходил с угрозами, снова приходил с кротостью: она ему твердила о молитве и о том, как должен гетман вести себя. Мазепа слушал и через неделю реже напоминал уже ей о своей пламенной страсти и часто, вошедши к ней в комнату в то время, когда она читала Евангелие, садился напротив нее и с необыкновенным вниманием вслушивался в чтение; часто случалось так, что она вдруг умолкала, и тогда гетман начинал умолять, чтобы она продолжала. Он говорил, что душа его веселится и он вкушает непостижимую радость и восторг, когда слушает ее чтение Евангелия.
– Благодари Бога, гетман, благодари! – говорила она с веселием. – Царство Божие недалече от тебя, крестись!
И гетман крестился.
– Утром приходи, вместе будем молиться! Слышишь, приходи!
Гетман повиновался и каждое утро являлся к ней как ученик к учителю на молитву; и кто поверит, гордый Мазепа начал смиряться духом. Сначала тут был и коварный умысел с его стороны: «покориться ей, чтоб после покорить ее», и, будто бы умиленный от ее слов, он начинал медоточивыми словами и вольными движениями ласкать ее, но тут же встречал искренно-строгие, величественные запрещения и незаметно более и более поддавался невольному уважению к ней, которое, наконец, совсем его обуздало.
Так проходили дни за днями. Гетман смотрел уже на заключенную не теми глазами, которыми он смотрел вначале; он уверился в твердой преданности ее к Богу, ясно начал замечать на себе благотворное влияние ее присутствия и незаметно привык во всем ей повиноваться и угождать ее желаниям. Он не спрашивал более, кто она такая, слушал ее, и в душе его зарождалось чувство любви духовной.
Однажды он вошел в ее комнату, девица ела просфиру с водою.
– Долго ли ты будешь так поститься?
– Благодатию Божией, всегда. А ты не только не постишься, да и не постничаешь и посты презираешь? А вся Гетманщина их верно соблюдает: в среду и пятницу никто не ест скоромного, как ты; вот и пример подаешь: ты полагаешь, что малороссияне не смотрят на это? Они тебя хуже всякого считают; и евреи, говорят они, исполняют закон, а гетман так нет!
– Отныне я в среду и пятницу постничаю!
– Телом постничай, душою постись!
– Душою и телом!
– Смотри же! Не лги пред Богом, страшно покарает. Ну, становись, будем молиться.
Мазепа становился перед образом, девица возле него. Она громко читала молитву, и гетман молился действительно с сокрушенным сердцем.
Прошел год со дня пребывания девицы в Бахмаче, и народ начал поговаривать, что в гетманском замке живет благословенная душа, что все счастливы, во всем не только довольство, но видимое изобилие, все здоровы и веселы; сам гетман стал необыкновенно добродушен и ласков, чего в прежнее время вовсе не замечали. На Троицкой площади в Батурине не стояла уже виселица и не лежала окровавленная колодка на подмостках; народ начал забывать казни; бунты, бывшие до этого, прекратились. Сам гетман уже не призывал Заленского, но и не отсылал его; хитрый иезуит не на шутку боялся, чтобы верная добыча не ускользнула из рук его. Он нарочно выдумывал опасности и приезжал стращать ими гетмана. Вначале гетман легко поддавался внушениям иезуита, но, посоветовавшись с девицею, он всякий раз меры жестокости заменял мерами кротости, и сам видел на опыте, что это лучше и надежнее. Иезуит стал терять свою важность в глазах Мазепы: он принимал его реже, беседовал с ним холоднее, после решительно тяготился им, наконец сказал ему, что он сам его позовет, и он уже больше не принимал его. Иезуит от отчаяния даже Богу молился, чтоб Он обратил сердце Мазепы от погибели и помог бы ему, Заленскому, извести врагиню Царства Иисусова – девицу!!!
Пролетел еще год. Девица по-прежнему каждое утро молилась вместе с гетманом. Мазепа по средам и пятницам постничал, в субботу стоял на всеночной и нередко сам пел на клиросе, а в воскресенье в замковской церкви всегда читал Апостола.
– Слушай, гетман, ты много исполнял моих просьб, исполни еще несколько: года два назад ты обещал рассыпать передо мною кучи золота, отдай теперь это золото на церкви и монастыри, раздавай и нищим; знаешь, ты не молод: пора тебе собирать богатство для жизни на том свете. Послушай меня, гетман, и увидишь, Бог осчастливит тебя и здесь.
Щедрою рукою посылал гетман вклады в Киев, в Лавру, во Фроловский монастырь, в Полтавский женский и мужской, в Переяславль и другие города, в Батурине заложили две церкви, в Ромнах, Лубнах, Золотоноше, Хороле, Прилуках, Чернигове и Нежине. В Батурине не было ни одной церкви, в которой бы Мазепа не оправил иконы в серебряные и вызолоченные оклады.
Гетман и девица наезжали в Киев на поклонение святым угодникам. Там от неизвестного положил он богатые вклады для вечного поминовения всех умерщвленных в его гетманство. Поддерживал Академию.
Духовенство примирилось с Мазепою. Малороссия отдыхала, также примирилась с гетманом и благословляла его. В часы искушений Мазепа строил великие будущие замыслы на такой любви народной.
XIV
Под навесом дома, на крыльце, обращенном в сад, на широком мягком тюфяке и подушках отдыхала в тени, после обеда, Любовь Федоровна; перед нею на тарелках с голубыми полосками лежали: ярко-красный разрезанный сочный кавун, душистая золотая дыня и цельник белого как снег ароматного меда.
У ног Кочубеевой сидела Мотренька, в одной руке держала кусок кавуна и ела, а в другой довольно длинную липовую ветвь, которою отгоняла докучливых мух, садившихся на мать. Любовь Федоровна то закрывала сонные глаза, то, немного открыв их, сквозь ресницы смотрела на серенькую любимую свою кошечку, которая играла в смородинном кусте с птичкой.
– Мамо, я побегу возьму у кошечки птичку?
– Сиди, не бегай, пусть играет; смотри, как играет кошечка.
– Она задушит птичку, я, мамо, отниму у нее!
– Сиди, я говорю! Что тебе так жалко птички!..
Кошка придавила лапкой птичку, прыгнула на нее, птичка, разинув клюв, лежала на земле неживая.
– Жаль птички, мамо!
– Сиди и мух отгоняй.
Кошка схватила птичку и убежала с нею в сад.
Мотренька чуть не заплакала, прижалась к матери черною головкою и закрыла плутовские глазки.
Под навес вошел Василий Леонтиевич, куря люльку.
– Вот здесь и не жарко, холодок, тень и мух меньше! – сказал он, садясь у ног Любови Федоровны.
– Где ты был сегодня целое утро?
– В Бахмаче у гетмана; в замке служили молебен и святили воду, гетман стоял на коленях и усердно молился.
– Ну а коханка его была?
– Была!
– И лицо закрыто?
– Закрыто!
– Чем?
– Черным покрывалом, и сама вся в черном!
– Говорят люди, что она ни перед гетманом, ни перед кем не открывает лица.
– Ни перед кем.
– Как бы мне ее увидеть?
– Тебе можно, перед женщинами она всегда без покрывала.
– Поеду к гетману, поеду завтра, заставлю, чтобы повел меня к ней!
– Гетман крепко переменился: стал богомольный, то и дело приказывает строить церкви, сам нанимает мастеров, сам пишет в Киев, чтоб присылали образа, а прежде, как не было этой женщины, что он творил!
– Не хвали, сделай милость, своего гетмана, а то перехвалишь, давно обещал тебя сделать наказным, а Самуся сделал, после этого и гетман правдивый?! Василий, Василий, сердце у меня не болело б, если бы он справедливо поступал для нас; с другими, что хотел, пусть бы то и делал, честил бы только меня с тобою, так нет, ты служишь ему верою и правдою, а все нет никаких заслуг. Скажи мне, Василий, сделай милость, скажи по правде, думаешь ли ты когда-нибудь гетманствовать?..
Любовь Федоровна вперила в Кочубея черные свои глаза и, казалось, хотела проникнуть во все сокровенные мысли его сердца.
– Как Бог даст, Любонько!
– Как Бог даст!.. Так и бестолковый сумеет отвечать! Горе мне с тобою, да и только; не слушал ты меня в прежние годы, а давно бы Любоньку твою ясневельможною титуловали, давно б и в твоих руках блестела булава… а теперь, вот и знай, судья да и судья, и будет с тебя… Ох! Ох! Ох!.. Василий, Василий, жалко мне и тебя, и себя, и детей наших!..
– Е-е-е! Любонько, чего ты еще хочешь, скажи пожалуйста? Кто с таким достатком, как мы, у кого всегда и хлеб и соль для добрых и честных людей ведется… тебя и меня без гетманства все поважают… тебя и так все любят. Цур и век тому гетманству, – пусть она Ивану Степановичу! Благодарен милосердному Богу, я и так всем доволен.
– Доволен! И гетманства не хочешь?
– Да!.. Да…
Кочубей покривился, почесал затылок и скоро договорил:
– Да… хоть и так, что и в гетманы не хочу! Которому гетману на добро пошло гетманство и добром кончилось? Того сменили, того срубили, того извели, того сослали – хоть бы Самуйлович, то ли был не гетман и батько добрый! Как сыну родному добро мне делал… вот, по твоей милости… ох-ох-ох!
Любонька ощетинилась. Кочубей присел и замолчал, чуя грозу.
– Брешешь, Василий, как собака брешешь!
– Не брешу!
– Все ты мне Самуйловичем своим колешь глаза… я этого не терплю… ну, что твой Самуйлович! Дурный был, так Бог и покарал его, тебе же я добра хотела… сам же всему виноват, да меня и попрекаешь… добро!.. Теперь я и не знаю, что после этого сказать… так после этого ты не муж мне, а я тебе не жена! – сердито сказала Любовь Федоровна.
– От чего так?
– От того так, что… ты не хочешь того, чего я хочу!
– Смешное дело!
– Тебе все смешное!..
– Да как же ты хочешь, Любонько, чтоб я был гетманом, когда у нас есть гетман, ну, рассуди своею головою, что говоришь!
– Что ты кричишь, оглашенный, ну что ты кричишь! У гетмана выучился! О… я не люблю этого… у меня держи ухо востро!..
– Да я, Любонько, не кричу!..
– Ну… ну… ну!.. Ты слушай, что я говорю, да на ус себе мотай!..
– Да слушаю!
– То-то!..
– Ты, Любонько, все сердишься да сердишься!..
– Ну чего ты до гетмана ездишь каждый день, скажи мне Бога ради?..
– Да как же мне не ездить, когда я Генеральный судья!
– Если бы у тебя доставало в голове, заставил бы всех до себя ездить и принимал бы гостей, как принимает гетман или хоть и московские паны… а то все рассказывают, что Кочубей богатый да богатый пан!.. Не в том дело, мое серденько, и чумак богат и знатен… нет, ты заставь, чтоб все говорили о тебе как о великом пане, знатном воеводе, – вот это другое дело, тогда послышат и в Москве, станут выбирать гетмана – и Кочубея вспомнят… Мазепа твой недолго погетманует, помяни мое слово: пока у него ведьма живет, до тех пор он и счастлив, а пропадет она, все по-старому пойдет, тогда не удержаться голове его на плечах… вот, и отдадут тебе булаву.
– Нет, Любонько, то не ведьма… а благочестивая душа!
– Знаю я этих благочестивых!.. Что лицо свое хусткою закрывает? Это еще не благочестие, а с гетманом в одной комнате спит, где же благочестие?..
– Рассказывать все можно, а доказать, так и не докажут! Присмотрись – увидишь, как гетман переменился с того часа, как она стала жить в Бахмаче; довольно того сказать, что гетман держит все посты и три раза в год говеет, а мы с тобою два раза, вот оно, и ничего кажется, а далеко отстали от гетмана; он везде строит церкви, а мы третий год собираемся свою поновить, да вот все не соберемся… вот наше благочестие!.. Спаси и помилуй, Господи.
– А ну тебя, иди отсюда и не мешай мне с Мотренькою отдыхать!
– То-то!..
Кочубей ушел в сад и, пройдя две излучистые просади, поворотил налево, вошел в беседку, обвитую ярко-зеленым хмелем, и прилег на дерновую скамью. Тысячи мыслей теснились в его голове, воспоминания о минувшем навели на душу его черную тоску. Живо представился ему Самуйлович – Кочубей вскочил, и, сидя на скамье, склонил голову, подпер ее руками, долго думал, тяжело вздыхал. Сердечная мука его выражалась отрывистыми речами с самим собой.
– Боже мой! Боже!.. Горе мне на сем свете… страшный сон я видел… уж не умру ли я?.. Я должен умереть! Да, я умру и скоро, положат меня в домовину… насыплют и надо мною высокую могилу… ох!.. Господи Боже мой!..
Лицо его приняло страшное выражение, сердце сильно трепетало в груди, он привстал и перекрестился.
– Умру… и что будет на том свете?.. Я страшный грешник… надо покаяться, пока живу еще!..
Благая мысль покаяния недолго удержалась в душе его. Условия покаяния ужаснули его: вмиг представилась ему необходимость оставить всякий путь неправды и суеты и жить праведно; подеять все подвиги и труды покаяния, отречься от самого себя, подражать святым, – дыхание у него сперло, холод пробежал по жилам, – еще миг: и уже в глазах его играло сияние гетманской булавы, – кругом его паны, графы, бояре, – вот он беседует с королями – все перед ним благоговеет – Любонька его всех принимает как царица, а сама такая важная! И говорит: «Мой Василий Леонтиевич – гетман, друг московского царя!»
Он начал успокаиваться, и мысли его остановились на славе гетмана.
– Да, если бы и я был гетманом… и я был бы в славе и почестях у царя и бояр. Даст Бог, Мазепа пойдет на тот свет, и булава его будет в моих руках…
В беседку вбежала Мотренька; ей было тогда двенадцать лет, но уже необыкновенная красота лица ее поражала всякого; мать и отец были от нее без ума.
Каждый день, а иногда и несколько раз на дню, мать сама расчесывала черные как смоль, густые волосы на голове Мотреньки, приглаживала прелестные, тонкие дуги ее соболиных темных бровей, целовала карие ее очи, розовые губки, любовалась ею и не могла налюбоваться.
Мотренька и Василий Леонтиевич вышли из беседки в дом к приехавшим гостям и дорогою разговаривали:
– Хотя бы ты, доню моя, мое сокровище, была гетманшею и то бы мое счастие!
– Гетманшею, папо?
– Да, серденько мое, гетманшей, я бы ручку твою целовал!
– Буду, папо, буду!.. Дай я тебя поцелую!
Мотренька бросилась на шею отца, обняла его своими ручонками и поцеловала.
– Твоя сестра Анюта счастлива, пошли Господь тебе еще большего!..
– Я люблю тебя, папо!
– Добре, душко!
Утром на другой день Любовь Федоровна вошла в комнату Мотреньки, которая беспечно спала, перекрестила ее три раза, поцеловала глазки, губки и сказала:
– Вставай скорее, Мотренька, поедем в Бахмач к крестному отцу твоему.
Мотренька быстро приподнялась, перекрестилась и в ту же минуту начала одеваться. Для нее не было радостнее того дня, в который она ездила к крестному отцу в Бахмач или когда сам Мазепа приезжал в дом ее отца. Иван Степанович любил свою крестницу как доброе, послушное и умное дитя, любил и потому, что Мотренька была привлекательной наружности. Всякий раз, когда Мазепа приезжал к Кочубею, привозил крестнице разные лакомства, игрушки и другие подарки, когда же привозили ее в Бахмач, Иван Степанович ничего уже не жалел для нее и нередко делал ей весьма значительные подарки. И поэтому-то Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна считали себе за непременный долг всякий раз, когда ездили в Бахмач и в Батурин, к гетману, привозить и Мотреньку.
На этот раз Любовь Федоровна принарядила дочь в новую шелковую кофточку, надела червонную плахточку, шелковую, с золотыми цветами юбку, повязала голову широкою и длинною голубою лентой, в косу вплела до десяти разноцветных ленточек; сама Любовь Федоровна оделась в польское платье, – она позволяла себе, как знатная пани, изменять народный свой костюм; села в кибитку, взяла пшеничный хлеб и поехала с дочерью в Бахмач, поспешая застать обедню; однако же как ни спешили, а все приехали после херувимской.
Вошли в церковь, гетман стоял у клироса и пел вместе с другими.
Налево у стены на коленях стояла девица, одетая в длинное простое бедное одеяние черницы; лицо под покрывалом; сложив на груди руки, она смотрела на образ Пречистой, и крупные слезы катились по ее щекам.
Любовь Федоровна внимательно смотрела на нее, ловила минуту – не отпахнется ли покрывало, и думала:
– Фарисейка! Перед Богом, так и закрылась, чтобы видели все: «Воть-де я какая святая!» – и чтобы еще более привлечь к себе гетмана… гляди, еще вздыхает… кажется, и плачет… утирается… не верю твоим слезам и твоим чувствам – недаром живешь в Бахмаче!.. Сквозь покрывало вижу, какая ты красивая…
А девица истово молилась.
Кончилась обедня. Священник поднес гетману просфиру: Мазепа, приложась ко кресту, принял святой хлеб. За ним приложилась к образам Любовь Федоровна, Мотренька потом, выждав других, и девица, – сдвинула уголок своего покрывала и, приложившись ко всем образам, подошла ко кресту и тотчас же опять закрыла лицо свое.
Иван Степанович, по обыкновению, принял дорогую куму с распростертыми объятиями, крестницу свою несколько раз поцеловал.
Гетман пригласил всех бывших в церкви к себе перекусить. Любовь Федоровна более уже не видела девицы в церкви: та прежде всех вышла; несколько раз порывалась она спросить гетмана, что это за таинственное существо. Но никак не решалась, боясь рассердить Ивана Степановича.
Иван Степанович, взяв за ручку Мотреньку, повел ее в комнату девицы.
– Посмотри, вот моя крестница; какая хорошенькая!
Девица, перекрестив Мотреньку, поцеловала ее, усадила подле себя и начала ее расспрашивать: умеет ли она молиться Богу, читает ли священные книги, любит ли отца и мать? Делала ей наставления, вразумительно рассказывая, что будет за исполнение всех обязанностей христианских и что будет с грешниками.
Мотренька слушала ее с величайшим вниманием; беседа девицы так понравилась ей, что она готова была остаться с нею целый день: она полюбила ее; с первого раза они дружески расстались, девица на память подарила Мотреньке кипарисовый крестик, привезенный ею из Киевской Лавры. Мотренька была в большом восторге.
В гостиной в то же время Любовь Федоровна говорила гетману о своей к нему любви и дружбе. Иван Степанович слушал ее и, в свою очередь, доказывал, что нет в целой Гетманщине людей, которых бы он так высоко уважал и так искренно любил, как Василия Леонтиевича, Любовь Федоровну и все их семейство.
– Вы родные мои, как мне вас не любить; да еще люди добрые, каких больше нет и не было у меня! Любовь Федоровна, мать моя родная, как мне тебя не любить, благодетельницу мою. Я тогда только и рад и весел, когда сижу и говорю с тобою или с Василием Леонтиевичем.
– Иван Степанович, я не буду говорить тебе, как я и Василий Леонтиевич любим тебя, ты сам знаешь!
– Знаю, моя благодетельница, ей-же-ей, знаю!
Отобедав у гетмана, Любовь Федоровна с Мотренькою уехали; вслед за ними разъехались и прочие гости. Черница во все время не выходила.
– Гетман на языке, как на цимбалах, играет, а в душе его сам косматый сидит, – сказала Любовь Федоровна Василию Леонтиевичу, возвратясь из Бахмача, – целый день все одно да одно твердил, что любит нас больше всех на свете, что мы ему самые ближайшие родичи, что он никого другого и знать не хочет, и, Господи Боже, воля Твоя святая, чего еще не турчал он… Да и я ему то же самое… а что на сердце у него и у меня! Что, как бы он да посмотрел в сердце мое!.. Того же и стоит гетман!.. Хотя, Господи прости, он и родич наш!..
– Нет, Любовь Федоровна, грех сказать, он любит нас; а Мотреньку, так сама знаешь – родную дочку свою не любил бы так, как любит ее.
– Это так, она его крестная дочь, а сестра ее за племянником гетманским – чего же хочешь больше!
– Да оно так!
– То-то, что так! Черница, что живет у гетмана, подарила Мотреньке кипарисовый крестик, благословила ее и научала, говорит Мотренька, Богу молиться.
– Видишь, это не какая-нибудь, знаешь, такая… что хоть бы и не знать!..
– Да так! Но для чего же она живет в Бахмаче?
– Не знаем, на то воля гетманская!
– Полюбила Мотреньку!..
– Спасибо ей!
– Да, спасибо! Просила, чтоб Мотренька приезжала к ней.
– В праздник и поедет, что ж; она ее на добро учит.
– Так, так!..
И часто Мотренька ездила в Бахмач с матерью и с Василием Леонтиевичем или даже – с самим гетманом, который, приезжая к куму своему, выпрашивал у него крестную свою дочь погостить в замке его на неделю и более.
Бывало, сядет Мотренька рядом со стариком гетманом в берлин и – дитя еще, а старается уже придать лицу своему важность; она понимала уже гордиться тем, что поедет с гетманом в берлине, когда никто другой не удостоивался этой чести; и Василий Леонтиевич, стоя на крыльце и провожая гетмана, смотрел на дочь свою, радостно улыбался, замечая серьезное лицо ее, и думал про себя:
«Недалеко яблочко откатится от яблони! Молоденькая еще, а уже все страсти матери… лихо с тебя будет… ну, да расти здоровая!..»
И покатит берлин в Бахмач, и всю дорогу Иван Степанович, по праву крестного отца, то и дело любуется, глядя на милое дитя, целует Мотреньку в глазки, в ямочки розовых щечек и прелестные губки, – и не нацелуется. Целовало и дитя старого седого старика, и незаметно для обоих мелькали грани да вехи, и берлин неожиданно подъезжал к высокому рундуку Бахмачского замка, и во все время пребывания Мотреньки в замке играет музыка, танцуют гайдуки, поют девчата, и гетман сердечно бывал весел и доволен сам собой. Утром Мотренька сидит в комнатах девицы, и гетман с ними же, девица читает Евангелие, они внимательно слушают. Мазепа тяжко вздыхает и часто крестится, – эта набожность его была непритворная.
Мотренька полюбила девицу, она во все продолжение пребывания своего в замке сидела с нею; часто, слушая музыку, глядя на танцы, Мотренька скажет, бывало:
– Тато, мне скучно здесь… пойду к ней?..
Приходило время уезжать Мотреньке из замка, и не радостно садилась она в бричку; веселее, конечно, было ей, когда сам гетман отвозил ее, в чем он никогда и не отказывал ей, если была только возможность исполнить ее желание.
Одним вечером Мотренька уехала домой в Батурин, и гетман, простившись с нею, в грустном раздумье вышел в сад и сел под тенью трех ясеней, из одного корня выросших. Деревья эти стояли у самого берега светлого Сейма. По голубому небу катилась луна и ярко светила. Иван Степанович, склонив голову на руку, начал прислушиваться к песенке, которую наигрывал вдали на свирели пастух. По Сейму скользили, одна вслед за другою, душегубки, рыбаки закидывали сети. Вдруг на одной из лодок он увидел сидящего монаха; это удивило его и привлекло внимание, он смотрит на лодку – лодка все ближе и ближе приближается к саду, к тому месту, где постоянно причаливал гетманский челнок. Душегубка, в которой сидел монах, была уже у самого берега; Мазепа мог даже несколько рассмотреть черты лица инока; ему показалось, будто он где-то видел такого, но не мог вспомнить, кто именно и из какого монастыря был этот отшельник. Между тем гребец, не приставая к берегу, исподволь поворотил душегубку, проплыл поперек реки – и скрылся в камышах.
Долго сидел Мазепа у берега, разгадывая, кто такой был монах, зачем и куда он поворотил.
На другое утро, по обыкновению, Мазепа пришел к девице.
– Вчера я сидел в саду и видел, какой-то монах катался, что ли, в душегубке, но, не приставая к берегу, проехал мимо.
– Ты этого монаха видел?
– Видел, светло было.
– Молодой или старик?
– Старик, борода длинная и белая!
– Не знаком тебе?
– Кажется, где-то я видел его, не помню.
Гетман чрез минуту вышел из комнаты.
XV
Солнце зашло за синие горы, сумрак спускался на землю, вечерний ветерок разнес запах медунки и других цветов; пастух, играя на сопелке, гнал с поля стадо, жницы возвращались в хаты, торопясь топить печки да вечерю и обед на завтра варить; обедают во время жатвы до восхода солнца, когда же старательной хозяйке успеть приготовить все для обеда: не один же сварит борщ с капустою и салом! В огороде растет пшеничка, а в хиже есть творог и сметана, и пшеничку можно сварить, и вареники приготовить.
Пришли в хаты, подпалили в печках, запылала солома, и дым желто-серыми густыми клубами заклубился из высоких плетеных труб, украшенных сверху вырезанными из дерева петушками. В Батурине повеселело: на улицах поднялся шум и гомон, где-негде бандурист заиграет на бандуре, и вокруг его соберутся девчата, начнут смеяться, запоют, их обступят хлопцы да парубки, вот и весело. А там под хатами соберется громада, старые люди: деды да батьки поседают на колодки, обопрутся на длинные палки и начнут вспоминать про славные дела храбрых казаков запорожских, хвалить минувшие годы, и спокойно дымятся под носами их коротенькие люльки. Вот так бывало когда-то в Батурине, в столице гетманской.
У Генерального судьи Василия Леонтиевича Кочубея славный сад был в Батурине: березы, клены, липы, яворы, дубы в три охвата, вязы, калина, бузок… и не перечесть всех названий деревьев, которые росли в саду; а цветов: розы, зинзивера, ноготок, пивонии, зирочек и всяких других, – девчат батуринских всех можно бы заквечать, и сад еще был бы полон цветов.
Часто знатное казачество гуляло в саду Генерального судьи; он всем позволял гулять в саду, да Любовь Федоровна не такая была пани: сроду сердита, не любила простых людей, хоть и сама была не крепко письменна, да зато горделивая, – что же делать, и Василию Леонтиевичу доставалось от нее, часто бедный приглаживал свою чуприну, все терпел, сердечный; другой раз и жаль было его, человек смирный, добрый, пан знатный и богатый, а что лучше всего, набожный: как только услышит, что благовестят в церкви, надевает жупан, берет палку, шапку, да скорее и поспешает: не успеет еще и ктитор прийти, а Василий Леонтиевич ставит свечи перед святыми иконами да кладет земные поклоны; любили ж и его паны-отцы: кончится служба, смотришь, отец Гавриил или замковской Помпий сам несет ему на серебряном блюдце великую, великую просфиру. Василий Леонтиевич возьмет ее, перекрестится, приложится к кресту и потом чинно выходит из церкви: казачество, в белых свитках, в червоных чеботах, подпоясанное красными поясами, кланяется низко Генеральному судье; все казаки знали его, да как же и не знать пана доброго, богатого и после пана гетмана старшего в Гетманщине; да к тому же еще, часто, бывало, говорили люди, что после Ивана Степановича никому другому не приходится отдавать булаву, как Кочубею, да и сам пан под веселый час проговаривался.
«Кому, кому, – думали казаки, – была бы тогда утеха, а Любовь Федоровна не знала бы, что и делать от радости; горда пани – себе на роду – хочется быть гетманшею, может статься, и будет; что же, не диво: полюбят московские паны, так и все что захотела, то и сделают, – за примером далеко ходить не надобно: в Батурине есть мурованные будинки, а в будинках живет Иван Степанович. Нехай ему легко сгадается».
Так рассуждали казаки, сидевшие под хатами; а в этот час Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна сидели вдвоем на рундуке, который выходил на двор, и смотрели на возращавшийся с поля народ.
– Ох… Боже мой, Боже!..
– Чего тебе так тяжко, сердце мое?
– Так, душко!
– Скажи, серденько мое, чего в самом деле ты сумуешь?
– Ох… Боже мой, Боже, как же сердце мое не будет болеть, когда нашему нечестивому гетману с Москвы шубы за шубами, жупаны за жупанами шлют, да все шубы соболиные, да с диаментовыми гудзиками, алым аксамитом покрытый; все говорят, что он такой теперь боярин, как был Голицын: голубая лента на жупане и цепь золотая с орлами, а титулов, Боже, Боже – и все-то православный царь ему надавал.
– Царь, говорят, любит его больше всех в своем царстве, а если б знал царь, кого он любит!..
– Так, Любонько, за это и Бог не прогневается, когда мы будем говорить, что гетман не такой, чтобы любил его царь. Громада толкует, что Мазепа на беду всем снюхался с королем шведским и Станиславом Польским.
– Вот еще, что запели! Я первый раз от тебя, Василью, это слышу.
– Так, так, мое серденько, я и сам не верил, да в Полтавщине был твой родич Искра, говорил мне об этом, был в тот час и поп Святайло, и тот подтвердил, сами они слышали от казака, мне поп Святайло сказал и прозвание того казака, да вот, дурная память, из головы вон… постой, вспомню… как, бишь, зовут этого казака… Петро Яценко, так-так, Петро Яценко, перекрест, богатый арендатор, и в Ахтырке есть у него аренды. Вот он и говорил, что часто казаки приходят в корчму, под веселый час, напившись горелки, и начнут говорить про гетмана: один, что он слышал, будто гетман польскому королю хочет отдать Гетманщину, другой – шведскому, кому б то ни было, а все он изменит православному московскому царю.
– Молчи, Василию, до времени, да старайся все проведывать потихоньку, а будет случай, так царю донесем.
– Ох, страшно, Любонько, Бог с ним совсем, ты разве не знаешь, что прав не прав казак, даже и чернец, а всем, кто слово сказал, что гетман недоброе думает, головы отрубливали да вешали тело на виселицах, а головы на шесты… давно разве это было?!
– Вешали и головы отрубливали тем, которые не умели как донести; будет время, я сама все сделаю, ты только слушай меня.
– Добре, Любонько!
– То-то, добре! Ты, Василию, не забудь, что после Мазепы непременно булава должна быть в твоих руках, с этою думкою вставай и ложись спать, да Богу молись!
– Добре, Любонько!
– Будешь, говорю тебе, гетманом, хотя бы ты сам не захотел этого, так я есть у тебя, мне нужно, чтобы ты был гетманом, вот и все!
– Добре, Любонько!
– Когда ты ездил до гетмана в Гончаровку, приезжал сын судьи Чуйкевич, и что ты себе хочешь, все трется да мнется подле Мотреньки; она-то и знать его не хочет, видеть его не может, а он так как индык перед индычкою… смех, да и только; Мотренька знает: как будет батько гетманом, так не Чуйкевич женихом будет!.. О, моя дочка любит славу… люблю и я ее за это, люблю.
– Мотренька, дочка моя, нечего сказать, славу любит; я сидел в шатре: Мотренька, да старшая дочка Искры, да Осипова, взявшись за руки, ходили по саду и рассказывают: Мотренька говорит: «Я бы ничего в свете не хотела, если б была за гетманом, тогда бы меня все поважали, в сребре да золоте ходила бы я, каждый Божий день червонные золотом шитые черевички надевала бы, а намиста, Боже Твоя воля! Какого б тогда не было у меня намиста; а что всего лучше, все знали бы меня в Гетманщине, знали б и во всем свете: говорили бы: Мотренька жинка гетманская; короли ручку у меня целовали бы!» – а Искрина да Осипова все подтверждают ей, вот такия-то девчата! Да и ожидай от них добра: впереди матери невод закидают!!!
– Хорошо делают: умные девчата, знают свое добро!
– Ты, Любонько, говорила, что Чуйкевич подле Мотреньки увивается?
– Я ж тебе говорю, как индык перед индычкою, бедная Мотренька места от него не найдет.
– И дочка не скажет ему, что в огороде у нас гарбузов растет вволю.
– Да видишь ли, Чуйкевич ничего не говорит об весильи, а то давно бы в бричке его и не один и не два лежали бы гарбуза, да еще с шишками, настоящих волошских!
– Правду сказать, если бы всем женихам Мотренькиным давать гарбузы, так в огороде у нас давно бы ни одного не осталось.
– Слова твои на правду похожи!
– Подумай, сколько уже женихов было, и всем то гарбуз, то политично откажем, и одни с гарбузами, другие с носами возвращались домой.
– Так когда-то было и со мною, пока я не вышла за тебя! – сказала Любовь Федоровна и покачала головою. – А ох, лета мои молодые, лета мои молодые, не воротитесь вы никогда! А как згадаю, когда молода была, так сердце надвое разрывается!
– Эх, Любонько, что прошло, то минулось!
– Знаю песню эту и без тебя, Василий! Когда бы Господь хоть на старости лет порадовал, чтоб булава была в наших руках!
– Не состарилась, Любонько, Господь Бог пошлет еще радость!
– Дай Господи! Да раз уже Мазепа задумал подружиться с поляками, шведами да татарами, то не будет долго гетманом!
– И я такой думки. Где Мотренька, целый вечер не видал ее?
– Сидит где-нибудь под деревом в саду и поет; с того часа, как Чуйкевич начал волочиться за нею, она как переродилась: с утра до вечера сумует да сумует.
– Так, так.
– Пойду посмотрю, что она делает!
Любовь Федоровна вошла в сад и, переходя из просади в просадь, остановилась у самого спуска горы, где протекал прозрачный Сейм; полный месяц катился над рекою и, купаясь в волнах, осребрял их своим лучом. Послышалась песенка. Любовь Федоровна начала вслушиваться, ей показалось, что кто-то поет у самого берега; тихо спустилась она к реке и видит: Мотренька стоит у самого берега, берет посребренную месяцем воду на гребенку, чешет против месяца свою черную густую косу и что-то тихо говорит.
Любовь Федоровна поняла, что делает Мотренька, и внимательно прислушалась к ее словам.
Мотренька произнесла имя Ивана.
– Ага, вот как наши знают! – сказала Любовь Федоровна про себя, тихо взошла на гору и, пришедши к Василию Леонтиевичу, спросила:
– Знаешь, где Мотренька и что она делает?
– Не знаю!
– Против месяца, у берега косу чешет: полюбила Ивана, какого же – Ивана?
– Да это все выдумки девичьи.
– Нет, Василий, не выдумки, не говори этого; ты не знаешь, она брала гребенкою воду, в которой месяц купался, расчесывала косу, – и как раз полюбит ее тот, кого она любит, а кого не любит она, тому и свет будет не мил!
– А, Любонько! Не знаю! Не мое дело!
– Кто же тот Иван, у нас и гетман Иван, не он ли, чего доброго! – усмехаясь, говорила Кочубеева.
– Уж начала звонить!
– Чего звонить! Ты знаешь, Василий, что Мотренька Мазепу любит, если правду сказать, так больше, чем тебя! Ты ей родной батько, а Мазепа только крестный!
– То нам так кажется!
– Нет, не кажется!
– Пусть здоровая будет, пусть любит кого любит! Будь он добрый, умный, достаточный человек, так и рушники подаем.
– Пора б уже, слава богу, восемнадцатый год наступает; да десять, когда не больше, женихов с гарбузами отправила!
– Все воля Его Святая!
– Поздно уже, пойдем, спать пора.
Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна ушли.
XVI
Ходит по саду одна-одинешенька Мотренька и жалостно поет. Сядет под березою, склонит прелестную головку на белую ручку, смотрит на сорванную, только что распустившуюся розу и жалеет, что завянет она не на родной ветке; вздыхает, а сердце ее плачет, горько плачет; невесело ей на свете, и горя она не знает, слезы льются из черных очей… пусть льются, сердцу легче, – ни мать, ни отец не увидят их, не увидит их никто из людей, да и не засмеются…
Не сирота Мотренька, есть у нее отец и мать, знатные люди, да что, они не помогут в ее горе, сердце болит без милого: на что тогда и счастье, на что и самая жизнь, без милого все могила.
Но где ее милый, в какой стороне, не москвич ли белолицый со светлыми усами? – не потому ли Мотренька тоскует, что уехал он в московщину, не ляха ли полюбила, что в красном аксамитовом кунтуше часто приезжал до гетмана? Видно, ляха! Ибо идет Мотренька к гетману и радостно смеется, надеется увидеть коханого… Но ляха не Иваном зовут; где же Иван, которого она полюбила? Ни отец, ни мать и никто не знает, а Мотренька все горюет да горюет.
Три дня бедняжка сидела в саду, да тихонько, чтобы никто не видал слез, плакала, три дня сильно тосковала, встанет рано, помолится Богу, поцелует руку у матери и отца, тихонько отворит двери в сад, да была такая! И нет; мать спрашивает, где Мотренька? Из одной комнаты в другую пойдет – нет дочери.
– В сад ушли панночка! – ответит девка, услуживавшая Мотреньке.
– Плакать! Пусть плачет: как и я была молодою, плакала и я, пусть плачет, сердцу легче будет! – скажет Любовь Федоровна, сядет на диван, поджав под себя ноги, вяжет чулок, сидит молча и думает: как она будет угощать гостей на Мотренькиной свадьбе.
А Мотренька в саду то песенку веселую запоет, то вдруг горько заплачет, то печально запоет и засмеется, то горько засмеется.
– Когда бы я знала, когда бы я видела того Ивана, сама бы привела в церковь и поставила бы с дочкой в парочке, только б Мотренька моя не тосковала… жаль дочки, да что ж делать, не знаю я Ивана… а спросить не хочу, не скажет, сама я знаю, и еще больше затоскует…
– А я знаю, какого она полюбила Ивана! – сказал Василий Леонтиевич.
– А какого, скажи, когда знаешь?
– Москалика!
– Так и есть, горе ж мое, горе, да тяжкое горе! Горе отдать за него Мотреньку: повезет, недобрый, в далекий край, не повидят ее больше мои старые очи, не прижму ее к своему сердцу… горе, тяжкое горе! А подсунуть москалику гарбузец, затоскует моя дочка не так, как теперь тоскует; когда б знала, что москалика полюбит, лучше б в Батурине не жила; когда б знала, что будет так горевать, лучше б маленькою заховала. Кого бы ни полюбила, рада б отдать дочку, не за москалика!..
– Полюбила, да и разлюбит!
– Ты не знаешь девичьего сердца! – вздохнув, сказала Любовь Федоровна и только было хотела пойти к Мотреньке, как гайдук вошел в двери и сказал, что приехал гетман.
– Вот тебе и снег на голову… и не ждали и не думали!
Василий Леонтиевич побежал надеть жупан, Любовь Федоровна вышла встречать кума.
– Здравствуй, добродейная моя кума, здравствуй, радости моей радость! Душа веселится, сердце несказанно торжествует, когда очи мои видят тебя, Любовь Федоровна!
Мазепа несколько раз с жаром поцеловал руку Любови Федоровны.
– Кум, дорогой кум, давно ты не был у нас, забыл нас, своих родичей; грех, ей-ей-же, грех… не люблю тебя за это!
– Мать моя родная, ей-же-ей, царские дела, ни день ни ночь покоя нет!
– Зачем же ты не бережешь свое здоровье, ведь тебе не молодеть, а посмотри на голову, чуприну снег присыпал… куме, куме, бросил бы ты все дела да знал бы одного себя, есть у тебя и без московских приятели еще повернее и получше…
– Всех, кума моя добрая, надобно любить: и врагов любите ваших, сказал Господь!..
– Да ну, куме мой, брось ты врагов! На что их вспоминать, слава Богу милосердному, есть не враги, об них слово доброе сказать не в тягость.
Жупан Василия Леонтиевича лежал в шатре, разбитом в саду, он пошел в сад – смотрит, Мотренька сидит задумавшись.
– Мотренька, крестный отец твой приехал, как тебе не стыдно сидеть да печалиться!.. Вот, постой, я все расскажу гетману! – сказал нежно любящий свою дочь Василий Леонтиевич.
Мотренька побежала в дом, умылась, причесала голову; радость, как солнце из-за туч, просияла на обворожительном ее личике, и она, как светлая звездочка, вошла в комнату, где сидел гетман.
– Здравствуй, доню!
– Здравствуй, батьку!
Сказала, опустила пламенные очи в землю и, как маков цвет, покраснела, подошла к руке крестного отца, поцеловала ее; Мазепа поцеловал крестницу в уста и посадил ее подле себя.
Вошел Василий Леонтиевич.
Гетман и судья поздравствовались, обнялись, поцеловались и сели.
– Буду жаловаться тебе, ясновельможный, на дочку твою.
– За что?
– Да смех сказать, – говорил Василий Леонтиевич, смотря на Мотреньку, которая сидела как мертвая и поминутно то краснела, то бледнела.
– Ну, что? Говори, пожалуйста, куме, я как крестный отец, да еще гетман, так не посмотрю, что она родная твоя дочь, а за что будет – пусть не прогневается… в Гончаровке у меня, сами знаете, сад густой, – смеясь, говорил Иван Степанович и украдкою страстно посматривал на Мотреньку.
– Спроси, сделай милость, куме, какому она Ивану песни поет! – сказала Любовь Федоровна. Мотренька как мертвая побледнела.
– Ага, a что, дочко, ты думала, что мать ничего не знает? – сказал Василий Леонтиевич.
– Ну, доню, скажи мне правду, какому Ивану песни поешь?
Мотренька молчала.
– Скажи, доню, или ты уже сердишься на меня и не хочешь отвечать?
– Никакому.
– Ей-ей, неправда, доню, неправда, я сама слышала и видела, как ты и косу против месяца чесала!
Мотренька подняла свои черные глаза, посмотрела на мать, опять опустила их и ни слова не сказала.
– В москалика влюбилась, – сказала Любовь Федоровна.
– В москалика, в москалика, – подтвердил Кочубей.
– Нехай, доню, лихо москаликам, есть у нас свои Иваны, черноусые да красивые, люби, дочко, своих лучше.
– И я то же самое говорила ей – да вот беда, москалик приглянулся!
Мазепа засмеялся, взял Мотреньку за голову, приклонил к себе и поцеловал ее в уста.
– Я сам найду жениха, знатного воеводу или боярина!
Мотренька встала, едва могла удержаться, чтоб не заплакать, и ушла в другую комнату.
Недолго посидел гетман и уехал, прося Василия Леонтиевича и Любовь Федоровну посещать и не забывать его.
Гетман со двора, а Чуйкевич на двор. Мотренька увидела приехавшего и сильнее прежнего задумалась.
Гостя, как и всех гостей, Василий Леонтиевич принял радушно, Любовь Федоровна также была рада приезжему.
Позвали Мотреньку, Чуйкевич в первые минуты смутился, потом пришел в себя и завязался довольно веселый разговор.
Любовь Федоровна говорила, как летом скучно в Батурине, нет ни свадеб, ни банкетов, негде повеселиться, а молодым потанцевать.
Чуйкевич утверждал, что скоро будет банкет у гетмана, Мазепа получил от царя шубы, соболи, аксамит, четыре села и пять деревень, в которых четыре тысячи девяносто пять душ и тысяча восемьсот семьдесят дворов.
– Знаем про милость царя-государя к нашему ясновельможному гетману, знаем и поздравляли Ивана Степановича, а когда будет банкет, так и повеселимся! – сказал Кочубей.
– За что ж подарил царь Ивану Степановичу столько сел и деревень? – спросила Любовь Федоровна.
– Чтоб не ходил на войну против шведов; царь бережет нашего гетмана; кому не известно, как он любит его, хотя, правду сказать, Иван Степанович… да что ж будешь делать… – Чуйкевич замолчал.
– Ну, ну, что же Иван Степанович? – спросила Любовь Федоровна.
– Да так, ничего! – говорил Чуйкевич.
– Вот так, испугался! То-то все вы думкою богаты, а на деле так за стену прячутся, знаем вас!..
– Иван Степанович благодетель наш! – сказал Кочубей.
– Благодетель, истинный благодетель, я сам говорю!
Час был двенадцатый, в большой комнате приготовляли стол для обеда, Любовь Федоровна также засуетилась. Чуйкевич подойдет к Мотреньке, скажет ей два-три слова, Мотренька отворотится от него, пересядет на другое место, Чуйкевич тоже покраснеет и опять начнет разговаривать с Любовью Федоровною.
– Что в такие жаркие дни делаете вы, Любовь Федоровна?
– Все думаю, за кого бы дочку мою отдать замуж, да не придумаю, пора уже, слава богу, восемнадцатый год; скорее из дома, меньше хлопот!
– Вот, женихов нет! – сказал Василий Леонтиевич.
Чуйкевич вздохнул, покраснел и, чтобы не заметили его смущений, начал закручивать усы.
Кочубей вышел из комнаты.
– Любовь Федоровна, мать моя, я давно хотел сказать… да все не смею, – начал Чуйкевич, севши подле Кочубеевой, и поцеловал ее руку, – да все не смею, хоть сердце крепко, крепко болит… Ох!.. – Он тяжело вздохнул.
– От чего у тебя сердце болит?
– Болит, крепко болит, Любовь Федоровна…
– Вот еще, выдумал! Казак, посмотреть на него любо, а рассказывает, что сердце болит; пусть болит у дивчат, а не у вашего брата! Недаром же стыдно говорить тебе об этом!..
– А что, не от Мотреньки ли болит сердце его? – спросил Василий Леонтиевич, войдя в комнату.
– Да, так, вы угадали, – пробормотал Чуйкевич.
– От Мотреньки? – спросила Любовь Федоровна.
– Да разве не слышала, он сказал, что от Мотреньки.
– Мотренька, что это значит?
– Не знаю!
– Давно ты полюбил Мотреньку?
– Давно, Любовь Федоровна, мать моя родная!
– Ну что ж ты опустила очи-то свои в землю, дочко? Не сегодня, так завтра, а все надобно замуж, целый век не сидеть в доме отца и матери, такое дело!
– Так, так! – сказал Василий Леонтиевич довольно серьезно.
– Вот жених сыскался, о чем же еще думать.
– Воля ваша! – отвечала Мотренька, понимая мысли отца и матери.
Чуйкевич был невыразимо восхищен.
– Пойдем обедать, борщ на столе прохолонет! – сказала Кочубеева.
Все вошли в другую комнату, где был накрыт стол, и сели обедать.
– Ну когда так, надобно рушники готовить!
– А ты и не наготовила еще? – спросил Василий Леонтиевич.
– Да кто же знал, что Господь Бог так скоро пошлет жениха.
Приняли борщ, подали другие кушанья, разговор не прекращался ни на минуту; когда подали жаркое, Любовь Федоровна мигнула стоявшему подле нее гайдуку Ивану Иванову, гайдук усмехнулся, поняв знак Кочубеевой, и тотчас ушел.
– Когда же ты думаешь, сынок, за рушниками-то приехать?
– Когда скажете!
– Это твое дело.
– Да хоть через неделю.
В эту минуту Иван поставил на стол огромный печеный гарбуз.
– Вот так еще, и гарбуз на закуску! – сказала Любовь Федоровна. – Кто же это постарался: я не приказывала печь гарбуза, это ты, Мотренька?
Мотренька смеялась и, закрывая лицо платком, сказала:
– Нет, не я, не знаю!
– Сегодня бы гарбуза не следовало подавать, да когда уже на столе, так нечего делать, будем есть.
Чуйкевич покраснел и догадался, для чего подан гарбуз, и, когда поднесли ему кусок на тарелке, не захотел есть.
– Жаль, что ты, сынок, не хочешь есть, а гарбуз сладкий, я страх как люблю печеные гарбузы.
Встали из-за стола. Чуйкевич взял шапку и, сколько его ни удерживали на вечер, уехал.
Целый день Любовь Федоровна, Василий Леонтиевич и Мотренька смеялись над Чуйкевичем.
– Скажи мне, сделай милость, кого же ты любишь, дочко моя?
– Никого, мамо!
– Неправда, не верю!
– Никого!
– Ивана, я знаю, да какого Ивана?
– Ни Ивана, ни Петра и никого!
– А плачешь отчего да печалишься?
– Так!
– Все так!
– Пусть плачет и печалится, пройдет все! – сказал Василий Леонтиевич.
– Пусть плачет, я не пеняю, но говорю ей только одно: не забудет советы мои, счастлива будет, обождет год-два, Бог подаст, в наших руках будет булава, тогда не Чуйкевич станет свататься, гетманская дочь, не судьи!
Мотренька ушла.
– Молода еще, ничего не понимает! – сказал Кочубей.
– Известно, дивчина! Ей лишь бы скорее замуж, вот и все!..
– Пусть обождет, дождется своего!..
XVII
Был двенадцатый час ночи, в Бахмачском замке все уже спали, тускло горели свечи в спальне гетмана. Иван Степанович сидел задумавшись в своей комнате, он велел позвать Заленского, его тревожило положение Польши, которой он был предан душой и телом; перед ним на столе лежал лист бумаги и на нем начернена дума его сочинения:
Все покою шире прагнуть, А не в один гуж все тягнуть, Той направо, той налево, А все братья – то-то диво…Тихо растворилась дверь комнаты, гетман поспешно перевернул лист со стихами и торопливо оглянулся, за спиною его стоял Заленский в черном длинном плаще, сложив крест-накрест на груди тощие руки.
– Здравствуй, Заленский, один приехал или с Орликом?
– Один!
– Добре сделал! Ну садись, потолкуем еще с тобой о давнишнем нашем деле.
Заленский сел.
– Вот, я написал думу, слушай.
Гетман взял лист и прочел думу.
– Как тебе кажется, ясно всем будет?
– Понятно и убедительно, ясновельможный!
– Твое дело стараться распустить ее в народе, простым казакам, сердюкам и всем приверженным ко мне сказать: будто бы это я сам сочинил, а между тем, Заленский, пора нам, давно пора приниматься за дело, что пользы мне оставаться в подданстве московском, когда я сам могу быть царем… Справедливо, обстоятельства теперь не хороши, но переменятся, и все дело на лад пойдет, прежде всего надобно приготовить народ, особенно запорожцев; я думаю разослать в города и села верных сердюков и научить, чтобы они из-под руки говорили народу: что-де царь хочет запорожцев уничтожить, а когда будут сопротивляться, так всем отрубить головы, сказал-де, царь не терпит их и называет разбойниками, а не храбрыми лицарями. То же самое распространить и в Гетманщине.
– Добре, дюже добре, – с полным участием, распахнутою душою сказал иезуит, – только же и трудно: дурный, дурный Хмельницкий! Все дело испортил, взявши Гетманщину в руки, не ссорься он с нами, дружись с королем польским, и только слово скажи: «Я король русский!» – и был бы король русский! Побратался бы с королем польским, поделили бы землю: Москву бы Богдану в королевство Русское, а Ливонию, Литву, Пруссию, Венгрию, Молдавию, Турцию и Крым – королю польскому. Вдвоем они целый свет завоевали бы святейшему отцу нашему Папе; недоверки и схизматики русские, грецкие и лютеровские и не почуяли бы, как пали бы к святейшим стопам, и было бы едино стадо и един пастырь, царство Божие в боголюбезном Риме и во всей вселенной…
– Спасибо, Заленский! Королевство русское пошло бы в руки королевским детям, а мы с тобой и остались бы навеки: я – королевским казаком, ты – каким-нибудь сельским ксендзом… Нет, господа иезуиты, неискусно вы за дело взялись… да и Унию не так бы я повел: с Богданом вы уж чересчур пересолили. На его месте я бы тоже пристал к Москве, а то тут вы, святые отцы, да жиды, да польские паны, да короли, да турки, да татары, да москали – Гетманщина чисто в пекле кругом! Пока-то дошло бы дело до королевства, всю бы испекли, как гарбуз; народ тогда и слышать не хотел о римской вере; не умели вы взяться, всех озлобили… У меня теперь другое дело… Нет, Заленский, не поддайся Богдан Москве, не справиться бы Украине, не гетманствовать бы и Мазепе, не беседовать бы с тобой о королевстве! Теперь Гетманщина окрепла, побогатела, сама царство крепкое – сама потягается с Москвою, только бы не изменили ко мне своей дружбы короли польский и шведский, мои благодетели, да вы, отцы святые, так теперь мы лучше обделаем дела. Наше дело поджигать смуты бояр, стрельцов и народа; бояры за бороды да за жупаны готовы на все, царь озлобил всех, во мне видят они посланника небесного, защитника их вековых обычаев и дедовских нравов: дочек из теремов повыводил, женам лица открыл, на сором снявши хустки, которыми они закрывались, как проклятая татарва да турковня, да еще и курить тютюн всех заставляет, а на ассамблеях танцевать!.. Ну, из Киевской Академии мы пустим в Москву ваших дельцов, иезуитских питомцев, царевич тоже поможет нам… Нет, Заленский, ты еще худо понимаешь историю. Богдан добре посеял! Пора косить да жать. Москва уснула на Гетманщине, как на смертном одре своем: только бы до поры до времени не пробудилась, тогда увидишь сам…
– Великий разум твой, ясновельможнейший, во всем воинстве святейшего отца нашего нет тебе равнаго!..
– То-то же!.. Когда приготовим свой народ, нам нечего бояться; на всякий час я готов буду отдаться шведскому королю, а когда я буду королем, ты мой первый министр, сам для себя старайся, – видишь, Заленский, душа моя перед тобою открыта. Царю писать буду, что я его вернейший раб и нижайший слуга. Царь пусть шлет нам дары, а мы все будем мотать на ус да ждать лучшего времени, придет погодка, вот тогда и покажем, что у нас было на уме и на сердце, одумается царь, да поздно будет, мертвого из гроба не вынимают, а до того времени я преданнейший его гетман, униженный раб. Слава Богу милосердному, донести, думаю, некому, всех настращали, да если бы и доносители явились, так дела не знают… Царь так уверился во мне, что тотчас головы доносчиков полетят на плаху. Чтоб не было приметно для народа, укреплять Белую Церковь, свозить туда в подвалы сколько можно более пороха и всяких снарядов; стараться, чтобы города полковые были слабо содержимы, пусть царь заботится укреплять Киев, не великая беда – Киев легко взять соединенными силами, да шведы одни разгромят его в пух. Так, Заленский?..
– Так, ясновельможный! Истинно так!..
– Не быть Гетманщине под властью царя!.. Разве полковникам, старшине да и всем радостно слышать от москалев, что мы мужики, что мы рабы, – кому это сладко?!. Нет, Заленский, не быть Гетманщине в верности и подданстве у Московского царя. Слушай, я тебе скажу, как он раз обидел меня: я был в Москве, обедали мы у Меншикова, царь обедал с нами, ты не видал, как мы до этого дружно жили; бывало, он поставит мне свою пригоршню, я налью ее полную вина и выпью, потом подставлю ему свою, он также нальет и выпьет, мы обоймем друг друга и крепко поцелуемся, ну да и это не дело! Вот слушай, сидели мы за обедом у князя Меншикова, царь долго говорил о делах своих, хвалил тех из бояр, которые с радушием перенимают все у немцев, шьют кафтаны на немецкий лад и бреют бороды… Не всем такие по сердцу были слова царевы; Петр видел и кипел от досады, а приятели, то и дело, поджигали, потом обратился ко мне и сказал: «Пора мне и до вас, казаков, добраться!..»
– Нет, царь, обожди, не пришел еще час тревожить Гетманщину, – сказал я, покрутивши усы, то есть, знай наших. Петр еще больше рассердился, и как бы ты думал, мой зичливый приятель Заленский, что он сделал?
– Что ж, ясновельможный, мог сделать тебе царь!
– А вот что, как своего последнего гайдука схватил меня за усы и закричал: «Пора мне за вас приняться!» – и ударил меня по щеке… меня ударил, Заленский!.. Слышал?.. Меня ударил по щеке царь! – Мазепа сказал это сквозь слезы и всем телом затрясся, глаза его пылали, потом он вмиг побледнел.
Заленский сдвинул плечи, обратился к образу, перекрестился и сказал: «Иисус Христос, помилуй нас!»
– Да, вот тебе, наша дружба до чего дошла!
– Ясновельможный, ясновельможный, святейшая глава римского христианства не потерпела бы этого, если бы в Гетманщине было святое владычество ее.
Мазепа тяжело вздохнул, покрутил свои усы и продолжал:
– Не думай, Заленский, чтобы именно с того часа я понял царя и замыслил отложиться от него – нет: в тот самый час, как Василий Васильевич Голицын отдал мне булаву, я взял ее и задумал отстать от московского царя; и вот, до сей минуты тешусь этою мыслию, сплю ли я, сижу и говорю с тобою, или с народом, или в таборе, или в Москве, или где бы я ни был, все думаю об одном: отстать от Петра. Разве и я не могу быть другим Петром, разве Гетманщина теперь не может быть царством, а я царем?.. Разве недостанет казацких сабель, чтобы забрать и москалев… все может быть, – ты знаешь, у нас под боком ляхи, не любят Московского царства, шведа разозлили насмерть, татарин от первого дня света Божьего воевал с Московиею и не забыл азовских походов, чего же ты еще больше хочешь, чего мне думы думать?!.
– О, пошли Иисус Христос тебе царство, тогда от Рима через твою Московию проложим дорогу и в Швецию! Тогда истинное христианство, предстательством святейшего Папы у апостолов Петра и Павла, прольется по всему свету!
Мазепа, довольный словами Заленского, улыбнулся, слегка ударил его по плечу и продолжал:
– Так пошли, Господь, силу и единодушие казакам и всем дружелюбным с нами королевствам!.. Ты, Заленский, знаешь, что Польша передо мною как былинка гнется, а Карлу я больше нежели родич, перед Карлом вся Европа трепещет! Дульская отдаст мне свою руку и обещает княжество, но мало этого, Карл поможет на седую голову мою надеть корону… Ты знаешь, с нами и Франция заодно, а когда Франция, так и еще найдутся другие короли, говорю, Европа страшится Карла, и что же после такой силы один – царь.
– Ничего, одной саблей во славу святейшего отца можно взять Московию!..
– Так слушай же, настал час, пора приготовлять Гетманщину, пусть в народе ходит слух, что я затеваю доброе дело: умные сами захотят этого, научат безумных, и все пойдет на лад, прощай.
Иезуит поклонился и ушел.
Мазепа взял перо, бумагу и начал писать письмо к царю: «Не только в Сечи Запорожской, в полках городовых и охотнических, но и в людях, самых ближних ко мне, не нахожу ни верности искренней, ни желания сердечного быть в подданстве у Вашего Царского Величества, как я точно сие вижу и ведаю, для чего и принужден обходиться с ними ласково, обходительно, не употребляя отнюдь строгости и наказания». Прочитав и исправив, гетман спрятал письмо и ушел.
XVIII
Солнце показалось из-за синих гор, и утренний туман, покрывавший Батурин, как волны на море, заклубился; громко защебетали по садам тысячами голосов птички, проснулись батуринцы; на улицах собирались с дворов коровы, и пастух, наигрывая на свирели, погнал стадо в поле; зашумели казаки, собираясь ехать на работы, и заскрипели возы под высоко наложенными снопами золотистого ячменя и колосистого жита. Горожанки с кошницами, в зеленых с красными мушками байковых кофтах, спешили на базар; заблаговестили к ранней обедне, и в растворенные двери церквей проходящий народ видел горевшие свечи перед местными образами, останавливался у дверей храма и, с благоговением молясь, крестился.
В этот час девица, жившая в гетманском замке несколько лет и смирявшая характер властолюбивого Мазепы, сидела у окна, обращенного в сад, поминутно крестилась и, казалось, была чрезвычайно неспокойна духом, гетман еще спал. В Гончаровке было тихо; гайдуки и стража, вставшие рано, вновь беспечно дремали, одни у дверей, другие сидя на креслах, диванах и где попало; двери были все отворены, и в комнаты был свободный вход и выход.
Долго сидела девица, потом вдруг встала с кресла, побежала в другую комнату и остановилась у дверей; через несколько секунд в комнату вошел старец монах; в левой руке он держал небольшую медную тарелку, прикрытую черным воздушком с вышитым посредине серебряным крестом, а под мышкою была у него книга для записывания подаяний на монастырь. Перекрестившись на иконы, монах обратился к девице и благословил ее, девица поцеловала его руку.
– Благодари милосердного Бога, все готово для твоего пути, собирайся – да благословит тебя Творец и сохранит Пречистая Царица Небесная от всякого зла и напасти!
Девица перекрестилась.
– Где же гетман, он обещал дать вклад в Печерский монастырь?
– Спит еще!
– Пусть спит, я обожду, мне надобно видеть его сегодня, я больше не приду сюда, и чтобы отклонить всякое подозрение в побеге твоем, скажу ему, что сегодня же иду обратно в Киев. А ты через три дня вечером, как я тебе и говорил, выйдешь в сад к берегу, сядешь в челнок, казак привезет тебя в деревню, оттуда поедешь с Богом, и никто тебя не узнает.
Девица молчала.
– Я и теперь приехал из деревни в челноке и хоть сейчас садись, все готово, но лучше не спешить.
В это самое время внизу, у входа в дом, раздался чей-то громкий, знакомый голос. Девица затрепетала, отшельник также смутился, но, перекрестясь, ободрился и сказал:
– Успокойся, Господь с тобою!
В комнату, где сидела девица и подле нее отшельник, вошел, побрякивая саблей, в красном бархатном кунтуше, граф Жаба-Кржевецкий, приехавший полчаса назад с Волыни; увидев сидевших, он в первое мгновение остолбенел, побледнел и чуть-чуть не повалился на пол.
Девица всплеснула руками, бросилась перед образом на колени, едва успела оградить себя крестным знаменем и упала на пол почти без чувств.
– Юлия, ты ли это? – севшим голосом произнес граф, уста его опять онемели, а взор неподвижно остановился на девице.
– Это ты, старик нищий, ты ее сохранил?
– Я!.. – отвечал покойно старец, поднял Юлию и повел ее в другую комнату. Граф хотел идти вслед за ними, но тяжелая дверь затворилась, старик запер дверь, вынул ключ, тихо свел полуживую девицу с лестницы, ободрил ее молитвой, и быстрыми шагами они вошли в сад и скрылись в густоте кустов.
Запертый в комнате, граф пытался отворить дверь, но усилия его были тщетны: он довольно громко просил слуг отпереть дверь, но все спало беспечно, и никто не слышал его просьб. Наконец, он застучал, требуя, чтобы отперли дверь, гайдуки в страхе проснулись, искали ключи и не находили; проснулся гетман. Пока шли эти сборы да суеты, времени много ушло; наконец отперли дверь, граф бросился в объятия гетмана, поздравляя его с получением ордена Белого орла, присланного от польского короля Августа Второго. Граф Жаба-Кржевецкий вручил сам орден и грамоту. Мазепа был в неописуемом восторге и не знал, что ему делать, он, ежеминутно обнимая, целовал Кржевецкого, подтверждал клятвенно перед образом, что никому в свете не предан так, как предан Августу, потом разломил печать, вынул грамоту и громко прочел. Она была писана на латинском языке. Прочитав рескрипт, гетман прослезился, поцеловал три раза грамоту и, обратясь к иконам, ударил три земных поклона.
Чрез полчаса, а может, более, когда гетман несколько успокоился, граф сказал ему:
– Ясновельможный гетман, от нетерпения обрадовать тебя я нарочно как можно раньше поспешил в твой замок, тихо вошел, желая неожиданно предстать пред тобой, и, когда вошел в тот покой, там сидела в черном платье девица и чернец; девица мне знакомая, смею спросить: каким случаем попала она в твой замок?
– А, вижу, девица понравилась графу, но пусть сердце не кохает, она хуже всякой черницы, лицо свое от всех закрывает, а нашего брата, как дьяволов, боится, скоро будет десять лет, а я ничего не добился от нее, – сказал, усмехаясь, гетман.
– То, верно, ты не знаешь, кто она?
– То-то и дело, не знаю, каждый день я ее спрашивал, и все одно да одно – не скажу.
– Она дочь графа Замбеуша от казачки, родственницы Самуйловича, которую граф повесил на одном дереве вместе с собакою и жидом, а ее хотел убить, но нищий старик, которого я также сейчас видел здесь, вместе с нею, спас ее в подземелье, откуда они, вероятно, бежали.
Гетман со вниманием слушал Жабу-Кржевецкого и с любопытством расспрашивал об Юлии и нищем.
– Ты сам расспроси ее, ясновельможный, она должна все сказать…
– Да, теперь уже не скроет ничего от меня!
– Какая она красавица, и ты в самом деле…
– Ничего, ничего! – прервал его Мазепа. – Это строгая девица, хоть голову ей отсеки, для нее лучше, нежели поцеловать нашего брата.
– То редкая в мире красавица, не отпускай ее в монастырь, а старайся лучше, чтобы она полюбила тебя, да от графа Замбеуша береги, а то, право, придет к тебе и, если залучит в свои руки, на куски разорвет, он поклялся это сделать.
Граф рассказал все, что произошло. Мазепа задумался.
Долго после этого говорили граф и гетман о Польше, о короле Августе I, Карле XII и царе Петре; потом разговор перешел на Юлию. Граф просил гетмана, чтобы он приказал позвать ее. Гетман хотел исполнить желание графа, приказал негру позвать Юлию, а сам любовался орденом, надевая его на себя; негр исчез и через несколько минут снова явился и жестами давал знать, что Юлию он не отыскал. Гетман не верил и приказал снова искать, но все старания были напрасны. Гетман искал сам, но нигде не было Юлии.
Тысяча предположений роилась в голове Мазепы, одно другого невозможнее: он не думал, чтобы Юлия бежала; десять лет она жила в Гончаровке, всегда почти имела случай бежать, но не пользовалась случаем; нет, она утопилась в Сейме, она испугалась графа Жабы-Кржевецкого и где-нибудь скрылась.
Как бы то ни было, но Юлии, научившей Мазепу благочестию, не было уже в замке. Полетели во все стороны вершники, искали, расспрашивали о бежавшей, но никто не видел, никто не знал, кого искали и о ком спрашивали.
Скрылась, как называли ее гетманцы, благословенная душа! И с того часа характер гетмана изменился: на третий день после этого происшествия Мазепа повесил одиннадцать своих гайдуков и нескольких негров; гайдуков повесил, заложив железные крючки в рот, за нёбо, а негров – привязав одних за левую, а других за правую руку или за одну из ног.
Граф Жаба-Кржевецкий, похваливший все эти распоряжения гетмана, скоро после этого уехал обратно, дела Польши призывали его в свое отечество.
XIX
Ладья, да еще утлая ладья, застигнутая бурей среди моря, по воле порывов ветра бросается то в одну, то в другую сторону, то опять несется вдаль, когда на мгновение утихнет разъяренная стихия, как будто бы для того, чтобы с новой непреодолимой силой покатить страшные седые валы и разбить ладью – живое подобие души Мазепы после того, как пропала Юлия.
Кто не испытал подобного лишения, тот не поймет и состояния духа гетмана. В первые дни сердце старика ныло, грусть съедала его мысли, его радость, его самого, потом, от чрезмерного сожаления об утрате любимого предмета, им овладело отчаяние, с этим вместе рождавшиеся в воображении его новые планы казались возможными для того, чтобы возвратить утерянное, а с ним минувшую радость и спокойно наслаждаться испытанным счастием. И вот гетман придумал, как отыскать бежавшую: он разослал во все стороны гонцов из приближенных к себе сердюков и компанейцев, отправил тайно для разведывания несколько десятков жидов, всегда готовых услужить ясновельможному; сам Заленский уехал в Киев, чтобы предупредить приезд старца и девицы, полагая, что она бежала с ним в святой город. Ждет гетман, разослав посланцев, ждет и не дождется: тоска сильнее омрачает его сердце и душу, не дает ему ни днем, ни ночью покоя, отняла у него и сладкий сон. Посетит ли его на минуту какое-то усыпление тоски, и он смотрит в окно или сядет на лошадь, помчится в степь и высматривает, не покажутся ли где-нибудь знакомые всадники и с ними его прелестное существо… но дорога черною змеею вьется по полю, сливается вдали с синею далью, и не видно никого едущего по ней. Гетман вздохнет, поворотит вороного коня и быстро помчится обратно, сядет в замке, задумается и никого не принимает к себе. Придет ли от полковника вершник или от пана Кочубея, увидит его гетман в окно, смотрит на него и думает, не вестник ли радости? Но нет, не он! Вздохнет Мазепа, и грусть, как разозленная змея, сильнее прежнего начнет травить сердце его ядом.
Не молод был гетман – а вот какое пламенное сердце было у него: он мог еще любить, но не любил уже так, как любят юноши: чисто, пламенно, бескорыстно.
Через несколько дней посланцы один за другим возвращались без успеха, а через неделю собрались все, приехал и Заленский из Киева, но беглецов не было. В народе разнеслась молва, что девица, жившая в Гончаровке у гетмана, утонула; миль за пять от Батурина волны выбросили почти истлевший женский труп: этого достаточно было для уверения гетмана и всех прочих в истине носившихся слухов.
Однажды, когда гетман был крайне скучен, приехал к нему сын Генерального судьи Чуйкевича.
Мазепа давно знал намерение Чуйкевича жениться на Мотрене Кочубеевой.
– Приехал к тебе, ясновельможный гетман, помоги в моем горе, ты один в целом свете можешь осчастливить меня.
– Ну, что же, ты знаешь, пан Чуйкевич, что я больше всего люблю помогать и делать доброе для других, когда только сил к этому достает у меня.
– На этот раз, ясновельможный, достанет, одно слово твое – и я первый счастливец в мире.
– Чего же ты хочешь от меня?
– А вот чего: гетман, сердце мое любит дочь Кочубея Мотреньку, твою крестницу, я хотел свататься, а мне подвезли гарбуза.
– Ха! Xa! Xa!.. Гарбуза?.. И славного гарбуза?.. – спросил Мазепа, радуясь этому случаю. – Ну я скажу тебе, пан Чуйкевич, если бы не ты говорил, что Кочубеевы дали тебе гарбуз, никому другому не поверил бы я!..
– Ясновельможный, я приехал к тебе просить о моем счастии…
– Так, пан Чуйкевич, так, но что ж буду я делать, ты сам скажи, научи меня, что делать, и я исполню твою просьбу.
– Слово скажи за меня Любови Федоровне, вот и все, и Мотренька моя.
– Добре, скажу, как только поеду, я на все готов, лишь бы ты и отец твой были счастливы, вы знаете, как я вас люблю!
Чуйкевич низко кланялся.
– А скажи по истинной правде, болит твое сердце за Мотренькою?
– Болит, крепко болит.
– Гарна ж, правду сказать, дочка моя, не одно твое болит сердце от нее…
Чуйкевич вздохнул, Мазепа тоже.
– Положись на меня да молись Богу, так и счастлив будешь.
– Осчастливь, ясновельможный, Христом Богом молю тебя!
– Добре, добре!..
Обнадеженный Чуйкевич уехал от гетмана, мечтая о будущем счастии. Мазепа, в свою очередь, представляя себе красоту Матроны, подумал: может ли Чуйкевич любить Мотреньку так, как я ее любил, если бы она была моя жена… не быть ей за Чуйкевичем, – дочка моя славолюбива, как и мать ее, а Чуйкевич что ей за пара?..
Мазепа покрутил усы, пригладил поседелую чуприну и подумал: «Гарна, крепко гарна! Прижал бы я тебя до своего сердца… да боюсь, чтоб люди не знали! А любил бы я тебя как никто в мире не любил бы… ничего, что у меня седая чуприна, да сердце молодо и горячо!..»
После побега Юлии Заленский получил большую силу и влияние на гетмана, какого он даже не имел в прежние годы; теперь ректор винницкий стал министром, искренним другом и братом Ивана Степановича. Заленскому хотелось казнить полковников Палия и Самуся, воевавших в княжестве Литовском за православную веру, – князь Радзивилл отнимал у православных церкви, монастыри и отдавал униатам, мучения в это время поборников православия были велики: униаты, как и в стародавние годы, откупали церкви, не дозволяли крестить детей, погребать умерших, совершать браки и отправлять другие утешения церкви.
Храбрость и успехи Палия и Самуся были не по душе иезуиту: он каждый день просил Мазепу обвинить их и казнить. Мазепа слушал его, писал царю доносы, клеветал на обоих, особенно же на Палия, у которого было большое богатство в Белой Церкви. Приехавши в Бердичев, Мазепа пригласил к себе полковника Палия на банкет, напоил его до бесчувствия, сонного заковал в кандалы и кинул в подземелье, в страшную тюрьму, потом измученный лихой полковник отправлен был в Москву, оттуда в Сибирь.
Белая Церковь со всеми сокровищами досталась сребролюбивому гетману.
Вслед за этим начались вновь казни и пытки; зверство Мазепы, укротившееся присутствием Юлии в Гончаровке, раскрылось с новою силою и яростию, кровь невинных полилась широкими ручьями в городах и селениях Гетманщины, ропщущий народ, как бурное море, зашумел. Гетману было не до народа, в уме его давно зрела мысль об отложении Гетманщины от московского царя, поэтому он не вслушивался в ропот, слагал все беды на царя и занимался осуществлением тайной своей мечты.
Заленский то и дело ездил то в Польшу, то в Швецию, то в Крым.
Народ узнавал это и заговорил, что Мазепа недоброе замышляет, но голос гетманцев не слышен был царю: Петра все уверили, что это одни козни недоброжелателей гетмана, и царь беспредельно верил в непоколебимую верность Мазепы.
Мазепа думал об измене и думал о женщинах – два предмета, которые никогда не оставляли его. Сердце Мазепы не могло жить без любви порочной. Чуйкевич приездом и просьбою своею навел гетмана на мысль самому искать любви своей крестной дочери. Старик воспламенился и начал мечтать о красоте Мотреньки.
Куда ни поедет, что ни делает, везде преследует его очаровательный образ крестницы; пламенное воображение Мазепы еще более распаляло его сердце движениями горячей любви.
Демьян, гайдук гетмана, был в Батурине, заезжал к Кочубею нарочно, по приказанию гетмана, узнать о здоровье его семейства. Приехав обратно в Бахмач, донес Мазепе, что Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна здоровы, а Матрона Васильевна с какою-то родственницею уехала утром в Диканьку. Услышав это, Мазепа хотел было в ту же минуту сам ехать вслед за нею и как будто нечаянно встретиться ей на дороге, но, рассудив, что такой поступок легко может испортить все дело, послал нарочного гонца с письмом:
«Мое серденько, мой квете рожаный!
Сердечно на то болею, что недалеко от мене едешь, а я не могу очей твоих и личка беленького видеть; чрез сие письмечко кланяюся и все члены целую любезно».
Прежде этого еще Мазепа часто говорил Мотреньке, что ей следует быть гетманшей или в Москве или Польше графиней или княгиней.
Мысль эта утвердилась в сердце честолюбивой девицы и ни на минуту не оставляла Мотреньку, подобно как не оставляла она и ее гордую мать. Мотренька готова была на все жертвы, лишь бы только осуществилось предсказание крестного отца. Проходили годы, эта мысль усиливалась, возрастала в сердце ее, и, наконец, когда Мотренька расцвела, как украинская роза, мечта быть женою графа, князя или гетмана, что казалось удобнее и лестнее всего, убивала ее и отравляла прекрасные дни светлой и счастливой ее юности. Мотренька часто видела польских графинь: блеск и жизнь их прельстили ее, очаровали ее пылкое воображение, распалили ее самолюбие, и она бессознательно предалась на волю своего страшного влечения, не могла противостоять ему, и что же? Переменилась так, что отец и мать не могли узнать ее: румянец, до этого игравший на щеках, увял, как увядает от зноя роза, бледность и постоянная задумчивость заменили веселую улыбку и привлекательную беспечность, выражавшуюся в ее прекрасных очах.
И в то же время Мотренька была покорна, послушна, внимательна ко всем, и казалось, что в сердце ее не только нет гордости, но оно совершенно ее не знает. Вот как всегда притаиваются в душе человека бунтущие страсти, чтобы в свое время с новым порывом и непреоборимою силою восстать против всех святых чувств сердца и поглотить их в своей черной толще и потом безнаказанно начать господствовать в душе честолюбца.
Мотренька получила письмо Мазепы по приезде своем в Диканьку; с первых дней жизни своей она знала, что Мазепа любит ее, – сомнениям в юном сердце не было места, и потому письмо Ивана Степановича несказанно обрадовало ее, десять раз она читала и перечитывала его, прятала и, опять вынув, читала в сотый раз, и на опечаленном лице появлялась улыбка. Мотренька ездила в Полтаву к родственнику своему полтавскому полковнику Искре, заезжала к любимому отцом и матерью ее священнику церкви Спаса Ивану Святайле, была и у других знакомых, и везде веселость не покидала ее. Возвратившись в Диканьку, Мотренька приискивала средство увидеться с крестным отцом: заехать к нему на обратном пути в Батурин – не по дороге; да при том отец и мать с некоторого времени перестали отпускать ее к гетману под предлогом, что она невеста и стыдно ей ездить одной в Гончаровку. Хотя это еще более опечалило Мотреньку, но она умела скрыть от отца и матери горькое состояние своего влюбленного сердца; много мыслей промелькнуло в голове ее, и, наконец, она решилась заехать к крестному отцу на обратном пути в Батурин. С этой минуты часы казались ей днями, а дни месяцами: томительно было для нее ожидание той минуты, когда пред глазами ее будет гетман. Мечты, сладкие мечты успокаивали ее на несколько мгновений, и потом, когда она переходила к действительности, ей было еще тягостнее: грусть сильнее язвила душу, и тоска, словно черная змея, свернувшись около сердца, сжимала его.
Между тем время летело быстро вперед и вперед, не спрашиваясь никого, как лететь, и день выезда Мотреньки из Диканьки в Батурин настал.
Мотренька пела, шутила, играла и веселилась в дороге, ей скучно было только то, что бричка медленно подвигалась, но мысли девичьи были уже в замке Мазепы.
Кончалась дальняя дорога, и утром на третий день Мотренька увидела перед собою вдали синевшиеся горы и черный лес, направо ярко-зеленые камыши, росшие по берегу Сейма, налево белые хаты Гончаровки, в стороне от них – высокий белый замок Мазепы; сердце затрепетало, девушка дрожала не от страха и не от радости, да и сама она не знала от чего, кровь ударила ей в лицо: Мотренька покраснела, мысли смешались, и она не знала, поворотить ли в Батурин или ехать налево, в Бахмач? Рассудок громко говорил, чтобы она поворотила в Батурин, тщеславное сердце опровергало рассудок, Мотренька приняла совет сердца, и бричка покатилась по излучистой дороге в Бахмач. Вот она уже во дворе гетманском… вот мгновение и – Мотренька в замке: она боялась взглянуть на окна – ей страшно встретить взор гетмана, ей страшен и сам он… вот уже она раскаивается, зачем не поехала в Батурин, и в эту же минуту бричка останавливается у крыльца, Мотренька проворно вскочила на рундук и опрометью побежала в дом.
Вышедшие навстречу гайдуки проводили ее в покои гетмана.
Иван Степанович читал письмо Дульской, полученное им за несколько минут до приезда крестницы, он был очень весел. Неожиданный приезд сначала приятно изумил его, потом он пришел в восторг: обнял ее, целовал в голову, в уста, в очи, усадил подле себя, взял ее ручку, поцеловал, приложил к своему сердцу, долго глядел в пламенные очи ее и потом нежно спросил:
– Доню, любишь ли ты меня?
Доня покраснела, опустила черные глазки в землю и молчала.
– Доню, скажи мне, любишь ли ты меня, скажи по истинной правде?
– Не знаю! – тихо прошептала Мотренька.
– А я тебя люблю и знаю, что люблю. Мое серденько, мой квете рожаный, как мне тебя не любить! Серденько мое, серденько, люблю тебя, щиро люблю, за что ж ты меня не любишь?
– Разве я говорю, что тебя не люблю!..
– Ты сказала, что не знаешь!
Мотренька молчала.
– Чего ты скучна и невесела, доню?
– Так!
– Все так да так, когда ты любишь меня, скажи мне, чего так сумуешь?
– Не знаю!
– Скажи, доню, ты знаешь меня, я все сделаю для тебя.
– Боюсь, чтоб не было мне за то, что приехала к тебе! Матушка не хочет, чтобы я приезжала одна в Бахмач.
– Плюнь на это, доню, и не печалься: кто будет знать, что ты заезжала ко мне? Я скажу твоим людям, чтоб и пикнуть не смели, когда будут спрашивать их, заезжала ли ты ко мне. Отец и мать и знать не будут; добре, доню, сделала, что заехала, я знаю, со мною веселее тебе, нежели с твоими старыми… так, доню?..
– Так! – тихо отвечала Мотренька.
– Ты же, ты любишь меня?
– Люблю!
– Ну, поцелуй же меня!
Мазепа поправил свои длинные седые усы и жарко поцеловал Мотреньку.
– Добре бы нам, доню, было, если бы мы не разлучались с тобою, как голубь с голубкою! Ты меня любишь, я люблю тебя, чего ж больше, какого еще счастия искать нам в свете! Ах, доню, доню, не один тот любит, у кого усы и голова черная, у меня, как у старого орла, белая голова и усы седые, а сердце горячее; молодой десять раз полюбит и сто разлюбит, а я так нет: когда ты была дитя, я любил тебя, и пока жив – не перестану любить!.. Доню, ты плачешь! Стыдно, доню, плакать!..
– Я не плачу! – отирая слезы, отвечала Мотренька.
– Нет, плачешь, отчего же ты плачешь?
– Так!
– Когда бы, доню, я знал, что ты любишь так меня, как я люблю тебя, тогда бы я счастливейший был в свете человек, доню, не хотел бы и гетмановать, если бы ты была со мною неразлучна.
– Нет, гетмануй.
– Ты хочешь разве, чтобы я старую голову свою прикрывал гетманской шапкой, тебе не нравится седина моя? – усмехаясь, сказал Мазепа. – О сердце мое, я кохаю тебя, душко моя, кветка моя червонная! Говорю тебе, для меня ничего нет милейшего в свете, как ты, моя милая доню, цветок мой рожевый…
Мазепа задумался. Мотренька пристально смотрела в его лицо, казалось, она проникала черными глазами, отуманенными влагою, в сокровенные думы гетмана. Мазепа покачал головою и отрывисто сказал:
– Слушай, доню, я скажу тебе великую тайну…
Он повернулся к ней.
– Я давно… давно уже…
Он не договорил и отворотил лицо свое в сторону.
– Что же давно?
– Давно уже… люблю тебя, доню.
– Нет, ты мне что-то другое хотел сказать!
– Ничего другого.
– Нет – скажи, таточку.
– Что же я тебе скажу?
– Скажи, что хотел сказать… какую великую тайну?..
– Да не знаю, доню, что сказать!
Мазепа поцеловал ее в голову.
– От тебя не уйдет твое! Скажи только, скажи еще раз, верно ли ты любишь меня?
– Верно!
– Дай же мне свой перстень.
– На!
Мотренька сняла с руки небольшое колечко с бирюзою и подала Мазепе. Гетман поцеловал пальчик Мотреньки, на котором было надето кольцо, и вышел. Мотренька встала со своего места, подошла к круглому зеркалу в позолоченных рамах, висевшему на стене, посмотрела в него, поправила волосы и, разглядывая пылавшие щеки свои, подумала: «Как пристало мне быть гетманшею!» – улыбнулась и поспешно отошла в сторону, чтобы гетман не заметил ее движения.
В комнату вошел Мазепа.
– Вот тебе, доню, на память диаментовый перстень, но клянись, что будешь любить меня.
– Клянусь!
– Вечно будешь любить?
– Вечно.
– Дай ручку, сам я надену на память тебе перстень.
Мотренька подала руку, Мазепа надел на палец ее драгоценный бриллиантовый перстень.
– Обними же меня и поцелуй.
Мотренька обняла и поцеловала старика гетмана.
– Прощай, боюсь сидеть дольше, поеду домой!
– Прощай, доню, не хотелось бы с тобою разлучаться… да что же делать, настанет час, когда никто уже не разлучит нас.
Через несколько дней по возвращении Мотреньки в Батурин Любовь Федоровна проведала, что Мотренька заезжала к Мазепе.
– Доню, хорош собою твой крестный отец? – насмешливо и со злобою спросила Любовь Федоровна Мотреньку.
– Хорош! Добрый тато, – спокойно отвечала Мотренька.
– Недаром же ты заезжаешь в Бахмач!
Мотренька покраснела и смутилась.
– Ты думала, что я ничего не знаю, нет, дочко, только ты так думаешь, а мне все известно!
– Да что же, мамо, я была у него… ведь он не жених мой, а крестный отец.
– А почему знать, может, и женихом будет! Вы что-то недаром друг с другом воркуете.
– Нет, мамо!
– Да так, доню!
– Нет, не так!
– Как ты себе там хочешь, а с этого часа и нога твоя не будет в доме Мазепы.
– От чего так, мамо?
– Так!
Любовь Федоровна, рассердившись, ушла. Мотренька села, склонила голову на руку и задумалась, тысячи мыслей одна за одною сменялись в голове ее, наконец она посмотрела на небо, усеянное маленькими облачками, и подумала:
«Счастливое облачко, оно теперь висит над головою гетмана, видит его… а я, я здесь одна сижу и горюю, зачем я не птичка, зачем у меня нет крыльев, тогда бы я полетела в его сад, села бы на куст против окон и запела бы, сладко запела, заслушался бы он, а я смотрела бы на него… пристально смотрела, зачем я не птичка… зачем не облачко!..»
Дни улетали, Мотренька по-прежнему была задумчива и грустна, целые дни проводила она в саду, иногда пела песни, нарочно для нее сочиненные Мазепою, пела и боялась, чтобы не услышала ее мать: она стала скрывать свои чувства и свои мысли от нее! В сердце ее прежде еще зародившееся чувство, не достойное прекрасной души ее, возросло быстро – чувство самолюбия, и с каждым часом, с каждым днем нежная любовь ее к матери угасала, ее советы для нее были крайне неприятны и еще более раздражали пылавшее сердце. Отец безгранично любил дочь и часто уговаривал Любовь Федоровну, чтобы она была нежнее к своей дочери, но Любовь Федоровна начинала тогда кричать, сердилась на отца и на дочь. Василий Леонтиевич скорее уходил в сад, Мотренька следовала за ним, и они друг друга успокаивали. Мотренька любила отца более, нежели мать: конечно, самолюбие не может мириться с чужим самолюбием.
Не было случая видеться Мотреньке с Мазепою, а сердце ее сильно болело, неизвестность, как черная немочь, томила ее. Гетман, в свою очередь, страдал, не получая никакого известия от крестной дочери. Вот он схватил бумагу и написал:
«Моя сердечне-коханая Мотренько!
Поклон мой отдаю вашей милости, мое серденько, а при поклоне посылаю вашей милости гостинца: книжечку и обручик диаментовый; прошу это покорнейше принять, а мне в любви своей неотменно хранить; даст Бог, что лучшее еще подарю, а за тем целую уста коралловые, ручки беленькие и всю тебя, любезная, коханая».
Письмо и подарки были доставлены Мотреньке карликом, привезшим вместе с этим к ее отцу гетманские универсалы.
«Отвечать или нет? – спрашивала сама себя Мотренька. – Напишу к гетману, и, не дай бог, письмо мое попадется в руки матери, что тогда делать мне, несчастной? Нет, лучше так скажу карлику, прикажу ему передать на словах поклон гетману и попросить, чтоб приехал к нам, а не придет, так, может быть, найду случай, сама как-нибудь приеду к нему, только не в Бахмач, а в Батурин, когда гетман приедет в город».
Побежала в сад, спустилась по горе и через калитку выбежала к плотине, которой должен был проезжать карлик.
Вот он стоит с нею, и Мотренька, с беспокойством оглядываясь кругом, передает ему свои мысли, кончила и, как легкая серна, убежала от него и скрылась в зеленых кустах сада.
Не пройдет дня, чтобы мать не упрекала дочь в любви к гетману, и если бы еще упрекала наедине, и притом с ласкою и материнскою нежностью советовала бы дочери беречься хищника, который как раз заклюет непорочную голубку, представляла бы ей весь ужас положения, в которое она может быть ввергнута чрез любовь к гетману… Но Любовь Федоровна была не такая: брань, крики, угрозы, проклятия поминутно преследовали Мотреньку, и в добром, нежном сердце дочери сильно поколебалась святая любовь к матери: она именно начала стремиться к тому, что мать запрещала ей. Конечно, прежде была явная грусть, на которую и Любовь Федоровна смотрела равнодушно и оправдывала, говоря: «Пусть плачет и горюет, и я плакала, когда была молода и мое сердце любило…» Теперь Мотренька не грустила более при матери – она хотела казаться веселою и успевала в этом; между тем отец, тихонько пробравшись в сад, в поздний час вечера, сядет недалеко от берега на пригорке и начнет вслушиваться в грустные песни дочери, песни эти прельщали старика – он слушал и вспоминал минувшие годы, когда был с гетманами на войне… и сладки ему были эти воспоминания.
– Доню моя, доню, ты скучаешь, ты так печально пела, я слушал тебя, и сердце мое плакало! – говорил Василий Леонтиевич, подойдя к Мотреньке, сидевшей под деревом на том месте, где сквозь ветви синела даль и в ней скрывался Бахмач. Бывало, поцелует ее в голову, Мотренька поцелует руку отца, он сядет подле нее и просит спеть еще какую-нибудь песенку, и Мотренька грустно запоет, запоет и заплачет, призадумается и Василий Леонтиевич, не зная и не постигая смысла песней дочери, и тоже прослезится.
Мазепа хорошо постигал сердце женщин, победа над каждою из них для него не была трудна: он в этом деле был даже более, нежели гетман на войне. Мазепа ходил по комнате скорыми шагами, закинув руки за спину, в стороне от него стоял иезуит Заленский и говорил о доблестях короля шведского, о доброте короля польского и представлял стеснительное положение Гетманщины. Мазепа не слушал его и время от времени оборачивался к нему с отрывистым: «что?» – и, не расслышав Заленского, отвечал: «Да, правда, правда!» – а в уме своем придумывал верные средства, как привесть в исполнение давным-давно задуманное.
Но многое ему мешало, мешал и Генеральный судья Кочубей. Зная, что жена управляет мужем и что Любовь Федоровна тайный враг его, Мазепа всем сердцем желал погубить семейство Кочубея, обдумал план, план, достойный его адской злости, и старался привесть его в исполнение. Он знал, что Кочубеевы, чрез его погибель, домогаются гетманства, рассчитал на самолюбие дочери и матери, погибель отца, и поэтому решил продолжать свою, впрочем, не притворную, любовь к Мотреньке, стараясь этим путем узнавать задушевные тайны Кочубеевых и поджигать мать, которая с некоторого времени смотрела на привязанность Мотреньки к Мазепе как на начало позорной любви: она не догадывалась, что сама стремилась в сети, искусно расставленные для нее коварным Мазепою.
– Слушай, Заленский, я хочу послать сегодня вечером в сад Кочубея с письмецом до Мотреньки… как ты думаешь, кого бы послать?
– Мелашку, о то пройдоха… то такая, что крiй Боже!
– Мелашку – черноокую?
– Да!
– Ну добре, позови ее сюда.
Заленский исчез, и через пять минут в комнату гетмана вошла Мелашка в белой суконной свитке с красным нанистом и дукатами на шее, с повязанною на голове розовою лентой и в красных сафьяновых сапогах. Мелашка в пояс три раза поклонилась гетману.
– Мелашка, ты гарная дивчина, я знаю; слушай, по вечерней зореньке пойди в сад Василия Леонтиевича и отдай так, чтоб никто не видел, это письмечко Мотреньке.
– Добре!
– Ну я тебе, как отдашь, куплю красную шелковую ленту.
– Спасибо! – Мелашка поклонилась в пояс.
– Ну, иди же.
Мелашка ушла. Гетман скоро лег в постель.
Вечером Мотренька, по обыкновению, гуляла в саду, и едва только успела сесть на пригорке против реки, из темного калинового куста тихонько вышла Мелашка, подошла к испугавшейся Мотреньке и подала ей письмо Мазепы, проворно схватила его Мотренька, развернула и, приказав Мелашке спрятаться в кусте, начала читать:
«Мое сердечне коханье!
Прошу и очень прошу раз со мною увидеться для устного разговора, когда меня любишь, не забывай же, помни слова свои: что любить обещала и мне ручку свою беленькую дала. И повторяю, и сто раз прошу, назначь на одну минуту, когда будем видеться для общего добра нашего, на которое сама же прежде этого соизволила, а пока это будет, пришли намисто с шеи своей, прошу».
Прочла Мотренька это письмо, и в уме ее родилась мысль, что оно подложное и едва ли это не дело ее матери.
– Кто писал ко мне письмо это, так его, вот так! – сказала Мотренька, разорвала письмо на две части и бросила в куст.
Мелашка ушла, Мотренька поспешно взяла куски письма, сложила их вместе, несколько раз прочла его и потом осторожно сложила его и спрятала.
Мазепа, опечаленный такою излишнею осторожностью Мотреньки, схватил лоскуток бумаги и написал:
«Мое сердечко!
Уже ты меня иссушила красным своим личиком и своими обещаниями.
Посылаю теперь до вашей милости Мелашку, чтобы о всем поговорила с вашею милостию, не стерегись ее ни в чем, ибо есть верная вашей милости во всем.
Прошу и крепко по нужде вашу милость, мое сердце спросивши, прошу, не откладывай своего обещания».
– Завтра буду в полдень к гетману! – сказала Мотренька Мелашке, прочитав письмо Мазепы. Мелашка ушла.
На другой день Любовь Федоровна уехала верст за десять от Батурина. Василий Леонтиевич также выехал. Мотренька, под предлогом посещения знакомых подруг, тайно пробралась в дом гетмана.
Мазепа сидел в своей парадной зале, вокруг него толпились негры, карлики, казачки; по углам и у дверей стояли рослые гайдуки; на персидском диване рядом с гетманом сидел винницкий ректор иезуит Заленский.
Гетман был страшно печален, гнев и слабость попеременно проявлялись в сумрачном его взоре, он смотрел на яркое отражение от солнца цветных стекол, игравших по стенам и на полу.
– Горе, Заленский, черное горе! – сказал Мазепа по-латыни и тяжело вздохнул.
– Ясновельможный, будет весело, когда закипит война за славу народа, будет весело, когда запылает кровавая месть за ясновельможную честь твою, думы черные твои улетят, когда прискачет к нам в Гетманщину непобедимый друг твой Карл и привезет тебе корону!
– Ох… ох… ох!.. Ты на словах, как на бандуре, играешь.
– Песня хороша, ясновельможный, потому и хорошо играю.
– Хмель хорош, да похмелье может выйти горькое.
– Э, ясновельможный, тебе ли еще говорить о похмелье?.. Ты, перед которым дрожат Польша и Москва, Крым и Царьград! Ты, друг и приятель шведов.
– Все так, да сердце болит!..
В эту минуту в комнату вбежала Мотренька, от утомления упала на диван подле гетмана и склонила голову на его плечо.
Мазепа поцеловал ее в голову, в уста, потом долго смотрел на нее с непонятным душевным состраданием, в черных очах Мотреньки горела пламенная страсть, Мазепа сделал знак рукой, и все окружавшие его, как тени, один за другим исчезли.
– Ты скучаешь, ты не рад мне… ты меня не любишь?
– Доню, доню, я скучаю от того, что ты забываешь меня, когда тебя нет со мною, я печалюсь, когда ты как птичка прилетишь ко мне, я опять печалюсь, что через минуту, через две тебя не будет со мною! – жалобно проговорил Мазепа.
Мотренька опустила глаза в землю.
– Как мне видеться с тобою, когда мать сердится и упрекает меня, что я люблю тебя, говорит, что она проклянет меня, отречется от меня, – где тогда в свете приклоню я несчастную голову… что тогда будет со мною в том свете!
– Недолго, доню, такую песню мати твоя будет петь.
– Недолго?.. Еще хуже, да от чего так?
– От того так, доню, что…
Мазепа опять смутился и не договорил речи.
Мотренька по-детски прижалась к гетману, радостно посмотрела ему в глаза и с улыбкой сказала, обняв его:
– Я все знаю, тату, не скрывайся от меня, поверь всею душою твоей, я не враг тебе… а будешь не доверять мне, и я не стану верить тебе… я слышала уже про твои думки…
– Слышала?.. Что ты слышала? – с удивлением спросил гетман.
– Слышала, и ты сам намекал, и я догадалась.
Гетман смотрел на крестницу с сожалением и удивлением.
Мазепа хорошо изучил сердце крестницы своей, он разгадал ее любовь, ее славолюбивое сердце, и поэтому-то уверен был, что для свершения его замыслов нужно время, старался распалять страсть, которая самовластно управляла юным сердцем Мотреньки. Старику не нужно было учиться разгадывать сердце девицы, с молодости привык побеждать и не знал неудачи, правда, был пример, но то необыкновенная женщина, самоотверженная, умная, воспитанная в страхе Божием, привыкшая побеждать себя во всем, дышать одной молитвой, презирать все земное.
В самом деле, казалось, легко было Мазепе владеть умом и сердцем Мотреньки: она сама готова была жертвовать жизнью для Мазепы, она, конечно, готова будет соединиться с ним неразрывными узами брака, она будет его женою, однако же как ни верным казалось это предположение, но оно далеко было не сбыточно: любовь Мотреньки было чувство кипучее и с первого взгляда казалось пламенной любовью, а в самой вещи, это – рассчитанная, холодная страсть. Эта любовь – любовь рассудка, а не любовь сердца, это любовь и не любовь, это даже противоядие того яда, которым отравляется чувственное, не очищенное духовным воспитанием сердце женщины. Сама Мотренька, ослепленная тщеславием, не умела хорошо понять своего увлечения: внимая сердцу, она не понимала, что оно побеждено гордым ее рассудком, который воспламенил ее любовью к славе, она ошибалась, полагая, что влюблена в Ивана Степановича: сердце ее просто принадлежит гетману. Так-то сильны и обманчивы обаяния эгоизма.
Седины гетмана нравились ей из-под гетманской шапки с страусовыми перьями, ее увлекали медоточивые слова Мазепы потому только, что они выходили из уст гетмана, она любила быть с ним вместе и желала никогда не разлучаться, ибо это давало сладкую пищу ее тщеславию, так сытно вскормленному примером и наставлениями матери… Мотренька плачет, вздыхает, горько смеется, задумывается – и все по одной и той же причине. Пламенное воображение ее вечно занято: оно представляет ей гетмана, торжественно принимающего шведских, польских, турецких и татарских послов, и она подле него сидит: ей отдают честь, какую следует отдавать жене гетмана, ее окружают девицы, жены знатных лиц, пред нею все преклоняется, тысячи уст хвалят, превозносят ее величие, красоту, и она одним мановением руки мечтает располагать судьбою целой Гетманщины. В золоте, в блеске гетман ездит по рядам войск, за ним следует пестрая многочисленная свита его, Мотренька сидит в замке у окна, любуется войсками и думает: «Это ездит повелитель стольких тысяч народа, и мое одно слово повелевает им!» Сладки ей эти мечты, тешат они женское самолюбие, питают и растят демонскую страсть тщеславия.
Так мечтала Мотренька и, приезжая к гетману, требовала от него неотступно откровенности во всем – она мельком слышала уже от отца и матери про его замыслы, и сама домогалась быть в них советницей и участницей. Мазепа не устоял против ее просьбы, да и собственная душа его, переполненная надеждами и опасениями, ее волновавшими, требовала участия, ехидное участие Заленского лишь пуще леденило его, он жаждал участия от сердца любящего, преданного, и вот находит его со своей крестницей.
– Слушай, мое сердце, я все тебе скажу. Давно хотел обнять тебя, доню, ты знаешь, сколько раз я посылал за тобою – все тебе нельзя было видеться со мною, и вот теперь счастливые очи мои увидели тебя, слушай, доню: ты знаешь, как сердце мое любит тебя – никого на свете не любил я так, как люблю тебя – живу тобою, для тебя я задумал страшное дело… – Мазепа огляделся по сторонам, – хочу, чтоб ты была не женою гетмана, а славною королевою! Так, доню, моя милая, ты родилась царствовать и будешь царицею… тогда мать твоя, которая безбожно мучит тебя, в ногах твоих будет лежать, я сам перед тобою преклоню седую голову, сам первый буду повиноваться тебе. Но до этого дай мне беленькую ручку свою, что будешь моею женою… дай, доню моя, для твоего и моего счастия… укрепи меня в любви своей скажи, что будешь моею, и я стану кончать то, что давно затеял, все уже готово… я жду только одного твоего слова: докажи, что любишь меня, и я – король! На голове твоей засияет корона!.. Дай мне ручку свою! Скажи, будешь моей женой?..
– Я… дочь твоя!..
– То совсем другое дело, – сказал Мазепа и засыпал ее иезуитскими софизмами: – Закон – для казака, воля – для короля, короли пишут законы, короли и переменяют их, когда это полезно, папы разрешают всякие узы, всякий грех… есть у тебя отец, он и останется отцом… Я буду тебе король и раб: согласна, скажи одно слово и – все кончено!
– Согласна…
– Доню, подумай хорошенько, раз ты именно согласна, доню, моя милая, с твоим согласием ты должна уже, как настоящая королева, стать превыше всего… ничего и никого не жалеть, у тебя уже не должно быть никого родного, кроме меня одного… мать и отец твои с этой минуты не мать и не отец тебе, согласна или нет, подумай, Мотренька, подумай и помни, что тебя ожидает диаментовая королевская корона – не будет во всем свете равной тебе!
– Согласна, – тихо прошептала Мотренька.
– Согласна?.. Ну дай же мне в верность беленькую ручку!
Мотренька подала ему руку.
– Слушай, Мотя, моя милая Мотя, ты уже не доня моя теперь, ты – моя Мотя!.. Я во всем откроюсь перед тобою, как уже перед моею царицей, суди по этому, как я люблю тебя: говорю тебе, я задумал великое дело! Ты сама видела и знаешь, что Польша, Швеция, Турция и Крым любят меня и все меня боятся. Король шведский верный друг мой, московский царь – мой враг; Мотя, моя милая! Со мною заодно Швеция и Польша, заодно будут Турция и Крым, соберутся войска в Гетманщину со всех сторон, закипит война, сам поведу полки в Московщину; там все, кто враг Петру, – зичливые приятели и верные други и приятели Мазепы, а ты сама знаешь, сколько у Петра врагов – все то наши: сами все руками отдадут – сам возьму рушницу и буду впереди всех – завоюем Москву… и тогда короли наложат на эту седину корону! Вот что я затеял.
– Я поеду в Москву? Я буду видеть, когда тебя сделают царем – поеду я с тобой?
– Пожалуй, ну слушай же: тогда в моих руках будет Москва и Гетманщина, и буду я царем великим и сильным, Польша будет у ног моих, Крым мы завоюем с Карлом, Турция сама нам поддастся, не ей воевать тогда с нами, и будет два царства великих – шведское и мое… и ты будешь моею царицей, Мотя моя милая, ты будешь моей царицей!
Он целовал ее, Мотренька восторженно улыбалась.
– Скоро ли это будет! Ты сидишь в Батурине и не едешь на войну. Поезжай, и я поеду с тобой… я не останусь здесь.
– Но как же я возьму тебя? Сам я скоро поеду.
– Как меня ты возьмешь? Требуй у отца и матери, чтоб они отпустили меня, ты гетман и крестный мой отец – могут ли они отказать тебе… а не то я тайно поеду с тобой.
– Тайно – нехорошо: надо просить, а если откажут?
– Нет!
– Ну, я буду просить – нарочно приеду к ним, и завтра же.
– И хорошо. Когда ты будешь царем, венчаться мы будем в Москве? – спросила Мотренька и внимательно смотрела на него своими прекрасными глазами. – Матушка мне говорила, что в Москве жить страшно: там живут одни москали.
– В Москве! В Москве! Пусть Москва меня венчает!..
– А жить где будешь?
– В Москве и здесь!
– По-царски будем жить!.. Скорей же! А то от нетерпения я не дождусь – умру от тоски.
Через некоторое время Мотренька, исполненная сладких мечтаний, сидела уже в своей комнатке, вслед за нею вскоре возвратились мать и отец.
Услышав, что в другой комнате Любовь Федоровна говорила Василию Леонтиевичу о чем-то с большим жаром и часто упоминала имя гетмана, Мотренька тихонько подошла к притворенной двери, приложила свое раскаленное ушко к скважине и начала вслушиваться в разговор.
– Теперь всем, просто всем известно, что он хочет изменить царю. Заленский то и дело, говорят, ездит в Польшу, от шведского короля каждый день приезжают в Гончаровку послы, к крымскому хану и на Запороги отослали двух сердюков, и говорят, скоро поедет и Орлик, пора, Василий, пора царю писать донос!
– Еще не пора, душко, обожди немного, нет у нас помощников!
– Пора, я тебе говорю!
– Ей-ей, не пора, дай разгореться пожару да обдумать дело!
– Горит уже и так по всей Гетманщине, что долго думать!
– Нет еще, тлеет, а не горит.
– Да когда же будет пора? Ах, Василий, Василий, дождусь ли я радостного дня, когда ты будешь гетманом, а я гетманшей – когда заблестит в твоих руках золотая булава?..
– Любонько, Богу молись. Он все даст, и скоро даст!
– Терпения не станет…
– Больше терпела, меньше терпеть.
– Когда бы твои слова да была правда!
– Правда, правда!..
– Тогда Мазепу в Москву – и голову отрубить… на куски разорвать, чтоб не жил на этом свете.
– Ему этого ожидать!
– Так и следует изменнику!
– Таки-так!
В беспамятстве отскочила Мотренька от дверей, убежала в сад, прилегла в шатре на диване и долго не могла прийти в себя, так сильно поразил ее слышанный разговор отца и матери.
«Что делать мне теперь… они узнали о тайном замысле гетмана – собираются погубить его. Мать требует, чтобы отец написал донос на гетмана… О, это ужасно – это бесчеловечно, они не знают, что дочь их живет для гетмана, что он – все ее мысли, ее заветные мечты, надежда, ее радость… не знают, какой гибельный удар и для кого они готовят…»
Мотренька склонила голову на стенку дивана и впала в бесчувственное состояние, снова очнулась, и опять страшно закипела ее кровь, сердце сильно забилось, и она не понимала себя, придумывала средства, как предупредить наступающее горе, и все, что ни представлялось рассудку ее, казалось слабым, недействительным; открыть ли эту затею Мазепе, любимому Мазепе? Но это было бы предательство родной матери. Умолчать? Значит, погибнуть самой вместе с гетманом; просить ли мать, чтоб оставила задуманный ею план?.. Но мать отвергнет просьбы дочери, отречется – проклянет ее. Мотренька хорошо знала гордый характер матери, и поэтому решила молчать обо всем слышанном, но торопить гетмана, чтобы скорее приводил в исполнение задуманный им план. Не дожидаясь дня, когда все улеглись спать, полетела к нему.
Было поздно, гетман спал; торопливо перебежала она чрез сад и прямо на крыльцо. Орлик, по настоянию Мотреньки, ввел ее в покои гетмана, но, не дерзая тревожить уснувшего Мазепу, предоставил на волю самой Мотреньки разбудить его. Смелою рукою отворила она дверь спальни, вошла, приблизилась к постели, схватила гетмана за руку, наклонилась к нему и спросила: «Ты спишь?»
Мазепа вздрогнул.
– Кто это?
– Я, твоя дочь, Мотренька!
– Мотренька, Мотренька!..
– Я, да, это я!..
– Зачем в такое время?
– Не спрашивай, но слушай!.. Ты любишь меня? Любишь ли ты меня – ну скажи мне, любишь ли ты меня?
Удивленный гетман спросонья молчал.
– Ты молчишь, ты не узнаешь меня, ты не любишь меня!
– Мотренька, доню моя… милая Мотя, что с тобою? Откуда ты прибежала? Теперь ночь, а ты ко мне пришла.
– Пришла… да, пришла… я тебя люблю.
– Доню, я сам тебя люблю… но что с тобою?
– Слушай, я узнала то, что сказать тебе не могу… но ради Господа Бога, если хочешь жить на свете, если хочешь быть счастливым, спаси себя и меня… Ты задумал начать войну против царя – ты говорил, что все уже готово, начинай же скорее, не дай опомниться твоим врагам, спеши победить московского царя – скорее надень на свою голову корону, и я с тобою буду счастлива, назло… послушайся меня и спасайся!
Она упала перед ним на колени.
Мазепа ласкал ее.
– Какая причина, что ты меня так торопишь начинать войну? Разве отец…
– Причину узнаешь после, а теперь не отвергни моей просьбы, не отвергни, тату, и себя спаси… и меня. Прощай, я убегу, меня могут спохватиться дома… тайно прибежала я к тебе – прощай!
Она поцеловала его в лоб, потом в руку и, как птичка, выпорхнула из его спальни. Гетман не успел и опомниться.
Мазепа думал, что это сон, а не действительность, он не мог постигнуть такого странного поступка крестницы, но, будучи всегда осторожен, тотчас сел за стол, написал письмо к шведскому королю и в ту же ночь отправил его с каким-то нищим, жившим в его замке, а на другой день сделал все распоряжения, чтобы казаки были в готовности к выступлению в поход.
Мысль, не больна ли Мотренька, не в жару ли она прибегала к нему, так занимала его, что на другой день после всего этого он поехал к Василию Леонтиевичу.
Любовь Федоровна, по обыкновению, вышла на крыльцо и с ласкою и радостию встретила гетмана. Василий Леонтиевич тоже. Мотреньки не было.
– А где же моя крестница – где дочка моя? – был первый вопрос Мазепы.
– Известно где, – отвечала Любовь Федоровна, – лукавый мутит ее душу. Вот скоро год, как она и день и ночь тоскует, плачет, ноет в горе – и сама не властна над своим сердцем, и теперь сама на себя не походит… горе мне, кум, с дочкою моею, тяжкое горе!.. Год назад тому в дом наш заезжали женихи, сватали ее – я и рушники приготовила, сундуки наложила приданым и отказала всем, приехал Чуйкевич свататься, и тому гарбуза поднесли, да и ты отсоветовал за Чуйкевича выдать ее – а вот теперь горе мне с нею, не знаю, что делать.
– Что делать, кумо моя, что делать, вот я тебя научу, что делать.
– Пойдем же в эту комнату, ясновельможный куме.
Мазепа, Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна сели в диванной. Любовь Федоровна и Мазепа на диван, а Василий Леонтиевич на стуле у дверей.
– Научи, сделай Божескую милость, что делать мне с Мотренькою!
– Что делать, что делать, слушай, кума, скоро уже, скоро новое солнце взойдет над Гетманщиною, скоро рассветет новый день – великий день, больше будет добрых людей, тогда и жених найдется Мотреньке. Когда ты любишь меня, отдай мне твою дочку.
– Как, куме!.. За тебя замуж, что ты это, Господь с тобою!.. Вот как!.. Я давно знала твои думки! Нет, пане гетман, пока я жива, не допущу дочку до такого нечестивого дела… нет, Иван Степанович, не бывать этому, говорю тебе, не бывать… слышишь, Василий, что затеял гетман? Такой песни мы еще не слыхивали, я давно уже замечала…
Василий Леонтиевич сидел ни жив ни мертв, вперив глаза в землю. Любовь Федоровна никому не давала слова сказать, никого не слушала. Ее давно уже мучили подозрения и догадки насчет гетманских шашней с Мотренькою. Давно выжидала она случая разгромить за это гетмана, да все как-то удерживала политика, а тут подозрительное сердце ее так уже наболело, ее догадки приняли такой вид достоверности, невыносимой для матери, что едва лишь Мазепа заикнулся: «Отдай мне Мотреньку» – Любови Федоровне во всем ужасе представилась картина позора и несчастия, которую гетман приготовил для ее семьи. Напрасно Мазепа старался оправдаться в ее глазах – львица, у которой отнимали дитя, была неукротима.
– Господь с тобою, кума моя, что это ты говоришь! Кто сказал тебе, что я собираюсь свататься к твоей и моей дочке? Господь с тобою, Любовь Федоровна, что это ты!
– Ты мне не говори этого, куме, сделай милость, ты мне не говори, я знаю все твои думки… знаю все… о, не на такую напали! Не через тебя ли дочка наша страдает? Не ты ли смутил ее сердце? Гетман, гетман, стыдился бы ты сам, боялся бы ты Бога! Ты стоишь уже одною ногою в домовине, а другую подпирает нечистый, ты хочешь погубить цветок, мой рожаный, – ты отец ее, за твоим племянником была родная ее сестра – не грех ли тебе и помышлять жениться на Мотреньке?.. Ты думал, я не знаю, что и теперь приехал к нам просить отдать за тебя ее. Господи Боже, зачем Ты не принял дочки моей, когда она была дитятею, я не знала бы такого горя, какое узнала теперь!..
Любовь Федоровна посмотрела на икону, сложила руки на груди, опустила голову и задумалась.
Василий Леонтиевич все сидел молча, смотрел на жену и поминутно то бледнел, то краснел.
– Слушай, кума моя, – начал Мазепа, возвысив голос, – слушай меня! – Он взял ее за руку. – Как ты себе хочешь, но мне кажется, ты не в своей памяти, ты нездорова!
Любовь Федоровна рванулась, вскочила с дивана, пристукнула ногою об пол и сердито закричала:
– Кто, я, я не в памяти! Ах ты, гетман нечестивый, что ты задумал! Ты хочешь дочь нашу, свою крестницу, совратить – старый… – она не договорила: сыч!
Мазепа смеялся и, обратясь к Василию Леонтиевичу, спросил:
– Сделай милость, скажи мне, куме, что сталось с твоею женою? Всегда была ласкова, а теперь бог ее знает, что это она говорит, что делает…
– Нет, гетман, нет, от меня ничто не утаится… я все знаю, что ты делаешь в замке. Знаю все думки твои!..
– И добре делаешь!.. Вот только какой ты еще думки не знала, слушай, я скажу тебе.
– Все знаю и слушать не хочу, ты лучше не мути души моей.
– Любовь Федоровна, я вижу, ты сегодня левою ногою ступила на пол, как вставала с постели, оттого ты и на себя не походишь, я своей крестнице, а твоей дочке ничего дурного не желаю… я хотел просить тебя, чтоб ты отпустила ее со мною в Киев, скоро еду я в Польшу, говорят, шведский король идет на нас войною.
– По твоей же милости!..
Мазепа не нашелся, что отвечать на эти слова. Василий Леонтиевич спрыгнул со стула и чуть не закричал: «Зачем ты проговорилась!» От внимания Мазепы не укрылись эти движения, он продолжал, заминаясь: «Слушай же… вот я хотел ее взять с собою и посватать в Польше за знатного пана или даже и графа… у нас в Гетманщине нет для нее достойных женихов, ты сама это знаешь… вот зачем я и приехал к тебе и чего хотел просить, а тебе недобрый нашептал на ухо черные думы – о, пусть Бог милует меня от такого злодеяния, какое ты взводишь на меня!..
В это время Мотренька стояла в другой комнате у дверей и слушала разговор матери и гетмана, сердце ее уж подлинно обливалось кровию, она не могла превозмочь себя и вошла в диванную.
– Ты зачем сюда, бесстыдница!.. Чего тебе нужно здесь: молодого жениха своего не видала? О, проклятое творение… иди отсюда, чтобы очи мои не видели тебя – ступай же отсюда, говорю тебе, ступай сию минуту!
– Мамо, мамо, за что ты проклинаешь меня?
– О, ты невинна, проклятая душа твоя, позор роду нашему!.. – громко закричала Любовь Федоровна, подбежала к Мотреньке и хотела вытолкать ее из комнаты.
Мотренька пала перед нею на колени.
– Мамо, мамо, помилуй меня – не проклинай меня! Что я сделала тебе, скажи сама, в чем я виновна… Мамо, помилуй меня!..
– О, ты ни в чем не винна!.. Ты не хочешь быть гетманшей! Ты ничего не задумала! Нет – ты праведница! – кричала разъяренная Любовь Федоровна и отталкивала от себя рыдавшую дочь.
– Пощади ее, Любовь Федоровна, пощади, за что ты мучишь ее – на твоей душе страшный грех.
– Грех! Я ее сгублю, проклятую, с этого света… я ее отравлю, повешу с собакою на один сук.
– Уйди отсюда, Мотренька, уйди, радость моя! – тихо сказал Василий Леонтиевич, взял дочь свою за руки, вывел ее в другую комнату, притворил дверь, отер своей рукой ее слезы и, плача сам, прижал ее к сердцу и горячо поцеловал ее в очи.
– Иди, доню, в сад, да не горюй: мать пересердится, гетман поедет в Польшу – и ты будешь счастлива; ты знаешь, как я тебя люблю.
Полуживая вышла несчастная Мотренька в сад.
– Вот и другой пара тебе! – сказала Любовь Федоровна, указывая пальцем на Василия Леонтиевича. – Я учу дочку, чтобы она доброю была… а он гладит ее по головке, – будет после этого добро!
– Ты сегодня, в самом деле, Любонько, сердита.
– Да молчи, говорю тебе! Ты разве не знаешь меня! О, я сейчас примусь за тебя – недолго будешь у меня… ворчать себе под нос.
Гетман взял шапку, поцеловал руку Любови Федоровны и сказал:
– Не сердись, кумо, ты и на меня бог знает что думаешь, и Василия Леонтиевича обижаешь, и дочку навек сделаешь несчастною… ей-ей, страшный грех! Знаешь, проклятие твое страшное!.. Не допусти себя до этого, я все перенесу от тебя, я кум твой – известно, люблю тебя и знаю, что ты таки сердита, мы… помиримся?
Мазепа уехал. Рассерженная Любовь Федоровна пошла в сад, отыскала Мотреньку и на чем свет стоит начала ее проклинать.
Недостало слез у Мотреньки; бледная, сидела она молча, не слышала уже проклятий разъяренной матери, не понимала себя и того, что с нею делается, от сильной боли в сердце и голове. Одно только она живо чувствовала: что мать разгадала ее тайный замысел, совесть нещадно представляла ей, что она – преступница без оправдания.
Василий Леонтиевич ушел в свою писарню, затворил дверь. Любовь Федоровна, возвратясь из сада, сильно застучала кулаками в его дверь и закричала:
– Отопри, дьявол, отопри сию минуту!..
Василий Леонтиевич вздрогнул, притаился в углу и молчал.
– Отопри, говорю тебе, а не то двери разобью!..
Василий Леонтиевич молчал. Любовь Федоровна посмотрела в замочную скважину, увидела присевшего в углу мужа и с новою силою застучала в дверь и закричала громче прежнего:
– Аспид! В углу спрятался – не спрячешься от меня нигде, отопри, говорю тебе!!!
Нечего делать, с трепетом Василий Леонтиевич отпер дверь, Любовь Федоровна схватила его за чуприну, добре таки потормошила и сказала: «Вот тебе за твою любовь ко мне… заодно с гетманом, постой ты у меня!..»
Василий Леонтиевич поцеловал руку Любови Федоровне и с покорностью произнес:
– Спасибо, Любонько, за науку, дай Бог тебе счастия и здоровья!
С этого времени жестокий характер Любови Федоровны превзошел всякую меру: укротить его не было средств, да и некому было, более всего страдала от нее Мотренька, которая, правда, от этих потрясений действительно стала приходить в чувство: видела бездну, в которую хотела было ринуться, готова была даже раскаяться и поступать согласно с желаниями матери, но вместе с этим не могла угодить ей ничем, что ни день, то ей приходилось хуже, и в сердце дочери, некогда так беспредельно любившей свою мать, расцвели полным цветом злоба и ненависть: несчастная дочь поклялась оставить дом отца и скрыться от матери.
Прежние мечты ее снова стали возвращаться и как бы узаконались невозможностью быть ей иначе; любимой мыслию Мотреньки было – обдумывать, как бы скорее привести в исполнение свою мечту, как бы счастливее исполнилась она, но не было возможности ускользнуть ей от взоров матери, которая, казалось, все предугадывала и стерегла дочь как нельзя строже, и подумать нельзя было уйти к гетману – она писала к нему:
«Мой свет ясный, мой сокол милый!
Где теперь летаешь ты, голубчик милый, что делаешь теперь? Ты забыл меня, ты разлюбил меня: а я плачу, а я горюю; скажи мне, сокол ясный, скоро ли буду с тобою, скоро ли выведешь меня из проклятой тюрьмы на свет Божий? Возьми меня к себе, беспечно буду жить я в дому твоем…»
Полетело письмо чрез девушку, преданную Мотреньке, и скоро было в руках гетмана, жившего тогда в загородном доме, в четверти версты от Батурина.
Гетман не переменился в отношении своем к Мотреньке, препятствия лишь пуще раздражали его. Он написал к ней в ответ на ее письмо:
«Мое сердце милое!
Сама знаешь, как я сердечно и безумно люблю вашу милость, еще никого на свете не любил так, было б мое счастие и радость, пусть бы ехала да жила у меня, только ж я не знаю, какой конец с того может быть, особенно при такой злости и заедливости твоих подлых родственников. Прошу, моя любезная, не изменяйся ни в чем, как уже неоднократно слово свое и рученьку мне дала, а я взаимно пока жить буду, тебя не забуду».
Любовь Федоровна ездила по своим родственникам и знакомым и везде распространяла слухи, желая повредить Мазепе во мнении о нем посполитства: что-де «безбожный гетман сам приезжал к нам свататься на крестной дочери своей» – называла его всякими позорными именами. Конечно, все паны слушали с ужасом, многие верили рассказам Кочубеевой; другие, зная характер ее, сомневались в слышанном, а были и такие, которые решительно утверждали, что гетман действительно приезжал свататься на Мотреньке, но Любовь Федоровна отсрочила-де до того времени, пока Мазепа не будет королем, а муж ее гетманом; иные прибавляли, что Любовь Федоровна сама давно уже старалась свести старика Мазепу с юною дочерью своей, в том предположении, чтобы после Ивана Степановича никому другому не досталась булава, а только Василию Леонтиевичу. Короче, для человеческой доброты и братолюбия необъятное тут поприще открыла сама Любовь Федоровна.
Через несколько дней Любовь Федоровна, обдумав свой довольно неприличный поступок против гетмана, поехала к нему: не с извинением, нет, это было не в ее духе, но для доказательства своей любви к нему. Мазепа хорошо понимал и знал сердце Кочубеевой, и поэтому принимал ее как близкую родную. В этот раз он должен был удвоить свое притворное расположение и выказывать любовь, которой и искры не было в его сердце, дабы совершенно примириться с нею и отклонить всякое подозрение, что он действительно хочет изменить московскому царю. Но не поверила Кочубеева словам гетмана, не изменила мысли, что гетман хочет совратить ее дочь, и поэтому-то не переставала мучить Мотреньку.
Прошло более недели. Мотренька не получала от Ивана Степановича ни строчки, словно его не было в Батурине. Ее не тревожила мысль, что гетман может ее забыть, она знала, что он полюбил ее с первого дня ее рождения, и была твердо уверена, что эта любовь не мгновенный пламенный порыв юношеской страсти, но крепкая любовь отца-крестного, и сама его любила более родного отца; в сердце ее преступная страсть тщеславия подавляла собою всякие другие движения девической любви. Она легко опомнилась было от своего увлечения при первых укоризнах матери, но беспощадное преследование ее заставило увлеченную девушку снова заняться старым Мазепой как единственным своим защитником, но защитником, которого она уже стала и бояться.
Со своей стороны, дряхлый старик любил дочь свою сильно, безгранично, даже пламенно, но никогда не дозволял себе забыться в своем обращении с нею, он утешался своею перепискою и свиданиями с Мотренькою, но неизвестность развязки его политических затей заслоняла собою все другое – и после погромки в доме Кочубеевой он даже сам не знал, чем у них кончится дело с крестною дочкою: он ужасался неудачи своих затей, церковной грозы, злился на Кочубеевых и отдыхал только за будущею индульгенциею папскою. За всем этим Мазепа чрезвычайно тревожился мыслию об участи крестницы, не спал покойно, был задумчив и грустен, не зная, в каком положении находится несчастная Мотренька. Он собрался ехать в Киев, хотелось ему увидеть Мотреньку, узнать, примирилась ли сколько-нибудь с нею мать. Поехать самому было неловко, легко могло случиться, что опять приехал бы в такой час, как и в прошлый раз, и Любовь Федоровна по-прежнему обошлась бы с ним не очень гостеприимно; рассудив хорошенько, Мазепа вынул прекрасные драгоценные серьги и написал к Мотреньке:
«Мое серденько!
Не имею известия о положении вашей милости, перестали ли вашу милость мучить и катовать уже; теперь уезжаю на неделю в одно место, посылаю вашей милости отъездного (гостинца) через карла, которое прошу милостиво принять, а меня в неотменной любви своей сохранять».
Письмо это и серьги Мазепа передал карлику, приказав ему вручить Мотреньке так, чтобы никто не видел; карлик хорошо исполнил послание гетмана, тайно вечером виделся с Мотренькою в саду, отдал ей подарок и письмо. Мотренька прочла письмо и сказала карлику, чтобы гетман до отъезда своего непременно бы свиделся с нею, что она сообщит ему весьма важное дело.
– Непременно скажи гетману, чтоб увиделся со мною, крепко скажи ему, наказывала я через тебя, чтобы приехал к нам, или хоть сам тайно, да где-нибудь увиделся со мною, скажи ему, что я несчастная и меня день и ночь мучат.
Карлик уехал. Мотренька, по обыкновению, раз десять читала и перечитывала письмо гетмана и потом в страшном волнении мыслей легла в постель, заранее восхищалась будущею встречею с гетманом. Сон бежал от нее, и только к свету, уже истомленная, она смежила на несколько минут глаза.
Прошел день, от гетмана – ни слуху ни духу. Мотренька с утра до позднего вечера ожидает его: сидит у окна и смотрит на Батуринскую дорогу, не едет ли кто… нет, ожидания напрасны; с тоскою и черною скорбию поздно легла она в постель, все еще мечтала о предстоящей встрече, и вновь наступила ночь, месяц совершил обычный путь свой, зашел за синие горы, зарумянился восток, засияло солнце, запели птички, зажужжали пчелки, собирая мед с пестрых ароматных цветов, опять сидела Мотренька у окна и ожидала гостя, и по-прежнему Батуринская дорога черною змиею вилась по зеленому полю и вместе с ним сливалась с голубым небом – а едущих путников не было.
Рано утром на третий день, когда Мотренька еще лежала в постели, лелея свою любимую мечту, пришла к ней служанка, подала записку от гетмана и сказала, что ее принесла ночью Мелашка.
Мотренька развернула записку и прочла:
«Мое серденько!
Тяжко болею на тое, що сам не могу с вашею милостию обширне поговорити: що за отраду вашей милости в теперешней печали учинить могу? Чего ваша милость по мне потребуешь, скажи все этой девке в остатку, когда они, проклятые твои родные, тебя отрекаются, – иди в монастырь, а я знаю, что на той час с вашею милостию буду делать; и повторяю пишу, извести меня ваша милость».
Неприятно было Мотреньке получить письмо и не видеть самого гетмана, поспешно отправила она Мелашку обратно, приказала ей передать гетману, что она ждет его самого, и до тех пор, пока не увидится с ним, будет еще сильнее болеть ее сердце.
Прошло несколько дней, ответа не было, а потом она узнала, что гетман выехал из Батурина.
XX
Тихо скатилось солнце за синевшие вдали горы, и золотой запад мало-помалу потухал, на прозрачном голубом небе загорелись одна за другою ясные звездочки, молодой месяц тонким золотым серпом обрисовался над черною старою кровлею дома Генерального судьи; сладостный сумрак покрывал окрестность; маленький ветерок, дышавший ароматом степных цветов, тихо перелетал с куста на куст и пробуждал дремлющие листки и ветки серебристых тополей.
Любовь Федоровна сидела у растворенного окна в сад, прислушивалась к какому-то странному крику – словно то был плач младенца, время от времени вздрагивала, бледнела, в испуге крестилась и творила про себя молитву.
В комнату вошел Василий Леонтиевич.
– Сядь и слушай, Василий.
– А что там?
– Слушай, говорю тебе, радуйся нашему горю!
Василий Леонтиевич повиновался жене, сел подле нее на стуле и начал вслушиваться.
– Сыч? – спросил он, наклоня голову.
– Сыч!
– Точно, сыч!
– Сыч, разве не слышишь, и уже третью неделю кричит в саду перед домом, горе нам, Василий, тяжкое горе, придется кого-нибудь схоронить!
– Господь с тобой, Любонько: покричит да и перестанет.
– Нет, Василий, недаром кричит: накричит он нам лихую годину, говорю тебе, кто-нибудь да ляжет в могилу, хоть бы и легло, да не доброе!..
– Слава богу, все здоровы! – сказал Василий Леонтиевич, покачав головою.
– Все здоровы сегодня, а завтра и умереть можно – такое дело, а как знать, может, и я умру, и за тебя не поручусь, не поручусь и за Мотреньку, да уж по мне, если бы в самом деле Бог принял душу Мотреньки, меньше бы печали было в этом свете! Ей-же-ей, уже так далась она мне, знать, что Господь Бог один знает!
– Любонько, что она тебе сделала?..
– Что сделала, идет против меня – наперекор всего, не слушает слов моих, что ж это за добрая дочка, Господь с нею!
– Е-е-е… душко, не бойсь, не станет посереди дороги твоей, не будет гетманшею: Иван Степанович любит ее как свою крестницу, ты, враг знает, что вытолковала… ей-ей, смех мне с тобою, душко моя милая, да и только, Мотренька – дочка, как и у всех добрых людей водятся дочки…
– Не говори мне этого, я лучше тебя знаю, что задумала Мотренька… Слушай, сыч все кричит, ой, право же, целую ночь спать не буду от страха. Ты, Василий, приказал бы его согнать или просто из рушницы убить.
– Как хочешь, так и скажу, чтобы сделали.
– Убить, Василий, сей час пошли убить проклятого сыча!
Василий Леонтиевич пошел отдать приказание убить сыча, а в эту же минуту в комнату, как тень бледная, вошла Мотренька.
– Наплакалась уже за гетманом – о, убоище! Для горя и печали родила я тебя… знала бы, что такою будешь, маленькую бы закопала в землю!
Мотренька тихонько вздохнула и молча села в углу.
– Чтобы ты мне не смела показываться, когда приедут гости! Посмотри в зеркало: ты сама на себя не похожа. Вот как проклятые мысли иссушили тебя, одурили несчастную твою голову. Гетманствовать задумала! Обожди немного, дочко, есть еще кому прежде тебя погетманствовать… ты еще молода, крепко молода, отец твой знатный человек, да и тот боится Бога, не сразу хватается за булаву, а ты, так куда, вот так и лезешь на шею крестному отцу: «Возьми меня за себя замуж да возьми!» Да ты бы стыдилась и думать об этом, а не только делать. Мазепа твой крестный отец, что ты задумала, глупая голова твоя! Неужели в злополучной голове твоей и столько нет ума обдумать, что он не может быть твоим мужем! Ах, головонько моя бедная, и не жалела бы я, если бы ты еще дитя была… а то смотри на себя!
Мотренька молчала: она привыкла равнодушно слушать слова и нарекания матери.
– Молчишь, проклятая душа твоя, молчи, молчи – я скоро на веки вечные зажму рот твой!
Мотренька встала, подошла к матери, желая поцеловать ее руку и уйти спать, со злобою оттолкнула мать несчастную дочь, и Мотренька со слезами на глазах и скрытою скорбию в душе пошла в свою комнату, стала на колени перед образом и пламенно молилась. О, если б она молилась не за себя, а против себя!.. А то она молилась, чтоб Господь помог ее грешным замыслам!.. Праведно слово: «Просите – и не приемлете: за не зле просите, до во сластех ваших иждивете!» Ох-ох-ох! Так-то и сплошь у нас на белом свете: молимся за свое «я», чтоб здравствовало и полнело, а того и не берем себе в толк, что я-то наше и должно быть пропято на смерть, что в этом-то и блаженство и назначение человека.
На другой день она подробно передала состояние своей души и обхождение с нею матери Мелашке, которая каждый день по возвращении гетмана в Батурин являлась к ней узнавать о здоровье. На третий день Мотренька получила от Мазепы следующее письмо:
«Моя сердечко коханая!
Сильно опечалился, услышавши, что эта палачка не перестает вашу милость мучить, что и вчера тебя терзала; я сам не знаю, что с этою змиею делать? Вот моя беда, что с вашею милостию свободного не имею часу о всем переговорить; больше от огорченья не могу писать; только, что бы ни было, я, пока жив, буду тебя сердечно любить и желать всего добра не перестану, и второй раз пишу не перестану, на зло моим и твоим врагам!»
Печаль и тоска так усилились в душе несчастной дочери Кочубея, что она готова была отчаяться на все: мысль скрыться с глаз матери была теперь любимою ее мыслью, открыть это отцу и просить помощи его в горе Мотренька не решалась, видя, что мать помыкает также и отцом, как и ею, и поэтому все свои надежды сосредоточила она в гетмане. Злое обхождение с нею матери послужило отчасти к тому, что она перестала уже мечтать о гетманстве и желала только где-нибудь приклонить спокойно голову и не слышать ежеминутных проклятий родной матери. Уйти в монастырь, как писал Мазепа, – но в какой, ведь это также нелегко; и, подумав хорошенько, она решила ожидать встречи с гетманом.
Василий Леонтиевич был занят своим сычом, он никаким средством не мог убить его или выгнать из сада: осторожный зловестник, увидя подходящих к дереву, на котором постоянно пел свою предвозвестную печальную песнь, слетал и садился на другое дерево, а ночью, когда уже все покоились мертвым сном, перелетал с дерева на дом, садился на трубе и продолжал кричать до утренней зари.
Любовь Федоровна заключила, что в образе сыча является нечистая сила – домовой, и беды не избежать, разве только выехать со всем семейством в Диканьку или Ретик или в другую деревню.
Психологи не разгадали еще тайны «предчувствий и предзнаменований», а факт их свидетельствуется историей всех веков и народов. Не властен ли Владыка всей твари велеть одной из них напомнить о Себе другим? Когда человек не слушает внутреннего голоса: «Покайся! Смерть и суд – у двери!» – вся тварь становится проповедником и напоминает заблудшему грешнику: «Покайся! Близь есть – у двери!» С любовию, смиренно и покорно встречают таких предвозвестников вера и самоотвержение, с трепетом, с ненавистью бежит от них суеверие своекорыстного «я»: в отчаянии оно думает – истреблением провозвестника избежать неизбежности покаяния или погибели: «Убей его!.. Выедем из этого дома… уедем в Диканьку!» – а между тем предзнаменование, какое бы то ни было, откуда бы оно ни было, не прейдет, потому что грешнику не миновать расчета за свои грехи, куда бы он ни скрылся, за какую бы твердыню суеверия своего ни спрятался.
Есть и должны быть «знамения времен»: общие – для народов, частные – для каждого в его жизни; для того чтоб мудрые девы не засыпали, блюли свои светильники и всегда готовились на радостную встречу благотворной воли Всеправителя, а юродивые – чтобы опомнились, покаялись и последовали бы за мудрыми в волю Божию.
Есть и суеверные приметы! Собака твоя завыла, курица петухом запела, левой ногой ступил, соль просыпалась, переносица зачесалась, зловещий зверь перебежал дорогу, ворон над головой прокаркал, тринадцатый пришел к обеду – суеверно ли ты веришь этим предвестникам или, святою верою одушевляемый, проходишь мимо всего этого спокойно, – знай: все то, что ты верою принимаешь за предзнаменование, не беду тебе предвещает, а спасение: только покайся, вступи в волю Божию и с миром и любовию дай событиям идти, как им Всеправитель назначил, а не покаешься – беды не минуют грешника для его пробуждения, но все-таки не от воя собаки – покойник или пожар, если б и случилось, а от воли Божией: покойник и пожар может и не быть, а покаяние – всегда пригодно, а слезы сокрушения зальют всякий греховный пожар души. Не бей же собаку за то, что выла, не гони из дому тринадцатого, который шел к тебе совсем не для смерти чьей-либо, а бей свое зачерствение, гони свое неверие, нераскаяние, иначе ни в какой Диканьке не спрячешься от беды… Не потому, будто бы сыч накричал ее, а потому, что ты – грешник нераскаянный.
Василий Леонтиевич был не рад такой мысли Любови Федоровны, он не мог выехать из Батурина по своей должности, а оставить его одного, без своего надзора, Любовь Федоровна не решалась: «Ты как маленькое дитя, на тебя мне нельзя положиться, всего наделаешь… горе мне с тобою, будем же сидеть здесь да слушать проклятого сыча!»
Василий Леонтиевич молчал и едва-едва переводил дух, когда Любовь Федоровна делала ему подобные замечания, относившиеся к слабому, или, лучше сказать, чрезмерно доброму сердцу. Любови Федоровне было досадно, что Василий Леонтиевич молчит, когда она делает ему наставления, а когда он начинает оправдываться, она же кричит: «Зачем оправдываешься!» Часто сама не знала, чего она хотела, уж такое было у нее сердце.
Серпообразный золотой месяц стал уже полным месяцем и ярко светил, плавая среди перламутровых туч, рисовавшихся на сапфирном небе.
В один вечер Любовь Федоровна вошла в сад и с трепетом приблизилась к той просади, на которой кричал сыч; она взяла небольшую палку и бросила в него, сыч слетел и сел у самого окна комнаты Василия Леонтиевича. Любовь Федоровна в испуге, словно вслед за нею стремятся тысячи смертей, побежала к дому и, вбежав на крыльцо, вздохнула и едва могла перекреститься: руки и ноги ее дрожали, по всему телу выступил холодный пот. Но чего испугалась она? Своей греховности, нечистоты своей, хотя и не сознавала этого. Вошла в комнату, приказала покрепче запереть ставни и зажечь лампадку пред образами, осмотрела все углы в комнате, помолилась о спасении своего «я» и в страхе легла в постель; сон не мог одолеть ее – черные мысли, тягостные, непонятная печаль язвили ее сердце.
Василий Леонтиевич сидел один-одинехонек в своей писарне: у стены стоял длинный простой деревянный стол, окрашенный черною краскою, в углу над столом горела огромная лампада пред иконою Небесной Владычицы, на столе против Кочубея стоял черного дерева крест с резным слоновой кости распятием – дар Генеральному судье одного польского графа, который несколько лет назад сватался к Мотреньке и получил отказ.
Перед распятием горела свеча, вдоль стен стояло до десяти стульев, черного цвета, деревянных, точеных, с высокими спинками, в противоположном углу – дубовый шкап, в котором за стеклянными дверцами виднелись стеклянные медведи с бочками, наполненными рябиновкою, сливянкою и вишневкою, большая бутыль с водкою, настоянною на стручковом перце, перечница из дерева и такая же солонка, в углу серебряные две чарки с надписью на одной: «Пиите, братцы, пока пьется, як помрем, так все минется». На голубенькой тарелке лежал кусок черствого бублика и книша.
Василий Леонтиевич обыкновенно всех приходивших, и простых казаков, и посполитых людей, угощал наливками и, по обыкновению, всегда сам пил с ними.
Небольшое окно с круглыми стеклами было растворено, золотой месяц смотрел в писарню и, казалось, наблюдал, что делается в душе Василия Леонтиевича, лучи его светлою полосою падали на стол. Свеча так нагорела, что свет месяца победил свет ее. Кочубей, облокотясь на правую руку, сидел в глубокой задумчивости: казалось, он прислушивался к заунывной песне сыча, который то отлетит от окна, то чрезвычайно близко сядет к нему, никогда еще не надоедал он своим криком так сильно, как в этот вечер.
Терпение Василия Леонтиевича начало истощаться: он решил пойти узнать, спит ли жена и если не спит, взять ружье, из окна присмотреться, где сидит докучливая птица, и убить ее, но едва только Василий Леонтиевич встал со стула и сделал один шаг к дверям, как сыч слетел с дерева, сел на окно и громко закричал. Василий Леонтиевич испугался, затрепетал всем телом и остолбенел от ужаса; прокричав несколько раз, сыч слетел с окна в сад. Василий Леонтиевич возвратился к своему месту, подумал: «Помолюсь и пойду спать!» – с этой мыслию стал он пред образом молиться, вдруг сыч влетел в комнату, облетел несколько раз вокруг нее, громко прокричал раза три, чуть не задел Василия Леонтиевича по голове крылом и вылетел в сад, свеча от его полета потухла.
От страха Кочубей не кончил молитвы, выбежал из писарни, приказав встретившемуся слуге потушить лампаду и затворить окно, сам поспешно разделся, от страха закутал голову в одеяло и закрыл глаза.
В эту же ночь по берегу прозрачного Сейма по дороге из Бахмача ехал верхом видный собою казак; ясный месяц освещал его смуглое лицо, и луч месяца ярко блестел в черных очах казака, темные большие усы придавали ему грозный вид, на плечах его была накинута серая бурка, при свете месяца казавшаяся почти черною. Бодрый статный конь бежал небольшой рысью, казак не понуждал его, казалось, он наслаждался прекрасным тихим вечером, любовался то золотыми волнами Сейма, купавшими месяц, то всматривался в сумрачную даль и прельщался мерцавшим в поле огоньком, разложенным пастухами; от скуки казак напевал сквозь зубы песенку, направо от него чернелся лес, а за ним начинался сад Кочубея, казак сюда ехал, покрутил усы и, подъехав к лесу, запел:
Ой, кто в лесе, озовися? Да выкрешем огню, да запалим люльки. Не журися…– Не журися!.. – крикнул казак во все горло, и голос его громко отозвался в тишине леса. Потом он вынул из кармана люльку, тютюн, кремень и кресало. Набил люльку, закурил ее, и тонкой струйкой заклубился дым.
Начался сад Василия Леонтиевича, обсаженный высокими пирамидальными тополями. «Кто-то плачет в саду, не Мотренька ли, дочка Кочубеева? Чего доброго, не диковинка, мать такая, что и на ночь выгонит дочку… несчастное дитя!.. Что за несчастное! Дурная девочка, давно уже, если б захотела, приехала к Ивану Степановичу и спокойно себе жила бы у него, – никто б не знал, где и делась, разве у нас этого не случалось, ого-го… что и вспоминать: сказано, глупая голова! Ну, да сама на себя пусть и жалеет!.. Да что за черт кричит?»
Казак начал вслушиваться: плачущий голос то умолкнет, то опять протяжно раздастся среди сада и повторится в лесу. Казак не трус, а все-таки страшно, свистнул от страха и для храбрости – плач послышался сильнее, свистнул сильнее, свистнул другой раз, да уже слабее первого раза, трусость взяла свое. Сыч закричал громче.
«А… проклятый птах, вот кто плачет – сыч! Тьфу ты, проклятый, – казак перекрестился. – А я так уже и думал, что мавка где-нибудь на берегу потешается да меня поджидает, чтоб залоскотать да в воду до себя потащить… Господи, помилуй!..»
Казак опять перекрестился, сильнее прежнего поторопил коня. Подъехал к калитке сада, соскочил с лошади, привязал ее к частоколу, тихо отворил калитку и вошел в сад. Осторожно приближался он к дому, пробираясь между кустами акации и сирени, и вышел к окнам комнаты Мотренькиной, легонько постучал в ставень и отошел; на дворе, послышавши чужого, залаяли Серко и Рябко, прибежали в сад, но Дмитрий был им не чужой, он приласкал их, и собаки замахали хвостами, увиваясь подле гайдука, присевшего за темным кустом сирени.
Сыч утих, над рекою свистал пастушок, а далеко в сумрачном поле за рекою по временам громко кричал перепел. Золотой месяц плыл по чистому темному сапфиру неба, что-то белое мелькнуло у самого крыльца дома, Дмитро начал всматриваться, белый образ движется, и все ближе и ближе к нему. «Это она, это панночка Мотренька», – подумал Дмитро, вскочил со своего места, подошел к Мотреньке, поцеловал у нее руку, отдал письмо от гетмана и сказал:
– Гетман приказал вам кланяться и спросить, как поживаете: здоровы ли вы, не скучаете ли? Жалеет, что вы его совсем забыли, не отвечаете на письма; нарочно теперь я привез Генеральному судье письма, да и к вам зашел. Спит батюшка? Крепко нужные универсалы от гетмана.
– Что гетман спрашивает: он добре знает мое горе, сколь раз Христом Богом молила я позволения жить в его замке, ни отец, ни мать не знали бы, где я делась, подумали б, что я утонула с горя, а я спокойно бы жила себе да жила.
– Гетман не знал, верно, что ваша милость желаете, а то давно бы уже у него жили.
– Горе мне, Дмитрию, тяжкое горе, не увидит уже меня ни гетман и никто в этом свете, я говорю тебе правду, гетман сам причиною: не жить мне больше на белом свете, я тебе истину говорю.
– Господь Бог да сохранит вашу милость.
Мотренька вздохнула и склонила голову на грудь.
– Не горюйте, ваша милость, Бог даст счастие!
– Нет, Дмитрию, нет, не жить мне больше, на том свете покойнее будет, другой матери там не будет, такой, как у меня.
– Да Ивану Степановичу как только скажу я, что ваша милость хотите ехать к нему, так с радостию пришлет меня за вами.
– Возьми меня с собою; где Иван Степанович теперь живет?
– В Гончаровке… Да как же мне вас взять, когда я верхом приехал? Разве ваша милость полагаете, если бы я приехал в повозке, не взял бы вас… Я знаю, за то, что привез бы вас в Гончаровку, у меня полная шапка была бы карбованцев.
– Возьми, Дмитро, меня, когда хочешь, чтобы я осталась в живых, а то сама себя отравлю…
– Ваша милость, как же я вас возьму?
– Как хочешь, вдвоем поедем, ты сядешь на коня и меня возьмешь к себе: теперь славный час, все спят как убитые, никто и не догадается, куда я делась.
– Как хочете, ваша милость, пожалуй, поедем.
– Едем! – сказала радостным голосом Мотренька, прикрыла голову беленьким шейным платочком, завязала его под шейку, взяла за руку Дмитрия и торопливо выбежала с ним чрез калитку из сада. Дмитрий сел на лошадь, взял к себе на руки Мотреньку, прикрыл ее своею серою буркою, ударил коня нагайкой и помчался в сумрачную даль с бесценною ношею, и только слышен был топот конских копыт, но и он скоро замер в степной дали.
Заря румянила восток, холодный утренний ветерок освежал вершника, быстро приближавшегося к гетманскому дому, конь весь покрыт был пеною и так изнеможен, что, казалось, через минуту должен пасть, но казак, несмотря на это, еще сильнее торопил его, и вот вдали засинели горы и сливались с голубым небом, кое-где зеленелись лески и белелись хуторки, по сторонам дороги, по которой ехал путник, цвела душистая греча, и казалось, все поле было покрыто снегом; в стороне чернел высокий дом гетмана, и забелела вокруг него каменная ограда, за домом, еще выше, была видна старая деревянная церковь.
Дмитрий подъехал к дому со стороны сада, осторожно опустил Мотреньку на землю, слез сам, оставил коня и быстрыми шагами поспешили оба в густоту сада… Через минуту Мотренька стояла пред удивленным гетманом.
– Откуда ты взялась, доню, как ты приехала ко мне?
– С Дмитром, на коне!
– Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, ты и сама не знаешь, что может быть от этого!..
– Никто не знает, куда я делась: ты меня скрой в своем доме, и я счастливо буду жить.
– Дочко моя милая, любонько, моя голубко сизая, не можно сделать этого, – люди узнают: что тогда на свете делать мне с тобою? Злые языки скажут, что я сам ночью украл тебя из отцовского дома и живу с тобою как с беззаконницею, доню моя, доню, тяжкое горе ожидает меня с тобою!
– Я буду жить с тобою!
– Какая ж ты, доню: разве я тебя не люблю? Так не теперь же это все, не спеши ты: и меня, и себя погубишь, не можно, доню, всего сделать, что ты хочешь, потерпи немного, я надену, говорю тебе, на твою голову золотую корону, ты будешь у меня царицею… Но все-таки не теперь, послушай меня, доню, послушай, дочко моя милая, совета моего: поезжай назад, да скорее, чтобы не догадались мать и отец, где ты была, а я, как только можно будет, сам за тобою приеду и таки уж выпрошу тебя у матери и отца и возьму с собою – ты слышала, что мать говорила мне, она в самом деле полагает, что я приезжал свататься на тебе.
– Ты меня хочешь совсем замучить.
– Кто хочет, доню, я счастия тебе желаю!
Мазепа обнял Мотреньку и заплакал.
– Ты, галочко моя ясная, сама знаешь, как я тебя безумно люблю… ты знаешь, что я сам умираю без тебя, да что ж делать, доню моя милая. Эй, хлопче, скажи, чтоб духом, мигом запрягли турецкого коня и пару гнедых в бричку! Поезжай, доню моя милая, поезжай, квете мой рожаный, терпи горе, а там и счастье придет.
Мотренька плакала и не отвечала на слова гетмана.
Запрягли лошадей. С громким плачем бросилась Мотренька на шею Мазепы, сказала:
– Прощай, прощай, ты меня не любишь!..
Выбежала на крыльцо, села в кибитку и закрыла платком свои пламенные очи.
Кибитка быстро умчалась.
XXI
Напуганный вечерними криками и полетами сыча, Василий Леонтиевич рано встал поутру, долго, задумавшись, ходил он по саду, куря люльку, потом, желая рассказать все бывшее с ним вчера Мотреньке, пошел в дом и спросил у встретившейся девушки:
– Спит Мотренька?
Девушка громко заплакала.
– Чего ты, дурная, плачешь! Пани спит, а она голосит на все горло, дурище!
– Как мне не голосить, когда панночка не знаю куда делась.
– Где ж она? – с беспокойством и волнением спросил Кочубей.
– Не знаю, вчера легли спать и затворили дверь, сегодня я встала рано, рано вошла к ним в комнату, гляжу на постель – и нет панночки.
Кочубей догадался, всплеснул руками, хватился за голову и сказал: «Бедная голова моя, бедная… несчастный отец я на этом свете… ах, горе мне, горе!..»
Он побежал в сад и послал служанку также посмотреть, нет ли Мотреньки в саду. Все кусты пересмотрели – нет панночки. На крыльцо вышла только что проснувшаяся Любовь Федоровна.
– Чего это так рано шатаетесь в саду… эй вы, злодейки! И ты, старый, туда! – сердито закричала Любовь Федоровна, увидев в саду бегавших девок и Василия Леонтиевича и полагая, что девки, пользуясь ее сном, лакомятся в саду малиной, клубникой и смородиной.
Кочубей обмер от страха: он не знал, открыть ли жене побег Мотреньки или еще до времени умолчать, надеясь, что, может быть, она сидит где-нибудь в саду, но потом подумал, если отыщут ее, если в самом деле она убежала, тогда великое горе будет и ему, – решился Любови Федоровне открыть несчастие.
– Недаром, моя душко, сыч кричал в саду! – сказал Василий Леонтиевич, целуя руку жены.
– А что?
– Мотренька неизвестно куда делась!
– Вот тебе и радость! Куда делась, известно, куда ее душу проклятый тянул – она теперь у гетмана, разве ты думаешь, где она… да и не ищите, пусть пропадет!..
Нежный отец в беспамятстве бросался то в одну сторону сада, то в другую, то бегал с криком отчаяния в дом, звал к себе дочь, называя ее по имени, но все было напрасно, Мотренька не являлась, изнеможенный, Василий Леонтиевич от душевного страдания в саду свалился с ног, его внесли в комнату и положили в постель.
Любовь Федоровна в каком-то неестественном расположении духа ходила из комнаты в комнату. Потом вошла в комнату Василия Леонтиевича, посмотрела на его бледное лицо и сказала:
– Куда ж таки так жаль дочки, умирает без нее, есть кого жалеть, ну уж отец, Господи, прости меня грешную, я женщина, баба, а все-таки по пустякам не доведу себя до такого положения!..
Обратясь к слугам, приказала подать холодной воды и полотенце. Слуга принес в кружке воду и полотенце с вышитыми красною бумагою орлами. Любовь Федоровна помочила полотенце, положила его на голову Василия Леонтиевича, приказала не беспокоить его, притворила в комнате дверь и вышла в сад с тою мыслию, не отыщет ли Мотреньку, и заранее придумывая для нее наказание. Обошла сад кругом и вышла чрез калитку к реке; вдали мчалась бричка, запряженная тройкою коней. «Не она ли?» – подумала Любовь Федоровна и решила дожидаться приближения брички.
Через несколько минут бричка остановилась у самой калитки, из нее поспешно выпрыгнула Мотренька, не видя матери, хотела бежать в сад, Любовь Федоровна схватила ее за руку, сильно сжала и сказала:
– Здравствуй, дочко, откуда нечистый принес?
Изумленная Мотренька, бледная как полотно, стояла перед матерью и ни слова не отвечала.
– У гетмана ночевала… Ну поздравляю, дочко, какой же поп венчал вас? Или правда, на что еще вас венчать, косматый давно уж с тобою повенчал гетмана!.. Добре, дочко, добре! Скажи ж мне, хорошо ли спалось? И зачем так рано приехала: было бы лучше прямо от гетмана да в болото к нечистым, а не до нас… Ну как же ты думаешь, что теперь будешь делать и что мне с тобою делать?
Мотренька молчала.
– Пойдем же, доню, я научу тебя, как следует жить тебе замужем, ты знаешь, наука в лес нейдет.
Мать потащила за собой несчастную дочь, привела ее в свою спальню, сняла со стены нагайку, которую Василий Леонтиевич брал всегда с собою в поход, и заперла за собою дверь, через несколько минут раздалась по всему дому брань озлобленной матери.
Очувствовавшись, Василий Леонтиевич услышал крик, кое-как поднялся с постели, дотащился к спальне и начал стучать. Любовь Федоровна не отпирала – Кочубей высадил дверь, глазам его предстала отвратительная картина: Любовь Федоровна держала за растрепанную косу Мотреньку, лежавшую без чувств, и немилосердно, по чем попало, била ее нагайкою, со злостью читая ей наставления.
Василий Леонтиевич выхватил из рук жены нагайку и отвел ее в сторону. Любовь Федоровна схватила мужа за чуприну и порядочно потормошила. Муж молчал.
Через несколько дней слуги разнесли самые кудрявые сплетни; все слышавшие это, в свою очередь, передавали другим с разными прибаутками, одни говорили, что Мазепа до этого еще предлагал Мотреньке, через гайдука своего Демьяна, три тысячи червонцев, другие подтверждали, что гетман предлагал десять тысяч, многие, не сообразив, откуда могло быть это известно, беспрекословно верили всем несообразным сплетням и приезжали из любопытства к Любови Федоровне, расспрашивали ее о постигшем ее несчастии.
Любовь Федоровна не только не думала молчать о своем злостном умысле, напротив, чтобы обвинить гетмана пред лицом всего народа, подтверждала носившиеся слухи, ею же распространенные, плакала пред гостями, приходила в отчаяние и спрашивала у всех совета, что ей делать. Наконец, сама говорила многим искренним приятелям, что пешком пойдет в Москву к царю, упадет ему в ноги и будет жаловаться на беззаконного гетмана.
Василий Леонтиевич по слабому и легковерному характеру уверился, бездоказательно, в истине слов жены, и душевные страдания его до такой степени усилились, что он, казалось, потеряет рассудок. Несколько ночей кряду не спал, ни на минуту не находил покоя: воображение его представляло гетмана, дочь и жену в страшных образах, наконец он заболел горячкою.
Всем стало известно это позорное происшествие, разукрашенное всеми цветами злословия. Гетман, занятый делами и окруженный стражею, живя роскошно, как немногие жили и польские короли, ничего этого не знал: до слуха Мазепы не скоро донеслась весть о выдуманном на него Любовью Федоровною преступлении, впрочем, он знал, что Мотренька не ускользнула от глаз матери.
Ожидая около месяца письма от Мотреньки и не дождавшись его, Иван Степанович послал к Мотреньке Мелашку. Как ни было трудно увидеться Мотреньке с Мелашкою, однако же она увиделась с нею, чрез Мелашку Мотренька успела передать гетману несколько слов, которыми выразила свою досаду, зачем гетман отправил ее обратно от себя, а не удержал в замке. Мазепа, услышав это, написал в свое оправдание к Мотреньке:
«Мое серденько!
Зажурился, почувши от девки такое слово, же ваша милость за зле на мене маешь, иже вашу милость при собе не задержалем, але одослал до дому; уважь сама, щоб с тою выросло.
Першая: щоб твои родичи по всем свете разголосили же взяв у нас дочку у ночи кгвалтом и держит у себе место подложницы.
Другая причина: же державши вашу милость у себе, я, бым не могл жадною мерою витримати (никаким способом удержаться), да и ваша милость также; муселибисмо (принуждены бы были мы) из собою жити так, як малженство кажет, а потом пришло бы неблагословление до церкви и клятка, же бы нам с собою не жити. Где ж бы я на тот час подел и мне б же чрез то вашу милость жаль, щоб есь на-потом на мене не плакала».
Уверив сторонних и мужа в действительности преступления, свершенного гетманом, Любовь Федоровна настоятельно требовала от Василия Леонтиевича, чтобы он написал к Мазепе пасквильное письмо, долго не соглашался Василий Леонтиевич с желанием жены, наконец, то убеждениями, то угрозами, то надеждою на блистательную будущность она вынудила-таки у него согласие.
Василий Леонтиевич не предвидел, к чему все это клонится, – не догадывался, что честолюбивая жена его исполнение давно задуманного плана своего решила основать на погибели дочери, безрассудно оклеветать ее пред целым светом. И в самом деле, Любовь Федоровна так хитро и так лукаво умела вести свои замыслы, что немногие еще вполне успели понять ее характер, и вся вина пала на безвинную дочь, на Мазепу и частью на Кочубея, а главная виновница осталась в стороне.
Василий Леонтиевич занимался в писарне, перед ним сидела Любовь Федоровна и слушала его письмо к гетману.
«Ясновельможный, милостивый гетман, мой вельце милостивый пане и великий добродию.
Зная мудрое слово, что лучше смерть, нежели жизнь горькая, я рад бы и умереть, не дождавшись такого злейшего поношения, после которого я хуже пса издохшего. Горько тоскует и болит сердце мое: быть в числе тех, которые дочь продали за корысть, достойны за это посрамления, изгнания и смертной казни. Горе мне несчастному! Надеялся ли я, при моих немалых заслугах в войске, при моем святом благочестии, понесть на себя такую укоризну? Того ли я дослуживался? Кому другому случилось ли это из служащих при мне людей чиновных и нечиновных? О, горе мне несчастному, ото всех заплеванному, к такому злому концу приведенному! Мое будущее утешение в дочери изменилось в смуту, радость в плач, веселость в сетование. Я один из тех, кому сладко о смерти вспоминать. Желал бы я спросить тех, которые в гробах уже лежат, которые были в жизни несчастливцами, были ли у них горести, какова горесть сердца моего? Омрачился свет очей моих! Окружил меня стыд! Не могу прямо глядеть на лица людские, срам и поношение покрыли меня! Я плачу день и ночь с моею бедною женой. И прежнее здоровье мое от сокрушения исчезло, от чего не могу бывать у Вашей Вельможности, в чем до стоп ног Вашей Вельможности рабско кланяюсь, всепокорнейше прошу себе милостивого рассмотрительного разрешения на все изъясненное».
Получив письмо это, Мазепа понял, по какой причине, с какою целью было оно написано и кто вынудил к этому Генерального судью, и поэтому тотчас же написал ответ:
«Пане Кочубей!
Доносишь нам о каком-то своем сердечном сожалении; следовало бы тебе строже обходиться с твоею гордою велеречивою женою, которую, как вижу, не умеешь или не можешь держать в своих руках и доказать, что одинаковый мундштук на коня и лошицу кладут; она-то, а не кто другой, печали твоей причиною, если какая в этот час в доме твоем обретается. Уходила Святая Великомученица Варвара пред отцом своим Диоскором не в дом гетманский, а в скверное место между овчарнями, в расселины каменные, страха ради смертного. Не можешь, правду сказать, никогда свободен быть от печали; ты очень нездоров; опять ты из сердца своего не можешь изринуть бунтовницкого духа, который, как разумею, не так сроден тебе, как от получения жены своей имеешь, а если он зародился в тебе от презрения к Богу, тогда ты сам устроил погибель всему дому своему, то ни на кого не нарекай, не плачь, только на свою и жены проклятую заносчивость, гордость и высокоумие. В течение шестнадцати лет прощалось и проходило без внимания великим вашим, смерти стоящим, поступкам, однако, как вижу, ни снисхождение мое, ни доброхотливость не могли исправить, а что намекаешь в пашквильном письме о каком-то блуде, того я не знаю и не разумею, разве сам блудишь, когда слушаешь своей жены: ибо посполитные люди говорят: «Где хвост правит, там голова бредит».
XXII
В окованном серебром и позолоченном немецком берлине, внутри обитом золотою парчою с собольею опушкою и запряженном в простяж шестью вороными жеребцами, головы которых были украшены страусовыми перьями, живописно склоненными в стороны, ехал гетман в старую деревянную Андреевскую церковь. Это было в храмовой праздник этой церкви; впереди гетмана скакали верхами жолнеры и жёлдаты, за ними ехал верхом на сером коне полковник и рядом с ним Генеральный бунчужный, окруженный компанейцами. Полковник вез знамя войска Запорожского, государей царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей и царевны Софии Алексеевны, – треугольное, с изображением на обеих сторонах российского герба, под коим крест из звезд и образ Спасителя с надписью: «Царь Царем и Господь Господем». По бокам креста также молитвенные надписи, а внизу: 1688 года 6-го Января, дано их Царского Величества верному подданному войска Запорожского обоих сторон Днепра гетману Ивану Степановичу Мазепе. В руках Генерального бунчужного был золотой бунчук. Потом был берлин гетмана, окруженный надворною гвардиею, за берлином казаки и народ.
В этот день Иван Степанович был в Андреевской ленте, в светло-зеленом бархатном кафтане, опушенном черными соболями, с бриллиантовыми пуговицами и золотыми снурками, кафтан этот подарен был гетману царем; в руках держал он большую булаву, осыпанную драгоценными камнями. Мазепа, встреченный духовенством у входа в церковь, стал по левую сторону царских дверей на обычном своем месте, его окружали Генеральная старшина, приехавшие к тому дню полковники и другие чины и посполитство.
Василий Леонтиевич, приехавший раньше гетмана, стоял в отдалении от всех, на бледном, болезненном лице его ясно выражалась сердечная грусть.
Отслушав обедню, приложившись к святому кресту и принявши от архимандрита просфиру, Иван Степанович оборотился к Генеральной старшине, поздравил их с праздником, пригласил к себе на обед, потом подошел к молившемуся Кочубею, взял его за руку, вышел с ним из церкви, посадил с собою в берлин и приказал ехать домой.
– Василий Леонтиевич, ты меня и знать не хочешь! Слушай, верный товарищ мой, друже, родичу милый, можно ли тому поверить, что горделивая жена твоя выдумала на меня, ты видишь меня – слава Богу милосердному, седьмой десяток лет живу на свете, старик уже, нет зубов – кашу ем, ходить не в силах… и чтоб я свою крестницу, мою коханую дочку так опорочил, не смех ли это, скажи сам, Василий Леонтиевич, по чистой совести? А?.. Что ж ты задумался – рассуди сам: не выдумка ли это твоей Любоньки! Так, Василий Леонтиевич, ты плачешь, поверив несправедливым словам своей жены, плачу же и я, жалея тебя. Горе мне! Ты был у меня во всех делах верное мое око, правая моя рука, забыл ты меня, и Бог забудет тебя! Я пред тобою невинен – клянусь всеми киевскими угодниками, клянусь самим Господом, я невинен, не клялся бы я так и не говорил бы тебе об этом, если бы не жалел несчастной твоей дочери и не любил бы тебя, ты знаешь меня – такие дела я оставлял без уважения, но теперь у меня болит сердце и душа тоскует.
– Как мне не горевать, ясновельможный, когда дочь моя ночевала в твоем доме.
– Слушай, Василий Леонтиевич, ты, я вижу, не разобрал дела и поверил жене, слушай же, мне пред тобою неправды не говорить: ты знаешь, что святые от отцов своих укрывались – так и Мотренька: бежала от злобной матери, приехала она ко мне рано утром, – ты хоть ее расспроси под клятвою, пред образом, – сама она упросила гайдука моего Дмитра взять ее и привезть ко мне, не была у меня и минуты, я расспросил все и отправил ее к тебе.
Кочубей тяжело вздохнул и сказал:
– Не знаю, как это будет!..
– Так будет, Василий Леонтиевич! Выдумкам жены будем верить и погибнем!
– Не знаю, что и сказать!
– Так знай же, куме, что твоя дочка чиста и непорочна, я готов пред Богом присягнуть!
– Не знаю, что сказала бы Любонька, услышавши твои слова, ясновельможный!
– Что ты мне с своею горделивою Любонькою – она погубила родную свою дочку, грех, тяжкий грех на ее душе, Бог рассудит всех нас.
– Так и я говорю!..
– Да так, так!
Берлин остановился у крыльца.
Скоро съехались гости. Между тем накрыли столы, поставили наливки, водки, принесли разные закуски, и гости принялись за завтрак, перешептываясь между собою о том, что Кочубей приехал до гетмана, а до этого более трех месяцев не бывал он в доме гетмана, что Любовь Федоровна на веревке его держала все время.
– Было б ему еще десять лет сидеть, не ездить до гетмана и верить глупым словам жены – прости, Господи! – сказал Генеральный бунчужный.
– Смех, и только.
– Да просто курам смех! – говорили гости, украдкою посматривали на печального Кочубея, выдумывая на его счет разные остроты, и от всего сердца хохотали.
Возвратившись домой, Кочубей рассказал Любови Федоровне встречу и обхождение с ним гетмана и присовокупил:
– Бог его знает, а как и на мою думку, так Иван Степанович безгрешный против нас, а мы только с тобою опечалились и дочку нашу огорчили.
– Что ты мне говоришь, безумец ты, разве у меня глаз, головы и ушей нет, разве я глухая и слепая, что ничего не слышала, не видела и не знала!..
Василий Леонтиевич замолчал.
– Ты не рассуждай, а слушай, что говорю, то и делай!
– Слушаю, душко!
– То-то!
Прошло несколько месяцев, благонамеренные люди заговорили, что всему злу и несчастию Мотреньки причиною злая мать, утверждали, что старик гетман вовсе ни в чем не виновен против Кочубеевых, Мотреньку любил как крестную дочь. Были в числе этих благонамеренных, которые открыто по дружбе представляли Кочубею всю несообразность и невозможность подозрений. Василий Леонтиевич рад бы увериться в справедливости представленных обстоятельств, но он боялся и думать несогласно с мнением жены, хотя ясно видел в этом разе явную ее несправедливость, но так надобно было, так приказала Любовь Федоровна, и думать иначе нельзя!..
Чрез неделю Мазепа приехал в дом Кочубея, и, против ожидания, Любовь Федоровна приняла его чрезвычайно ласково. Василий Леонтиевич душевно радовался этому – Любовь Федоровна даже искренно просила у гетмана прощения в своем негодовании на него, говоря, что злые люди всему причиною, что если бы она не слушала поганых языков, так ничего бы и не было подобного.
Иван Степанович не старался доказывать и утверждать справедливость слов Кочубеевой, истина, видимая для всех, была на его стороне. Распивши несколько бутылок дедовского меда, Мазепа и Василий Леонтиевич уехали вместе в Бахмач по войсковым делам, Любовь Федоровна и Мотренька остались одни.
Чрез два дня после выезда Кочубея в Бахмач, в полдень, когда Любовь Федоровна сидела на крыльце и выторговывала два десятка золотых карасей, принесенных знакомым рыболовом, по дороге вдали заклубилась пыль.
– Эй, хлопцы, обедать приготовляйте, пан едет – скорей же мне!
Слуги засуетились и начали готовить для обеда стол.
Любовь Федоровна, закончив торг за караси, вошла в комнаты, и в ту же минуту бричка, дребезжа и стуча, подкатила к крыльцу, и против ожидания из брички вышел не Василий Леонтиевич, а Чуйкевич, прежний жених Мотреньки, увидев его, Любовь Федоровна обратилась к Мотреньке, стоявшей у окна, и сказала:
– Твой жених приехал, ей-же-ей, если бы посватал теперь, перекрестившись обеими руками, отдала бы тебя за него.
Мотренька надула нижнюю губку и тихонько ушла.
Чуйкевич вошел в комнату.
– Слухом слыхать, в очи видать, с какого царства, с какого государства прилетел, ты мой ясный сокол! Сколько лет, сколько зим не видала я тебя, моего сизого голубчика, и не стыдно ж тебе забывать нас, забывать меня, когда я любила тебя как сына родного!..
Чуйкевич поцеловал одну, потом и другую руку Любови Федоровны и сказал:
– Мати моя родная, три месяца с постели не вставал, и едва только немного оправился, в ту ж минуту сел в бричку и прилетел к вам!
– Бедный сын мой был нездоров – что ж у тебя болело?
– Ох, ох, ох!.. Известно, что, мати моя, – сердце болело!..
– От чего ж таки сердце болело?..
– Ох! Разве и не знаете, от чего мое сердце болит?!
– Да от чего ж, право, не знаю, ты когда-то говорил, что любишь дочку мою и она тебя любит, разве ты уже другую полюбил?..
– Никого не полюбил и никого не любил, кроме дочки вашей.
– Вот и горазд, чего ж тужить.
– Тужить? Как же мне не тужить… Если бы я знал!..
– Да ты так, Василию, прямо скажи мне, ты знаешь, я не люблю никаких рацемоний: любишь Мотреньку? Хочешь жениться на ней? Скажи мне как родной своей матери и верь мне, все сделаю, как захочешь, – я тебя сама люблю как родного сына!
Чуйкевич поклонился и поцеловал руку, потом опять поклонился в пояс и сказал:
– Да если бы ваша милость была…
– Ну добре, что ж дальше?
– Да хоть и так!
– Что ж так?
– Да хоть бы и отдали за меня вашу дочку!
– Ну и добре, сыну, чего ж ты еще стыдился сказать мне, ты знаешь, без меня сделать этого нельзя, хочешь, чтоб я была мать твоя, и скрываешься от меня. Ну, сыну, Господь Бог благословит тебя! Посиди здесь, я позову Мотреньку, пока что мы теперь одни, Василия Леонтиевича нет дома – поехал в Бахмач, так мы и без него порешим дело.
Любовь Федоровна вышла.
Чуйкевич, приехав с той мыслью, чтобы вторично просить руки Мотреньки, и полагая, что по-прежнему получит отказ, заранее уже страдал: до него долетали сплетни насчет Мазепы; но, будучи благоразумен, Чуйкевич счел слухи эти за гнусные наветы и не верил никому и ничему, но рассчитывал, что эти сплетни сделают Кочубеевых сговорчивее, – и не ошибся.
Вошла Любовь Федоровна, ведя за руку Мотреньку.
Чуйкевич остолбенел, увидев свою невесту: в глазах его она совершенно переменилась.
– Господи Боже, кого я вижу! – воскликнул он. – Что с тобою, Матрона Васильевна! Ты из мертвых воскресла… ты была больна – так ужасно похудела. Господь с тобою!..
– Это в другое время расскажешь ей, сыну, а теперь, вот твоя невеста: люби и жалуй ее, и я тебя буду любить и жаловать, поцелуйтесь… ну, ну, полно стыдиться, при мне можно поцеловаться, поцелуйтесь!
Чуйкевич обнял и поцеловал Мотреньку.
– Слушай, Василий, ты же не откладывай день за день ни сватанья, ни венчанья, а скажи, когда со старостами приедешь за рушниками и когда свадьбу назначишь. По-моему, так нечего откладывать – я бы повезла вас в церковь, поставила бы хорошенько в парочке, да и сказала бы: «Венчай, батюшка, детей моих». Перевенчала бы вас, привезла бы вас к себе, отгуляла свадьбу, да и с Богом – на все четыре стороны!
– Да хоть и так!
– Когда ж свадьба, назначь сама.
– Да хоть и после зеленых святок.
– Ну и добре!
В ту минуту, когда Любовь Федоровна условливалась с Чуйкевичем о дне свадьбы, Василий Леонтиевич, возвратившийся с Бахмача, тихо вошел в комнату, нечаянное его появление порадовало жену.
– Поздравляю тебя с новым сыном, Василию! – радостно сказала Любовь Федоровна.
Василий Леонтиевич понял, в чем дело, и, поздоровавшись с Чуйкевичем, поблагодарил жену за поздравление. Любовь Федоровна продолжала:
– Добрый сын мой! – Она наклонила к себе голову Чуйкевича, погладила ее и поцеловала. – Добрый мой сын, скоро за рушниками приедет к нам… Ну, Василий, благодари Господа Бога – отдаю я Мотреньку замуж, как ты думаешь?
– Как мне еще думать, Любонько, когда ты согласна, так и я, как ты скажешь, думаю.
– И горазд, ну, дети мои милые, поцелуйтесь же еще раз.
Мотренька, бледная, сидела молча, очи ее тускло блистали, уста были покрыты мертвою синевою и выражали болезненную улыбку. Чуйкевич подошел к ней, взял за руку и поцеловал. Любовь Федоровна, видимо, торжествовала, Чуйкевич тоже; по выражению лица Кочубея трудно было узнать состояние его души.
Дом Василия Леонтиевича наполнился Гальками, Домахами, Стехами, Приськами; все они пели песни, шили и вышивали приданое для своей милой панночки, но панночка, к общему сожалению, слегла в постель.
– Изурочили, сглазили злые люди из зависти нашу панночку, – говорили девки, и умолкли их песни. Любовь Федоровна собрала со всего Батурина шептух и знахарей, знахари и шептухи, подкуривши страждущую пухом из перин, наговоренною шелухою с луку, змеиною чешуею, купали ее в теплой воде, в которую, когда она кипела, бросали черных живых куриц, делая над ними разные заклинания, ставили больную против месяца, шептали, умывая ее лицо водою, освещенною месяцем, – вызывали каждый день переполох… но все это не помогало; послали в Полтавщину за прославленным там шептуном Ильею, приехал старик, посмотрел на Мотреньку, покачал седою головою и сказал:
– А что ж, пани, отгоню злую беду от вашей дочки, только скажите наперед, сколько порешили дать мне за труды мои карбованцев?..
– Пять!
– Добре!
Старик принялся купать больную, и после третьей ванны Мотренька, которая между тем, во время болезни и знахарских истязаний, почувствовала облегчение, всякий раз, когда она выходила из ванны, пот градом катился с нее, к удивлению всех, через неделю она встала с постели и прохаживалась по комнате. Илья за шептанье и лечение получил пять целковых да два мешка пшеницы и с радостью уехал обратно в Полтавщину.
Веселее запели девицы, радуясь выздоровлению панночки, в доме Кочубея вдруг все оживилось, сам Василий Леонтиевич, казалось, реже задумывался, иногда начинал даже шутить и смеяться.
Любовь Федоровна, нечего и говорить, от восторга с утра до вечера суетилась, заботясь скорее кончать приготовляемое приданое.
Через месяц все было готово: три высоких и длинных сундука, окованные железом, вмещали в себе приданое Мотреньки; день на день из Полтавщины ожидали пана Искру, из Ахтырки полковника Осипова да полковников Лубенского, Переяславского, Прилукского и некоторых своих родственников.
Мало-помалу съехались жданные гости, и дом Василия Леонтиевича наполнился, как кошница наполняется золотым зерном пшеницы.
Был май на исходе. Любовь Федоровна целый день смотрела в окно, ожидая жениха, но его все не было, часу в четвертом послала нарочного вершника за две мили вперед высматривать ожидаемого гостя, но через час и вершник возвратился. Кочубеева начала скучать, в голове ее родилась мысль, что Чуйкевич не сдержит своего слова и не приедет за рушниками, с этою беспокойною мыслью легла она в постель и целую ночь не могла уснуть, наутро то же самое: ждала целый день, и все нет как нет дорогого гостя.
Мотренька – эта живая тень мертвеца – в дни предшествовавшие сильно грустила, теперь, казалось, на лице ее хотя на мгновение, а все же пролетала радостная улыбка, в свою очередь, она душевно радовалась неприезду Чуйкевича – она его не только не любила, но, одним словом, ненавидела: в последнее время ее очень занимала мысль навсегда оставить свет и поселиться в тихом, уединенном монастыре.
Вечером, когда Любовь Федоровна и забыла о жданном госте, к крыльцу подкатились две брички, из одной выпрыгнул Чуйкевич, а из другой два старика.
Любовь Федоровна тогда уже увидела приехавших, когда гости вошли в комнату.
Жених был одет в жупан светло-зеленого сукна, подпоясан красным шелковым поясом, а старосты, старики, – темного цвета, все при саблях, в смушевых сивых шапках и в красных сафьянных сапогах, шитых золотом, с серебряными каблуками. Помолившись к святым иконам и поклонившись на все четыре стороны, жених пошел вперед, а за ним старосты. Любовь Федоровна и Василий Леонтиевич ласково приняли гостей и усадили на диван.
Начался разговор. Кочубей говорил о войсковых делах, Любовь Федоровна рассказывала о своем хозяйстве – хвалила сама себя. Чуйкевич, опустив глаза в землю, молча сидел против Мотреньки, также безмолвствовавшей.
– Знаем, знаем вашу милость, хозяйство у вас, нечего и говорить, дал бы Бог и детям вашим такое, так и счастливы будут, – сказал один из старост.
– Дай Боже!
– Мы слышали от людей, да и сами знаем, что в вашем хозяйстве в зеленом садике есть тонкая да высокая березонька, зеленая березонька, а в нашем саду есть высокий дубок, – чи не можно те-е-те, як ёго… гм, гм? – спросил другой староста, покручивая усы.
– Гм… гм… от чего ж и не можно, все на свете можно.
– Вот и добре, добродийко! Таки-так, что береза и дубок в одном саду расти будут? – спросил другой староста и пригладил чуприну.
– Да хоть и так, я согласна.
– А вы, наш добродий и благодетель наш Генеральный судья, как вы скажете мудрым словом своим? – спросил староста, у которого черные усы были в четверть аршина длиною.
– Да я так и скажу, как сказала вам моя пани: ся березка, что знает пани добродийка, пусть то и делает, ее воля вольная!..
– Разумное слово!
– Разумное, нечего сказать!
– Эге, что так! Ну что ж будете делать, паны старосты? – спросила Кочубеева.
– А так, пани добродийко, чи не можно, чтоб рушниками перевязать вашу зеленую березку да нашего прямого дубка, – так-таки скажите в одно слово?
– Ох вы, мудрые да умные паны старосты, а как моя березка да ваши руки перевяжет, что тогда скажете-с? – с веселостью спросила Любовь Федоровна.
– А что скажем-с, – с самодовольствием отвечал староста, – будем в пояс кланяться вам, да и нашего дубка заставим поклониться!
– Ну, когда на то пошло, принеси ж ты, моя зеленая березка, моя дочко Мотренько, шелковую хустку да отдай ее зеленому дубику.
Встала Мотренька, вышла в другую комнату и через несколько минут с заплаканными глазами вынесла на серебряном подносе шелковый платок розового цвета и поднесла его Чуйкевичу. Чуйкевич взял платок и на место его положил десять червонцев.
– А принеси ж теперь, дочко, орляные рушники.
Пошла Мотренька в другую комнату и опять воротилась, неся на том же серебряном подносе два длинные, тонкого холста утиральника с вышитыми по концам красным шелком орлами. Поднесла одному старосте, староста взял рушник и на место его положил пять червонцев, поднесла другому – и другой то же сделал.
– А ну, пане добродию Кондрате, перевяжи ж меня рушником!
– Добре, пане добродию Иване, перевяжи и ты меня.
Старосты друг другу повязали через плечи рушники, взяли за руку жениха и невесту и подвели к отцу и матери, прося их благословить своих детей.
Сделавши три земные поклона, Чуйкевич и Мотренька стали на колена перед родителями и наклонили головы.
Василий Леонтиевич благословил детей иконою Спасителя и Божией Матери, потом благословила Любовь Федоровна и матерински наставляла их любить друг друга, жить в мире и согласии.
После этого началось чествованье старост: пили за здравие помолвленных, за здоровье отца и матери и всех добрых людей.
Поздно вечером старосты и молодой уехали, дав слово назавтра приехать к обеду.
Мотренька пошла страдать в свою комнату, Любовь Федоровна занялась приготовлением к свадьбе, которую положили сыграть не откладывая. Василий Леонтиевич сидел в своей комнате и обдумывал предстоявшую поездку к Мазепе, просить его гетманского позволения выдать дочь за Чуйкевича и вместе с этим пригласить его и на свадьбу.
На другой день рано утром Кочубей сел в берлин и поехал в Гончаровку к гетману; когда вошел Василий Леонтиевич в писарню гетмана, Мазепа писал письмо на польском языке, за спиною его стояли Заленский и какой-то видный собою поляк.
Мазепа, по обыкновению, принял Василия Леонтиевича с распростертыми объятиями, казалось, между ними не только никогда не существовала вражда, но и не могла быть. Заленский и поляк вышли.
– Приехал до твоей милости, ясновельможный добродию, гетмане Иване Степановичу, просить разрешения: я посватал Мотреньку за пана Чуйкевича, будь ласков, на свадьбу покорнейше просим: не откажи нам в чести.
– Как хочешь, добродий, Василий Леонтиевич, как хочешь, мой наимилейший, наилюбезнейший куме, так и делай, а когда попросишь моего совета, так скажу тебе, что скоро, скоро Гетманщина будет под иною властью благою, законною, тогда найдется другой жених для Мотреньки из знатных шляхтичей, который будет вам доброю подпорою! Вот тебе, куме мой милый, совет мой!..
Кочубей молчал.
Мазепа говорил ему о притеснениях, какие делает Гетманщине московский царь, и хвалил короля Польского, страшился шведов и боялся нашествия Карла на Гетманщину. Василий Леонтиевич удивлялся откровенности гетмана, но не догадывался, что чем Мазепа был откровеннее на словах, тем скрытнее на деле, чем неосторожнее в обхождении, тем злее и хитрее была его душа.
Мазепа уклонился от обещания быть на свадьбе, просил только помедлить. Кочубей возвратился домой, слышанное слово до слова передал Любови Федоровне.
– Ну, Василий, как ты себе хочешь, а я боюсь, чтоб гетман опять не наделал нам беды, и потому-то завтра же с благословением Божиим перевенчаем детей, да и свадьбу отгуляем, у меня все готово.
– Как хочешь, душко.
– Так будет, как я тебе говорю.
– Когда так, так и так!
В этот же день Любовь Федоровна распорядилась устроить все к венцу дочери.
Вечером дружки собрались к Мотреньке, пели печальные и радостные песни, а на другой день, к удивлению всех, Мотренька стояла рядом с Чуйкевичем, и отец Игнатий с отцом Петром перевенчали их. Загремели в доме Кочубея скрипки, басы, литавры, бубны и цимбалы, старики и молодые танцевали казачка, метелицу, журавля, пели, и веселие шумною рекою лилось в дом… а сыч по-прежнему кричал в саду.
XXIII
Любовь Федоровна ставила в церкви пред образом Божией Матери толстую и высокую свечу и думала:
«Благодарю Тебя, Владычица Небесная, за неизреченные милости Твои, благодарю, Царице души моей, что сподобила меня выдать Мотреньку замуж, – и вслед за молитвою лукавый помысл разыгрался во всю пустоту тщеславной души. Любовь Федоровна мечтала: теперь не помешает она мне в давно затеянном деле, не станет среди дороги, не опередит меня. Гетман злится на нас, пусть злится, потерплю с месяц, а там сумею, что сделать, не долго остается держать тебе, изменник, булаву! Отдадут ее Василию, буду и я гетманшей, тогда даю обещание – икону Матери Божией обложить серебряною шатою, на Спасителя – позолоченный венец сделаю и куплю ко всем иконам ставники. Гетман теперь нас и знать уже не хочет: как же, вишь, против согласия его выдали дочку! Жаль, что не отдали ее за какого-нибудь нечестивого ляха, друга гетманского, – куда ж как хорошо! Но вот мое горе, Чуйкевич каждый день у гетмана, проклятый Мазепа приманил его к себе… ну, ничего, все ничего, я свое выполню».
Поставила свечу, перекрестилась, стала на своем месте, слушает молитвы, крестится и все не перестает обдумывать, как бы удобнее устроить погибель гетману.
Мазепа действительно негодовал на Кочубея за скорую свадьбу дочери, на которой он не был; честолюбие старика возгорелось, и он принял сухо Василия Леонтиевича, приехавшего к нему чрез несколько дней после свадьбы.
Чуйкевич, как и отец его, в прежнее время не любил гетмана, любя же безумно Мотреньку, он повиновался ее желаниям, исполнял все ее требования, и поэтому-то, на другой день, к досаде Любови Федоровны, Чуйкевич с Мотренькою поехали к Мазепе. Радость, что видит Мотреньку, печаль, что она выдана против его желания, так слились в сердце старика, что нельзя было постичь состояние его духа, если чему именно радовался он вслух, так это собственно тому, что Мотренька теперь избегнет истязаний злой матери.
Поблагословивши молодых, гетман одарил их деньгами и богатыми вещами и взял с Чуйкевича честное казачье слово, что часто будет заезжать к нему с Мотренькою. По отъезде их Мазепа несколько дней был чрезвычайно грустен и задумчив. Недели две или три после свадьбы Любовь Федоровна сидела вдвоем с женою полтавского полковника Искры – чрезвычайно красивой собою малороссиянки; будучи оставлена Мазепой, некогда великим другом ее, она сделалась его отъявленным врагом. Об чем-то горячо разговаривали, дверь комнаты, для предосторожности от нежданного гостя, была заперта.
– Вот, сестрица моя милая, я тебе сейчас покажу, прочитай, сделай милость, я с нетерпением ждала тебя и никому не давала читать, а Василий ни за что не сказал бы мне, что пишет гетман, да я, признаться тебе, просто украла это письмо у него, он и не знает и не догадывается, сказано, беспечная голова!..
– Ну, добре, сестрице.
Искрина развернула письмо, посмотрела на подпись и громко ее прочла:
– Иван Мазепа… так, сестрица, гетман писал письмо!
– Ну, что ж пишет, читай!
– А вот, слушай!
Искрина прочла письмо Мазепы, писанное в ответ на письмо Кочубея, в котором Василий Леонтиевич упрекал гетмана касательно Мотреньки.
Любовь Федоровна, услышав мнение о ней Мазепы, что она гордая, заносчивая, злобная, что она одна причиной печали и несчастия Кочубея, так рассердилась и пришла в такое бешенство, что не помнила слов своих, не знала, что делала, она стала перед образом, перекрестилась и с криком произнесла:
– Господи Боже, и Ты, Пречистая Матерь Божия, накажи изверга дьявола Мазепу, да постигнут его со всем его домом все казни египецкия! – И потом подошла к столу, ударила кулаком по нему и закричала громче прежнего:
– Докажу тебе, сестрица, докажу, что проклятый гетман недолго будет гетманствовать, вспомнишь ты через год мои слова и тогда скажешь, правду я тебе говорила!
Искрина поджигала Кочубееву.
После выезда Искриной Любовь Федоровна с большим нетерпением ожидала возвращения Василия Леонтиевича, который был в Батурине, к вечеру он возвратился.
– Что слышал, Василий, про гетмана, какой он думки? Мне Искрина говорила, Мазепа непременно хочет, чтобы Гетманщина была за поляками!
– Слышал и я это, все говорят так, да кто знает, что думает сам гетман, может быть, одни слухи. Правду сказать, не нашим неразумным головам понять его: он человек великого и хитрого разума.
– Слухи! У тебя все одни слухи… кому ж он говорил, тебе или кому другому, когда ты ездил к нему перед свадьбою Мотреньки, чтобы ты обождал выдавать ее замуж, что будем за поляками, так для нее сыщется жених из знатных шляхтичей!
– Так, Любонько, так, да послушай меня, что еще я от него слышал!
– А что?
– Месяца три тому назад, когда я был у него один, он позвал меня к себе в спальню, запер дверь, да и говорит:
– Знаешь, куме, мать Вишневецких, княгиня Дульская, когда мы будем за поляками, сделает меня князем Черниговским, а казацкому войску даст великие вольности и выгоды, вот тогда-то, куме мой милый, роскошь и житье нам будет, это верно, – говорил гетман, – как Бог свят верно, Станислав близкий родственник Дульской.
– Когда ж это Дульская говорила ему?
– Когда Мазепа был в селе Дульской, в Белой Кринице, он тогда крестил с нею сына князя Януша Вишневецкого.
– Вот какой гетман… а царь, Господи Боже Твоя воля, как любит его царь!
– Да, Любонько, и за здоровье Дульской не раз уже лили мы венгерское за обедом у гетмана, пили и тогда, когда приехал к нему боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин и сказал, что Синицкий побил войска царские. Гетман, нет чтоб печалиться, так смеялся, да винцо попивал за здоровье Дульской, – всего бывало!
– Василий, милый мой Василий, послушай доброго слова моего, послушайся меня последний раз и увидишь, когда в руках наших не будет гетманская булава!
– Что ж, Любонько, разве я когда-нибудь не слушал тебя!
– Да все оно так, но послушай совета моего в этот раз… послушаешь?
– Послушаю.
– Пошлем донос царю на гетмана, пошлем тайно!
Василий Леонтиевич покачал головою и спросил:
– Как же это будет, что из этого выйдет?
– Что выйдет, Василий, выйдет то, что ты будешь гетманом, а я гетманшею!
– Нет, что-то не так, Любонько!
– Тебе все не так – рассудишь ли ты что-нибудь своим разумом, голова твоя бедная!
– Да что ж мы донесем!
– Что донесем? Ты слушай меня!..
Кочубей вздохнул.
– Тяжко, когда в уме на полушку нить разума!.. Не вздыхай, а слушай меня.
Кочубей отвернулся от жены.
– Ты и слушать меня не хочешь?!.
– Не век же мне жить жиночим умом!
– Ах ты… жиночим умом не жить ему! Да где ж у тебя свой разум, когда не слушаешь, что я тебе говорю!
Любовь Федоровна застучала об пол ногою и громко сказала:
– Ты слушай, что я приказываю тебе, а своего ничего не выдумывай, умник ты!..
– Да я, Любонько, слушаю тебя, Господь с тобою, откуда взяла ты, что я не слушаю тебя!
– Так и слушай, что я говорю тебе: на гетмана пошлем донос царю, гетмана в кандалы, а тебе булаву.
– Добре, Любонько.
– То-то, что добре! Разве мы не правду донесем царю, когда скажем, что Мазепа снюхался с королем Лещинским и хочет отдать ему Гетманщину, что Заленский, проклятый иезуит, тайно привозит к нему письма из Польши, что когда в Батурине проезжал Александр Васильевич Кикин, Мазепа думал, что едет сам царь, так чтоб убить царя – поставил в тайных местах вокруг Бахмача триста сердюков с заряженными рушницами, отдав приказание им по знаку стрелять в того, на кого он покажет. Ого-го, я все знаю, Василий, и ты того не знаешь, что я знаю, не бойсь, помолись Богу, да и за дело: ты не простой казак, гетман не повесит, в тюрьму не посадит тебя… нечего страшиться, а донесем о его предательских делах – и будешь гетманствовать!
– Добре, Любонько, я на тебя надеюсь, на тебя полагаюсь, ты все сделаешь, как сама задумала такое великое дело… сама решай, у тебя, правду сказать, голова умная, а я человек слабый: сам знаю, что ж, Богу так угодно было… ты у меня розумная пани.
– Сам знаешь это, ну и слушай меня, исполняй волю мою и булаву возьмешь, когда все кончим это твое дело, а обдумывать мое!
– Добре, Любонько, ей-ей-же, добре!..
– То-то что добре!
С этого часа Любовь Федоровна не переставала каждый день тревожить Кочубея, чтобы он написал донос на гетмана. Василий Леонтиевич, по обычаю, уступал, соглашался, не отказывался исполнить, а сам день за день откладывал настояние жены до лучшего и счастливейшего часа, как выражался он.
Между тем Мазепа узнал, что царь поехал в Киев, поспешил и сам за ним, назначив по себе наказным гетманом Генерального судью Василия Леонтиевича Кочубея, к неописанной радости и торжеству Любови Федоровны.
«Теперь все достигну», – подумала Любовь Федоровна и, поздравляя мужа с наказным гетманством, прибавила:
– Василий, нужно так сделать, чтобы с этого часа булава навсегда уже осталась в твоих руках, не получит ее обратно проклятый Мазепа, сам Господь за нас, чего же нам медлить, донос царю, Мазепу в кандалы, а ты из наказного да настоящим гетманом, – хитрость невелика!..
«В самом деле! – подумал Кочубей, лукавый тут и его осенил блеском булавы. – Жена дело говорит: хорошо, если бы не отдавать назад булаву Мазепе!» – и согласился на ее затеи.
Как послать донос и через кого, вот была задача для Кочубея и для жены его, но случай представился, и притом, как думала она, редкий случай, посланный самим Богом для наказания нечестивого Мазепы.
День был не так жаркий, как вообще бывают в Малороссии июльские дни. В шестом часу вечера, верстах в двух от Батурина, у земляной могилы, находившейся подле самой дороги, отдыхали усталые от пути два чернеца и любовались прекрасным видом Батурина и его окрестностей. По черной извилистой дороге ехал вершник, и казалось, все отдалялся от Батурина к черневшемуся лесу, но вдруг остановил коня и, как будто заметив что-то в стороне, где сидели чернецы, начал приближаться к ним.
– Он к нам едет, отче Никаноре?
– Кажись, к нам, брате Трифилию!
– К нам, отче!
Вершник действительно приблизился к монахам, сняв перед ними шапку, поклонился и спросил:
– Отпочиваете, батюшки?
– Отдыхаем, брате!
– А не можно спросить, откуда?
– Из монастыря!
– А из какого?
– Из Севского Спасского.
– А, знаю, когда-то и я с панами был в вашем монастыре.
– С какими панами? – спросил Трифилий.
– А с наказным гетманом Василием Леонтиевичем Кочубеем и женою его, Любовь Федоровною, тогда еще панночка наша не была за паном Чуйкевичем, да еще жива была и покойная, Царство ей Небесное, Анна Васильевна, знаете, что за Обидовским была.
Чернецы смотрели друг на друга в недоумении.
– Что ж, разве не знаете панов моих, они были в монастыре?.. Да Кочубея кто не знает! Наказной гетман, он как приедет в какой монастырь, так со всеми чернецами заведет дружбу, страх как любит чернецов, и грех сказать, набожный пан, вы не заходили к нему?
– Нет! – отвечал Никанор.
– Жаль, а он бы и на монастырь дал, и вы бы славно отдохнули в будинках, его первая радость разговаривать с чернецами, он, батюшки, пан добрый, милостивый и любит всяких богомольцев, а вас паче всех.
– Ну, когда так, отведи нас, брате, к твоему пану, подаст что на монастырь – Господь душу его спасет!
– Добре, батюшка!
Казак слез с лошади, взял ее за повод и, разговаривая, пошел вместе с монахами в Батурин.
Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна были дома, Иван ввел чернецов в комнату Василия Леонтиевича.
Наказной гетман только что подписал поданные ему Генеральным писарем универсалы; радостно встретил он нежданных гостей, подошел под благословение монаха Никанора и, усадив в кресла, спросил:
– Откуда и куда Бог несет?
– Из святого Богоспасаемаго града Киева в свой монастырь!
– Ходили Богу молиться в Киев?..
– Так, гетмане, ходили Господу милосердному молиться.
– А что слышали в Киеве про шведов, в Киеве ли царь?
– В Киеве, а шведы, по слухам, близко от святого города.
– Горе, тяжкое горе Гетманщине!
– Господь Бог заступит: за грехи покарает, за милость Свою нас сохранит и помилует, вера в Бога всякого врага побеждает!
Вошла Любовь Федоровна, монахи встали, поклонились, Любовь Федоровна поцеловала руки обоих иноков, они ее поблагословили.
– Молимся Господу, да сохранит нас, да покроет нас Царица Небесная покровом Своим святым!..
– Так, ясновельможный гетмане, сила человеческая не страшна, когда мы будем веру иметь в сердцах наших.
Любовь Федоровна внутренне возрадовалась, услышавши, что чернецы называют мужа ее ясновельможным гетманом.
– О чем говорите?
– Просим у Господа защиты от врагов, приближающихся к Гетманщине.
– Мазепа в Киеве?.. Вы, батюшки, в Киев идете?
– Из Киева, Мазепа в Киев, – отвечал Никанор.
– И царь в Киев! – добавил Трифилий.
– Кто ж другой причиною, как не Мазепа, что шведы приближаются к Гетманщине, он же тайно писал к Карлу… вот и накликал гостей, царь ничего не знает про дела гетмана.
Чернецы молчали.
– Ты бы, Любонько, приказала приготовить вечерю для отца Никанора и отца Трифилия: они устали от пути.
Любовь Федоровна немедленно вышла сделать распоряжение об ужине для дорогих гостей, а Василий Леонтиевич поговорил еще с ними о войсках и крепости киевской, ввел их в свою писарню, попросил их остаться у него, поужинать и переночевать; путники благодарили за ласки Кочубея и его жену.
– Василий, сам Бог послал нам чернецов, чтоб мы открыли им измену Мазепы, говорю тебе, сам Бог послал их, нечего опасаться, завтра мы переговорим с ними!
– Сам Бог послал их, ты праведно говоришь, Любонько, но чернецы идут не в Киев, а возвращаются в свой монастырь, донос через них нельзя послать царю.
– Слушай меня, и все будет хорошо.
– Я слушаю тебя, Любонько!
– То-то. Отец Никанор разве не может пойти в Москву, поклониться московской святыне, а между тем все, что мы откроем ему про Мазепу, передаст боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, никому и в голову не придет мысль, что мы чрез чернеца известим царя про намерение гетмана изменить ему: сам хорошенько подумай, Василий, если уже мы положились донести, то кому другому вернее поручить это важное дело, как не чернецу Никанору, поручить можно казаку или своему гайдуку, скажешь ты, и сам себя погубишь, разве ты не знаешь, сколько тайных людей по всем местам, которые всякую малость доносят Мазепе, а иезуит Заленский с своею братиею… да наши же стены скажут про нашу затею гетману, если мы поверим донос кому-нибудь из своих.
– Твоя правда, Любонько, мудрое твое слово.
– Когда ж мудрее, так завтра все откроем чернецу Никанору.
– Добре, ей-же-ей, добре!
Назавтра иеромонах Никанор и монах Трифилий отслушали обедню в домовой церкви Василия Леонтиевича и, отобедав вместе с семейством Кочубея, собрались в путь. Любовь Федоровна подарила им по холсту и по два орляных полотенца, а Василий Леонтиевич дал два рубля в монастырь для поминания его.
– Знаю, что дни мои изочтены! – сказал Василий Леонтиевич и, словно предчувствуя это, просил их по смерти поминать его и молиться о прощении грехов; кроме двух рублей на монастырь он Никанору подарил еще ефимок.
Помолившись к образам и поблагодарив за хлеб-соль и за милости, путники взяли свои посохи, и Трифилий отворил уже двери… Любовь Федоровна сказала:
– Останьтесь, сделайте милость, переночуйте у нас, святые старцы, все равно, днем раньше или позже придете в монастырь, ни беды, ни греха в этом нет, а когда вы в нашем доме, так, видимо, в нем пребывает благодать Божия, останьтесь переночевать.
Склонившись неотступными просьбами Любови Федоровны, отшельники решили остаться в доме Кочубея до утра. Любовь Федоровна очень возрадовалась.
Рано утром на другой день Любовь Федоровна вошла в сад и, походив немного по просадям, увидела, что Василий Леонтиевич, сидя в шатре, задумался, подошла к нему и сказала:
– Пора начинать, когда задумали, я целую ночь не спала, все об этом думала: прикажу позвать отца Никанора, здесь никто нас не увидит, не услышит и не догадается, в саду нет ни души, да еще и рано.
– Позвать так позвать, время по-пустому нечего терять.
– Останься здесь, а я пойду и прикажу позвать отца Никанора.
Любовь Федоровна ушла, Василий Леонтиевич перекрестился и довольно громко произнес: «Господи, помоги!..»
В эту минуту пришло ему на мысль, что когда-то этак же точно собирался он доносить и на Самуйловича, но в это мгновение в шатер вошли отец Никанор и Любовь Федоровна.
Приняв благословение иеромонаха, Василий Леонтиевич просил его сесть поближе к себе.
Любовь Федоровна вышла из шатра, обошла его вокруг, осматривая, не скрылся ли кто подле, не подслушал бы их речи, но не было никого. Осмотрев все, она вошла в шатер и села против мужа.
– Откуда ты родом, отче Никаноре?
– С Чернигова!
– С Чернигова?
– С самого Чернигова.
– А до поступления в монашество какую должность правил?
– С малых лет при церкве, отец мой был попом в Нежине в замковской церкве.
– А… а… а… добре, крепко добре.
– Отче Никаноре, мы просили тебя вчера остаться переночевать у нас, желая открыть тебе великую тайну! – сказала Любовь Федоровна.
– Тайну?
– Да, отче Никаноре, мы тебе откроем тайну, вот икона Богородицы, присягни перед нею, что не пронесешь никому ни одного слова из того, что услышишь! – продолжала Кочубеева.
– Да, отче Никаноре, тайна великая, и когда поклянешься, что не пронесешь, откроем ее тебе! – сказал Кочубей.
– Клятва такая – от лукавого, грех, паны мои ясновельможные, по сану отца духовного я дал обет служить слову истины и блюсти тайну совести ближних моих. Ей, и вашу тайну соблюду, Господу споспешествующую… Да нужно ли и знать-то мне мирские тайны…
– Нужно! Нужно! Мы откроем тебе про нечестивые дела бездельника, развратника и безбожника гетмана Мазепы, – сказала Любовь Федоровна.
– За что вы так честите своего гетмана, он человек набожный: года три назад богатый вклад прислал в наш монастырь… колокольня от его щедрот построена.
– Как его не бранить, когда он погубил дочь нашу, а свою крестницу: сватался на ней, мы ему отказали, – как можно было ему жениться на ней, да притом еще и седой старик; она, моя галочка, была тогда настоящее дитя, после того как мы отказали ему, он приманил ее к себе… дьявол!
– Господи, помилуй! – сказал монах, вздохнув от глубины души. – Клеветник древний, дьявол, не утомляется сеять плевелы… кто может знать… помолимся о согрешении ближнего… несть греха побеждающего милосердие неизеледимое…
– Что ты, что ты, отче Никаноре, – перебила его Кочубеева и начала передавать ему все, что хотела сказать.
– Не избежит он страшного суда Божия! – сказала наконец Любовь Федоровна и, взяв за руку отца Никанора, вышла с ним из шатра в сад и, переходя из одной просади в другую, говорила:
– Бездельник и беззаконник задумал нас погубить, в прошлом году был у нас на именинах мужа моего, пенял, отчего мы не выдали за него Мотреньку, а отдали за Чуйкевича, что он и Чуйкевич – великая разница, а я ему сказала: да не коварничай, куме, не только ты развратил дочку нашу, но и наши головы хочешь отрубить, ты обвиняешь нас, что мы ведем тайную переписку с Крымом, – не скроется от нас ничего, сам покойный писарь твой известил нас, он сказал нам и письмо писал до мужа моего, что ты сам за Василия Леонтиевича написал подложное письмо. «Гетман как будто ничего не знал этого и сказал: полно вам небывальщину говорить». Если б царь из Киева приехал в Батурин, я бы все сама ему рассказала; теперь видишь сам, честный отец, Мазепа изменник, страшно сказать, что задумал он: родину предать шведам да полякам, веру православную – иезуитам с Папою, царство Московское покорить себе, монахов побрать в солдаты, во всем мире насадить латинское нечестие… страх! Ужас!.. Да нет, не пройдет ему все это даром!
– Бог грешника рано или поздно накажет! А православную церковь Божию и врата адовы не одолеют… но пора в дорогу, солнце высоко взошло.
Василий Леонтиевич, сидевший все время в шатре, вышел в сад и, видя, что иеромонах благословляет жену его и собирается в путь, простился с ним и сказал:
– Проси, отче Никаноре, своего отца архимандрита приехать к нам, я обещаю дать знатный вклад на монастырь, только чтоб отец архимандрит немедленно приехал ко мне.
– Передам ему слова твои, Господь Бог да сохранит вас! – сказал отец Никанор, помолился и ушел.
Любовь Федоровна проводила путников со двора.
Прошло три недели, нет ни слуху ни духу ни от отца Никанора, ни от его архимандрита, Любовь Федоровна, радовавшаяся вначале, что так успешно начали дело, теперь начала печалиться, еще более расстраивали ее черные предположения Василия Леонтиевича, который хотел уверить жену и сам был уверен, что отец Никанор вместо того, чтобы донести на Мазепу царю, отправился обратно в Киев и донес все слышанное от них самому гетману. «А может быть, – говорил Кочубей, – Мазепа узнал через кого другого про наши замыслы, это не диковина, Мазепа знает, что и под землею делается: проклятые иезуиты все разведают и донесут; вот Мазепа и приказал схватить Никанора, может, несчастный чернец сидит в это время в тюрьме», – так говорил Василий Леонтиевич жене, сидя вечером, по обыкновению, на крыльце дома своего.
– Что ты, что ты, Василий, опять задурил… счастье само к тебе ломится, а ты его гонишь прочь… с тех пор как ты наказной гетман и решился идти против Мазепы, сыч совсем улетел.
Кочубей вздохнул и сказал: а может, и сам Господь отступился от нас за наши злые начинания… Кочубеева только что хотела прикрикнуть на мужа, как вдруг откуда ни взялся стоит перед ними отец Никанор, кланяется, желает им много лет здравствовать и подает письмо и просфиру от отца архимандрита, который писал, что не имеет времени сам приехать в Батурин, а посылает надежного своего брата Никанора.
Радость Кочубеевых была великая: тотчас Любовь Федоровна ввела монаха в комнату, приказала подать ужин и сама приготовила для него мягкую постель.
Рано поутру слуга Кочубея вошел в комнату отца Никанора и сказал ему, что Василий Леонтиевич просит его приходить к нему без всякой обсылки, когда только узнает, что у него никого нет, но, приходя в его комнаты, чтобы запирал за собою дверь.
К полудню отец Никанор из своей комнаты, находившейся в отдельном от дома строении, пришел к Кочубею и запер за собою дверь.
– Никого не было на крыльце, когда ты входил ко мне?
– Никого!
– А запер дверь?
– Запер!
– Добре! – сказал Василий Леонтиевич и осмотрел все покои, нет ли кого стороннего.
– Ну, отче Никаноре, мы прошлый раз говорили тебе про замысел Мазепы, вот скоро месяц и все ближе и ближе к тому часу, когда он совершит задуманное, близка погибель Гетманщины, если мы не предупредим ее.
– Господи, помилуй! – проговорил отец Никанор. – Все упование наше на Заступницу Небесную… что тут может человек против такой силы страшной…
В это время Любовь Федоровна из дому принесла деревянный кипарисный крест с частицами святых мощей, в середине его находившимися, и, подавая его отцу Никанору, сказала:
– Господь Бог страдал за нас на кресте, так и нам надобно умереть за церковь святую и за великого государя! Помолимся перед сим крестом святым все трое – в хранении великой тайны и в споспешествовании друг другу для открытия измены Мазепы царю.
Все трое помолились перед крестом, ударили по три земных поклона и поцеловали крест.
– Слушай же, отче Никаноре, ты знаешь, что Мазепа замыслил предать Гетманщину… Тебе, отче Никаноре, надобно ехать в Москву и об этом донести боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину.
Отец Никанор перекрестился и сказал:
– Вы возлагаете на меня трудное поручение, дело мое небывалое, но когда дело идет о защите Церкви Православной, а с нею и целого гетманского народа, то что я!.. Буди воля Спасителя и Пречистой Его Матери, – приемлю на себя исполнение вашего важного поручения.
– Приехавши в Москву, скажи, отче, боярину, чтобы Мазепу схватить в Киеве, а то, пожалуй, он все узнает и первых нас убьет! – сказала Любовь Федоровна.
Долго еще говорили они про замыслы Мазепы, потом Кочубей сказал:
– Вот же тебе, отче Никаноре, на дорогу семь золотых червонных и двенадцать ефимков на наем подвод, да поспешай и минутою не медли.
Распрощавшись, отец Никанор в тот же день пошел пешком в Москву.
XXIV
Когда приближается час страшной бури, когда горизонт покрыт черными тучами, море, не волнуясь заранее, уже стонет, словно предвидя, что сладкое спокойствие его будет нарушено; потом закипит оно седыми валами и помчит их один на другой для погибели кораблей!..
То же самое бывает и среди народа, когда приближается какое-нибудь общее несчастие: заранее народ предчувствует грозящую беду, голод, мор, войну… Непонятное, страшное предчувствие, черная печаль и ужас распространились в Гетманщине в 1708 году. Чуть только скроется солнце за синеющиеся вдали горы, на небе взойдет длинная метла, и яркий хвост ее закроет треть горизонта. С неизобразимым ужасом смотрели гетманцы на это небесное знамение, и сердца их были в треволнении; старики говорили, что в гетманство Виговского, перед его изменой в 1668 году, явилась подобная комета и стояла на небе до тех пор, пока он не погиб. Это еще более устрашало гетманцев, и носившиеся слухи о тайных сношениях гетмана с ляхами и шведами, и о намерении его поддаться ляхскому королю получили большую вероятность.
Вскоре после явления кометы распространился в Батурине и других городах слух, что по Гетманщине ночью ходят три женщины, одетые одна в черное, другая в белое платье, а третья совершенно нагая, косы распущены; проходя города, они останавливаются на площадях, плачут и стонут несколько ночей кряду, потом идут в другое место и по пути заходят в ближние селения. Некоторые из разумных стариков утверждали, что одна из женщин – голод, другая – смерть, а третья – война, и что, когда они обойдут всю Гетманщину, начнется война, потом смерть, а потом, известно, после войны бывает голод. Носилось еще бесчисленное множество других слухов и рассказов, были такие люди, которые всему верили, были и не верившие ничему, но за всем этим вся Гетманщина, видимо, горевала, у времени, как и у людей, есть свой голос и своя весть.
Началась весна, зазеленели поля, но земледельцы без радости и веселья смотрели на них, казалось, они не думали о жатве; запели звонкие жаворонки в полях, взвиваясь к лазурному небу, но не слышно было веселых песен чернооких девчат; громко щелкали голосистые соловьи в темных кустах калины и сирени, но не пели хором молодые Грици и Маруси…
Народ заговорил, что войны не миновать, гетман сам затеял ее, согласясь с ляхами и шведами победить московского царя; слухи не были частные, но общие всем гетманцам, незлонамеренные люди помогали распространять их: все ясно видели причину и понимали последние распоряжения гетмана, но вместе с этим никто не смел утверждать твердо своего предположения, ибо не было улик твердых, на которых можно было бы утвердительно доказать истину народной молвы.
Мазепа был в Киеве, он начал чаще жаловаться на нездоровье, по нескольку дней не выходил на воздух и даже перед выездом царя из Киева гетман прощался с ним не вставая с постели; Петр с непритворною грустью расстался с Мазепою, сожалея о его немощи.
«Не дай Бог, если он умрет, твердой подпоры лишусь я!» – так думал царь и не догадывался, какого змия ласкал на груди своей.
По приезде в Москву царь, получив донос на Мазепу от Кочубея, посланный с чернецом Никанором, и расспросив монаха, понял, что к доносу подвинула Кочубея жена его, взведшая на старика небывалые преступления и замыслы. Петр признал Кочубея за мстительного клеветника и легкомысленного человека; что он, кроме жены, подучен еще врагами России, которые подсылали зажигателей и разбрасывали возмутительные письма.
Занятый войной со шведами, царь отложил до времени расследование ложного доноса и поехал в Польшу.
Ждет да ждет Кочубей ответа из Москвы на донос его, но нет ни слуху ни духу. Любовь Федоровна сердится, бранит Василия Леонтиевича, зачем он не послал с чернецом одного из своих слуг, который мог бы писать из Москвы, а от чернеца какого ждать письма, он поехал себе по монастырям, а не в Москву и где-нибудь сидит да молится Богу, а мы его напрасно жди да жди. Нет, как ты хочешь, Василий, а послушай совета моего: поедем в Полтаву, поживем в Диканьке и в Ретике, да переговорим с нашим батькою Святайлом, он посоветует нам все доброе, как ты думаешь об этом?
– А что ж долго думать, ехать, так и ехать.
На другой же день Василий Леонтиевич и Любовь Федоровна выехали в Диканьку, оттуда и в хутор Ретик, где духовник Василия Леонтиевича Спасовской церкви священник Святайло отслужил в доме Кочубея молебен о здравии болевшей дочери его Мотреньки, которая в это время была с мужем в Киеве при гетмане.
Во время молебна Любовь Федоровна горько плакала.
– Чего плачете, пани добродийко? – спросил Святайло жену Кочубея после молебна.
– Я плачу об измене гетмана, предающего Украину, Отечество наше полякам, а церкви Божии унии.
– Я присягал Богу и царю верою и правдою служить, и когда не донесу государю об измене Мазепы, то постигнет меня гнев Божий, но горе мое, как и через кого донести!..
– Как донести, пошли, пане добродию, донос через царского духовника протопопа Благовещенского, а для этого можно послать в Москву свояка моего Петра Янценка.
Василий Леонтиевич задумался и потом сказал:
– Благо глаголешь, отче, истинно благо!
– Благо, ей-же-ей, благо! – подтвердила Любовь Федоровна.
– Вот еще что попрошу я тебя, отец Иван, не откажи мне помочь в этом деле.
– Приказывай, мой вельце милостивый добродию!
– Съезди в Киев и переговори об этом с родичем моим полтавским полковником Искрою, скажи ему, чтобы присматривал за поступками гетмана и что делаться будет в войске.
– Поеду, когда велишь.
– Сделай божескую милость, отец Иван!
– С радостию!
Священник Святайло дня через два выехал в Киев. Кочубей занялся обдумыванием доноса, в котором решился подробно изложить царю все изменнические дела гетмана.
Приехал в Полтаву полковник Искра, и на другой день после него возвратился отец Иван; оба они приехали к Кочубею, который от радости не знал, как принимать дорогих гостей. Жена Кочубея также была в восторге.
Сели они вчетвером в спальне Кочубеевой, заперли дверь и долго-долго говорили о слухах, носившихся в народе насчет распоряжений гетмана касательно войск и крепостей; и наконец, когда все были убеждены в необходимости доноса, Любовь Федоровна сказала:
– Да прочитай, Василий, что мы с тобою написали, может быть, пан полковник еще что добавит, или отец Иван что придумает, знаешь пословицу: голова умна, а две еще умнее!..
– Пожалуй!
Василий Леонтиевич вынул из кармана бумагу и начал читать донос на Мазепу, в котором он обвинил гетмана в сношениях его с ляхами, в дружбе с Карлом XII, в намерении его жениться на княгине Дульской, упоминал, будто бы гетман ему говорил, что Карл из Польши пойдет в Москву с непременным намерением низложить царя и на место его возвести другого, так, как учинил он в Польше, а под Киев подступит король Лещинский, и тогда Мазепа казацкие полки соединит с войском короля Станислава. Мазепа-де советовал дочь его Матрону не выдавать за Чуйкевича, а когда, сказал гетман, будем за поляками, тогда найдется дочери твоей лучший жених из шляхтичей польских, который сделает ему счастие, ибо хотя по доброй воле полякам мы и не поддалися бы, да они нас завоюют и будем, конечно, под ними! – и много-много других вымышленных и отчасти справедливых обвинений было в его доносе.
Искра, выслушав донос, задумался, покачал головою и сказал:
– Как ты себе хочешь, пане Кочубей, как ни думай, а в доносе твоем недостает того, что нужно, и не знаю, что мне делать на свете… а правду сказать, я рад бы, если бы ты меня не мешал в это дело!
– Что ты, что ты, пане добродию полковник?!.
– Господь с тобою, пане Искро! – сказала Любовь Федоровна.
– Как так, мой сердечный товарищ, ты хочешь отстать от нас? Полковник, подумай хорошенько… а какую печаль причинил тебе Мазепа, жену у тебя отвоевал, знаешь, или ты забыл уже?.. Пане Искро, доброе чересчур у тебя сердце, только жаль, не для Мазепы должно быть оно добрым.
– Все так, добродию пане Кочубее, все так, да что-то оно не так, как следует!..
– Отчего не так, ну, скажи, сделай милость?
– Правду сказать, так Любовь Федоровна рассердится на меня!
– О, ей-же-ей, не рассержусь.
– Ну добре, знаешь, мой добрый товарищ, в твоем писании правды мало!
– Правды мало?!.
– Эге!
– Да-да, все неправда, выдумки, одни выдумки, ей-же-ей, выдумки, пане полковник! – сказала жена Кочубея.
– Нет, пане полковник, святая правда написана.
– Пусть и по-вашему будет.
– Ну так ты отстанешь от нас?
– Да не то что отстану, не то что пристану, – отвечал Искра, почесывая затылок правою рукою.
– Воля вольному, спасенному рай! – сказала Любовь Федоровна.
– Нет, ты наш, наш, по век наш! – сказал Василий Леонтиевич, обнял Искру и поцеловал его.
– Я был всегда ваш, Василий Леонтиевич.
Искра скоро после этого уехал в Полтаву.
Любовь Федоровна настояла, чтобы отец Иван съездил в Полтаву и ночью же приехал обратно со свояком своим Петром Янценком, которого решили немедленно отправить с доносом в Москву к царскому духовнику, поручив ему передать все самому царю.
Святайло повиновался, ночью Янценко был уже в Ретике, а в пять часов утра скакал верхом по московской дороге.
По совету жены Василий Леонтиевич упросил полковника Искру поехать к ахтырскому полковнику Федору Осипову с открытием доноса своего на Мазепу; Искра употреблял все средства, чтобы отклонить себя от этого дела, и поэтому сам не поехал к Осипову, а послал от себя отца Святайлу, который до отъезда в Ахтырку заехал в Диканьку и передал Любови Федоровне поручение Искры.
– Поезжай, отец Иван, сделай милость, поезжай и так скажи ахтырскому полковнику: что ты прислан от полтавского полковника Искры, который хочет открыть ему тайну великой важности, и чтобы для этого он повидался с ним тайно, и если можно ему выехать из Ахтырки в хутор полковника Искры, куда поехал теперь сам Искра, то чтобы немедленно сел в бричку и выехал.
Осипов, услышав все от любимого им духовника Ивана Святайла, в тот же день выехал в хутор Искры для свидания с полтавским полковником и открытия тайны. Приехав в хутор, он расспросил Искру о тайне, о предприятии его и Генерального судьи Кочубея.
Искра, зная, что Осипов отъявленный враг Мазепы, и будучи сам также одним из числа оскорбленных гетманом, решился наконец не отставать от общего дела и, почесав чуприну, усадил подле себя Осипова и начал говорить:
– Добродию, пане родичу и друже мой, слушай: я и Генеральный судья Кочубей удостоверились, что гетман Мазепа, забыв страх Божий, присягу свою и все милости к нему государевы, по согласию с королем польским Лещинским и с литовским коронным гетманом Вишневецким, имеет злодейское намерение великого государя убить или предать в руки неприятелей, вследствие чего Мазепа приказал, узнавши, что едет к нему в Батурин Александр Кикин, вообразил, что под именем его едет сам государь, и, будто бы для чести монаршей, поставил многое число верных своих жолнеров и бывших у него в службе короля Лещинского слуг с заряженными ружьями, приказав им, как только государь на двор въедет, сделать по нем залпом выстрел, но когда гетман узнал, что едет подлинно Кикин, то и распустил жолнеров…
Осипов выслушал слова Искры и написал все слышанное, тотчас послал письмо к киевскому губернатору, князю Дмитрию Михайловичу Голицыну, которое заключил следующими словами: «Советуют царскому величеству оба, Кочубей и Искра, чтобы вельможность ваша город Киев и себя накрепко от злобы Мазепиной остерегали, и когда будет он, клятвопреступник, в Киеве, то его задержать и, не допуская до Белой Церкви, послать в оную несколько пехотных полков немедля, а буде из Киева он с полками выпустит, или полки его упредят в Белую Церковь, и тогда уже ему нечего учинить, кроме что всякой беды от него надеяться, для того, что с ним будет великая сила обеих сторон Днепра и польская, а как есть народ гибкий, и уже от него гетмана под именем царского величества весьма оскорбленный, не только гольтепа, кои тому рады, но и лучшие волю его исполнять готовы. Они же, все сие царскому величеству донося, милости просят, чтобы сие верное их донесение до времени у его царского величества было укрыто, для того, что некто из ближних его государевых секретарей, также и светлейшего князя Александра Даниловича, Мазепе о всем царственном поведении доносят, то и о сем если уведают, тотчас дадут ему знать».
Вместе с этим Осипов отправил такого же содержания письмо в Москву со своим писарем к царевичу.
Кочубей старался скрыть все действия свои от зорких глаз Мазепы – и ошибся: действительно, не было тайны, не только в Гетманщине, но в Москве, Польше и Швеции, которой бы не знал Мазепа, недаром при нем безотлучно жила целая иезуитская академия, ректором которой был Заленский.
Проведавши через иезуитов о затее Кочубея, Мазепа нисколько не смутился; содержание доноса ему было доставлено из Москвы, действия гетмана, описанные в доносе, были представлены не в истинном свете: не то помышлял Мазепа, что на него взводили, и не так действовал, как думали о нем; и потому-то он был насчет этого покоен духом, но в наказание доносчиков и для примера другим решился привести в исполнение давно задуманное желание – погубить Кочубея и истребить весь его род; и тогда же из Хвастовки написал к царю письмо, которое так начал:
«Хотя бы мне ради глубокой старости и обстоящих отовсюду болезней и печалей приближающемуся до врат смертных, не надлежало так ревностно изпразднения чести моей жалети, и Ваше Царское Величество Всемилостивейшего моего Государя публичными о общей и государственной пользе, особенно в сие время военными делами отягощенного, беспокоить: обаче, желая усердно всеми моими внутренними и внешними силами, паче всякого временного счастия и самого жития, дабы и по смерти моей не осталось в устах людских мерзкая проклятого изменческого имени о мне память, но да буду образ непоколебимой к Вашему Царскому Величеству верности…»
Действительно, Кочубей и Искра были правы, что царские министры в великой дружбе с гетманом и закроют всю истину доноса. Бояре и приближенные к царю были даже в заговоре с Мазепою – это все наделало бритье бород, уничтожение теремов, возвеличение немцев, немецкие кафтаны, обычаи, табак и ассамблеи. Головкин, от которого зависело все дело, был искреннейший друг Мазепы: и как не быть другом такого человека, который более двадцати лет с непоколебимою верностью служил московским царям, притом Мазепа богат и щедр на подарки, Мазепа не такой гетман, как были в стародавние годы гетманы, более предводители казаков на войне против турок и татар, нежели политики, и люди, от которых зависели бы дела королевств и Московского царства. Иван Степанович – знаменитое лицо: он не враг Карла XII, не подчиненный польскому королю, друг Лещинского, мудрый советодатель русского царя и гетман, славный гетман Украины и войска Запорожского. Иван Степанович – князь Римской империи, второй кавалер ордена Андрея Первозванного[1], как же после всего этого не дружить было с ним министрам московского царя. В такой силе был Мазепа в эти для Гетманщины несчастные дни.
Кочубей чрезвычайно изменился в характере: прежде веселый, отчасти беззаботный, любивший всегда быть в обществе казаков, которым нередко рассказывал про походы свои под Чудновом, часто вспоминал прежние годы, когда был он в Валахии, в Адрианополе, описывал берега Дуная, Днепровский лиман, Очаков, когда ходил Азов будовать, Аккерман и другие города, а теперь удалялся общества людей, старался быть постоянно наедине, приметно начал тосковать и сделался чрезвычайно молчалив. В первое время, когда был послан донос в Москву, Любовь Федоровна развлекала мужа, представляя ему в будущем славу и величие, когда кончится дело и Мазепа будет сидеть в кандалах, а Василий Леонтиевич с гетманскою булавою и бунчуком – в Мазепином замке.
– Человек располагает, а Бог управляет! – постоянный был ответ Кочубея на преждевременные радости и утешения его жены. Приедет в Диканьку отец Иван, войдет в комнату к Василию Леонтиевичу, старается завести с ним разговор, Кочубей отрывисто отвечает на вопросы отца Ивана, вздыхает, крестится и говорит, что он великий грешник.
– Нет греха, которого Бог не простит, раскаяние спасает грешника!
– Так, отец Иван, но писано в Евангелии: какою мерою мерите, возмерится и вам! – не думая, сказал Кочубей и уже через несколько мгновений вспомнил, что слова эти в памяти его запечатлелись с того времени, когда пришел он в церковь в Коломак арестовать, вечной памяти, добродетельного гетмана Самуйловича, и странно, подумал он, до этого дня никогда в голову не приходили мне эти слова… не помню, вспоминал ли я про покойного Самуйловича, как повез его из церкви к Голицыну, и безвинно обвинял его перед боярином, а теперь, когда и без этого воспоминания тяжко сердцу, новая печаль впивается в душу. Ох, Боже мой, Боже, как болит душа!..
Черная, невообразимая печаль вытиснула в эту минуту слезы из очей Генерального судьи.
– Господь с тобою, Василий Леонтиевич, не печалься. Бог обрадует тебя, и скоро, я в этом порукою.
Василий Леонтиевич поспешно встал с кресла, прошелся по комнате несколько раз и потом с сердечною болью сказал:
– Успею или погибну, что-нибудь да одно!..
– Успеешь, успеешь, молись!
– Нет, душа болит, не то сердце говорит, чтоб я успел победить великого и сильного врага моего!.. Знаешь, отец Иван, я тебе расскажу сказку, а присказку доскажут люди тогда, когда уже меня не будет на этом свете.
Отец Иван с грустью посмотрел на Кочубея, поправил рассыпавшиеся по плечам волосы, сел подле Василия Леонтиевича и спросил:
– Сказку?
– Да, сказка короткая: как теперь ты у меня духовный отец, был у покойного несчастного гетмана Самуйловича любимый поп, также вот, как и тебя зовут Иваном, и его звали Иваном, любил его крепко покойный Самуйлович; перед концом его гетманства поп Иван неотступно был при нем, читал, не переставая Евангелие и утешал душою страдавшего Самуйловича, ибо он заранее знал свое горе, а горю его причиною я, а лучше скажу, не я… да все равно, что и я, – Любовь Федоровна довела меня до того, что я, послушавшись проклятого Мазепу, написал донос на Самуйловича, да, отче Иван, ты с удивлением смотришь на меня, я перед тобою исповедуюсь: слушай, я расскажу тебе тяжкий грех, который мучит меня… Мазепа издавна был ласковая собака: пока даешь ей мяса, – и добра, а покажи прут, так на шею вспрыгнуть готова. Мазепа прельстил меня обещанием, что я буду гетманом, написал я донос, подписали паны полковники, всех я неправдою умел задобрить, заковали Самуйловича, отослали в Москву, а Голицын на шею всем нам посадил изверга Мазепу, вот и загетманствовал! Ты знаешь, нечего другой раз рассказывать, что он исполнил предсказание Самуйловича: предал царя, благодетелей, друзей и казаков, он же оклеветал и своего благодетеля Голицына, погубил всех, которые были с ним в дружбе, остался один я из всех их, – несдобровать же и мне…
– Что же попу Самуйловича сталось?
– Что сталось, благодарение Богу милосердному, благочестивый человек скрылся.
– Скрылся? – с любопытством и удивлением спросил Святайло.
– Скрылся!..
– А… а… а!.. Вот как… ну, слава богу.
– Слава богу, одним меньше погубил; он тогда же уехал в Киев, как слух пронесся от иезуита Заленского. Мазепа что ни делал, сколько ни обещал червонцев тому, кто поставит попа Ивана, но ничего не помогло. Года через два, рассказывали люди, будто бы он постригся в монахи в Киеве и скоро после того умер; не знаю, так ли это, но с тех пор Мазепа забыл о нем. Ну, погубили мы Самуйловича ни за то, ни за се, – приходится теперь и мне беда, на свою голову донес я на Мазепу, чрез которого погибнул старый гетман; видно, Мазепа для всех нас самым Богом посажен гетманствовать, чтоб за грехи и неправды наши получить достойную награду. Вот тебе сказка, а присказку, когда умру, доскажут люди: суд человеческий, – суд Божий!
Что день, то Кочубей становился мрачнее и мрачнее, иногда он так сильно задумывался, что Любовь Федоровна несколько минут тормошила его как уснувшего, чтобы он пришел в себя.
– О чем ты думаешь?
– О Самуйловиче, гетман приказывает к нему ехать, – говорил иногда, не помня сам себя, Кочубей.
– Господь с тобою… Самуйлович давно в земле лежит. С чего ты взял, что он тебя зовет, перекрестись!..
Любовь Федоровна кропила мужа святою водою, крестила его, когда он впадал в задумчивость, и, наконец, видя горестное его положение, сама начала грустить: написала в Киев к дочери Мотреньке письмо, требуя поспешного ее приезда, полагая, что присутствие любимой дочери утешит и развеселит отца.
Получил Василий Леонтиевич письмо от Мазепы с приглашением приехать к нему по войсковым делам и посоветоваться. Кочубея бросило в жар и в холод. Он не отвечал и не поехал, но ежеминутно ожидал известия из Москвы и дождался.
Это было в полдень. Василий Леонтиевич только что хотел ехать в Полтаву, вышел на крыльцо и видит, вдали по дороге к его дому едет бричка; полагая, что едут гости, он возвратился в комнаты, встал у окна и смотрит на приближающуюся бричку. Вот она близь двора, вот на двор въехала, сердце его страшно затрепетало: бричка остановилась у крыльца, из нее вышел полковник Искра и офицер московской службы; с козел встал сидевший вместе с кучером возвратившийся из Москвы перекрест Янценко.
– Здоров, пане Генеральный судья! – радостно сказал, подпрыгивая и взявшись в боки, всегда веселый полковник Искра. – Видишь ли, как я к тебе поспешал с паном Дубянским; прости, что так приехал одетый по-дорожному, в старый жупан; слава Богу милосердному, вот гостей привез к тебе из Москвы, да еще с крепко славными вестями.
– Ну, слава Богу милосердному!.. А то я, правду сказать, крепко было задумался думою, что так долго нет тебя, казаче! – сказал Кочубей, обратясь к Янценку, потрепал его по плечу и погладил чуприну.
Казак поцеловал руку Генерального судьи.
– Ну пойдем же до Любови Федоровны, порадуем и ее бедную, а то крепко запечалилась, милости прошу дорогих гостей, пожалуйте.
Все вошли в другую комнату, офицер остался в первой.
Любовь Федоровна, увидев входящего и смеющегося Искру, бросилась к нему навстречу и сказала:
– Вот, говорила, легок на помине, сию минуту вспомнила его, уже и вижу.
– Здравствуйте, пани моя милая, радость вам и гостей привез.
– Какую радость? Спасибо тебе!
– Радость и вместе разлуку.
– Да так, пани моя милая, царь ласковое слово пишет до нас чрез графа Головкина и просит приехать к нему.
– Казака нашего Янценку царь щедро наградил.
– Ну, слава Богу! Ехать, так и ехать; это такое дело, воля царская – воля святая.
– Мы и поедем, Любонько, что ж и говорить.
Янценко отдал Василию Леонтиевичу письмо от Головкина, в котором тот писал, чтобы его милость Кочубей как можно скорее поспешал в ближние места к Смоленску, где бы Головкин мог с ним повидаться, поговорить и посоветоваться о том, как упредить это злое начинание и кого избрать на место особы подозрительной. Потому, что если бы готовой особы на место известной, притом как сменять его, не было, то могло бы произойти краю Малороссийскому разорение и пролитие невинной крови, что весьма при таких переменах обыкновенно. Государь имеет донесение об этом деле и от других особ, верных и знатных.
Посланный офицер гвардии отправлен к Кочубею будто бы по прошению Янценка, чтобы он безопасно препроводил Кочубея и Искру в Смоленск; для этого ему дан был вид и нарядили его в польское платье, и он, писал Головкин, ни для кого не будет подозрителен, но тайны он не знает, и ваша милость с ним на этот счет не извольте говорить: Его Величество никому, кроме меня, об этом деле не объявил, оно содержится в высшем секрете!
Царь же писал к Мазепе, что он донос Кочубея и Искры приписывает неприятельской факции, и просил гетмана не иметь о том ни малейшей печали и сомнения, уверял, что клеветникам его никакая вера не дастся, что они вместе с научителями воспримут по делам своим достойную казнь. Головкин в письме к Мазепе сказал святую истину, вполне подтвердившуюся над Кочубеем, оклеветавшим Самуйловича:
«Вы должны сами рассудить, что у клеветников обычай на добрых и верных клеветать. Это болезнь их, которая на их же главы падет».
Через три дня после приезда Янценко к Василию Леонтиевичу приехали полковники Искра и Осипов, сотник Кованько, племянник Искры, собравшиеся в дальний путь.
Долго боролся Василий Леонтиевич сам с собою, выехать ли ему в Смоленск или остаться в Диканьке, сказавшись больным; но, рассудив, что Мазепа может тайно схватить его и казнить, решился ехать, и на четвертый день по возвращении Янценка рано встал он и сел с Любовью Федоровною у того самого окна, у которого сидел с нею назад тому двадцать лет, когда выезжал он в первый Крымский поход, еще, вечной памяти, при гетмане Самуйловиче; в комнате этой, как и во всем доме, все было по-прежнему без всякой перемены: как и в минувшие годы, тот же образ, та же лампада, те же стулья, тот же стол, все то же.
– Любонько! Помнишь ли ты, как мы вдвоем с тобою сидели у этого оконца двадцать лет назад, тогда я был молодец – и ты не баба; а теперь, что мы с тобою… тогда самому мне хотелось булаву взять в свои руки, а теперь, так правду сказать, хоть бы и так покойно умереть.
– Ты мне не говори, Василий, этого, целое море переплыл, а у берега хочешь утонуть! Поезжай к царю, и чтоб ты мне непременно привез булаву, а без этого и не возвращайся ко мне, оставайся себе в Москве или где хочешь.
– Ох, тяжко, крепко тяжко что-то, моя милая Любонько!
– Будет легко и радостно, как враг знает, чего не будешь думать, да скажешь безбоязненно всю правду царю, и он отдаст тебе булаву. Не забудь ты мне показать царю письма Мазепы к Мотреньке и скажи, как старый ястреб заклевал голубку нашу.
Кочубей сидел задумавшись.
Любовь Федоровна встала, погладила старика по голове, поцеловала в небольшую лысину и сказала: пора в путь, соколе мой ясный.
– Пора, пора!
– Пойду прикажу укладывать в бричку.
Любовь Федоровна ушла.
Василий Леонтиевич вспомнил, как он выезжал в Крым, встал со стула, упал на колени и начал горячо молиться перед святыми образами, пред которыми двадцать лет назад молился.
Сердце его сильно трепетало, дух смутился – Кочубей чувствовал, словно последний час его жизни близок.
– Все готово, паны полковники встали, офицер тоже и все ожидают тебя.
– Ну, прощай, Любонько.
– Прощай, Василий.
Старики крепко обнялись, горячо поцеловались, и оба крупными слезами заплакали.
– Чего плачешь, Любонько, не стыдно тебе! Ты не дитя!
– Чего ты плачешь, Василий, и ты не хлопец!
– Да я так, у меня душа болит!
– И я так, у меня сердце неспокойно!
Еще раз обнялись, еще раз поцеловались, и слезы помутили их глаза…
– Прощай!
– Прощай!
– Еще раз прощай, моя голубко!
– Прощай, прощай, мое сердце!
Вышли в другие комнаты, сели все и, по обычаю, замолчали, Василий Леонтиевич не вытерпел, прервал молчание и сказал, обратясь к жене:
– Помнишь ли, как ехал я в Крым, в этой же комнате, вот на том месте, – он указал место рукою, – прощался я с Мотренькою, маленькая она еще была, а теперь, мое сердце милое, что с нею теперь? Что делает душка моя милая… – Горячие слезы опять покатились из очей его.
Все встали, помолились на образа, еще раз Василий Леонтиевич обнялся с женою, еще раз заплакала Любовь Федоровна, перекрестила мужа, Василий Леонтиевич перекрестил жену, вышел вместе с прочими на крыльцо, сел в бричку, и четверка дюжих коней понесла его в далекий путь.
Любовь Федоровна благословила едущих и долго смотрела вслед экипажей, пока они не скрылись за синею далью.
XXV
Белая Церковь утопала в роскошных зеленых садах и живописных лесках; в одном месте плакучими ветвями сплелись белостволые березы, и между ними вырос широколиственный клен, в другом десятка два густых лип и серебристый тополь, или, согнувшись в сторону, прокрадывается черно-зеленая сосна; там четырехстолетний дуб и ясень, как два брата, растут вместе; здесь несколько раин гордятся одна перед другою стройностью и красотою; между лесками кое-где белеются хаты с высокими плетеными трубами, прикрытыми деревянными крышками. Выше всего господствует свинцовая крыша гетманского замка, а за ним очерчивается на голубом небе золотой купол и крест церкви Белоцерковской.
День был жаркий, в полдень в гетманском замке все дремало от праздности и лени; солдаты, стоявшие на часах вокруг замка, дремали, опершись на длинные копья; три компанейца, одетые в оранжевые жупаны с вылетами, беспечно склонив головы на базы колонн, спали на широком крыльце замка; в огромной зале, где Мазепа принимал царя Петра, окна были растворены и на мягких креслах, развалившись, спали карлики, в других комнатах никого не было; в спальне отдыхал сам гетман на широкой, черного дерева кровати с перламутровыми и резными из слоновой кости украшениями. Кровать эта была подарена Мазепе княгинею Дульскою. Покрытый ярко-розового цвета одеялом, бледный лицом, Мазепа лежал в постели, перед ним небольшой негр держал книгу, а другой по знаку гетмана переворачивал ее листы; в голове и у ног Мазепы стояло по два негра с длинными из павлиньих перьев опахалами и отгоняли мух, а на кровати против него в глубокой задумчивости сидела Мотренька.
Гетман читал латинскую книгу.
Матрона Васильевна вздохнула, подперла левою рукою голову и пристально смотрела в лицо Мазепы.
– Ты все, доню, печалишься, пора перестать, живешь не в Батурине, где твоя добрая мать так нежила тебя.
– Знаешь, тату, я поеду в Полтаву, в Диканьку, отец собирается ехать в дальний путь, и матушка пишет, чтобы я приехала попрощаться с ним, не знаю, отчего сердце мое болит?!
– Все твои выдумки, меньше бы думала о родичах, была бы счастливее!
– О родичах!.. Я думаю об отце.
– А знаешь, доню, правду тебе скажу: если бы я был на твоем месте и у меня была бы такая мать и отец, как твои, так хоть головы пусть отрубят им, махнул бы рукою, и только.
Мазепа украдкою посмотрел на Матрону Васильевну, желая разгадать ее мысли.
– Сделай милость, тату, ты мне этого не говори, не утешишь меня…
– Доню моя, теперь не такое время, чтоб ехать тебе в Полтаву: ты и твой муж присягнули мне, что куда я, туда и вы, и видишь сама, я старец – и не сейчас, так к вечеру умру, все мое богатство тебе завещаю, не оставь только меня, с отцом и матерью увидишься еще, ты молода, закрой сначала мои очи!..
Мотренька прослезилась, закрыла глаза рукой и ушла.
Гетман вслед ее махнул рукою и закричал:
– Орлика!
Орлик вошел в спальню.
– Послать племянника моего Трощинского и десять сердюков в Диканьку, схватить Кочубея, Искру и Спасской Полтавской церкви попа Ивана Святайла и тайно их сюда привезть.
Орлик исчез.
Но было уже поздно, – когда приехали сердюки в Диканьку, несчастного Кочубея и Искру пытали в Витебске.
Любовь Федоровна, узнав, что приехал Трощинский схватить ее и мужа, укрылась в церкви, желая лучше умереть близ алтаря. Сердюки насильно вывели ее из церкви.
– За тем ли прислал тебя Мазепа с таким войском, чтоб разорить имение человека, верно служившего войску Запорожскому?
– За тем, чтобы взять тебя, ядовитую змею, и засадить в подземелье, в тюрьму, чтоб там погибла! – отвечал Трощинский и приказал схватить Кочубееву; привезя ее в Батурин, бросил в подземелье Бахмачского замка.
Между тем Кочубей, обнадеженный успехом своего доноса, не мог дождаться конца поездки. Он хотел бы ту же минуту явиться перед царем, раскрыть ему общие подозрения всей Гетманщины на замысел Мазепы. Вот уже он убедил царя… Царь обнимает его… Предлагает ему выбор награды… Спрашивает, кого же вместо Мазепы, и, не дождавшись ответа Кочубеева, прямо поздравляет его гетманом, советуется с ним, как бы ловчее заманить и схватить Мазепу… Кочубей изощряется в средствах: одно другого хитрее и успешнее… Вот уже он в Гетманщине, вот уже Мазепа в его руках, валяется в ногах, умоляет – дух занялся у Кочубея от радости!..
На тысячу ладов разнообразились такие мечтания в голове Кочубея во всю дорогу. В таком же настроении Кочубей выходил на крыльцо дома, где жили в Витебске бояре граф Головкин и Шафиров, которым поручено было обследовать дело. Бодро и смело хотел он из приемной идти во внутренние покои, как вдруг его останавливают и вместе со всеми спутниками заковывают в цепи и отдают под стражу.
Несчастный Кочубей стремглав свалился с гетманской высоты царского друга в самую пропасть государственного преступника! Не успел он еще опомниться от своего ужасного падения, не успел он еще прийти в себя и задать вопрос: что это значит!.. За что?.. От чего?.. Как уже их ввели в покой, приготовленный для пытки. Грозные бояре сидели перед ним в судейском величии своем, окруженные исполнителями своих приказаний и палачами, радостно разглядывавшими свои жертвы.
Шафиров, злобствуя на Кочубея за то, что он известил киевского губернатора о связях с Мазепой царских министров, которые передают ему все государственные тайны, повел допрос, как ему нужно было!
В одно мгновение завеса, скрывавшая доселе истину от глаз Кочубея, свалилась!.. Заповеди Спасителя внезапно представились сокрушенному Кочубею в ярком свете; преступления жизни и службы, словно всемогущею рукою собранные в одну картину, живо рисовались его взору, и во главе их – Самуйлович, благословляющий своего предателя Кочубея; чувство вечной кары Божией, достойно им заслуженной, с силою молнии пробежало по его сознанию. Он всем существом своим содрогнулся. Страх человеческий пробудил в нем страх Божий; страх Божий подавил в нем страх человеческий. Кочубей не слышал теперь горьких укоризн во лжесвидетельстве, которыми бояре начали свой допрос. Несколько раз они повторяли свое понуждение: «Говори же!.. Отвечай!.. Ты клеветал на Мазепу?»
Кочубей ничего этого не слышал: он не мог отвести свой слух от внутреннего существа своего, оглашаемого неумолкаемыми воплями совести, раскрывшей перед ним греховность, коварство и грехи всей его жизни. Переполненный чувством сокрушения и сознания своей виновности пред Богом, Кочубей, как бы в ответ на вопросы внутреннего судии, воскликнул:
– Праведен Ты еси, Господи!.. И праведны все пути Твои, грех мой меня попутал, уловился в собственной моей сети!..
– Так ты винишся?.. Ты сознаешься во лживости своих доносов? – спросили оба боярина в один голос.
– Пиши! – сказал Шафиров дьяку. – Кочубей сознался, что он по факциям неприятельским взнес донос…
– Нет, ясновельможные бояре, государи мои милостивые! Доношу я теперь его величеству сущую правду, – Мазепа точно изменяет его величеству, готовит великую беду и скорбь… Это я правду говорю… Хоть и не верите, так сами увидите.
– Так ты еще запираться! – вскричал разъяренный Шафиров. – А вот сейчас… мы доберемся! Эй, палач, живо, говорят вам…
Палачи затормошили Кочубея. Между тем судьи подозвали трепетавшего всем телом Искру.
– Ну, пане, как тебя, Искра, смотри же, не запираться, правду сущую говорить! По чьему наущению ты доносишь? – кротко, но важно спросил его граф Головкин.
Искра хотел было что-то говорить, язык не слушался его, произносил несвязные полуслова. Искра поглядывал то на судей, то на Кочубея, а сам был бледный как полотно.
– Говори, пане Искро, как перед Богом, конец наш пришел! – сказал Кочубей, между тем как палачи продолжали около него свои приготовления, в которые заботливо вмешивался Шафиров.
– Молчать! – грозно закричал Шафиров на Кочубея. – Знай себя и отвечай, когда тебя спрашивают! Ну, говори же, – сказал он, обратясь к Искре, – по чьему наущению ты доносишь?
– Спросите Кочубея, он заставил, он принуждал меня вмешаться в это дело. Я бы и рукой махнул, видел не видел, слышать не слышал.
– Так и ты стоишь на том, что было чему рукой махнуть? Так было что видеть, слышать? – спросил Головкин.
– А-а! Кочубея спросите! Пытать его, – закричал Шафиров.
Искре дали десять ударов кнутом. Искра сделал показание, какое угодно было судьям. Дьяк записал. Кочубей стоял подле Искры, видел муки его, слышал его показание и вполне разгадал участь, их ожидающую.
– Ну, пане Кочубей, твоя очередь: Искра тебя велел спрашивать, говори же правду, по чьему наущению ты доносишь на верного слугу царского, добродетельного и великого своего гетмана, уж не хотелось ли вам его низвергнуть и кому-нибудь самому из вас на его место, говори же правду, а не то – видишь! – Головкин указал ему на палачей.
– Я сказал вам, честнейшие бояре: грех меня попутал. Не потаю пред вами, как пред Господом, – лукавый помысел был: думалось и булаву получить, коли Мазепу свергну, а все-таки сущая то правда, что Мазепа – предатель, готовит царю великую беду…
Бояре велели читать вслух его донос, требовали на каждую статью доказательств.
– Теперь я вижу, донос верен, измена есть, а доказать нечем, – писалось и то, чего бы и не следовало писать, – грех меня попутал.
– А когда нечем доказать, значит, ты клеветал?
– Так ты облыжно клеветал? Гетман и не думал изменять?
– Гетман, точно, изменил.
– Пытать его! Что с этим упрямым старичишкой делать?
– Ну что? Винишься теперь? – спросил Шафиров.
– Дьяче! – несвязно проговорил Кочубей. – Пиши, как там оно вам треба, а я подпишу. Конец мой приходит, суд Божий гремит надо мной! До чего я дожил!
Кочубей, в изнеможении, повалился на пол.
Мазепа не удовольствовался наказанием Кочубея и Искры, которое претерпели они в Витебске, и писал к царю, что «он отягощен неизглаголанною и не описанною царскою милостию и благодарствуя благодарствует, и до конца жизни своей не перестанет благодарствовать за премилостивое защищение невинности его и за непопущение врагам возрадоваться о нем. А понеже, – писал Мазепа, – ныне с праведного розыску, который по Указу Вашего Царского Величества чинен был, показалось явственнее, что тые мои враждебные наветники, Кочубей и Искра, клеветали на мя неправду, и в сеть, юже мне сокрыша, сами впадоша, уловлении во лжи и злобе своей; того ради покорне с доземным поклонением за таковую Вашего Царского Пресветлого Величества милость и крайне милосердствующее о мне Монаршее призрение прошу, дабы по премощному Вашего Царского Величества Указу и милостивому обнадеживанию тые мои лжеклеветники, Кочубей и Искра, были до меня присланы для окончания розыскного дела, и чтобы над ними справедливость такая, какую Вы, Великий Государь, по богомудрому своему рассмотрению учинить повелите, всенародне в войске совершилася, дабы, видя то, прочие не дерзали больше неправедных на мя соплетати и вымышляти наносов и наветов».
Сковали Искру и Кочубея по рукам и ногам и из тюрьмы посадили в простые телеги, и измученных страдальцев товарищ смоленского губернатора, стольник Иван Вельяминович Зернов, привез в Киев.
Со дня пытки пребывание в сырых тюрьмах, езда по всякой непогоде и зною в простой телеге, стыд, посрамление, терзание совести, побои, неожиданность внезапного бедствия привели Кочубея в жестокое лихорадочное воспалительное состояние. Голова его горела, он временами терял память и рассудок, дорогою в Киев он беспрестанно бредил. Вельяминову иногда говорил, что везет Самуйловича к князю Голицыну.
– Боюсь, – говорил Кочубей, – чтобы казаки, преданные гетману, не напали на меня, тогда убьют меня, освободят Самуйловича, дети мои и весь дом осиротеют без меня…
Вельяминов видел душевные и телесные муки несчастного Кочубея и непритворно соболезновал.
Искра постоянно, во всю дорогу не говорил ни слова, а перед въездом в Киев ночью бывшие до этого черные как смоль волосы его совершенно поседели, лицо почернело и покрылось морщинами, так что сам товарищ губернатора не узнал его, когда привез в Киев.
Это было 12 июля 1708 года…
В страшном подземелье сидели скованные Кочубей и Искра. В этом подземелье под сводом горел небольшой фонарь и мертвый, тусклый свет разливал на черно-серые стены тюрьмы. Искру, как беспамятного, положили на солому, Кочубея приковали к стене за руки и за ноги; утомленный неизобразимыми муками, ясно выражавшимися на страшном лице его, Кочубей некоторое время был как бы в исступлении, потом мало-помалу стал приходить в себя, но, не понимая, где находится, окинул взором подземелье, посмотрел на цепи, которыми был прикован, склонил голову на болезненную грудь, задумался и потом вдруг страшно задрожал, простер руки сколько дозволяли цепи и закричал: «Любонько, Мотренько, Анюта… вас ли я вижу!» Ему представилось, что он возвратился в Батурин в свое семейство. В то время Орлик, с двумя казаками, несшими фонари, вошли в подземелье осмотреть узников. Кочубей громко говорил:
– Садитесь, все садитесь здесь вокруг меня… Дай я тебя прижму, дочко моя, Мотренько моя, квете мой рожаной!..
Он только звенел цепями. Орлик в немом удивлении остановился перед Кочубеем, с усмешкою смотрел на его муки и любовался страданиями.
– Все сели, всем достало места?.. Ну, слушайте, я вам расскажу, что видел, что слышал в походе в Крыму… Там все огонь, огонь, степь горела на тридцать верст, казаки гибли, а мы с Мазепою радовались да венгерским радость запивали, с полковниками донос писали, – не будет Самуйлович гетманом, не будет!..
В это время в Святой Лавре заблаговестили ко всеночной. Кочубей услышал глухой звон, долетавший в подземелье через небольшое отверстие, проделанное в своде, хотел перекреститься, но цепи не пустили, повел головою в обе стороны и тихо сказал:
– Звонят, звонят!.. – Он задумался. Потом, прислушиваясь к умиравшему звуку, отдававшемуся в узких переходах подземелья, продолжал бормотать: За человеком человек умирает… сегодня по гетману Самуйловичу звонят, а завтра, может быть, и я умру, позвонят и по моей душе, положат в домовину, очи мои засыплют землею, через год и памяти не будет… из люльки да в домовину – дорога не дальняя, да случается по дороге много дива дивного… сегодня я такой, а завтра совсем другим буду, сегодня одна думка и воля, а завтра другая, – такой ли я когда-то был: Самуйлович крепко меня любил… я же его и погубил…
Он умолк, и через некоторое время память его прояснилась, он тяжело вздохнул несколько раз, склонился головой к стене и заговорил сам с собой: «Человек, человек – несчастный ты в мире: воля, слава и золото губят тебя, коварство, зависть с тобою как сестры родные живут… и я задумал гетманствовать, и погубил себя! – как пес, когда-то лизал я ноги знатным, просил у них казацкой славы и выпросил, да не себе, а Самуйлович все, погиб, и душа моя погибла… Мазепа золото рассыпал перед Голицыным – и булава в его руки перешла, золото рассыпал, – и неистово закричал он: – И чего люди не сделают за золото! Честь, совесть и душу продают за золото, дай золота и купишь ворогов себе, а не себе, так кому захочешь, хоть отцу родному, отцу родному… что ж – и батько тот же червонец: отдай его врагам и дадут тебе, чего захочешь, и Самуйловича мы продали, а как правду-то сказать, он батьком нашим был! О… о, если бы теперь золото мое сюда принести!..»
Сказав это, громко кричал Кочубей: «Купил бы я всех вас! И гетмана купил бы, кровь его и душу купил бы… а там что будет? Все умрем, вечным сном заснем, и никто не разбудит…»
– Я разбужу тебя, проклятый доносчик! Где золото твое, говори? – закричал Орлик.
– Кто это здесь?.. А, это ты, Орлик, так я в Батурине, в руках Мазепы? – слабым, болезненным голосом сказал Кочубей.
– Ну, ябеда, я тебя на встряску, говори, где твои червонцы и ефимки?..
– Возьми все себе… теперь мне ничего не нужно… Орлик, Орлик! Зачем тебе золото? Видишь Кочубея?.. Что ему теперь золото!.. А ты с гетманом разве бессмертные?.. Золото и вас доведет сюда же! Скажи, где я, в Батурине, в Полтаве, где я?..
– Ты здесь! Не спрашивай больше ничего и говори мне теперь не проповеди твои, а просто, где золото твое?
– Червонцы в Диканьке, возьмите их себе, а когда люди добрые будете, отдайте на церковь и монастырь хоть малую часть за упокой души моей!..
– В Диканьке – где ты их спрятал, говори?
– В подвале дома, в глиняных горшках, в землю зарыты, найдешь четыре тысячи червонцев и две тысячи талеров! Вот тебе и все теперь, дай мне покой, мне легче стало!
Орлик исчез, обрадованный признанием узника.
Кочубей опять впал в исступление и повалился на землю. Глаза его, освещенные тусклым огнем фонаря, ярко блестели; не спав несколько ночей сряду и выбившись из сил, он смежил глаза, тревожная дрема успокоила его, и грезится ему, что он подъезжает к шатру гетмана Самуйловича, чтобы схватить его, но нет гетмана в шатре, он со стражею едет в церковь; ночь тихая, звезды ярко горят на синем небе, вдали кричит перепел, среди ночного безмолвия громко звенит благовестный колокол в церкве Коломака, вот он подъезжает к ней, входит в притвор и потом в саму церковь, свечи ярко горят перед местными иконами, лампада теплится пред образом тайной вечери, в алтаре темно, у иконы Божьей Матери, стоя на коленях и склонив повязанную белым платком голову на железную решетку, подле алтаря, молился Самуйлович, а среди церкви седой священник дрожащим голосом читает Евангелие, и слышит Кочубей:
«Имже бо судом судите, судят сам: и вню же мтьру мтьрите, возмтьрится вам».
Вдруг в глазах Кочубея все исчезло, туман наполнил церковь, он задрожал: громовой голос нестерпимо для него произносит слово Евангелия, и Кочубей трепещет. Но вот мало-помалу туман развеялся, и видит Кочубей: по правую сторону у алтаря стоит он сам и молится, а позади его Мазепа, Орлик, Заленский, казаки; он хотел пройти мимо их, но нет дверей, он подошел к царским дверям, ударил перед престолом три земных поклона, и из алтаря вышел к нему отец Иван, духовник Самуйловича, с святою чашею и сказал: примирись с Богом и людьми, покайся – твои муки кончаются.
Это глубоко поразило Кочубея, он проснулся: тихая радость оживила его душу, он открыл глаза – и видит: действительно, перед ним стоит престарелый священник, в руке его чаша примирения грешника с Небом. Кочубей всматривается в черты лица инока.
– Мир тебе, сын мой, и благодать от Господа нашего Иисуса Христа, искупившаго нас Своею кровию!.. Узнаешь ли меня?
– Отец Иван, ты ли это?
– Да, грешный иеромонах Иосиф это я, – духовник добродетельного Самуйловича.
– Господи, помилуй меня, беззаконника! – говоря это, Кочубей хотел пасть к ногам старца, но цепи не допустили, он склонился головою.
– Прозрел ли ты, сын мой, пути Божии?
– Вижу, отче, все беззакония мои, исповедую все грехи мои, поручаю душу мою в руки Божии.
– А знаешь ли ты, что тебя ожидает?
Кочубей опустил голову на грудь.
– Да, дни твои изочтены, скоро повезут вас на смертную казнь.
Кочубей заплакал, возвел глаза к небу и после некоторого молчания, содрогнувшись, сказал:
– Ох тяжко мне, грешнику!.. Праведные с веселием идут на смерть… а меня ужас смертный объемлет… Помолись о мне, отче! Я погибший грешник…
Отец Иосиф начал последование к покаянию и ко святому причащению. Уничиженный Кочубей, как истомленный жаждою – воду, впивал в себя слова молитв. Лишенный всякой земной опоры – всем существом своим он погружался в милосердие Божие, не мог насытиться молитвой, сердце его изливалось в слезах умиления и сокрушения. Приступив наконец к самой исповеди, он со всею заботливостью отыскивал и малейшие прегрешения жизни своей, весь повергался в бездну милосердия Божия. Уста его не в силах были выразить радость и восторг его духовный после принятия Святых Тайн. Дребезжавший голос его только и мог произносить: слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!.. Слава тебе, Боже!.. Он целовал свои цепи, благословлял свою темницу, беспрестанно порывался преклониться долу, молился за своих губителей.
– Перекрести меня, отче, не могу креста положить.
– Ты весь на кресте своем, сын мой, благословляй Господа, – сказал отец Иосиф, осеняя его крестным знамением.
Между тем, еще до начала молитвы, отец Иосиф старался призвать и Искру к молитве; тот не спал, глядел вокруг, но ничего не видел, ничего не отвечал.
– Молись вместе с нами, пане Искро.
И действительно, пока шло последование и потом исповедь Кочубея, Искра лежал, по-видимому, без памяти, но когда Кочубей дошел до сокрушения о том, что он и других увлек заговором своим в погибель, Искра привстал и сказал:
– За мои грехи и беззакония покарал меня Господь, – не ты, пане Кочубей, сам я себя погубил…
Кончив исповедь Кочубея, отец Иосиф обратился к Искре и начал исповедовать его вопросами. Тот хотя и бессвязно, но сокрушенно каялся и в памяти принял Святые Тайны.
– Как ангел Божий явился ты к нам, погибшим, отче Иосифе! Судил же Господь, чтобы ты привел ко спасению того, который искал твоей погибели… в ню же мтьру мтьрите, возмтьрится вам!.. – произнес Кочубей, это были последние его слова.
XXVI
Багровая заря покрыла восток, прохладный утренний ветерок перелетал между кустами в лесах и струил серебряные чешуйчатые волны, и колебал отражения зеленого тростника, смотревшегося в воду. Розово-золотистый луч зари отразился на стеблях и листьях камыша, на ярко-зеленых вершинах деревьев, на цветах в каплях росы, пал на фиолетовые горы Днепра, далеко видневшиеся, и озарил ущелья их, пал на поля, покрытые волнистыми хлебами, – и все зарумянил и все озолотил. В местечке Борщаговке, на площади, где вчера старухи, казацкие жены, продавали бублики, огурцы, арбузы, яблоки, вишни, там 14 июля до восхода солнца поставили деревянные подмостки, и батуринский кат, нарочно приехавший в Борщаговку по приказанию гетмана, положил ту самую колодку, на которой он отрубил голову Григорию Самуйловичу, монаху Соломону и еще десятку-двум казакам и другим людям. Народ со всех улиц Борщаговки стекался на площадь, не зная, для кого приготовляется все это.
Взошло солнце, и на площадь приехали гетманские сердюки и обступили со всех сторон возвышение, за ними пришли пешие казаки и московская пехота и также заняли свои места, часу в восьмом начали собираться бывшие при гетмане старшины, полковники и посполитые люди.
Прискакал на коне Гамалея, а за ним генеральный обозный Ломиковский. Шум и крик народа умолкли, на возвышение взошел высокий и дюжий палач, он играл перед народом огромною секирою, народ бранил и проклинал его, палач смеялся.
Вдали на телеге везли двух скованных узников; народ бросился навстречу к телеге, желая узнать, кто такие несчастные, но не могли удовлетворить своему любопытству, один из них без чувств лежал на телеге, закрытый белым покрывалом, а другой хотя и сидел, но лицо его также было закрыто.
Гетман смотрел из окна своего замка, который одною стороною выходил на площадь. С ним была Мотренька, не зная, почему ей казалось, что большое стечение народа и такое площадное торжество может быть только при казни ее отца: сердце не обманывало ее, она смотрела на площадь, дрожала всем телом и была безмолвна. Гетман смеялся ее женской слабости и заставлял до конца остаться у окна, говоря, что казнят москаля. Матрона Васильевна не могла смотреть на это торжество, отошла от окна, в другой комнате села и душевно молилась об отце и матери.
Чуйкевича не было тогда в Борщаговке, он был в Польше, по делам гетмана.
Заиграли в трубы, ударили в литавры и бубны, и палач повлек на возвышение Кочубея, разорвал покрывало на лице и обнажил его шею.
Кочубей обратился к народу. Казаки узнали его, Кочубей хотел что-то сказать народу, но в тот же миг, по грозному знаку Ломиковского, бубны, литавры, трубы загремели громче прежнего.
Генеральный обозный дал знак, чтобы народ умолк. Стольник Иван Вельяминов-Зернов громко прочел данный ему Головкиным приговор.
Народ с ропотом выслушал обвинение Кочубея и Искры; иные явно дерзали говорить, что они доносили праведно, но их никто не слушал. Кочубей спокойно выслушал приговор, преклонил колена, палач положил седую обнаженную голову на плаху… музыка загремела!..
Через час после казни какой-то монах просил, чтобы тела дозволено было погрести; и так как тела казненных всегда дозволяли хоронить народу по желанию, где захотят, то трупы Искры и Кочубея были отданы сострадательному отшельнику: они оба в одном гробе преданы земле в Киево-Печерской Лавре при входе в трапезу. Мазепа не знал об этом. Через год или более над могилой несчастных страдальцев положен был камень с надписью:
Кто еси мимо грядый о нас не ведущий, Елицы зде естесмо положены сущи, Понеже нам страсть и смерть повеле молчати, Сей камень возопиет о нас ти вещати, И за правду и верность к Монарсе нашу, Страдания и смерти испыймо чашу. Злуданием Мазепы, всевечно правы, Посеченны заставшие топором во главы: Почиваем в сем месте Матери Владычне, Подающия всем своим рабом живот вечный.XXVII
– Недаром, – заговорили казаки, – Господь посылает звезду с хвостом, недаром идут слухи, что в Гетманщине по ночам ходят три сестры: смерть, голод и война; истину рассказывали и полтавцы, что в Ворскле под водою слышали звон колоколов и погребальное пение, – швед наступает войною на Гетманщину, и черная печаль, как бурное море, закипела по всей Украйне, как губительная язва, разнеслась по православному русскому царству. Царь московский враждует с королем шведским, не хотят они друг другу подать руки, не хотят примириться; один – гордый победами, другой славен мудростью и крепкою верою в Бога; один хочет все царства разгромить, всех царей пленить, другой жаждет смирить строптивого шведа, прогнать его за пределы родной страны и утвердить свое царство.
Враждуют царь и король, а нечестивые ляхи, татары и изменники православному царю тешатся сладкими замыслами, богатеют чудными думками, а крупными слезами плачут матери и жены в Гетманщине, думают черные думы несчастные невесты.
Шведский король вперед раздает чины и награды своим вельможам: Шпарру выдал патент, назначив его московским губернатором; и в Берлине Шпарр на пиру у подскарбия короны польской Пребендовского хвалится всем наградой, превозносит Карла XII и заранее жалеет, что мудрый царь московский наголову разбит будет и царство его разделится на княжества. Карл и квартиры могучему войску своему назначает в Москве: да как ему и не назначать – он король непобедимый: ему ли не управиться с не окреплою в бранях русскою силою? Русское царство богато верою в Бога, но слабо еще силою человеческою, а в битвах, мол, все решает мощная длань и твердая грудь воина; в час битвы, когда длинные копья вонзаются в груди, когда пули впиваются в сердца – не молиться-де войску, не думать о вере целой армии, – так мыслит победитель датчан, саксонцев, поляков, так мечтал низвергнувший Августа II и надевший на Лещинского корону Польши, так думал король, приведший в трепет всю Европу.
«Есть у меня, – со своей стороны, думал царь православный, – есть у меня дело правое, милость Божия, да верный помощник и советодатель, есть крепкий охранитель благословенной Гетманщины, друг и добрый слуга Иван Степанович Мазепа; правда, скорбь и муки иссушили его, беспредельно преданного мне, но Бог укрепит силы его, и выступит он с храброю ратью своею, с славными рыцарями запорожскими, казаками-молодцами».
Гетман, получив от царя письмо, чтоб выступал в поход, заболел и с постели не встает. Тяжко пчелам в улье без царицы-матки, сумуют и казаки, как быть им на войне без храброго гетмана: с веку вечного не случалось, чтоб казаки одни без батьки в поход выступали. Горе, тяжкое горе, враг ближе и ближе подвигает войско свое к славной Гетманщине. Да и не век же думы думати, хоть и без гетмана, а надобно же казакам в поход идти. И потянулась мощная казацкая сила к светлому широкому Днепру, не раз уже поившему храброе казачество славою, не раз уже и красневшему вражескою кровью.
Весело в поход выступать, когда сердца воинов исполнены крепкой веры в Бога; не страшно рати смотреть на черное небо, занавешенное стаями кровожадных воронов, соколов и орлов; не ужасают казаков и бесчисленные стаи серых алчных волков, бегающих за ними; вороны будут клевать очи убитых врагов, алчные волки будут терзать вражьи сердца, а милосердный Бог спасет и помилует православное казачество.
Но вот горе: слух разнесся, что гетман Мазепа тайно польских послов принимает, сам пишет к шведскому королю. Как чайки по Днепру шныряют за рыбой, так проклятые иезуиты, шпионы Мазепы и шведов, рыщут по Гетманщине, всякие слухи добывают и доносят королю и гетману. Не устрашает их пытка огнем, которою пытали польского шляхтича Улишина, посланного от Понятовского к Мазепе донести о приближении к Гетманщине Карла и о желании его знать от гетмана, скоро ли он присоединится к нему с казаками.
Кто проникнет в сокровенные мысли Мазепы; он скрытен от всех, не такое наступило время, чтоб быть откровенным; не вымолит у него признания и крестная дочь его, первое на старости лет утешение его, не вымолит и Матрона Васильевна, дочь несчастного Кочубея, жена Чуйкевича; она день целый проводит с гетманом, сама грустит, сердце вещует ей тяжкое горе, словно отец ее казнен и мать в тюрьме, а она не знает этого. Мазепа скрывает от нее, скрывает и муж, сделавшийся другом Мазепы.
Рано утром в один день зазвонили в Стародубе, громко заиграли в звонкие трубы, забрякали в голосные литавры, взбежали казаки пушкари и пищальники на валы, задымились фитили, зарядили рушницы, обнажили острые сабли, стоят – и смотрят в синюю даль. Взвивается серая пыль, и ярко блестят ружья от солнца, и хлобыщат, развеваяся ветром, красные знамена шведские. Стали стародубцы твердою стеною, не дадут они взять своего города нечестивым шведам.
Да чего страшиться стародубцам, сам гетман с отборными казаками поспешает к ним, Бог поднял его на ноги от болезни, киевский митрополит Иоасаф Краковский соборовал его маслом – и гетман выступил в поход.
Поспешили казаки с гетманом и пришли к Десне под Новгород-Северск.
Стало благословляться на свет Божий, кровавая заря поведала свет дневной, гетман вышел из персидского шатра своего, сердюки подвели ему дорогого коня вороного, вложил он старую ногу свою в серебряное стремя, сел на коня, бледный и седой – не тот Мазепа, что когда-то, за вечной памяти, при Самуйловиче, гарцевал по степи, поспешая в Крымский поход. Теперь сел старик и трясется, хотел что-то сказать, поднял руку – рука опустилась, губы охололи и не растворялись, кивнул головою, поднял еще раз руку и едва вымолвил, указывая на шведов:
– Казаки молодцы, храбрые рыцари, скорее за мною, а то погибнем: и за нами беда, и перед нами беда! Гайда, сыны мои любезные, послушайте седого батька вашего… за мною. Гайда!..
Пришпорил коня, и конь как стрела помчался к шведам; тут-то очи всем открылись, и немногие казаки последовали за ним, потянулся и обоз, а в обозе крестная дочка Мазепы, куда гетман и Чуйкевич, туда и она, несчастная.
Вот и верный гетман, вот и подпора и надежда православного царя, вот и радость и спасение Украины!
Изменил Мазепа Богу, царю и казакам, изменил на свою погибель. Двадцать девятого октября явился Мазепа к Карлу, обедал с ним и после обеда положил к ногам Карла свою гетманскую булаву и бунчук, простился с королем, сел на коня, заиграли в честь его шведские трубы и литавры, изменник поехал в свой шатер, поставленный уже среди шведского войска.
Услышал царь про измену Мазепы – и проклял его; и церковь утвердила слово царское; в один голос слились все звуки колоколов Гетманщины, в одно слово соединились сотни тысяч голосов гетманцев и православного русского войска, и промчалось по всей Гетманщине имя Мазепы в притчу злобы, коварства, нечестия и предательства до сего дня.
Столицу гетмана, Батурин, защищаемый сердюками, взял князь Меншиков, разорил гнездо изменника и Батурин сжег.
Война продолжалась, шведские войска подступили к Полтаве и начали осаду города.
Полтава не была твердыня, несокрушимая крепость: десять верных казаков вверх на копьях подняли бы всю ее, будь это вражеская крепость, но Полтава тверда была верой в Бога, и шведское войско не могло взять ее. Несколько раз сам Карл нападал с многочисленным войском на ветхие хатки, построенные на горе и обнесенные частоколом, саппами сквозь валик из полисад подкапывался – и наши абшит давали шведам, писал царь в своем журнале.
Приехал царь и осажденным письма посылал в пустых бомбах. Полтавцы благодарили Бога, что царь прибыл к армии и скоро обещает освободить их от неволи и козней вражьих, и также в бомбах послали к нему письмо, через которое уведомили, что у них пороха почитай за нтьт.
Царь видел, что быть большой битве, и не медлил распоряжениями к ней: 26 июня собрал он в шатер свой всех знатных военных генералов, советовался с ними о битве и составил план. Кончился совет, он вышел из шатра, – докладывают, что привели пойманного польского переметчика, который сказал, что на утро другого дня Карл хочет начать битву.
– На зачинающего Бог! – произнес Петр и повелел готовиться к битве.
В полночь царь скакал по рядам своего войска, в эту минуту он был тверд, величествен, страшен: глаза его горели, высокое открытое чело исполнено глубокой думы, казалось, это летал по рядам богатырь, посланный с Неба для наказания и погибели могущественного, доселе непобедимого короля шведов.
Быстро пронесшись по рядам, царь объехал батареи, осмотрел пушки, стал среди войска, обратился лицом к монастырю, снял шапку и начал молиться, за ним молилось все воинство.
Ночь была светлая, тихая, месяц купался в прозрачных волнах Ворсклы, и малейший ветерок не смел нарушить спокойствие природы.
Раненный в ногу пулею, Карл в одноколке разъезжал по рядам и в полночь построил войско свое в боевом порядке. В начале второго часа пушечный выстрел со стороны шведской возвестил начало битвы, и отголосок ее далеко, далеко пронесся в грядущие веки, возвестил начало славы России и падение северного Александра.
Были страшные годы в Гетманщине, были кровавые битвы, воевали казаки при Богдане, при Брюховецком, при Виговском и при Самуйловиче, но не бывало еще в ней битвы Полтавской. Заревели пушки – и Ворскловые горы тысячи раз откликались эхом, засвистали пули и градом посыпались на ратников, сабли загремели о сабли, затрещали длинные копья, начался пир смерти, полилось вино кровавое, дым скрыл небо и землю – застонала земля.
Шведы везде уступали войскам православным. Сам царь летал по рядам, и с ним летал ангел брани и победы, три пули ударились в него, но не смели умертвить Богом хранимого. Шереметев, Меншиков, Репнин, Боур, Брюс распоряжались каждый отдельными войсками, Петр распоряжался всеми.
В полдень битва возобновилась с новою силою: тяжелою стеною двинулась шведская кавалерия на русские войска, грянул картечный град, и стена вражья зашаталась и разделилась на две части: победа явно преклонилась на сторону царя; полтора часа обе армии дрались, как львы в пустыне, но русские везде превозмогали.
Пушечное ядро выбило Карла из носилок, и он, далеко отброшенный, лежал без чувствий, его положили на древки от знамен, через несколько минут он пришел в себя, закричал: «Шведы, шведы!» – приближенные, полагавшие до этого, что король убит, услышав голос его, столпились у его изголовья; Карл настаивал, чтобы его посадили на коня, лишенный последних сил, он все еще хотел присутствовать в битве среди воинов. Понятовский исполнил желание Карла, посадил его на лошадь и, поддерживая его, кое-как пробрался с ним к обозу, там Карл сел в карету одного из своих генералов и, охраняемый несколькими драбантами, поехал в Переволочную.
Жребий был решен, явною помощью Божьею Петр Великий приготовил его шведам, учителям своим, многолетними усилиями и бедственными до этого войнами.
И вот как созрели плоды его благословенного ума, его великих соображений, при помощи Божьей, удача или неудача здесь не имели места, несмотря на несостоявшуюся помощь Мазепы, все было заранее обдумано и долженствовало в этой битве исполниться так, а не иначе, и все это совершилось под непосредственным наблюдением царя; «и непобедимые господа шведы скоро хребет показали», – писал Петр в своем журнале.
Шведская армия была истреблена: двадцать тысяч воинов пало на пространстве трех украинских верст вокруг Полтавы, на одном поле битвы легло десять тысяч.
Оставя на волю судеб разбитую свою армию, Карл переправился через Переволочную. Мазепа с Заленским, Орликом и с весьма небольшим числом приближенных сердюков и компанейцев также переправился через Днепр, бросив недалеко от Полтавы любимую свою крестную дочь Мотреньку и захватил два бочонка червонцев, из них двести сорок тысяч немецких талеров ссудил Карлу. Домогался всего – и разом все потерял!
Печаль о своем падении так поразила Мазепу, что он, прибыв к Днепру, получил удар паралича, а приехав в Бендеры, Мазепа почувствовал приближение своей кончины, потребовал у Заленского свою шкатулку, вынул из нее бумаги и сжег их, сказав:
– Нехай один я буду несчастлив, а не многие, о которых вороги мои, может, и не мыслили или и мыслить не смели: злая доля все переиначила для неведомого конца.
Лишенный животворных утешений, оставленный почти всеми казаками, он таял и видимо разрушался: одр его окружали досада, скорбь, ропот и укоры то обманутого величия, то не сбывшихся громадных надежд всех его окружавших.
Ночью на 22 сентября второй удар паралича убил его; 24-го его хоронили, впереди шли музыканты, играя марш погребальный, за ними шведский генерал нес гетманскую булаву, шесть белых коней везли на дрогах гроб, окруженный казаками, которые шли с обнаженными саблями, далее шведское войско с опущенными в землю знаменами и опрокинутыми ружьями, его погребли в Варнице, близ Бендер.
XXVIII
По дороге из Решетиловки в Полтаву, недалеко от Полтавской могилы, сидя согнувшись на возе, запряженном двумя дюжими волами, ехал старик гетманец, позади его сидела женщина лет двадцати двух в изорванном клетчатом платье и в серой суконной свитке, волосы ее были растрепаны и прикрыты ветхим полотняным платком, она была чрезвычайно бледна, на груди вместо мониста висел кипарисный киевский крестик.
Старик, указывая рукою на могилу, говорил:
– Тут, мое серденько, настоящее пекло было, двести гармат не переставая жарили целый день, дальше, у леса, сам царь стоял на коне, а вот, далеко, чуть мреет могилка – видишь, голубко?..
– Вижу!..
– У той могилки стоял мазепинский обоз, а с ним была его крестница, дочка покойного Василия Леонтиевича Кочубея, дай Бог ему Царство Небесное, добрый был пан! Что ж, злодей бросил несчастную крестную дочку свою, и, говорили казаки, она, сердце мое коханое, и самую баталию была с ним, как подстерег аспид, что царь победит шведа, дал маха до Переволочной, она, бедная, за ним следом: он же в берлин шестернею, а она пешком, и рассудила б несчастная, где уже догнать ей, так нет, задыхавшись, а все бежала, пока не выбилась из сил и упала средь дороги. Казаки шли из-под Полтавы после баталии, подняли ее да в село привели и отдали, не знаю, какой-то казачке. Говорили люди, что она жила у той казачки целый месяц, пока и духу стало не слышно шведского. Казачка хотела отвезти ее в Диканьку; царь, вишь, Кочубеевой все деревни и села отдал, какими владел покойный Кочубей, да она, мое сердце, уж не захотела ехать до матери: злая мать, всему горю причиною, сплела на дочку враг знает что, сказала людям, что она с проклятым Мазепою зналась, а по век сего не было. Бог же наказал ее… Правда, Мазепа страх любил крестницу свою, да не так, как Любовь Федоровна растолковала…
– И долго жила тая, как она, Матрона с казачкою?
– А так сдается, около полгода; да что уже в такой жизни: прежде в каких будинках тешилась, мое серденько! А тут досталось в простой хате пропадать, да таки-так, что пропадать: узнала, что батькови голову отрубили, она с туги да печали заболела, пролежала недель шесть, а потом хоть и встала, так что ж, – смерть ходит по селу, а не красивая молодица, а когда-то красавица была Мотренька: очи черные, так хоть как и у тебя, такая ж коса, брови черные, сама бела, кровь с молоком; теперь ходит и сама себя не знает; говорили мне люди, что сельский голова принуждал ее ехать с ним в Диканьку: так нет ни за что. «Я, – говорила сердечная, – дождусь пана Чуйкевича, своего мужа». А Чуйкевич за измену царю давно в Сибири пропадал; жалко, не был я тогда в селе, а то бы мы с головою все как-нибудь да управились бы с нею и отвезли бы ее к матери, теперь все не то: и Любовь Федоровна переменилась, говорят, куда – стала такая тихая да добрая, из церкви не выходит, и дочка одна осталась от всех родичей, любила бы ее.
В это время воз въехал в Полтаву и, поворотив налево мимо церкви Спаса, через Королевские ворота, спустился ниже Монастырской горы к Ворскле. Старик и женщина поспешали в Пушкаревку. Они хотели застать вечерню: на другой день был храмовой праздник в монастыре.
Дорогою, когда старик рассказывал про несчастья Матроны, сострадательная женщина заплакала.
– Вот так, какая ж ты плаксивая, по чужому горю плачешь, видно, своего нет у тебя!..
– Есть и свое горе!.. Да и чужое горе-то, – горькое.
– Да, правду сказать, горю несчастной Мотреньки можно поплакать, не грех будет, сердечная вытерпела много на своем веку.
Вдали за лесом заблистал золотой крест монастырской церкви и зачернел купол, а между деревьями забелелись стены зданий.
– Слава Богу милосердному, приехал в Пушкаревку и до монастыря недалеко.
– Слава Богу!
– Гей цобе, цобе, серый да белый, – закричал старик, погоняя волов коротеньким батожком, волы прибавили шагу и скоро остановились у деревянной ограды монастыря.
– Ну, дедушка, как бы нам увидеться с игуменью и поговорить с нею: люди говорили, она святою жизнию живет.
– Так и след жить игуменье; у меня есть в монастыре знакомая монахиня, старица Ефросиния: когда не пошла на богомолье в Киев, так зайдем к ней в келью и расспросим.
– А где старица Ефросиния? – спросил старик, обратясь к одной послушнице, стоявшей подле торговок. Послушница низко поклонилась старику, указала на келью Ефросинии и сказала:
– В келии, она недавно пришла из Киева с богомольцами и с тамошним старцем иеромонахом. Седенький-преседенький!.. Увидите, сегодня вечерню будет служить и завтра – обедню. Простите Христа ради.
– Ну спасибо тебе, пойдем же к ней, постой, только волов привяжу к дереву.
Старик привязал к дереву волов, надел вместо серой свитки белую суконную, повязался красным поясом, потер чеботы дегтем, расчесал чуприну, поправил длинные, повисшие усы и бодро с женщиной вошел в ограду монастыря.
Старица обрадовалась гостям, усадила их на деревянные стулья и завела разговор о монастыре Полтавском, о победе царя над шведами.
Старик спросил, можно ли им быть в келии игуменьи.
– Можно, матушка всех по-христиански принимает, все ждет кого-нибудь из Батурина, не придет ли кто, она, пока не пошла в монастырь, сама жила в Батурине, да, видно, это сказка: не такой жизни теперь, чтобы жила она в Батурине, да еще за Мазепу, известно, в Батурине все жили паны, и где там уже постническая жизнь наша.
– Я сама была когда-то в Батурине, – сказала до этого молчавшая путница старику.
– В Батурине была? Отчего же ты мне не рассказала ничего про Мазепу и про вечной памяти Василия Леонтиевича!..
– Так ты меня не расспрашивал.
– Hy, как будем ехать назад, не забудь рассказать мне про Батурин!
– Добре!
– Когда ж можно быть в келье игуменьи?
– После вечерни!
– А вечерня скоро?
– Минут через пять будут клепать. Да вот уже и клепают, пойдем!
Старица Ефросиния встала, перекрестилась, сделала три земных поклона и вышла вместе с гостями в церковь.
Старик и женщина стали на правой стороне подле дверей церковных, желая заранее увидеть игуменью.
И вот вошли все монахини одна за другою и стали на своих местах.
Женщина устремила взор на иконостас и любовалась золотою резьбою по голубому полю. Старик толкнул ее и сказал:
– Видишь, длинная ряска, вот пошла игуменья!
Игуменья подошла к алтарю, помолилась и, обратясь к народу, поклонилась на три стороны, монахини поклонились ей в пояс. Служил престарелый иеромонах.
Началась вечерня, монахини сами пели; народа в церкви было много.
По окончании вечерни старица Ефросиния спросила игуменью, можно ли прийти к ней старику, приехавшему из Решетиловки с женою.
– Можно! Милости просим, – был ответ игуменьи.
Старик и женщина вошли вслед за игуменьею в ее келью: небольшая комната, деревянный стол, за ним простой деревянный диванчик, покрытый ковриком, на столе в стакане мед, на тарелке просфира, а подле меду бублик, усыпанный маком, у стены четыре деревянных стула, на стенах лик Афанасия, патриарха Константинопольского, коего мощи почивают в Лубенском монастыре.
Усадив гостей, игуменья Иулиания спросила, откуда Бог принес их.
Старик отвечал:
– Из-под Решетиловки, матушка.
– Давно выехали?
– Третьего дня вечером!
– А сколько миль?
– Четыре!
– Недолго ехали, слава Богу милосердному.
– Не знаю, что теперь делается в Решетиловке, поправляется ли она после шведа?
– Помаленьку!
– Как-то Батурин, говорят, князь Меншиков до основания разорил его, не бывал ли ты, старик, в Батурине?
– Нет, не бывал.
– Я сама когда-то жила в Батурине, хотелось бы знать про этот город, особенно потому, что за Мазепу все церкви починены были, да две состроены каменные, – не дай Бог, если Меншиков разорил церкви!
– Бог сохранил храмы Свои, сгорели только хаты да будинки!
– Я была в Батурине, когда Мазепа был еще человек как человек, знала набожного Василия Леонтиевича, знала его жену и дочек, Анну, что за Обидовским была, и меньшую Мотреньку: все это в прах раззеялось! Жаль покойного Кочубея, теперь сама за него молюсь Богу. Любовь Федоровна не по нем была; Анна умерла, к горю старика, Мотренька его утешала, да и ту, как слышала я после выезда из Батурина, мать ненавидела, а жаль, доброе и умное дитя было, я страх любила ее; помню, раз привез ее отец до гетмана, и она пришла ко мне: что за доброе, что за умное дитя… я посадила ее подле себя, читала ей слово Божие, она прилежно слушала, я сняла с себя кипарисный крест, который привезла из Киева, и благословила ее тем крестом. Где-то она теперь, бедная. Ты ничего не слыхал?..
Женщина раскрыла свою шею, показала кипарисный крест, висевший у нее, и сказала:
– Не этот ли крестик?
Игуменья взяла крест в руки, потом с удивлением посмотрела на женщину, перекрестилась, поцеловала крест, минуты две смотрела на женщину и сказала:
– Тот самый крест, которым я благословляла… да это ты… это ты, Мотренька? Твои черные очи, твои губы, твое лицо – горе иссушило тебя!..
Женщина лежала у ног игуменьи, рыдая, растроганная игуменья подняла ее и, держа ее в своих объятиях, тоже плакала.
– Да, это твой крест, это я, Мотренька! – И она, упав пред игуменьею на колени, сказала:
– Прими меня в монастырь, я хочу дни свои посвятить Богу, я ничего больше не желаю.
Игуменья снова обняла Мотреньку.
– Помнишь ли ты, дочь моя, Юлию, которая жила в замке Мазепы?
– Помню, помню, ты благословила меня крестом на счастливую жизнь, не откажи теперь в счастии: пусть пребудет благословение твое на мне.
– Господь наш Иисус Христос и Пречистая Матерь Его благословят тебя на путь спасения.
Игуменья благословила Мотреньку и тотчас же вышла, воротясь, она сказала:
– Я сейчас послала за отцом Иосифом. Он принял предсмертное покаяние твоего доброго отца, Василия Леонтиевича, и принес тебе от него родительское благословение, искал тебя, да нигде не нашел… как же рад будет святой старец!.. Нарочно для тебя и для матери твоей предпринял дальний путь в Диканьку, да и сюда в Полтаву поспешал к нам на праздник повидаться и навсегда проститься со мной, – говорит: «Больше уж не приведет мне Господь видеть вас», – как милосердный Господь чудно устроил все к нашему утешению! Владычице Небесная!..
Через неделю с лишком после этого среди зеленого поля по дороге, легонько торопя волов, ехал обратно в Решетиловку старик и думал: «Я и не знал, кого вез с собою в монастырь; сказано: на все воля Господня. Я ей рассказываю про Кочубееву дочку, а она-то и была сама Матрена Васильевна!.. Не захотела, серденько, славы и богатства матери земной – Небесной Матери пошла служить…»
Кануло в вечность столетие, исчезло все минувшее, быстротекущая река времени в своем течения унесла и все думки и все дела человеческие от глаз наших, но не от глаз Божьих, потопила их в неизмеримой глубине, в пропасти общего земного забвения, и от всего минувшего еще не поглощены две могилы.
Одна из них в Киеве, по правую сторону Святой Лавры, при входе в трапезу, покрыта чугунною доскою.
Как будто бы в подтверждение собственных слов Кочубея, сказанных духовнику своему Святайлу, народ указывает на могилу двух страдальцев как на громко вопиющую притчу, святая истина которой – в словах Евангелия, слышанных Кочубеем, когда он вошел в церковь, чтобы схватить невинного старца гетмана Самуйловича и предать его в руки врагов.
Другая, среди Полтавского поля, покрытая зеленью, в ней спят непробудным сном тысяча четыреста павших в битве православных воинов, жизнью которых куплено величие, могущество и благоденствие отечества нашего, и здесь же, на полях Полтавских, погребены козни вражеских народов; и с того часа жизнь мирная, жизнь благотворная разлилась по Малой России. Теперь невидимо ангел славы витает над могильным крестом, водруженным рукою могучего царя, и всюду слышимою трубою гласит в грядущие веки вечную славу Бога, благоволившего так чудно прославить смирение Петра, уничтожить гордые начинания и вконец разрушить неправедный совет Карла, Станислава и Мазепы, в котором нельзя не видеть явное орудие иезуитов; они его воспитали, направили, искусно довели до гетманской булавы – и до плачевной могилы.
Сноски
1
Первым кавалером ордена Св. апостола Андрея Первозванного, учрежденного 22 января 1700 года, был граф Федор Алексеевич Головин, вторым Иван Степанович Мазепа, третьим Петр Борисович Шереметев, четвертым сам державный учредитель его – царь Петр.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





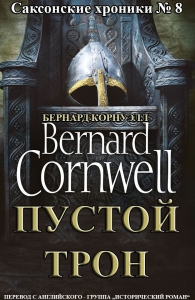

Комментарии к книге «Кочубей», Николай Максимович Сементовский
Всего 0 комментариев