Евгений Салиас де Турнемир Петербургское действо. Том 2
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
Часть вторая (окончание)
XXI
Когда Гольц прощался с графиней, к дому ее подъехал Иоанн Иоаннович. Узнав, что у внучки сидит знаменитый посланник фридриховский, самая важная птица в Петербурге, по отзыву многих приближенных государя, Иоанн Иоаннович, давно собиравшийся посетить больного внука, прошел покуда наверх.
Русский лакей доложил о старом графе Эдуарду.
Француз вышел из комнаты больного, встретил старика крайне недружелюбно и объяснил, ломая русский язык, что больного видеть хотя можно, но доктор просил не тревожить его долгой беседой.
Иоанн Иоаннович вошел в полутемную горницу и, сделав два шага, огляделся, фыркнул и вымолвил:
– Ишь, как закупорили. Боятся, выдохнется душа. Да в такой вони и здоровый помрет.
Затем он приблизился к кровати.
Граф Кирилл Петрович медленно повернулся к деду лицом, узнал его сразу и произнес довольно бодрым голосом:
– Здравствуйте, дедушка, садитесь, давно не видал.
– Давно, давно, внучек. Успел ты за это время совсем… Скоро того… скоро тю-тю!
Иоанн Иоаннович опустился в большое кресло, стоявшее у постели, и стал во все глаза молча глядеть в лицо больного.
– Хороший день… выбрали, дедушка. Сегодня… я – молодец.
Иоанн Иоаннович покачал головой, усмехнулся и вымолвил:
– Хорош молодец, уж нечего сказать. Кабы все-то были этакие молодцы на свете, так земля бы, внучек, одна вертелась теперь вкруг солнца, пустопорожняя, человеков бы на ней и помину не было. Разве зверье какое жило бы, потому что зверь умнее человека. Хотя бы пес, хотя бы свинья, хотя бы даже гад какой живут по-божьему, а мы, люди, – по-звериному, по-дурашному.
Иоанн Иоаннович помолчал и продолжал снова:
– То-то вот, внучонок, путифиц ты мой, как я тебя кощатось звал: кабы ты не родился в этранже или бы тогда у меня остался, так теперь бы, поди, не был ногой в гробу. Что тебе лет-то? Втрое меньше моего! А каков ты? Вишь, глаза-то, как у мертвеца. У меня в твои годы было десять жен, не хуже, как у царьградского султана, а у тебя вот одна жена, да и та, вдовушка-цыганочка, скучает от одиночества, ждет не дождется, когда тебя за ноги стащат в яму. Тогда она свеженького себе мужа раздобудет. Что скажешь? Небось не нравится… То-то, путифиц!!
Но граф Кирилл Петрович ничего не говорил, даже губами не двинул; он смотрел на старого деда, бодрого, веселого, с легким румянцем на щеках, и спрашивал себя: «Неужели деду уже за семьдесят лет, а может быть, и более?»
И он, человек молодой годами, а совершенный старик телом и лицом, невольно позавидовал мысленно старому деду. И раздраженному больному мозгу Кирилла Петровича стало сниться наяву, мерещиться… Ему показалось, что это не дед Иоанн Иоаннович сидит перед ним, а деревянная кукла, которая всегда на свете существовала, и при Петре Алексеевиче была она такая же, и теперь такая же, и через сто лет эта кукла будет все та же. И под влиянием полубреда больной закрыл глаза и прошептал что-то бессвязное.
Эдуард, стоявший у стены, двинулся вперед и объяснил Иоанну Иоанновичу наполовину русскими словами, наполовину мимикой, что больной в забытьи и что ему лучше уходить.
Иоанн Иоаннович поднялся, поглядел еще раз в изможденное и желтое лицо больного, покачал головой и вышел вон. За порогом горницы он невольно плюнул на пол и вымолвил:
– Тьфу, Создатель, вонь какая! Коли бы все эти скляночки опорожнить, так и я помру.
Лотхен между тем уже успела предупредить барыню, что дедушка спрашивал о ней, а теперь покуда пошел наверх к больному. Маргарита вдруг воскликнула и удивила горничную:
– Не пускай его… Поздно! Теперь он мне не нужен!
Но это была странная вспышка молодой женщины. У нее действительно голова еще кружилась от беседы с ловким и хитрым Гольцем.
Этими словами Маргарите будто невольно захотелось вдруг похвастать перед собой и перед субреткой.
Но тотчас же, по какому-то внезапному обороту мыслей, графиня вздохнула и выговорила:
– Ох нет! Нельзя гнать. Напротив, он нужнее, чем когда-либо! Ах, Лотхен, если б у меня были теперь большие, большие деньги… Что бы я могла сделать!
– Во-первых, долги уплатить, – подсмеивалась Лотхен.
– Нет, напротив… тогда бы можно их и не платить совсем, – серьезно ответила Маргарита как бы себе самой. – Он наверху давно? – прибавила она. – Скоро сойдет… Ну, Лотхен, слушай… Мне, как полководцу, надо обдумать и решиться на генеральное сражение… Завтра же или на днях у меня должны быть деньги, иначе все пропало… потому что я начинаю новую жизнь… Боже мой! Да когда же он там умрет, наконец! – вдруг воскликнула она искренне, поднимая глаза наверх, где была комната мужа.
Графиня, подумав, приказала любимице впустить деда, когда он сойдет от больного, самой не входить к ней и смотреть за тем, чтобы не принимали никого. Затем она выпроводила Лотхен, вошла в свою красивую полуспальню с куполом и, приотворив дверь в гостиную, начала быстро раздеваться. Через несколько мгновений Маргарита сидела в сорочке перед зеркалом туалета и, расчесывая свои длинные и густые волосы, обсыпала мягкими и волнистыми косами свои снежно-белые и замечательно красивые плечи. Изредка она прислушивалась и зорко взглядывала в зеркало, где отражалась полурастворенная дверь в гостиную…
Наконец дверь из прихожей отворилась, послышались ровные и тяжелые шаги…
Иоанн Иоаннович вошел в гостиную; не найдя никого, он постоял немного среди горницы и, сделав еще несколько шагов, сразу увидел в растворенную дверь Маргариту, полураздетую и сидящую перед туалетом… Она казалась глубоко погруженной в свою думу; голова с распущенными по обнаженным плечам волосами грациозно наклонилась набок, глаза были опущены… Иоанн Иоаннович постоял, вздохнул как-то особенно, будто переводя дыхание от усталости, и едва заметно покачал головой…
«Да! Этакой за всю свою жизнь не видал! – подумал он. – На картинах таких пишут…»
И вдруг Скабронский бросил шапку и палку на диван и подошел к дверям:
– Маргарита, можно войти?.. Ведь уж все одно… Уж видел… – крикнул он через дверь, стараясь придать голосу шутливый оттенок.
Графиня молчала и не двигалась и, по-видимому, не слыхала слов: так глубока была ее дума.
Иоанн Иоаннович тихо, на цыпочках двинулся в горницу и приблизился к красавице…
Маргарита давно следила за всеми движениями старика, но очнулась и вскрикнула, когда губы его коснулись ее обнаженной спины…
– Испугал! – рассмеялся Скабронский искусственным смехом, будто насильно. – Ништо! А ты двери затворяй в другой раз…
– Ах, дедушка… Как не стыдно! Вот, говорят, молодежь дерзка с женщинами, а старики? Тоже хороши!
– А ты двери, говорю, затворяй. Вперед наука… Теперь уж не уйду, хоть убей!
– Вошли, так садитесь. Что ж с вами делать!
Скабронский сел близ туалета и, не спуская глаз с красавицы, жадно любовался ею.
Прошло несколько минут молчания. Маргарита причесывалась.
– Если бы такая, как ты… только пожелала бы… – пробурчал вдруг Скабронский. – Какие вотчины тут? Душу отдашь!
– Я спешу ехать по очень важному поручению Гольца, – выговорила Маргарита. – Беседовать не могу. Уходите теперь, дедушка. Мне надо сейчас одеваться…
– Ну что ж? Я не мешаю… Пожалуй, даже помогу тебе… Ты вообрази, что я – не я, а энта, твоя верченая Лотхен.
Маргарита рассмеялась звонко. Старик будто сам давался в руки.
– Отлично! Это будет вам в наказание за дерзость. Ну, старая Лотхен. Становись… Держи вот…
Маргарита взяла половину своих еще распущенных волос и подняла… Старик стал за нею и, взяв волосы в руки, начал поддерживать.
– Господи, какие… Ей-богу, шелковые!..
– Молчи, Лотхен! Ты забыла, что я не люблю, чтобы болтали, покуда я одеваюсь! – смеясь, вымолвила Маргарита.
И Скабронский стал молча, не спуская глаз с плеч красавицы.
– Ну, готово… – сказала она наконец. – Ну, теперь, Лотхен, чистые чулки вон там в комоде, направо… Башмаки должны быть вот тут, у дивана. Ну, скорее.
Иоанн Иоаннович на рысях разыскал и то и другое…
Лицо его странно улыбалось, краска уже давно выступила на лице и не сходила с гладких щек бодрого старика. Он поставил башмаки на пол и подал Маргарите розовые шелковые чулки…
Маргарита, сидя, приподняла край юбки и протянула ему одну ножку…
– Ну, что же, Лотхен? Дела своего не знаешь! Становись на пол и меняй… Снимай чулок…
Иоанн Иоаннович молча опустился с некоторым усилием на колени, нагнулся и потянул чулок с пальцев.
– Так нельзя снять! – странно произнесла Маргарита.
Прошло несколько мгновений… Одна подвязка и один чулок были сняты!..
– Хорошо, но скорее… другой!.. – как-то раздражительно, злобно усмехнулась Маргарита.
– Нет… родная… – тихо произнес вдруг Скабронский. – Не могу… Помрешь…
И старик, стоявший перед красавицей на коленях, закачался и вдруг схватил ее за руки, будто удерживаясь от падения… И, уронив голову на ее руки и колени, он прижался к ним горячей головой.
Маргарита будто замерла вдруг и сидела неподвижно как статуя. Она огненным взором глядела на эту лежащую у нее на коленях седую и лохматую голову, и лицо ее стало вдруг слегка бледно, зловеще-жестоко и злобно. Если бы Сатана когда-либо воплотился в женщину-красавицу, то принял бы, конечно, это лицо и это выражение.
– Уезжайте… – вымолвила вдруг Маргарита глухо.
Иоанн Иоаннович будто ждал этого слова и нуждался в нем… Он поднялся и не оглядываясь, не прощаясь быстро вышел вон. Через минуту он отъезжал от дому.
Маргарита осталась в том же кресле полуодетая, с одной обнаженной ногой и с тем же выражением сатанинской злобы. И снова сидела она недвижима, нема и красива – как статуя…
Через час, когда она, одетая совсем, молчаливая, но уже грустная, а не злая, вышла садиться в карету, в передней явился с заднего хода дворецкий деда, Масей, и передал графине цидулю и большой сундучок, окованный серебром… Маргарита вернулась в комнаты. Сундучок был полон бриллиантов на громадную сумму.
Вместе с ними лежал кошелек, и в нем тысяча новеньких, будто собранных по одному, червонцев. В записке стояло только несколько слов:
«Посылаю, что накопил, когда собирался жениться. Бери все себе, продувная цыганка… но и меня в придачу!»
Маргарита пристально смотрела на великолепные крупные бриллианты, но лицо ее было все-таки сумрачно и все-таки мгновениями освещалось, будто молнией, какими-то порывами гнева и злобы…
XXII
Близ Синего моста, между Мойкой и Большой Морской, среди небольшого садика, стоял деревянный дом с подъездом, выходившим на Мойку. Над дверями была маленькая вывеска:
Бриллиантщик Иеремия Позье
Человек, который уже давно жил в этом доме, был отчасти замечательной личностью. Швейцарец, родом из Женевы, он был одним из тех иноземцев, которые являлись в Россию как бы в своего рода Калифорнию, чтобы, не имея ни гроша, составить себе большое состояние. Когда цель была достигнута, то они покидали русскую землю не только с благодарностью, но отрясая прах от ног своих. Впрочем, бриллиантщик Позье не был вполне похож на остальных, ему подобных иноземных пришельцев.
В 1729 году, в царствование Петра II, швейцарец Степан Позье явился в Россию вместе с тринадцатилетним сыном, Иеремиею. Брат его, Петр Позье, был хирургом еще при дворе Петра Великого.
По вызову брата перебраться в новую обетованную землю, где легка нажива, Позье, отец и сын, двинулись из Женевы и, не имея, конечно, никаких средств, пустились в путь пешком. И, таким образом, долго странствуя, они прошли пешком всю Европу, в Гамбурге сели на корабль и явились в Петербург. Двор оказался в Москве. Пришлось опять двинуться далее. Достав извозчика, иноземцы положили на него свой маленький скарб, а сами снова пешком, только изредка присаживаясь, шесть недель двигались от Петербурга до Москвы.
С самого начала счастье им не улыбнулось: за неделю до их прибытия страшный пожар опустошил Москву; Петр Позье погорел тоже и не мог приютить родных. Отец и сын нанялись поневоле в услужение к французу, который был назначен комендантом в город Архангельск, и тотчас же они принуждены были последовать за ним опять в дальний путь и очутиться после швейцарского климата в страшных морозах Крайнего Севера.
Вскоре комендант-француз, любивший покутить, спился с круга и умер. Степан Позье вместе с мальчиком снова пешком вернулись в Петербург. Но здоровье старика после всех этих странствований не устояло, и он через несколько времени умер на руках пятнадцатилетнего мальчика, оставляемого почти на произвол судьбы.
По счастью, у дяди нашелся знакомый бриллиантщик Граверо. Юный Иеремия поступил к нему в ученики и принялся за дело с жаром, с горячностью артиста, так как в нем вдруг оказался большой талант. Не прошло пяти лет, как Позье был уже известен по своим работам, но, кроме того, будучи еще только двадцатилетним юношей, приобрел себе уже известное положение при дворе. Случилось это очень просто.
Бриллиантщик Граверо, как и большая часть иноземцев, через меру полюбил российскую сивуху. Заказов у него было много, и главные заказы шли из дворца. Анна Иоанновна любила всякого рода золотые вещи, любила даже глядеть, как их делают. Иногда государыня не доверяла в руки иностранца ценные, коронные вещи и заставляла Граверо с учеником работать во дворце, в маленькой горнице, около своего кабинета.
Граверо, кутивший не в меру, все чаще и чаще отсутствовал, посылая своего ученика одного; таким образом, Иеремия Позье еще юношей сделался лично известен Анне Иоанновне.
Вскоре он открыл свою мастерскую и начал работать самостоятельно. Конечно, все заказы от пьяного хозяина перешли к нему, и с этой минуты, в продолжение почти тридцати лет, Позье следовал повсюду за двором, работая и на придворных, и на все высшее общество.
Вместе с этим благодаря уму, крайней добросовестности и доброму, веселому нраву Позье был приятелем очень многих иноземцев, игравших в России более важную роль. Покуда Позье делал браслеты и брошки, они делали правительственные перевороты.
Вся история России, с Петра II до Петра III, прошла на глазах у Позье. И вся эта комедия, со всеми действующими лицами, со всеми переменами декораций, совершилась не только на его глазах, но на подачу руки. Он видел и знал всю закулисную интимную сторону этой комедии. Так однажды, за полчаса до того мгновения, когда приятель его, Лесток, двинулся с цесаревной Елизаветой арестовать и свергнуть с престола Брауншвейгскую фамилию, Позье ужинал у этого приятеля.
В царствование Елизаветы положение Позье еще более переменилось к лучшему. Он не только работал постоянно для государыни, не только был всегда ласково и любезно ею принят, но получил право являться без доклада, даже присутствовать при ее утреннем туалете, чтобы самому надевать на нее свои изящные произведения.
Когда, за последние годы царствования, императрица бывала часто не в духе, гневалась на окружающих беспричинно, то никто не смел и подступиться к ней с каким бы то ни было делом. Позье мог явиться всегда. Принеся с собой какую-нибудь прелестную безделушку, он мог легко рассеять дурное расположение духа государыни. Вследствие этого как-то незаметно придворная роль Позье вдруг сделалась исключительною и крайне важною. Иностранные резиденты, даже императорский австрийский посол, а иногда и русские министры, даже канцлер российский, обращались с просьбой к женевцу-бриллиантщику переговорить с императрицей полушутя о каком-нибудь деле, что-нибудь выпытать у нее в беседе, что-нибудь намеками довести до ее сведения, что-нибудь выпросить, иногда только получасовую аудиенцию, в которой она отказала. И тонкий, но добрый и симпатичный Позье всегда с успехом исполнял подобного рода поручения.
Теперь он уже был женат и нажил за тридцать лет капитал, хотя небольшой. К несчастью, русская знать любила драгоценные украшения, делала массу заказов, но часто не платила вовсе. Отказываться женевцу, по разным соображениям, было невозможно, и он кое-как исполнял все требования, надеясь когда-нибудь выручить хоть половину денег.
Со вступлением на престол Петра Федоровича положение Позье, давно, с детства лично известного государю, сразу еще более улучшилось. Государь, конечно, меньше заказывал разных вещей, и часто бывать во дворце уже не приходилось. Но зато он удивил и обидел многих своей милостью к Позье, дав ему вдруг чин бригадира армии.
Но честный женевец, видевший так близко столько царствований, столько возвышений, столько падений и столько переворотов, начинал все чаще подумывать о том, как, собрав хоть часть денег с вельможных должников, присоединить их к маленькому капиталу, уже переведенному за границу, и уехать из России.
Вот именно невдалеке от подъезда этого иноземца, ювелира-дипломата, однажды в полдень остановилась карета, и красивая, веселая, щегольски одетая дама пешком дошла до маленького домика.
Это была, конечно, графиня Скабронская, явившаяся сама к Позье с тайным заказом, вместо того чтобы вызвать его к себе.
Так как за последнее время нестарый годами, но уже уставший и нажившийся Иеремия Позье редко разъезжал по городу, а посылал своих учеников, то он не мог знать в лицо недавно поселившуюся в Петербурге графиню Скабронскую.
Маргарита передала ювелиру рисунок, прося сделать бриллиантовый букет как можно скорее. Деньги, очень крупную сумму, то есть пять тысяч червонцев, Маргарита обещала Позье привезти через несколько дней.
– Вы получите эти деньги, – сказала Маргарита, – от меня лично или от нарочного. Все это я убедительно прошу вас сохранить в тайне. Вы, конечно, если пожелаете, то узнаете со временем, кто носит этот букет, но кто поручил мне его заказать, вы знать не будете. Я даже попрошу вас никому не говорить, что он был заказан секретно.
За свою жизнь Позье случалось сотни раз получать такие заказы, и условие Маргариты не только не удивило его, но даже не показалось ему любопытным. Единственно, что удивило женевца, это получение денег прежде, чем работа будет окончена. К подобному роду заказов не приучила его петербургская знать.
Бриллиантщик обещал, что букет будет готов очень быстро, так как он вместе с учениками займется им исключительно. Что касается до тайны, то и говорить нечего! Что за тайна для него бриллиантовый букет, когда женевец, когда-то ужиная с приятелем, знал, что через час не будет царствовать император Иоанн Антонович, а на престоле будет императрица Елизавета Петровна!
Маргарита уже собиралась уезжать, когда женевец спросил у нее, сама ли она приедет за букетом. Маргарита не знала, что отвечать: про это Гольц ничего не сказал ей.
– Может быть, я сама приеду, а может быть, и пришлю кого-нибудь, – сказала она.
– В таком случае позвольте узнать ваше имя.
Маргарита уже хотела выговорить его, но вдруг запнулась. Ей показалось, что ее собственное имя будет для Позье ключом для раскрытия тайны.
Тонкий женевец заметил нерешительность красивой незнакомки и прибавил, улыбаясь:
– Впрочем, и это не нужно. Уговоримтесь заранее, что вы пришлете за вещью человека, который передаст мне в доказательство что-нибудь условленное теперь. Сто раз бывало со мной подобное.
– Да, пожалуй. Но как же?
– Очень просто. Пришлите за вещью кого вам угодно и дайте ему что-нибудь, ну платок носовой с каким-нибудь мне знакомым вензелем. А то еще лучше…
Позье увидал на столе несколько игральных карт, на которых ученики его рисовали для заказчиков модели вещей. На разбросанных картах были нарисованы и букеты, и ривьеры, и браслеты, и кольца. Позье, быстро перешарив карты, нашел одну, изображавшую букет, и, прибавив к нему быстро искусной рукой два цветка, подобные тем, из которых состоял заказываемый букет, он передал карту графине.
– Скажите мне, – вымолвила Маргарита, – можете ли вы переделать очень старую монтировку бриллиантов по новым моделям? Работы на месяц, но если я заплачу двойную цену за работу, сделаете ли вы мне в две недели?
– Это надо видеть… – улыбнулся Позье на женский вопрос. – Сколько вещей и какая будет монтировка?
– Хорошо. Так я сама привезу и деньги за букет, и мои бриллианты.
Особенно учтиво и почтительно проводив до крыльца красавицу, Позье, веселый и улыбающийся, вернулся домой. Такого крупного заказа не было у него уже давно. Добросовестный женевец мог нажить теперь барыша тысячу червонцев. Это могло поправить его обстоятельства и вознаградить за все потери на своих должниках. Мысленно Позье обещал себе прекратить немедленно торговлю и уехать на родину.
Садясь в карету, графиня собралась было ехать к Иоанну Иоанновичу, чтобы поблагодарить его за подарок, но затем она передумала и велела ехать почти на другой край города. Карета ее двинулась в тот самый Чухонский Ям, где когда-то она спасла юношу, о котором теперь стала все чаще задумываться. Графиня уже не в первый раз отправлялась в Чухонский Ям, но не по делу и не в гости ездила она туда.
Там, на полдороге между городом и домом, где жили Тюфякины, стоял в стороне домик еще меньше дома Позье. Там жила старуха неизвестной национальности, по ремеслу гадалка.
Старуха эта, полугречанка, полуармянка, была знакома всей столице, пожалуй, не менее Позье; да и роль ее за двадцать лет в Петербурге была также не последняя. Она гадала, как говорили, замечательно. Конечно, болтая ежедневно всякий вздор, ей случилось предсказать раз десять правду, и правду очень важную. Случалось, что старуху возили и во дворец к покойной императрице. Домик ее был ветхий, почти избушка, но денег у нее было не меньше, чем у Позье. Маргарита, по характеру несуеверная, все-таки любила гадать; она не верила искусству старухи, но ей просто, как всякой праздной женщине, было приятно иногда послушать болтовню, да еще вдобавок о себе самой, о том, что будто бы будет с ней завтра, о том, что ей неизвестно. Однажды старуха предсказала ей, что она одновременно овдовеет и получит большое наследство от старого вельможи. Муж в то время был еще совершенно здоров, а дед прекратил тогда всякие сношения. Теперь предсказание старухи как будто сбывалось. И совпадение этих двух вещей напоминало ей о старухе гадалке.
Когда Маргарита подъехала к маленькому домику, то у подъезда оказался щегольской экипаж. Кто-нибудь опередил графиню за тем же делом, но это не смутило ее: бывать у гадалки не считалось срамом. И Маргарита вошла, оставив людей при карете.
Пройдя двор, она была принята старой и безобразной служанкой, как важная знакомая и как щедрая барыня.
Хоть и мал был этот домик, но пять комнат были так распределены, что всякий посетитель мог ожидать в отдельной горнице. Служанка ввела графиню в комнату, которая была почище других, и стала извиняться, что ей придется подождать довольно долго.
– Барыня одна сейчас только приехала, а гадать будет непременно много и долго.
И безобразная, но умная женщина шепнула Маргарите:
– Знаете кто? Графиня Елизавета Романовна!
– Воронцова! – ахнула Маргарита.
– Она самая. Уж второй раз на этой неделе.
Маргарита невольно ахнула. Имя это за последние дни звучало исключительно громко и имело особенное значение для слуха всякого.
Маргарита подвинула кресло и, усевшись близ маленького окошечка, стала глядеть на пустой двор, где только расхаживали куры и несколько ворон дрались из-за кости. Но Маргарита ничего не сознавала, она думала о том, что заронило в ее душу услышанное сейчас имя. Ее великая мечта, великая тайна предстала перед ней, и она глубоко задумалась. Затем постепенно мысли ее перешли на последнюю встречу с дедом… До сих пор, против воли, чувствовала она на коленях своих его горячее лицо и до сих пор чувство отвращения сказывалось на сердце. Чувство отвращения к старику и чувство озлобления на обстоятельства, заставлявшие ее действовать наперекор влечению сердца, жаждущего совершенно иного…
И вдруг вместо деда воображению ее предстал другой образ, девственно красивый, полный огня, горящего в унылом взоре синих глаз…
«Да… если б он?!» – говорило ей сердце.
XXIII
А между тем он был близко… за два шага!..
Обезумев почти от любви, Шепелев за последнее время не знал ни сна, ни пищи и, наконец, решился действовать… Будь что будет!..
Прежде всего он купил себе лошадь на полученные от матери деньги, затем нанял маленькую комнатку, чуть не на чердаке в доме, который помещался наискось от дома графини Скабронской.
Лошадь его по целым дням бывала привязана на дворе, а он сидел перед крошечным окошком и глядел, не спуская глаз, на дом своей возлюбленной. Квасов за это время особенно беспокоился, не понимая, где пропадает с утра до вечера названый племянник.
«Ведь он скачет по городу целый день, – думал Аким Акимович, – а лошадь сухая и даже не заморенная, будто в стойле простояла».
Зато теперь Шепелев из своего окошка узнал, насколько мог, образ жизни в доме красавицы; узнал, кто бывает у нее, кто бывает чаще других, узнал, когда она выезжает и куда ездит. В продолжение нескольких дней, едва только графиня отъезжала от подъезда, Шепелев летел вниз, садился верхом, скакал за ней, но, конечно, на таком далеком расстоянии, чтобы не быть замеченным лакеями, стоявшими на запятках. Шепелев узнал скоро, у кого чаще всего бывает графиня, но, к несчастью, он не мог еще найти никого, чтобы быть представленным в эти дома.
Однажды, по обыкновению, также с утра сидел юноша как бы на часах. На этот раз он был беспокоен, взволнован и смущен. Он имел повод ревновать ее, и хотя ему самому казалась бессмысленна и даже жалка эта ревность, тем не менее он мучился.
Поводом к этому послужило то, что вчера днем, хотя и не в первый раз, явилась у подъезда дома графини Скабронской великолепная берлинка с блестящими в галунах форейторами и лакеями. Это был прусский посланник Гольц, самое важное лицо во всей столице.
Это бы еще ничего. Но это был замечательный, как говорили, красавец, искусный волокита, пользовавшийся большим успехом среди столичных красавиц, – вот что ударом отозвалось в сердце Шепелева.
Посланник на этот раз просидел у графини страшно долго. Целым веком показалось это время юноше, и теперь, вспоминая вчерашний визит, он все еще был взволнован.
После Гольца явился какой-то старик в старомодной карете и пробыл тоже довольно долго. Но к нему не ревновал юноша!.. Он не обладал даром провиденья!! В этот день экипаж графини подали, но опять отложили, она не поехала… На другой день, когда графине подали карету, Шепелев, по обыкновению, тотчас сбежал вниз по лестнице, как стрела; и точно так же, пропустив карету, двинулся за ней верхом. Обождав за углом, как делал он всегда, пока графиня была у Позье, он снова поскакал за ней.
К его удивлению, она ехала на ту дорогу, где когда-то он в первый раз встретил ее в офицерском мундире. Да, она ехала прямо к Чухонскому Яму, и сердце юноши почему-то радостно забилось, как будто предчувствуя что-то особенное…
Карета остановилась на дороге у домика. Он знал, кто тут живет, потому что гадалку знала и любила вызывать к себе, иногда и навещать Пелагея Михайловна.
Шепелев невольно ахнул и встрепенулся. Он сообразил сразу, что в этот дом всякий, а поэтому и он, может войти беспрепятственно.
Отдав лошадь подержать какому-то мужику, Шепелев смело вступил в дом. Та же старая служанка отворила ему дверь. Солдатская форма немножко смутила ее, но лицо, руки и речь юноши рядового говорили сами за себя.
– Тоже погадать желаете? – спросила она на всякий случай.
– Да. Я от Пелагеи Михайловны Гариной и княжон Тюфякиных, – вдруг нашелся юноша.
– Ах, милости просим! Как их здоровье? – заболтала горничная и уже любезно ввела Шепелева в маленькую комнату. – Вы туда не входите, – прибавила она, показывая на дверь. – Там одна графиня…
Оставшись один, Шепелев почувствовал вдруг, что вся смелость его сразу исчезла.
«Она здесь!.. Рядом! Вот только отворить эту дверь!..»
И молодой человек, чувствуя, что он не устоит на ногах, опустился на минуту на первый попавшийся стул.
Долго ли он просидел – он не знал…
Но вдруг раздался какой-то шорох в доме, и он вскочил. Он испугался мысли, что этот давно желанный, давно искомый случай ускользнет у него из рук и он прозевает его. Юноша провел рукой по пылавшему лицу, по глазам, перед которыми носился какой-то туман, и разогнал, насколько хватило у него силы воли, то опьянение, в котором он себя чувствовал. Смело подошел он к двери, слегка притворенной, потянул ее на себя, переступил порог и, оглянувши комнату, замер всем телом.
В углу, у окошка, сидела она, глубоко задумавшись и устремив глаза на дворик.
Он хотел заговорить, но силы не хватило. Он сделал несколько шагов к ней, не зная, что будет, что случится, что скажет он, что получит в ответ. Он чувствовал только, что горит весь как в огне, что взор его туманится все более и более, что сознание и разум положительно покидают его, что с ним делается или дурнота, или сумасшествие! Только одно крепко залегло у него на сердце и будто стучит в голову – решимость: будь что будет!..
И в этом полусознательном состоянии юноша тихо двигался все ближе и ближе к задумавшейся Маргарите. Когда, как – он сам не знал… но очутился вдруг на коленях у ее ног и целовал край ее обшитого кружевами платья. Сказал ли он что или нет? Сказала ли она что-нибудь? Он не слыхал и не знал! Он смутно слышал, что кто-то тихо вскрикнул.
Но, видно, счастливая звезда юноши вела его и действовала за него. Не надо было ничего говорить! Все было бы глупо, все было бы странно! Звезда его, очевидно, знала лучше, в какое мгновение она приводила его к ногам этой гордой красавицы и какие прихоти владеют сердцем женщины… Она, видно, понимала, что этой женщине надо было скорее уничтожить, будто смыть с себя следы позорных и отвратительных старческих поцелуев, тяготевших на сердце…
Задумавшаяся глубоко Маргарита не заметила его появления в горнице, и вдруг, будто чудом, будто по мановению жезла волшебника, около нее упал кто-то на колени. И это именно он! Бог весть, что бы сделала и сказала графиня Скабронская в другое мгновение, при другом настроении, при другой обстановке… И прежде поцелуев деда!.. Но теперь все произошло так особенно, так странно и быстро, какой-то сказкой!..
И красавица, светская львица, расчетливая кокетка, вместо того чтобы громко вскрикнуть, подняться, отскочить от безумца, убежать, только тихо ахнула. И это был даже не испуг! Еще одно мгновение – и ее дрогнувшие руки упали на его плечи, обвивая наклоненную к ней голову. Пальцы ее скользнули и запутались в его густых кудрях, и мягким движением они поднимали и отклоняли назад его голову… Глаза встретились, и красавица, нагнувшись, страстно и жадно прильнула губами к его губам.
Маргарита порывом отдалась первому движению сердца, но, конечно, не потеряла сознания окружающего. И она могла видеть, как в то же мгновение помутились красивые синие глаза его, как в них выступили две крупные слезы, как смертельно вдруг побледнел он… потом слабо рванулся от нее, простонав, как от боли, и тихо повалился на пол около ее ног. Маргарита, не понимая, не веря, бросилась к нему и, став на колени, нагнулась над его лицом. Юноша был без чувств!
Маргарита хотела было бежать за хозяйкой дома, но вспомнила о Воронцовой, сообразила, что если этот случай будет ей известен, то будет известен тотчас же и государю. При этой мысли Маргарита в ужасе отскочила от двери, которую хотела уже отворить, и бросилась в прихожую. Крикнув два слова старухе служанке, она почти выбежала к своей карете.
«В горнице что-то случилось», – поняла старуха и тотчас кинулась туда.
Через несколько минут, с помощью воды, а в особенности толчков, старуха привела юношу в чувство.
Он оглянулся кругом безумными глазами и поднялся на ноги. Старуха что-то такое болтала, что-то советовала и толкала его к дверям. Шепелев вспоминал!.. Наконец он вспомнил все, вскрикнул и, не имея сил для вторичной встречи, бросился как сумасшедший вон из дома, воображая, что она еще у гадалки.
– Слава тебе, господи, – сказала вслед за ним старуха. – Авось Лизавета Романовна ничего и никого не приметила. Ишь, ишь погнал! Господи Иисусе! – воскликнула она через минуту, увидя, как Шепелев, вскочив на лошадь, мчится вихрем по дороге.
XXIV
Аким Акимыч Квасов на Святой неделе вынюхивал чуть не по полфунта табаку в день. То и дело насыпал он вновь полную тавлинку. Нос его, несмотря на привычку, все-таки видимо вспух и покраснел. Это сильное постоянное нюханье означало в лейб-кампанце душевную сумятицу, и действительно Квасову было не по себе. Он получил два чувствительных удара в самое сердце.
Во-первых, он с утра до вечера беспокоился и волновался из-за своего названого племянника. Шепелев ходил как тень; очевидно, у него была какая-нибудь мудреная, быть может, даже заморская хворость, а ложиться юноша не хотел. Квасов уже побывал однажды у самого знаменитого знахаря Ерофеича, спрашивал у него: есть ли такие хворости, какие у Шепелева? Но Ерофеич отвечал, что эта хворость – баловство. Коли ходит, ест и пьет, стало быть, здоров, а только блажь в голове. А на это целебных трав нету, а есть целебные прутья, именуемые «березовой кашей». Итак, Квасов беспокоился и недоумевал, но догадаться, в чем дело, конечно, не мог. Он и сам когда-то раз был влюблен, но за то время чувствовал себя еще бодрее и веселее.
«А чтобы от любви чахли да худели, – думал он, – это уж совсем по-аглицки или по-гишпански, а не по-российски!»
Отношения между дядей и племянником стали хуже с тех пор, что юноша не слушался дяди, пропадал со двора по целым дням, болтался неизвестно где и не говорил, где был.
С другой стороны, Квасов был несказанно озлоблен и оскорблен происшествием в кирасирском манеже. Он до сих пор ясно, отчетливо ощущал на себе удары Котцау. Хотя он дал сдачи бранденбуржцу, дал по-российски, крепко и здорово, – тоже помнить будет! – но все-таки Акиму Акимычу стыдно было вспомнить, что его при всей гвардии отшлепал немец так же, как парнишку какого отшлепает иная баба, поймавшая на огороде за кражей гороха. Вернувшись из манежа, Квасов решил тотчас же учиться этой поганой экзерциции так, чтобы в другой раз ни Котцау, ни иной какой не могли бы уже его побить. «Неужто русскому нельзя и в этом немца за пояс заткнуть?»
– Оплевал, просто оплевал! – повторял Аким Акимыч по сто раз на день, ходя из угла в угол своей комнаты и пожирая носом щепоть за щепотью.
Собравшись усиленно приняться за уроки фехтования, Квасов стал предлагать своему племяннику тоже учиться. Если кто увидит, соображал Квасов, что к ним таскается помощник Котцау, Шмит, который мастер сам, то пускай подумают, что Шепелев учится, а не он.
Юноша, всегда грустный, наотрез отказался учиться: не до того ему было.
Но вдруг произошла резкая перемена, словно чудо какое. Шепелев выздоровел. В сумерки прискакал он на Преображенский двор на своей сильно взмыленной лошади, бросил ее конюху и вихрем влетел к дяде в квартиру. Когда их кухарка отворила ему дверь, юноша постарался сделаться как можно грустней и мрачней, но, разумеется, не сумел: слишком сияло лицо его, слишком блестели, искрились красивые синие глаза. Шепелев, входя, думал, что состроил свое лицо мрачнее ночи, а Квасов, взглянув на племянника, чуть не выронил тавлинку из рук.
– Что такое? Что случилось? – вымолвил он.
– Ничего, дядюшка! – даже удивился Шепелев.
– Чему радуешься?
– Ничему, дядюшка…
Как Квасов ни просил, племянник, однако, ничего не сказал ему.
– Ну, не говори, – слегка обиделся Аким Акимыч, – бог с тобой. Рад, что хоть рыло-то у тебя повеселело. А что рыло твое в пуху и не хочешь ты мне сказать, что это за пух и кого ты скушал, это твое дело! Если это от бабы какой, – теперь только будто догадался Квасов, – то пущай. Только одно скажу: не след было так нудиться из-за пустяковины, а теперь не след тоже и беситься.
– Ах, дядюшка, я готов бы на луну прыгнуть! – воскликнул Шепелев.
– Это пустое дело, можно, в твои годы даже очень легко, – сострил Квасов. – А вот назад-то попасть, на землю, бывает очень мудрено… всегда расшибешься до полусмерти.
– Да я, может, там уж и останусь.
– Давай бог! – рассмеялся Аким Акимыч.
Юноша расцеловал Квасова в обе щеки, весело попросил прощения, обещая со временем все рассказать, и затем выскочил и побежал к Державину.
Квасов, хотя и бранился и дурно отзывался о Державине, однако все-таки устроил так, что молодого рядового уже не гнали на работы, но зато ставили на часы и на вести.
Шепелев откровенно рассказал другу все с ним случившееся. Державин выслушал его, покачал головой и выговорил:
– Что кому. У всякого своя забота!
– Ну а твои дела! – весело выговорил Шепелев.
– Что мои дела! Был у Фленсбурга, дал он мне несколько немецких бумаг перевести на российский язык и обещал заплатить щедро. Да что мне деньги, не то мне нужно.
– Ну а пастор?
– Был и у Гельтергофа. Дело, кажется, ладится. Обещал мне, что как государь переедет в Ораниенбаум, то захочет увеличить голштинское войско и будет принимать всех желающих, кто только знает по-немецки. Но когда еще это будет… Через месяц или два.
Шепелев, прежде не особенно лениво учившийся по-немецки у своего приятеля, за последнее время стал учиться гораздо прилежнее и сделал огромные успехи. Разумеется, это случилось потому, что «она» говорила преимущественно на этом языке, это был почти ее родной язык и сделался теперь милым языком Шепелева. Теперь он уже объяснялся свободно и сам пришел бы в неподдельный ужас, если бы кто-нибудь на этом дивном и милом языке сказал «нихт-михт».
И когда теперь Державин предложил приятелю заняться уроком, то юноша согласился и с восторгом принялся за немецкую книгу. Его душевное настроение, ликующее, восторженное, сообщилось понемногу и приятелю. И на этот раз до поздней ночи раздавался в каморке рядового преображенца гул двух голосов, бормотавших на ненавистном всем языке. Даже сосед Державина, солдат Волков, пришел, хотел было прилечь на кровати, но не выдержал. Этот проклятый хриплюн так гудел у него в ушах, что Волков злобно плюнул, слез со своей кровати и ушел спать вниз.
– Черти! – бормотал он, укладываясь внизу. – Понравился теперь! Все учатся. А вот погоди, может, вас, охотников до неметчины, скоро всех передавят. Алексей Григорьевич вчера еще сказывал примечать, кто из офицеров – немцев угодник, и запомнить, чтобы из рук не ушел, когда время приспеет.
На другое утро урок снова был возобновлен. Шепелев уже учился с остервенением, ожидая теперь всякий день возможности говорить с «ней» на ее языке.
В это утро случилось нечто особенное. В отсутствие Шепелева к Квасову явился нежданный гость. Если бы знал Аким Акимыч, что племянник у Державина, то, конечно, тотчас же послал бы за ним. В квартиру лейб-кампанца явился офицер и поразил его как своим прибытием, так и своим ненавистным мундиром. Явился князь Тюфякин в своем голштинском мундире. Сначала Аким Акимыч даже смутился от неожиданности визита.
Князь Глеб приехал познакомиться с господином Квасовым и спросить его от имени Пелагеи Михайловны Гариной о здоровье Шепелева и о причине его долгого отсутствия. Квасов объяснил все хворостью племянника, который, однако, теперь поправился и, вероятно, на днях будет у Тюфякиных.
Беседа Глеба с Квасовым не клеилась, а между тем князь не уезжал, все переминался на месте; наконец, будто решившись, он заявил Квасову, что у него есть до него дело очень важное.
– Что прикажете? Готов служить.
Князь сразу заговорил о предполагавшейся свадьбе давно нареченных, юноши Шепелева и княжны Настасьи Тюфякиной. Спросив мнение Квасова на этот счет, он узнал, что лейб-кампанец именно теперь очень рад бы был поскорее женить племянника, чтобы он не запропал среди гвардейских кутил и буянов.
Слово за слово, и ловкий Тюфякин добился того, что через полчаса они беседовали откровенно, непринужденно и как старые приятели. Тюфякин предложил Квасову действовать вместе, чтобы как можно скорее женить юношу на княжне. Он заявил, что этого все желают, в особенности тетка-опекунша и сама невеста.
– Прежде всего, – сказал князь, – вам следует познакомиться с вашей будущей родней. Давно бы следовало-то.
Эти слова несколько польстили лейб-кампанцу, который знал, что он дядя Шепелеву только наполовину. Однако Аким Акимыч, нигде не бывавший, пришел в ужас от предложения князя, но Тюфякин сумел быстро убедить лейб-кампанца, что тетушка-опекунша и княжны самые добрые и простые женщины, какие только есть на свете.
Решено было, что Квасов на другой же день явится в дом княжон.
– Только я ведь людскости никакой не имею, – объяснил Квасов.
– Полно, пожалуй… Все это пустое!.. Разум да сердце – вот что в человеке дорого! – говорил Тюфякин уходя и прибавил: – Дмитрию Дмитричу вы ничего не сказывайте. Пускай он лучше не знает, он ведь у вас чудной такой.
– Уж именно чудной! – воскликнул Квасов. – Хворал сколько времени, я уж думал, чахотка или чума какая, – вот как бывает у щенят, что чумеют. А тут вдруг в одно утро сразу запрыгал козлом… Я даже опасаюсь, не баба ли это какая прелестница! Тогда ведь беда будет насчет нашего-то желания…
– Да, это избави бог. Авось… – как-то рассеянно сказал Тюфякин. – Так вы ему ничего не говорите да завтра и приезжайте к нам. Я живу-то не у них, да все-таки говорю: к нам, все-таки они мне сестры.
На другой день Аким Акимыч надел свой новый мундир, всячески прихорашивался целые полчаса у маленького зеркальца, или, лучше сказать, перед черепком от зеркала, и, ни слова не сказав племяннику, отправился пешком к Тюфякиным. Тавлинку он не взял ради приличия, решившись потерпеть час без табака.
Квасов смущался и робел, как юноша, отправляющийся на первый бал. Да это и был для него первый визит в жизни.
«И зачем я иду? Познакомились бы после, когда она стала бы женой его, уж родней. Осмеют только мужика!»
Проходя по мосту через овраг, где уже значительно стаял снег и кое-где видна была земля, Квасов невольно вспомнил о случае с племянником.
«Должно быть, это здесь грабители-то его наградили, шубенку-то сняли. Здесь самое прекрасное место для этого: и убить можно да под мост до весны спрятать».
Когда Аким Акимыч поднимался по лестнице дома Тюфякиных, то дрожь пробирала его по всему телу.
Пелагея Михайловна особенно любезно встретила гостя, усадила, предложила чаю. Затем явился князь Глеб, ведя за руку Настю.
– Вот вам и невеста, – сказал он.
Настя старалась улыбнуться, но лицо ее было сумрачно. Князь Глеб старался быть весел и добродушен, но это как-то не шло к нему.
Пелагея Михайловна тоже старалась побольше занимать гостя разговором, но видно было, что и с ней что-то творится.
Наконец после всех появилась в комнате Василек. Тихо отворила она дверь, тихо подошла к столу, где обыкновенно она всегда разливала чай, и села, пытливо, зорко глядя в лицо Квасова.
– Это моя старшая племянница, Василиса, – сказала Гарина.
Квасов поклонился и внимательно стал глядеть на девушку.
«Чудное лицо! – думал он. – И что-то такое в этом лице удивительное есть!»
Квасов думал то же, что всякий при первой встрече с Васильком. Его, как и других, поразило это испещренное бороздками лицо, освещенное чудным душевным светом великолепных глаз.
Беседа смолкла на минуту. Квасов все глядел на Василька и вдруг выговорил несколько слов, которыми сразу обворожил княжну. Этими несколькими словами Квасов сразу записал себя в число друзей Василька.
– Как вам болезнь личико испортила! – выговорил Квасов. – А ведь видать и теперь, что вы писаная красавица были?
Василек слегка зарумянилась, и сладкое чувство сказалось у ней на душе. Эти слова так подействовали на нее, что она пересела тотчас поближе к лейб-кампанцу, к дяде этого юноши, которого она так давно не видала и о котором все-таки постоянно думала.
Аким Акимыч стал простодушно и подробно расспрашивать Василька, на каком году она заболела, как ее от оспы лечили. Василек охотно отвечала.
– Ну что ж, верно я сказываю, – спросил Квасов, – что вы были до болезни писаной красавицей?
Василек рассмеялась, а Пелагея Михайловна согласилась, что действительно так.
– Василек мой была такая красавица, каких мало у нас в столице. Но и теперь она для меня красавица душой своей. Что за польза, когда лицо бело, да душа черна! – выговорила Пелагея Михайловна и как-то странно косо взглянула на Настю и перевела свой быстрый взгляд на Тюфякина. Что-то злобное сказалось на лице ее на мгновение, и она еще быстрее отвернулась от князя.
Посещение Квасова окончилось совершенно для него неожиданно. Он пришел рано, а собрался домой уже ввечеру, и так как все опасались, чтобы его на мосту, как и племянника, не ограбили, то Пелагея Михайловна предложила ему доехать до города на их лошадях.
И поздно вечером Аким Акимыч выехал из дома новых друзей. Лейб-кампанец так не привык к колымагам и не привык качаться в них по рытвинам, что едва только экипаж въехал в улицы, Аким Акимыч остановил кучера:
– Стой, голубчик, совсем умаяло, как на качелях! Вот-вот стошнит и карету испачкаю! Выпусти на свет божий.
Квасов, отправив карету обратно, приказал благодарить барыню, а сам пошел пешком, думая о семействе Тюфякиных, которое произвело на него самое странное впечатление. Он разобрал всех по ниточке.
«Тетушка-опекунша – так себе, ничего, барынька из дуба дерева, у нее свой нрав, и она себя в обиду не даст. Князь – бес, что монахом прикинулся. Тетушка его, должно быть, не очень долюбливает, да, впрочем, ему она и не тетка, а чужая. Невеста либо хворает, либо какая забота у нее была в этот день. А может, он, мужик, ей не понравился, она на него и насупилась».
– А все-таки, – вымолвил Квасов вслух, – не по сердцу она мне, эта Настасья Андреевна. Она, что называется, в замужестве мужа справлять будет, а мой-то Митя уж будет жену изображать. Да, барышня с кулачком! А эта! Вот другая-то, Василиса-то Андреевна!!
И Квасов на ходу сразу остановился и от прилива чувства к сердцу полез в карман за тавлинкой и ахнул. Он забыл совсем, что, собравшись в гости, оставил тавлинку дома.
– Да, она – другое дело! – развел Квасов руками, бормоча себе под нос. – Красавица писаная! Не лицом, а очами красавица! Душой красавица! Душа ее вот вся на ладони. Нет, Василиса – не Настасья. Вот кабы на этой порося женить бы, то-то мы бы зажили! Но как теперь к нему подступиться? Коли есть прелестница, его под венец хоть на цепи веди.
И Квасов медленными шагами направился домой, продолжая восхищаться мысленно Васильком. Он был так глубоко занят понравившейся ему княжной, что в рассеянности дорогой еще раза три слазил за тавлинкой в пустой карман и каждый раз нетерпеливо плевался.
– Тьфу! Опять забыл.
И он прибавил шагу, чтобы скорее добраться до своей тавлинки и отнюхаться за весь день на славу.
XXV
Апрель месяц уже проходил, наступили уже двадцатые числа. Нева вскрылась, лед прошел, река очистилась, и невские воды, холодные, серые, незаметно для глаз уносились теперь в море.
Стоя на берегу реки, где уже показалась зеленая трава, преображенский сержант в новеньком мундире с иголочки глядел на ровное и гладкое лоно вод и думал: «Да, много воды утекло с тех пор».
Действительно, со Святой недели за этот апрель месяц много воды утекло для всего города и много событий и перемен совершилось в судьбе многих лиц, а более всех в судьбе этого сержанта, который был не кто иной, как юноша Шепелев, получивший сразу, вдруг, бог весть как, полуофицерское звание, перескочив через два чина.
Помимо перемены одежды простой на более блестящую, которая удивительно шла к его бледному и женственному лицу, в нем самом совершилась тоже перемена нравственная. Он был теперь менее наивен, менее ребенок. Три случая повлияли на него и заставили его будто вырасти душой.
Во-первых, навеки неизгладимая из сердца минута встречи с «ней» у гадалки и ее поцелуй, молчаливый, но красноречивый и сказавший ему все. До сих пор поцелуй этот будто дрожал и горел на его губах. Затем, вскоре после этой встречи, незнакомая рука, будто рука фортуны, высыпала на него свой рог изобилия. Он получил прежде всего крупную сумму денег, оставленную на его имя в пакете, покуда он был по наряду на часах. В пакете была записка от неизвестного покровителя, который, даря ему эти деньги, требовал, чтобы Шепелев немедленно съехал с квартиры дяди и завел свою собственную.
Вследствие этого сержант имел бурное и резкое объяснение с названым дядей. Их горячий спор кончился полной ссорой. Юноша, отвоевывая свою независимость ради необходимости жить отдельно, неосторожно напомнил Квасову об его происхождении и о том, что, в сущности, Аким Акимыч ему не настоящий дядя. Как это сорвалось у него с языка, он и сам не понимал. Помнится, что Квасов сказал ему, что он влюблен, верно, в какую-нибудь приезжую «иноземку каналью» и съезжает, чтобы пьянствовать с ней на свободе, покуда она его не обворует. Теперь совесть его мучила, и он надеялся когда-нибудь, даже скоро, примириться с Акимом Акимычем, которого, в сущности, очень любил. Но эта ссора будто воспитала юношу, укрепила волю.
После этой ссоры Шепелев немедленно нашел себе небольшую, но очень красивую и веселенькую квартиру на Невском и зажил в ней своим собственным хозяйством. Не прошло и двух дней, как та же неизвестная рука прислала ему в квартиру всевозможные вещи, начиная от мебели и кончая бельем и платьем.
Разумеется, часто приходило на ум юноше, что все это идет от «нее». Так как подобного рода вещи случались в гвардии ежедневно, стали обычаем в среде офицеров, то, конечно, и Шепелев не считал предосудительным получать все эти подарки. Иногда, впрочем, он в ужасе думал и даже говорил вслух:
– А что, если это не она? Если это какая-нибудь старая дурнорожая баба? И такие случаи бывают часто. И вдруг явится она предъявлять свои права! И придется все бросить, бежать и снова переехать к дяде.
Наконец однажды, во время очистки казармы и перемены порядков на новый лад, то есть изгнания баб, жен и постояльцев, на ротном дворе оказалось открытое неповиновение и почти бунт. Среди общей сумятицы, смутившей даже офицеров, в казарме совсем неожиданно появился принц Жорж. Принц явился по приказанию государя отсрочить очистку казармы. Это была особая милость к преображенцам. Принц произвел смотр, сделал испытание к экзерциции, и затем, хотя Шепелев вел себя не лучше других, его вызвали из рядов. Когда юноша подходил, то Жорж, глядя на него, в изумлении воскликнул, обращаясь к Фленсбургу:
– Aber es ist unser Herr Nicht-micht![1]
Шепелев заметил удивление принца, невольно заметил и сверкающий взор, который бросил на него адъютант Фленсбург. Ему показалось во взгляде шлезвигца плохо скрываемое презрение к нему.
Принц попросил адъютанта громко заявить всем предстоящим рядовым из дворян, что он желает доказать им свое довольство их успехами в экзерциции и на первый раз, как пример прочим, поздравляет рядового Шепелева прямо сержантом.
Шепелев едва устоял на ногах.
Принц уехал, но целый день не прекращались всякие толки на ротном дворе.
– Почему ж один Шепелев, почему ж, собственно, он, а не другие? – говорили все.
– Вестимо, его выбрали, а не другого! – говорил только Квасов.
Майор Текутьев, влиятельное лицо на ротном дворе, особенно горячился, говоря, что у Жоржа и милость – несправедливость.
– Вот у нас рядовой Державин тоже из дворян. Я его терпеть не могу, грешный человек, а все-таки скажу: он много искуснее в экзерциции, чем Шепелев. Почему ж не его?
Разумеется, Шепелев был в таком восторге, что первые дни, с минуты перемены формы, он ходил как в тумане счастья.
Таким образом, теперь в самое короткое время Шепелев очутился в своей собственной квартире, переполненной всяким добром, жил самостоятельной жизнью и был уже сержант гвардии, тогда как от рядового до сержанта приходилось часто служить от шести и до десяти лет.
Он тотчас же купил себе новую красивую лошадь и, счастливый, скакал по городу. По отношению к семье Тюфякиных Шепелев еще прежде ссоры с дядей переменился совсем: он объявил тогда Квасову, что княжна ему просто противна и свадьбы этой никогда не будет. Квасов, видавший уже несколько раз Настю, поневоле мысленно согласился с племянником. Когда же Квасов упомянул о Васильке как милой особе, пригодной в жены хоть бы иному царю, Шепелев раскатисто хохотал целый час и даже рассердил дядю. Затем лично князю Тюфякину, который вторично явился к нему, уже на его квартиру, Шепелев объявил, что и прежде не очень хотел соединиться браком со своей нареченной, а теперь положительно и наотрез отказывается. Юноша объявил это князю так спокойно, но твердо, и князь Глеб нашел такую перемену в молодом человеке, что даже удивился и не стал настаивать. Сержант Шепелев в своей красивой квартире совершенно не походил на того юношу рядового, который, по мнению князя, был и дурковат и медвежонок.
Между тем время шло, а главная загадка оставалась неразрешенною; Шепелева начинало тяготить и заставляло снова мучиться то, что со стороны Маргариты не было, так сказать, ни слуху ни духу.
Юноша нетерпеливо ожидал влюбленным сердцем, что она явится у него, пригласит к себе или, наконец, даст возможность встретиться где-нибудь. Но Маргарита как будто не существовала. Он предполагал, был даже уверен, что все явилось к нему от нее и через нее, что всё – деньги и подарки, даже чин – дело ее рук! Но на это не было никаких доказательств. И с ужасом иногда думал он, что вдруг явится действительный благодетель в образе какой-нибудь старухи или добросердого вельможи, а Маргарита, чуждая всему, останется в стороне.
Наконец он не выдержал и стал искать упорно случая встретиться где-либо со своей гордой красавицей и прямо объясниться с ней.
– Этим поцелуем, – говорил он вне себя, – ты дала мне право требовать встречи и объяснения, дала даже право прямо явиться к себе…
Однажды утром он поднялся после бессонной ночи и даже более… ночи, проведенной в постыдных для сержанта, но искренних и горьких слезах.
– Поеду прямо к ней! – с отчаянием решил он. – Ведь я ее знакомый… Даже более. Разве простых знакомых целуют так?.. Ведь я не ребенок, не мальчик, которого всякая женщина может поцеловать.
А между тем именно это и смущало его теперь… Давно ли он был мальчуганом и его целовали так приятельницы матери, иногда и молодые, красивые?..
– Да… Но разве так целовали?! Разве так!! – восклицал он, с дрожью на сердце вспоминая ее огненный и жадный поцелуй.
Через час Шепелев был верхом у подъезда дома Ван Крукса и, отдав лошадь дворнику, вошел в дом и велел лакею доложить о себе:
– Сержант Шепелев.
Лакей пошел, а сержант стоял, озираясь в прихожей, и горел как на угольях.
«Это дерзко, это глупо!.. Зачем я лезу, как нахал?!» – думал он, а сердце ныло в нем и будто оправдывало его поступок.
В прихожей, вслед за лакеем, появилась знакомая еще с ночи в овраге женская фигурка, и еще более знакомый голос сказал ему:
– Графиня приказала спросить: что вам угодно?
– Быть принятым графиней.
– Зачем?
И Лотхен, оглядывая сержанта, как всегда, дерзко ухмылялась.
– Я желаю видеть графиню!.. По делу!.. – сказал Шепелев по-немецки.
– Ах, вы теперь выучились! – заговорила Лотхен тоже по-немецки. – А по какому же это делу?
– Я только графине одной могу сообщить это.
– Я знаю… – рассмеялась Лотхен звонко и дерзко. – Графиня приказала вам сказать, что она нездорова и не может принять вас. Если же вы являетесь по делу о гадалке, то… вы должны меня понять!.. – прибавила Лотхен, косясь на понимавшего по-немецки лакея. – То, насчет гадалки… графиня просит вас оставить это дело… это все оставить без последствий… Понимаете?..
Шепелев стоял как истукан; сердце будто оторвалось и упало… Ничего не видя и не понимая, он двинулся из передней на подъезд, как оглушенный ударом. Юноша сел на лошадь и шагом двинулся по улицам… Когда, однако, после часу прогулки он вернулся домой, то на лице его была написана твердая решимость на что-то. Лицо его было угрюмо, но слегка и озлобленно…
– Сама пусть посмеет сказать это мне в лицо! – решил он. – Без последствий!.. Нет! Я шутить с собой не дам!
Но тут другая мысль испугала Шепелева. Мысль о деньгах, о квартире, подарках… Неужели это не от нее? Ну а чин! Ведь принц ахнул, что Шепелев – тот же его господин «Нихт-михт». Стало быть, он не заметил его в строю и не видал в лицо и поэтому не за экзерцицию награждал, а вызвал по заранее данному обещанию рядового, по имени Шепелев, поздравить сержантом! А кто же мог просить за него принца, если не она?.. А злое лицо Фленсбурга?..
– Боже мой! С ума можно сойти! – восклицал юноша. – Да и лучше бы!..
Шепелев решился опять взяться за старое… Верхом следовать за графиней всякий день и уже не скакать в отдалении и ждать за углом, а быть ею замеченным.
На другой же день с утра он был как на часах у дома Маргариты. В два часа ей подали карету. Она вышла и поехала на Большую Морскую. Шепелев двинулся за ней и, обогнав карету, поклонился ей низко и холодно… Новая лошадь, как нарочно, шла великолепно, и он чувствовал сам, что ловко сидит в седле.
Графиня остановилась за углом среди улицы, вышла, снова пешком дошла одна до дома Позье и вошла. Шепелев, обождав минуту, решился. Он привязал лошадь к забору, а сам смело вошел в прихожую бриллиантщика.
«Она нарочно людей бросила далеко… Она сама снова хочет видеться», – восторженно думал юноша.
Услыхав ее голос в соседней комнате, Шепелев отворил дверь и вошел. Графиня обернулась и видимо смутилась…
– Что прикажете? – спросил сержанта пожилой человек, очевидно хозяин дома.
– Я не к вам… Я увидел графиню и являюсь засвидетельствовать ей свое почтение! – любезно вымолвил Шепелев, кланяясь ей. Но в ту же минуту он оробел.
Графиня смотрела на него изумленным взором, как если бы он сделал что-нибудь невероятное.
– Вы ошибаетесь… – гордо, холодно, почти презрительно выговорила она, выпрямляясь. – Я не имею чести вас знать и даже не понимаю… Вы ошиблись… Я даже не графиня…
– Вы не… – пробормотал и запнулся юноша.
А хозяин дома лукаво усмехался.
– Я вас прошу оставить меня. Это, наконец, дерзко! – уже гневно выговорила графиня, меряя его с головы до пят таким ледяным взглядом, что у юноши вся кровь хлынула к сердцу…
– Однако… – вымолвил Шепелев, теряясь.
– Я не графиня и вас не знаю! Господин Позье, это ваше дело, иначе я сейчас уйду…
Это было сказано спокойно. Но какое презрение к нему звучало в каждом слове и будто светилось даже в чудных глазах ее.
Шепелев повернулся и, слегка шатаясь, вышел на улицу.
– Все кончено! – шептал он, садясь на лошадь.
XXVI
С самого приезда барона Гольца в Петербург, еще в феврале месяце, ходили слухи, что с Фридрихом будет заключен мирный договор, почти невероятный. Когда Гольц ловким маневром поставил всех резидентов иностранных, за исключением английского, в невозможность видаться с государем, то сам, по выражению шутников, ежедневно выкуривал целый пуд кнастера в его кабинете. И весь Петербург ожидал нетерпеливо, чем разрешатся ловкие происки фридриховского посланца.
Тайный секретарь государя, Волков, был осаждаем со всех сторон вопросами, в каком виде находится мирный трактат. Волков уверял всех, что старается всячески избавить Российскую империю от угрожающего ей позора.
На Фоминой неделе прошел слух в Петербурге, что мирный договор уже готов, что есть два проекта: один – русский, Волкова, другой – прусский, Гольца.
Через неделю новый слух городской перепугал всех.
Глухо, тайно и боязливо все сановники передавали друг другу, что государь отверг проект Волкова и уже подписал проект Гольца. С ужасом рассказывалось, что в проекте этом, писанном будто бы самим Фридрихом, есть будто три секретных пункта, по которым прусскому королю возвращены все земли, у него завоеванные Россией, и возвращены даром, без всякого вознаграждения. Фридрих, со своей стороны, будто бы обязывался помогать русскому императору в предполагаемой им новой войне с Данией. Наконец, будто бы предполагалось уже не дипломатическими средствами, а просто вооруженной рукой против Саксонии и Польши сделать герцогом Курляндским принца Жоржа.
Эти слухи ходили по Петербургу и прежде, но теперь о них говорили как о совершившемся факте. Факт этот не столько волновал все общество, сколько гвардию, которой предстоял будто бы поход в случае войны.
У императрицы, более чем когда-либо, боялись бывать, и самые смелые перестали было посещать ее. Но теперь даже и к ней все чаще заезжали разные осторожные сановники ради любопытства, узнать что-нибудь. Но императрица знала менее, чем кто-либо, что совершается в кабинете государя.
Государыня жила, с переезда в новый дворец, в нескольких горницах на противоположном конце от государя и вела жизнь самую тихую и скромную. Она почти никуда не выезжала, и только иногда бывал у нее Никита Иванович Панин, воспитатель наследника, графы Разумовские, канцлер Воронцов, чаще же других княгиня Дашкова. Сама императрица иногда вечером отправлялась в гости к княгине Дашковой и там видалась с некоторыми офицерами гвардии. Одних она знала давно, а других ей представили недавно.
После Фоминой недели государыню стали просто осаждать сановники, сенаторы и члены синода и всякие нечиновные люди убедительными просьбами узнать содержание нового мирного трактата. Екатерина Алексеевна отлично понимала все громадное значение договора для общественного мнения. Чем ужаснее, невозможнее и позорнее для России окажется этот договор, тем более выигрывает та партия, которая теперь называет себя «елизаветинцами» и которой, по выражению Алексея Орлова, следовало без страха и искренне давно назваться «екатерининцами».
Однажды утром государыня вызвала к себе своего юного друга Екатерину Романовну Дашкову и встретила ее со слезами:
– Ну, княгиня, пришла пора доказывать слова делом. Если вы меня любите, вы должны непременно исполнить мою просьбу.
– Все на свете! – воскликнула Дашкова, засияв лицом.
– Да, вы всегда так: все на свете! Готовы будете сейчас, как птичка, взмахнуть крылами и взлететь в самое небо. А потом тотчас струсите и пригорюнитесь и, вместо того чтобы парить в облаках, начнете ползать, как букашка по земле.
– Merci за сравнение, – обиделась княгиня. – Оно и злое и несправедливое. Я сейчас же докажу вам, что умею летать. Что прикажете?
– Ехать сейчас же к Елизавете Романовне…
Дашкова двинулась всем телом и вытаращила глаза на государыню.
– Ну вот видите! – вымолвила та, улыбаясь.
– Но, ваше величество, вы знаете, что я с ней прекратила всякие отношения, что я, не роняя чувства собственного достоинства, не могу с ней знаться. Она бесстыдно приняла теперь свою роль… Она на днях переезжает в особое помещение, в этот же самый дворец…
– Все это я давно знаю лучше вас, но дело важное.
– Но зачем же я поеду?
– Во всем Петербурге, княгиня, только барон Гольц и, конечно, ваша сестра знают содержание нового мирного договора.
– Я вас уже просила не называть ее моей сестрой.
– Виновата, не спорьте о мелочах. Итак, Елизавета Романовна, помимо Гольца, знает наверное подробное содержание договора. Так как и государь и она тоже, ils sont tous les deux discrets, comme deux coups de canon[2], то в ваших руках, княгиня, дело огромной важности. Если вы поедете к ней, обойдетесь с ней ласково, то она расскажет вам все… Мы все будем обязаны вам, будем знать, какую кухню состряпал Фридрих! И будем знать а́ quoi nous en tenir[3]!
Дашкова стояла сумрачная, опустив голову. Она была умна и смела, в то же время крайне пылка и мечтательна. Постоянно грезились ей великие подвиги и громкие дела, но все эти подвиги и дела всегда являлись в ее воображении в каких-то сияющих формах. Всякий подвиг был прежде всего поэтичен и прелестен. Если она мечтала о женской деятельности, то ее воображению являлась непременно Орлеанская дева. Но эта Иоанна д, Арк не являлась ей замарашкой, крестьянкой, пасущей стадо и в холод, и в дождь, а являлась прелестной, раздушенной пастушкой, окруженной барашками, увитыми розовыми ленточками. Эта Иоанна не являлась ей измученной, голодной, не слезавшей с лошади несколько дней, ездящей на простой лошади и воодушевляющей своим присутствием тоже изморенных воинов. Она представлялась ей в золотой броне, скачущей на дивном коне, в дивном убранстве. И по мановению ее меча истребляются как бы сами собой враги ее отечества. Она берет города, как ветхозаветный герой: одним звуком трубным!
И в душе юной женщины, недавно вышедшей замуж, являлся постоянно кажущийся разлад. Она готова на подвиг самый трудный, самый страшный, но с тем условием, чтобы подвиг этот, с одной стороны, отозвался сразу во всей Европе, а с другой стороны, был бы тоже увит розовыми ленточками и опрыскан духами.
Когда государыня заговорила о просьбе, княгиня уже мечтала, что вот сейчас придется ей сделать что-нибудь высокое, знаменательное. А ей предлагают ехать к дуре сестре и выпытывать у нее то, что она может знать. Она к ней давным-давно не ездила, прервав всякие сношения, а теперь ее заставляют унизиться, дают ей поручение мелкое, неприятное, почти глупое. А главное, дают ей поручение бабье: поехать, посплетничать и выманить у сестры тоже какую-нибудь сплетню.
– Итак, что ж, княгиня? – вымолвила наконец государыня.
– Подумайте, ваше величество. Я не отказываюсь, но что ж я узнаю? Она глупа, но не до такой степени. Вероятно, она мне ничего не скажет или просто соврет, чтобы похвастать.
Екатерина вздохнула:
– Согласна. Но покуда вы не поехали, не побывали у нее, вы этого не можете и знать. По моему мнению, если вы захотите, то сумеете выпытать всю истину. А она не может не знать всего договора. Я уверена, что государь за последние дни все выболтал ей.
После небольшой паузы Дашкова недовольным голосом выговорила:
– Извольте. Что ж? Мы, бабы, только на это и годимся.
– Нет, княгиня, бабы и на другое годятся. Я тоже баба! Но мужчины понимают, что из малых дел составляется большое дело, из больших – великое дело. Женщины не всегда понимают это. Вот вы умная женщина, а не хотите понять, как важно было бы для нас всех знать сегодня же вечером, в чем заключается договор и действительно ли подписан он.
Дашкова будто теперь только поняла значение того, что от нее требуют.
«Конечно, цель эта важная, – думала она, – но средство достижения этой цели – бабье. Это все слишком просто, глупо!» Вот если бы ей поручили составить une trame[4], собрать кучку людей, замаскировать их и ночью, окружив дом Гольца, похитить у него все бумаги!.. О, тогда бы!.. Она еще вчера читала, что так поступили недавно с тосканским резидентом в Мадриде. Вот на такой романический подвиг княгиня полетела бы с наслаждением!
– Хорошо, я поеду, – выговорила она наконец сквозь зубы. – И даже сделаю так, как всегда поступаю с лекарством. Уж если нужно avaler ane tisane[5], то поскорее, сразу. Зажмуриться и проглотить!
– Пожалуй, сразу – хорошо, – улыбнулась государыня, – но когда что делаешь, не надо жмуриться: этим только себя обманываешь и как раз прозеваешь что-нибудь, хоть бы, например, муху с лекарством проглотишь.
И Екатерина Алексеевна рассмеялась, но невеселым смехом. За последнее время ей редко случалось смеяться от души.
– Ну, с такой замечательно умной женщиной, как Елизавета Романовна, трудно прозевать что-либо! – презрительно сказала Дашкова, пожимая плечами, и прибавила: – En voila une, qui n,inventerait pes la poudre[6].
– De la poudre aux yeux… Que si…[7] Поэтому советую вам все-таки дорогой приготовиться, княгиня, – сказала государыня. – Будьте мудрее змия, хитрее лисы и ласковее овечки, когда будете беседовать с графиней Воронцовой. Вечером мы будем вас ждать.
XXVII
Княгиня Дашкова заехала домой переодеться, чтобы быть у сестры в более простом платье, затем отправилась в дом отца.
Положение Дашковой при дворе было исключительное. Она прервала всякие сношения с сестрой, без боязни высказывалась, рисовалась и хвастала своей дружбой с гонимой, почти опальной императрицей и могла это без боязни делать именно благодаря только тому, что была сестрою фаворитки. С ней государь обращался милостиво и только шутил насчет ее дружбы к жене или искренне уговаривал:
– Напрасно вы променяли Романовну на Алексеевну. Сестра ваша – добрая душа… И вам очень, очень пригодится… И скоро! А ваша Алексеевна хитрая и злая… Она с человеком поступает, как с апельсином, высосет весь сок, а кожу бросит…
– А вы совсем с кожей скушаете! – отшучивалась Дашкова.
Княгиня не любила сестру или, скорее, презирала ее. Между ними ничего не было общего. Но в глубине души Дашкова все-таки должна была сознаться, что главной причиной ее чувства нелюбви к сестре и любви к государыне было возвышение этой сестры.
Это неожиданное и необъяснимое возвышение крайне некрасивой, глупой и дурно воспитанной сестры раздражало княгиню. Не только на нее, но и на всю свою родню, на двух сестер и двух братьев, княгиня почему-то смотрела немного свысока. Положение ее в этой семье было правда исключительное.
При рождении своем девочка, младшая в семье, неизвестно почему сделалась крестницей императрицы, только что вернувшейся из Москвы после коронации, и молодого великого князя, только что привезенного из Голштинии и объявленного наследником. Преемник девочки от купели сам только что был приобщен к православию и покумился с теткой.
Через года три умерла мать; овдовевший отец любил пожить весело и беззаботно и на пятерых детей не обращал никакого внимания. И вот брат его, канцлер Воронцов, у которого была только одна дочь, стал просить отдать ему на воспитание одного из детей и выбрал крестницу императрицы и наследника.
Воспитание с первого дня дается маленькой племяннице Екатерине то же, что и родной дочери, их воспитанница оказывается счастливо выбрана, она далеко не красива, но прилежна, умна и даровита. В двенадцать лет она уже тихонько запирается у себя на ключ по ночам и читает все те книги, которые только попадаются ей в библиотеке дяди-канцлера. Скоро девочка развита не по летам, а образованна настолько, что удивляет познаниями окружающую полуграмотную среду. Но природный ум развивается односторонне, и она прежде всего делается пылкой мечтательницей. Воображение работало и, не находя пищи в окружающей обстановке, стало врываться с требованиями в личную обыденную жизнь… Явилась насущная потребность, жажда увидеть и в действительности, в своей собственной жизни, то, что было с восторгом узнано в разных книжках.
В пятнадцать лет юная графиня Воронцова встречает в тихую ночь на улице, при лунном свете, красивого незнакомца офицера, который вдруг с ней заговаривает, не имея на то права. Поэтому она тотчас чувствует, что это… все странно!.. Судьба! Она тотчас влюбляется и выходит действительно за него замуж. Отношения к мужу, затем отношения к двоим детям, наконец отношения к великой княгине, теперь императрице, – не любовь и не дружба, а обожание… смесь аффектации и сентиментализма. Потребность драмы и трагедии, романа и поэмы в пустой, обыденной жизни сделала княгиню приятной собеседницей, но невыносимой сожительницей и утомительным другом. Ежечасное преувеличение все уродовало!..
Положение ее друга, императрицы, сделалось вдруг действительно трагическим. Какая пища, какая манна небесная для женщины-фантазерки, мечтающей о геройских подвигах! И княгиня отдалась всей душой делу Екатерины. И от зари до зари усердно, неутомимо, почти не имея покоя и сна, работала и работала для нее… воображением!
И поэтому самая кипучая деятельность выпадала на ее долю по ночам, в постели. Тут, среди добровольной бессонницы, брала она города, завоевывала скипетры и короны, спасала Россию, умирала на эшафоте!.. А Европа гремела в рукоплесканиях героине севера!..
Но государыня и из этой двадцатилетней мечтательницы сумела извлечь пользу. Крестница императора и родная сестра фаворитки, конечно, могла пригодиться всячески. Таким образом, и на этот раз княгиня была вызвана ею и послана с поручением, которое, помимо нее, совершенно некому было дать.
Княгиня вошла в гостиную сестры и не нашла в ней никого. Она постучала в следующую дверь и услыхала голос:
– Здесь! Гудочек, что ль? Иди!
Переступив порог, княгиня не сразу нашла сестру. Елизавета Романовна оказалась в углу комнаты, на маленькой скамейке, перед раскрытой заслонкой сильно разожженной печи.
Внешность графини Воронцовой в эту минуту была особенно неприглядна. Елизавета Романовна была низенькая, крайне толстая женщина с жирным, как бы опухшим лицом, с большим ртом, с маленьким, вострым носом, но как бы заплывшим жиром, и с крайне узенькими глазами, которые зовутся обыкновенно «гляделками».
Эта внешность удивляла многих иностранцев, и французский посланник Бретейль писал про нее своему двору, что фаворитка напоминает «une servante de cabaret»[8].
Несмотря на позднее время, она была еще не причесана; волосы, спутанные на голове, торчали лохмами во все стороны; разбившаяся, нечесаная коса прядями рассыпалась по плечу и по спине. Гребень кое-как держался в этой косе, будто забытый еще вчера и ночевавший с ней, и, повиснув теперь боком, собирался ежеминутно упасть на пол. Кроме того, она, очевидно, еще не умывалась, и лицо ее было маслянисто. Она еще не одевалась, и на ней было только два предмета: измятая сорочка, а сверх нее накинутый на плечи старый лисий салоп, который, отслужив в качестве теплой верхней одежды, исправлял теперь должность утреннего капота.
Всякий день за все три времени года, исключая лето, Елизавета Романовна именно так, прямо с постели, не умывшись и не причесавшись, накидывала на себя этот салоп и босиком подходила к печке, заранее сильно растопленной; она садилась всегда на скамеечке и, с наслаждением грея перед огнем голые ноги, всегда при этом съедала около фунта коломенской пастилы и калужского теста. Прежде она делала это до сумерек и до вечера, теперь же могла делать это только часа по два, по три, а затем одевалась… Трудно было бы решить, о чем она думает, молчаливо пережевывая пастилу, как корова жвачку, и не спуская ни на минуту свои гляделки с раскаленных угольев печи.
Эта привычка вовсе не была изобретением графини Воронцовой. То же самое делала еще недавно покойная императрица; то же самое стали делать и многие столичные пожилые дамы, подражая государыне. Просидеть несколько часов, не умывшись и не одевшись, около огня, в одном ночном белье, прикрытом старым и, конечно, загрязненным мехом, было своего рода наслаждением этого склада жизни.
– А-а… – протянула Воронцова, увидя вошедшую. – А я думала, это Гудович…
– Здравствуй, сестра! – произнесла княгиня, стараясь придать лицу более веселое и ласковое выражение.
Воронцова, давно не видавшая сестру, была удивлена, но, как всегда, ничем не выразила этого. Она, собственно, бесстрастно относилась ко всему, и только ящики с пастилой, в особенности с финиками, заставляли ее оживляться.
– Здравствуй, садись, давно не видались. Что ты поделываешь? Все со своей Алексеевной шепчетесь?
Дашкова вспыхнула. Это прозвище, данное государем своей супруге, казалось, разумеется, оскорбительным Дашковой в устах этой глупой сестры. Прежде она не посмела бы так назвать государыню. Давно ли эта перемена и почему?! Княгиня хотела было заметить сестре все неприличие ее выходки, но раздумала и, взяв кресло, села и стала ее разглядывать.
– Что это, сестрица? – выговорила княгиня невольно. – Посмотри на ноги свои. Подумаешь, ты по дождю бегала да по грязи.
– Да, – вымолвила Воронцова, вытягивая одну ногу и оглядывая ее, – вот хочу все вымыть, да все не время… мешают…
Дашкова дорогой приготовила план, как выведать все у сестры относительно мирного договора.
Воронцова была настолько глупа, что с ней было немудрено хитрить, но, однако, все-таки в данном случае и она понимала важное значение того, что могла знать лично от государя.
Покуда княгиня собиралась с мыслями, как начать беседу, и со своего высокого кресла бессознательно разглядывала неказистую фигуру сестры на полу, Воронцова опростала целую картонку с пастилой, бросила ее в огонь и, взяв подол сорочки в руку, вытерла себе засахаренные губы.
– Ну а вы с ней что? – заговорила она лениво, подразумевая государыню. – Всё вместе! Читаете французские книжки? Своего господина Дерадота наизусть учите?
– Такого нет, – отчасти презрительно отозвалась княгиня. – Дидерот есть на свете, хорошие книжки пишет, а Дерадота уж ты сама выдумала.
– Я, сестрица, не могу себе голову и язык ломать всякой пустяковиной да французские прозвища наизусть учить! – добродушно отозвалась Воронцова. – А вот государь говорил, что этот ваш… Дедарот – сын слесаря…
– Правда… Его отец, кажется, делал ножи и продавал… Но что ж из этого?..
– И в остроге он сидел за эти книжки, которые вы все читаете…
– Да… Но ты скажи государю от меня, что его Лютер тоже в остроге сидел, то есть в заключении!.. – усмехнулась Дашкова и прибавила: – Впрочем, что об этом толковать. Это не по твоей части…
Княгиня просидела у сестры около двух часов, стараясь быть как можно ласковее, и, кроме того, обещала ей вечером прислать полпуда венецианского теста, вроде пастилы.
И ее дело увенчалось полным успехом. Дашкова, уезжая от глупой сестры, которая была, по выражению государыни, «discrete comme un coup de canon»[9], увозила самые подробные сведения обо всем мирном договоре с Фридрихом II.
Она узнала, что договор подписывается на другой день окончательно, узнала даже цифру того войска, которое оба государя обязуются доставить друг другу в случае войны с кем-либо из врагов; кроме того, узнала и цифру суммы денег, которую государь обещался препроводить другу Фридриху в случае нужды его в деньгах. Сумма эта была огромная и заключала в себе все то, что могло найтись в эту минуту во всем российском казначействе.
Едучи домой, Дашкова была в духе и думала, весело усмехаясь:
«И не дорого! За государственную тайну – двадцать фунтов пастилы. Le heros de la Bible a vendu ses droits d,ainesse pour un plat de lentilles!..[10] Понятно, когда он, бедный, умирал с голоду! А ведь эта, наевшись пастилы, за пастилу и продала…»
XXVIII
Едва только княгиня уехала от сестры, как к Воронцовой явился ее первый приятель, а равно и любимец государя Гудович.
Он носил звание, генерал-адъютанта, но, в сущности, адъютантом не был. Как истый хохол, Гудович был ленив до невероятности и любил только поесть, поспать и выпить. Ни на какое дело он не был способен. Леность его доходила до того, что он почти никогда не ходил пешком и не мог простоять более получаса на ногах. Когда он сидел, то всегда садился полулежа; даже у государя, когда не было посторонних свидетелей, Гудович имел право быть в его присутствии в этом полулежачем положении на каком-нибудь диване.
Другим адъютантам своим государь, конечно, этого не позволял, но Гудович был его любимец, и за что любил он его – трудно было бы сказать, так как Гудович терпеть не мог военщину, смотры, экзерциции и все подобное. Но зато Гудович был постоянным кавалером Воронцовой и, в сущности, скорее ее адъютантом. Он сопутствовал ей в ее поездках, во всякое время дня и ночи заезжал за ней, увозил и доставлял обратно в дом отца ее. Кроме того, обладая талантом смешно рассказывать разный вздор, он ежедневно передавал ей все городские сплетни. Для Елизаветы Романовны он был незаменимый и неоценимый человек, так как к нему обращалась она откровенно за советом и за разъяснением всего того, чего не понимала. А такового было много на свете!
Гудович входил поэтому к Воронцовой без доклада и всегда заставал ее в любимом костюме, за любимым занятием, то есть за пастилой перед печкой, в салопе. Их отношения были настолько коротки, что Елизавета Романовна не стеснялась принимать приятеля в этом костюме, который был ни ночным, ни дневным.
На этот раз Воронцова, сбросив салоп, начинала уже одеваться, когда в соседней комнате раздались тяжелые шаги Гудовича.
– Ты, что ль, Гудочек? – крикнула она в полурастворенную дверь.
– Нет, не я, – шутливо отвечал Гудович. – А что, нельзя разве? Одеваешься?
– Сейчас, обожди минуту.
– Ладно, только поскорей, мне не время.
– А не время, так входи.
Воронцова, успевшая только обуться, не накинула на себя салопа, а как была… приняла приятеля и продолжала одеваться при нем.
– Я на минутку, – сказал Гудович, входя, – передать тебе хорошую весточку… Такую, Романовна, весть, что ахнешь. Барон послал меня к вам челом бить, просить покорнейше в знак его дружбы и почтения принять от него безделушку на память. А безделушка сия, родимая, в несколько тысяч червонных. Ну, что скажешь, толстая моя?
– Что ж, добрый человек. Очень бы и рада, да ведь сам знаешь, Гудочек, себе дороже будет. Разнесут меня в Питере, заедят разные псы. А уж «ее» – то приятели так и совсем загрызут.
– Ну, на это нам наплевать: ее не ныне завтра мы с рук сбудем. Я на этот счет, Романовна, такой секретец знаю, что ахнешь тоже. Ей-богу! Шлиссельбургскую-то крепость, – тише выговорил Гудович, – очищают, Ивана Антоновича в другое место переводят, а там разные свеженькие решеточки устраивают. А для кого? Как бы ты думала? Для нас, что ли?!
– Неужто? – поняла Воронцова, и лицо ее расплылось в радостной улыбке.
– Верно.
– Как же он мне вчера ничего про это не сказал?
– Он вам une surprise, как говорят французы, готовит. Ну как же, Гольцово-то жертвоприношение?
– Да боюсь, загрызут. Будут говорить, что это за мои какие хлопоты для короля. А ты сам знаешь, я в эти дела не вмешиваюсь. Кабы я была завистливая да падкая на всякие подарки да почести, так нешто бы теперь я была по-старому графиней? Давно бы уж императрицей была.
– Да и будешь, Романовна, будешь, – шутил Гудович. – Толста вот ты малость да пухла лицом, а то бы совсем Марья-Терезья. Ну так как же? Какой Гольцу ответ?
– Не знаю. Скажи ты, Гудочек. Если бы то было варенье какое или хоть какое дешевое колечко… А то, поди, верно, какая-нибудь богатая ривьера.
– Да ривьера не ривьера, а букет алмазный. Но грызть никому тебя не придется, потому что дело все он по-немецки устроил. Букет вы получите, а от кого он – знать никто не будет, и все будут думать, что государь поднес!
– Как же так?
– Уж так все подведено. Только Гольц, я да ты – трое и будем знать, какой такой букет. Заказан он у Позье.
– У Позье? – ухмыльнулась Воронцова.
– А то где ж? Так будет сработан, что такие вещицы разве только у покойной царицы бывали. Заказывал не сам барон, а через какое-то тайное лицо, так что сам Позье не знает, кто заказывал. А получать я пошлю верного человека с особенным билетиком.
– Вот что, – выговорила Воронцова.
– Говорю тебе, по-немецки подведено.
– Ну, это другое дело. А государю можно будет сказать, от кого получила?
– Государю-то, известно бы, можно. Да ведь он, знаешь, Романовна, на язык-то слаб. Лучше уж скажешь ему, что сама купила. Ну, да это видно будет. То-то ахнут наши барыни, как прицепишь букетец-то в несколько тысяч червонных. Ну, прости, я, стало быть, прямо отсюда к Гольцу сказать, что ты благодарствуешь. А встретите его где, то скажите сами: спасибо, мол. Будет вам нужда – я, мол, всей душой готова служить!..
Гудович уж собрался уходить, когда Воронцова остановила его вопросом:
– Гудочек, а как по-твоему, с чего это он меня дарить вздумал?
Гудович почесал в затылке, помолчал и выговорил:
– А по его глупости, матушка, дурак он – вот что. Да и денег фридриховских у него куры не клюют. Надо полагать, что это все ради нашего нового трактата. Ведь на днях трактатец государь подмахнет. Ну, вот Гольц в горячее-то время и одаривает всех; все боится, а ну-ка я, либо принц, либо вот ты остановим государя, отсоветуем. Знает он, что государь – человек добрый, слабодушный, если кто здорово привяжется, да начнет пугать, да стращать, так живо и отговорит. Вот, на мой толк, барону и пришло на ум: ну как Романовну другой кто задарит да она отговаривать учнет, дай лучше я забегу да поднесу ей что-нибудь. Да и кто его знает еще… Сам, вероятно, наживет на букете.
– Как то ись наживет? – не поняла Воронцова. – Что ты?
– Эх ты, простота! Как? Поставит его Фридриху в счет вдвое супротив его цены. Наши послы завсегда это делали. А кроме того, еще скажу, у нас в столице умные свои люди есть, родная, кои думают, что ты простой прикидываешься, а то и дело об европейских событиях с государем толкуешь и по наговору канцлера великие дела вершишь. Гольцу известно, что родитель твой зело против трактата, да и дядя тоже… Ну, думает, подарю Воронцовой букетец – может, и тятенька с дяденькой ласковее будут. Он мне вчерася вечером, придравшись к моему слову, взаймы тысячу червонных дал. Я и не просил, а только охнул при нем, что дорого очень все в Петербурге да что новый мундир мой много стоит. Ну, он мне сейчас и предложил взаймы.
– Так ведь это же взаймы, – заметила Воронцова. – Букет-то нешто тоже придется мне ему после подписания трактата отдавать?!
Гудович рассмеялся:
– А я нешто отдам назад? Э-эх, Романовна, куда ты проста. За то я тебя и люблю. Ну, мне пора…
Вернувшись домой, Гудович нашел у себя адъютанта государя, Перфильева, и приятеля князя Тюфякина. Перфильев был совершенной противоположностью Гудовича.
Он действительно исправлял адъютантскую должность при государе, и довольно мудреную и утомительную. Что бы ни понадобилось, все делал Перфильев. Часто случалось ему по нескольку часов кряду не сходить с лошади. На нем же государь подавал пример, так сказать, всем офицерам гвардии. Так, когда был отдан приказ учиться фехтованию, то Перфильев стал первый вместе с принцем Жоржем брать уроки у Котцау. Когда был принят прусский артикул с ружьем, Перфильев опять-таки первый выучился ему.
Из всех окружающих государя Степан Васильевич Перфильев был самый умный, добрый и дальновидный. Он видел и понимал все совершавшееся на его глазах, и если бы он имел большие влияния на дела, то, конечно, многое бы пошло иначе.
Главная беда состояла в том, что Перфильев, как это часто встречается, считал себя глупей, нежели он был в действительности. Часто, видя что-нибудь, что казалось ему опасным и вредным для правительства государя, он убеждал сам себя, что, стало быть, так надо, что он в этом ничего не смыслит. Перфильев очень бы удивился, если бы ему сказали, что он умнее всей свиты и приближенных государя; очень бы удивился, если бы ему сказали, что принц Жорж глуп, а барон Гольц продувной плут, то есть истинный дипломат. Сам Перфильев бессознательно понимал это, но вместе с тем не доверял своим суждениям.
Зато у честного, умного и прямодушного Степана Васильевича было три слабости, в которых даже его и винить было нельзя. Это были три слабости его времени, его среды и нравов столицы. Он любил редко, но метко выпить. Любил тоже запоем, несколько дней проиграть, не раздеваясь и не умываясь, в карты, до тех пор, покуда не спустит все, что есть в карманах. В-третьих, он был падок на прекрасный пол, но не из среды большого света. Женщины светские для него не существовали. Зато не было в Петербурге ни одной приезжей шведки, итальянки, француженки, с которыми бы Перфильев не был первый друг и приятель.
Но, обладая этими тремя слабостями своего времени, Перфильев отличался от других тем, что знал, где граница, которую порядочный человек не переступает.
Проиграв хотя бы и большие деньги, он не ставил ни одной карты и ни одного гроша в долг, и, таким образом, карточных долгов у него никогда не бывало ни гривны, а, наоборот, за другими пропадали выигранные суммы. Часто видели Перфильева веселым, но никогда пьянство не доходило у него до безобразия и до драки. Напротив того, чем пьяней бывал он, тем остроумнее и забавнее.
Гудович, вернувшись, нашел в своей квартире и друзей, и большой запечатанный пакет. В этом пакете оказалась бумага, по которой он мог получить от голландца-банкира сумму в тысячу червонцев, и, кроме того, была вложена завернутая в бумажку игральная карта с нарисованным на ней букетом.
Перфильев и Тюфякин, близкие люди Гудовича, удивленные разрисованной игральной картой, тотчас приступили к нему с допросом.
– Это, голубчики, денежный документ мне самому. А карта эта – такая штука, что если бы мне дали выбирать, так я бы и тысячу и три тысячи червонцев отдал бы, а карточку эту взял.
– Ну вот! – воскликнул Тюфякин, и глаза его даже блеснули.
– Верно сказываю, денежки мне, а карточка эта не мне. И от кого – сказать уж никак не могу. Я с ней должен послать доверенного человека к бриллиантщику Позье, а он, получив ее, выдаст вещичку алмазную ценою в пять тысяч червонцев, которые он уже вперед за работу получил. Только вы об этом никому ни слова. Дело тайное! По дружбе сказываю. Сам Позье не знает, кто заказал, кто деньги послал, кто за работой приедет и кто его вещицу носить будет. Вот как! – весело болтал Гудович, и, сунув денежный документ в боковой карман, он тщательно запрятал игральную карту в маленький потайной кармашек камзола, застегивавшийся на пуговицу.
– Ну, сегодня я угощаю, – сказал он. – Приезжай через час в «Нишлот», – обернулся он к Перфильеву.
– Нет, не приеду. На Гольцевы деньги пить не стану!
– Догадался, разбойник! – воскликнул Гудович.
– Мудрено очень… Бумага на банкира. Разумовские, что ли, этак деньги дают.
– Приезжай, голубчик, не упрямься, – проговорил Гудович. – Ведь это я взаймы взял.
– Как не взаймы! Хорош заем! – рассмеялся Перфильев. – С платежом бессрочным в аду угольками.
– Он и тебе ныне завтра предложит то же самое, – добродушно сказал Гудович.
– Нет, братец, мне не предложит. Уж пробовано, и в другой раз не сунется.
Перфильев уехал, а князь Тюфякин объявил Гудовичу, что он к нему на весь день да и ночевать просится, так как, соврал он, у него в квартире белят стены и потолки.
– Ну что ж, отлично, Тюфячок. И денежки у нас есть, спасибо Гольцу. Мы сейчас пошлем всех своих оповестить, чтобы собирались скорее в «Нишлот». Ну что, у тебя спина-то после орловского битья прошла аль еще ноет?
– Малость легче, – задумчиво ответил князь.
Через часа полтора человек двадцать разных прислужников и прихлебателей любимца государя собрались в «Нишлоте». Главный запевала этого кружка Гудовича был офицер голштинского войска Будберг, очень милый и веселый малый, давнишний приятель Фленсбурга, которого он и ввел в кружок. В сумерки вся компания была мертво пьяна, а пьяней всех, озорней и сердитей был князь Тюфякин.
– И что с ним? – говорили многие. – Вина выпил мало, а гляди, как его разобрало.
Тюфякин, покуда еще другие продолжали пить и орать, покачиваясь, доплелся до одного дивана, где лежали ворохом давно снятые мундиры и камзолы кутящей компании, и повалился на них, собираясь спать.
Если бы компания была не мертво пьяна, то заметила бы, как рука князя долго шарила в куче снятого платья, отыскивая один из карманов одного из камзолов. Скоро Тюфякин снова поднялся и стал жаловаться на нестерпимую боль в желудке.
– Ох, болит, даже хмель вышибает…
И незаметно, осторожно он скрылся из горницы и из трактира. Когда он очутился на улице, лицо его восторженно сияло. Если он был совсем трезв, когда притворялся пьяным, то теперь, пожалуй, опьянел, но не от вина, а от радости.
Игральная карточка Позье была в его руках.
XXIX
В этот самый вечер государыня умышленно пригласила к себе несколько влиятельных в Петербурге лиц.
Гости стали собираться как-то странно, по очереди: государыня каждому из них сказала накануне: «Нам надо побеседовать, приезжайте прежде других», – и каждому назначала она час. Таким образом делала она всегда и успевала переговорить или наедине, или собрав двоих-троих лиц прежде всех других. В шесть часов явился преосвященный Сеченов.
Архипастырь передал государыне слух о трех новых правительственных мерах, повергнувших все белое духовенство в ужас: о военной службе для детей духовных, о выносе икон из церквей и об опечатании всех домовых церквей, которых было у столичных вельмож очень много. После часовой беседы государыня сама предложила Сеченову не оставаться у нее.
– Вам с этим народом скучно будет, – сказала она. – Да и пересудов не будет, коли никто не узнает, что вы у меня были.
– Истинно, – сказал Сеченов и стал собираться.
Когда он уже был на пороге гостиной, провожаемый государыней, он обернулся, вздохнул и выговорил:
– Да, ваше величество, мы не молодцы и не воины, мы Божьи слуги. Мы не можем ничего начать, но будьте уверены, что если бы что начали молодцы гвардейцы, то я, как старший член, ручаюсь за весь Святейший синод, ручаюсь даже за все духовенство столицы. Для нас всех вы мать-спасительница, заступница за веру, на которую воздвиг Господь новое гонение.
– Благодарю вас, но что об этом мечтать, – вымолвила государыня. – Все это одни грезы, и опасные даже грезы!
Едва только Сеченов отъехал от дворца, к государыне явился воспитатель наследника, Панин. Он вошел со словами:
– Ну что, продана Россия, будем на хвосте у Фридриха воевать за него со всей Европой и ему же деньги платить?
– Я еще ничего наверное не знаю. Екатерина Романовна привезет вести.
Панин, сильно взволнованный, сел перед государыней. Он долго молчал, несколько раз взглядывал на нее как-то странно и наконец выговорил:
– Послушайте, ваше величество, я все хочу побеседовать с вами о важном деле, даже о двух. Одно пустое…
– Ну что ж, – улыбнулась ласково государыня, – давайте беседовать. Время еще есть, гости еще не скоро съедутся.
– Первое дело… Правда ли, что у Гольца через неделю маскарад?
– Сказывали мне это, Никита Иванович. Да не верится. Ведь трауру только четыре месяца минуло.
– Славно! Ну, черт с ним, с немцем! Второе дело: скажите мне, в какой должности состоит при вас моя пустельга племянница?
– Ни в какой. В должности друга. Я очень люблю Екатерину Романовну, – изумилась государыня от неожиданности вопроса.
Панин пристально глядел ей в лицо и отчасти строго.
– Вы понимаете, что я хочу сказать. Я ее тоже очень люблю, но ведь она верченая, с толчком в голове! Начиталась зря всяких книжек, голова у нее кругом и пошла, а оттого она ни мужчина, ни женщина – ни пава, ни ворона! Семейных и хозяйских занятий не любит, на службу государственную вступить не может, а между тем вы с ней постоянно беседуете о самых щекотливых делах. У нее собираются каждый вечер всякие офицеры гвардии, не нынче завтра дойдет это до государя – и с ней будет худо. И сестрица ей не поможет. Да она-то все равно. Но вас она может замешать в какое-нибудь глупое дело. Вот хоть бы недавно, будучи у нее, нашел я развернутый том французской истории, и несколько страниц все исписаны карандашом всякими замечаниями. А что бы, вы думали, она читала и на чем свои пометки делала?
Екатерина вопросительно улыбнулась.
– Ну, отгадайте. Да еще прибавила мне, что она изучает это историческое событие, как действо народное, могущее повториться во всякой стране.
– La conspiration des poudres![11] – рассмеялась государыня.
– Нет, лучше того. Варфоломееву ночь!
Государыня начала смеяться.
– Нет, оно не смешно, – угрюмо выговорил Панин. – Представьте себе, что ее захватят со всеми ее бумагами, письмами, записочками к разным гвардейцам да найдут эту книжку с ее заметками. Да она сама еще целый ворох со страху приврет. Всех и переберут и ушлют в Сибирь. За примером таким ходить недалеко. Я не стар, а на моей памяти бывали такие переборки в Петербурге.
– Но что вы, Никита Иванович, хотите сказать? – вымолвила государыня.
– Хочу сказать, чтобы вы с моей племянницей не связывались и тем себя не погубили. Тяжело жить, да что ж делать, может, все обойдется.
– Никаких общих дел у меня с княгиней, поверьте, нет. Мы только вместе от скуки забавляемся, читаем и переводим. Из всех офицеров, которые бывают у нее, я ни одного не знаю. Зачем они собираются, я тоже не знаю. У меня желание одно: уехать из России прежде, чем меня постригут.
Панин поглядел в печальное лицо государыни и вымолвил:
– Ну, до этого еще, Бог милостив, далеко.
– Нет, недалеко, – тихо выговорила Екатерина и хотела что-то прибавить, но появление гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского заставило ее замолчать. Панин недолюбливал гетмана, и потому разговор не клеился. Но вскоре стали собираться другие гости, и в числе прочих явился молодой артиллерийский офицер.
Панин с изумлением встретил появление могучей фигуры известного буяна и, обратившись к одному из гостей, Бибикову, вымолвил, пожав плечами:
– Этот Орлов зачем здесь? И по какому праву? Что за новый придворный?.. Трактирный битка!
И Панин, сильно не в духе, незаметно скрылся из гостиной и ушел на половину наследника.
Довольно поздно явилась княгиня Дашкова. Она долго просидела дома, будто ради того, чтобы написать письмо к мужу. Княгиня была необыкновенно довольна собой. Поручение государыни, которое было обидно утром, как малозначащее, теперь казалось ей громадным подвигом. Во всяком случае, она знала, что на вечере государыни ее ждут нетерпеливо, и она прособиралась, желая, по французской пословице, se faire desirer![12]
Действительно, когда княгиня вошла в гостиную государыни, то беседа смолкла, все вопросительно, нетерпеливо взглянули на нее. Говорить, однако, было невозможно, так как был непрошеный гость – гетман, при котором подобный разговор был бы величайшей неосторожностью. Как нарочно, гетман на этот раз сидел и не уезжал. Некоторые из более близких людей стали уезжать. В числе других собрался и цалмейстер Орлов. Он промолчал весь вечер и сумрачный просидел в углу гостиной. Только изредка, когда можно было быть незамеченным, он взглядывал мельком на государыню, и взор его был печален.
Когда он стал прощаться, государыня отвела его в сторону, к окну, и вымолвила:
– Куда же вы?
– Пора, – тихо отвечал Орлов.
– Что с вами? Вы печальны. Нет ли нового? Может быть, опять набуянили, – усмехнулась она, – и опять будете ездить и просить разных заморских красавиц за вас заступиться? – шутила государыня.
Но Орлов не усмехнулся, грустно смотрел ей в лицо и наконец выговорил с особенной интонацией:
– Заморские красавицы прямодушны, искренни, действуют прямо, или говорят «да», или говорят «нет», а не играют с человеком, как кошка с мышью.
Эти слова имели, очевидно, какой-то особенный смысл.
– Завтра будет подписан мирный договор! – сказала государыня.
– Пускай… Бог с ним! Мне не до того… Я про свое…
Государыня помолчала несколько мгновений, и наконец, окинув быстро всех гостей и видя, что всякий занят общим говором, она вымолвила тихо:
– Всему свой час. Когда час пробьет, тогда совершается всякое на свете. И концу мира свой час пробьет! – улыбнулась она.
– Но когда, когда?! – громче выговорил Орлов, так что двое из гостей обернулись на его страстный голос.
– Когда вы будете более осторожны и будете не так громко говорить, – рассмеялась государыня. – Во всяком случае, – прибавила она странным голосом, будто упавшим от волнения, – тот час близится, скоро пробьет.
– Я давно это слышу, ваше императорское величество, – несколько раздражительно выговорил Орлов. – Но когда пробьет этот час?
– Сколько теперь на ваших? – выговорила Екатерина.
Орлов не понял.
– Я спрашиваю, сколько теперь времени на ваших часах.
– Десять, – выговорил Орлов, недоумевая.
– Ну, стало быть, через три часа этот час пробьет.
Лицо Орлова вспыхнуло, глаза сверкнули, он как-то задохнулся и отступил на шаг.
– Это шутка! – едва слышно выговорил он.
Государыня, ничего не отвечая, подошла к гостям, сказала два слова любезности и исчезла из гостиной.
Орлов хотел откланяться, но не мог, пришлось дожидаться ее возвращения.
Когда спустя четверть часа государыня снова явилась в гостиную, он, недоумевая и глядя ей в лицо, рассеянно простился со всеми и вышел из гостиной, как бы в каком-то тумане.
В коридоре к нему близко подошел доверенный лакей государыни, Шкурин, и передал ему маленький клочок бумаги, сложенный четырехугольником.
– Приказали вам передать, Григорий Григорич, – сказал Шкурин.
Выйдя на улицу, Орлов поскакал домой, нетерпеливо вбежал в свою квартиру и при свете фонаря, с которым встретил его старик Агафон, он прочел следующее:
«Час пробил! Мирный трактат завтра подписывается. Мы должны заключить другой, свой трактат. Пора слов прошла, наступила пора действий. Через три часа я жду вас у себя для военного совета перед генеральным сражением».
– Фошка, Фофошка! – воскликнул Орлов как сумасшедший и так бросился обнимать дядьку, что от неожиданности восклицания и объятий Агафон выронил фонарь из рук. Стекла зазвенели, разбившись вдребезги, и свечка, вывалившись, покатилась по полу.
– Фофошка, целуй меня! – вскричал вне себя Григорий, в полутьме обнимая старика.
– Ох, напугали… Даже поджилки затряслись… – отозвался Агафон.
– Какое сегодня число, Фошка?
– Какое! Теперь уже ночь, теперь надо считать уж двадцать четвертое! – ворчал Агафон, поднимая свечу и битые стекла…
– Ну, Фофошка, когда-нибудь мы с тобой закажем мраморную доску да напишем на ней золотыми буквами: «Двадцать четвертое апреля!» И будем всякое утро приходить к этой доске и земные ей поклоны класть.
– Полно вам! – крикнул Агафон. – Только и знаете, что грешите. А Бог-то все слышит и помнит!
– Стало, память-то у Господа не твоя, Фошка!
– А ну вас!.. – отмахнулся отчаянно Агафон. – С вами и сам к чертям на сковороду угодишь!
XXX
В тот же самый вечер на квартире князя Тюфякина тоже зачиналось великое дело, своего рода подвиг.
Тюфякин часов в семь уехал из «Нишлота», заехал к еврею Лейбе и, объяснясь с ним, предложил сделку. Не сразу согласился еврей на страшное дело. Однако жадность взяла верх, и он обещал быть у князя через час времени. Это время нужно ему было, чтобы перевезти жену с ребенком в другое, безопасное место. Теперь князь, озабоченный, сидел в кресле перед кружкой пива и при малейшем звуке в доме с беспокойством глядел на дверь. Близ него на диване лежала полная форма преображенского офицера, уже поношенная.
Это был мундир, который носил князь до перехода своего в голштинцы. С тех пор мундир валялся где-то в комоде. Князь его достал и собственными руками вычистил щеткой, запершись в комнате на ключ. Единственного своего лакея, Егора, он спровадил с квартиры и не приказал являться ранее поздней ночи.
Наконец за дверью раздался знакомый князю голос. Князь вскочил, отворил дверь и впустил еврея Лейбу.
– Что ж ты, иуда! Ошалел, что ли? Я тебя сто лет дожидаюсь! – воскликнул он. – Что ты думаешь, он всю ночь не хватится пропажи? Ведь девятый час.
– Нельзя было, – угрюмо проговорил Лейба.
– Нельзя было! Проценты ростовщичьи вытягивал с кого-нибудь клещами, а тут тысячное дело пропадает, черт эдакий!
– Нет, ваше сиятельство, – ехидно выговорил еврей, – не до процентов теперь и, по правде сказать, сбыв жену к приятелю, чуть было опять не повез домой – страх берет: ну, как он уж хватился! И теперь там…
– Да дурак ты эдакий! Разве он может сам туда ехать! Ведь все дело – тайное. Покуда один другому будет разъяснять пропажу – целый день пройдет! Да нечего бабой плакаться. Решайся. А то другого найду. Даже есть у меня другой!
Еврей взглянул на князя, глаза его сверкнули, он будто испугался.
– Уж коли пришел, стало быть, решился, – выговорил он злобно. – Только помните, коли вырежут мне ноздри, заклеймят лоб да накажут плетьми – я вас выдам! Все на вас свалю, скажу: и грабил не для себя. Что ж, ведь правда. Я ведь покупаю, а не краду.
– Ладно, покупатель. Этого я не боюсь. Будешь себя уберегать от клейма и плетей, а тем и меня сбережешь. А прытче тебя для такого дела нету. Ну, вот мундир – надевай.
Лейба встал, взял с дивана всю форму преображенского офицера и как-то странно вздохнул, будто дыхание на мгновение сперлось в груди его.
– Ишь, и этого даже боится, одежи офицерской, – рассмеялся презрительно Тюфякин. – Нацепляй скорее. Время уходит.
Князь встал, запер дверь снова, Лейба, молча и сопя, стал раздеваться и наконец надел мундир. Новая одежда настолько изменила фигуру еврея, что Тюфякин даже удивился.
– Диво просто! – воскликнул он. – Вот даже, как скажу, повидай тебя офицером, так потом в твоем кафтанишке и не признаешь, что тот же самый.
– Толкуйте!
– Шпагу-то не этак прицепил, вот дурень! Да застегни камзол-то, ныне за это с вашего брата офицера строго взыскивают. Вишь, и не служил, а уж в каком чине, – шутил князь, оглядывая Лейбу. – Ну а вот карточка родимая. Не потеряй!.. – выговорил он даже испуганно при мысли о потере игральной карты.
Через несколько минут Тюфякин остался один в квартире. Он то садился, то вставал, ходил по горнице, опять садился, и наконец волнение его дошло до такой степени, что он заметил сам, как руки и ноги трясутся у него.
Пройдя еще несколько раз по горнице, он вспомнил, что окно уже выставлено, и отворил его; подышав чистым воздухом, он снова тяжело опустился в кресло.
– Фу, господи! – воскликнул он и закрыл лицо руками. – Вот до чего доводит треклятая деньга! Ах, батюшка, родитель! Кабы ты мне из всех вотчин второй твоей женки оставил хоть бы одну, не было бы этого. Не осрамил бы я твое честное имя! Да и сам-то я, управительствуя у мачехи, зевал, думал, видно, что она бессмертная. Теперь что будет? Чем пахнет? Ловко подведено, а все ж таки можно лапу в западне оставить. Лапу? И весь останешься, коли Гудович хватился, бросился сам к Позье да Лейбу там накроет! О господи! Пудовую свечу поставлю завтра, если все обойдется!
И Тюфякин, не отнимая рук от лица и головы, просидел в кресле неподвижно более часа.
В то же время Лейба в одежде преображенского офицера шел по направлению к Полицейскому мосту. Сначала он шел медленно, несколько раз останавливался и тяжело вздыхал, как если бы пробежал бегом несколько верст. Один раз он остановился и, простояв несколько мгновений молча, уж будто поворачивал назад, но махнул рукой, будто взбесился сам на себя, и быстрыми шагами направился далее.
«Я в стороне, – думал он. – Меня князь посылает за своей вещью. Я ничего не знаю… А мундир? Да. Зачем мундир надел, коли простое поручение справляешь?»
Через четверть часа Лейба позвонил у маленького подъезда с маленькой вывеской над дверями.
Когда мальчишка-подмастерье отворил дверь, то переодетый преображенский офицер спокойно, уверенно и даже бойко вошел в переднюю и велел доложить господину Позье, что один офицер явился к нему по одному ему известному делу.
– Вот это объяснит вам все! – сказал Лейба, подавая карту, когда Позье вышел к нему.
– А? Конечно, конечно…
Старик женевец тотчас же попросил незнакомца войти. Он взял карту с рисунком букета и оглядел офицера с ног до головы.
– Готово-с. Второй день ожидаю.
– Я немного запоздал, – заговорил Лейба, – но невиновен в этом. Вельможа, меня присылающий, хотел было отложить до завтрашнего утра, а потом раздумал и послал чуть не ночью.
– Все равно, букет давно готов!
Позье вышел в другую комнату, свою мастерскую, унося карту с рисунком. Через несколько времени он явился, неся большой футляр, отделанный малиновым бархатом. При свете канделябра о шести свечах, который вынес за ним мальчишка-ученик, Позье поставил футляр на стол… и раскрыл его.
Казалось, что помимо внесенного канделябра зажгли еще два или три. Яркий свет разлился лучами по всей комнате из того, что оказалось в футляре. Это был великолепный бриллиантовый букет, замечательно тонкой работы и с очень крупными каменьями.
Лейба почти задохнулся. Глаза его, устремленные на этот сияющий и сверкающий букет, налились кровью. Если бы старик женевец сам не наслаждался в эту минуту впечатлением, которое производит его детище и над которым он трудился так прилежно и усердно, то он, конечно, заметил бы, какой хищнический, грабительский взгляд устремил на бриллианты неизвестный посол неизвестного вельможи.
Прошло несколько мгновений молчания.
– Ну что? Какова работа! Каковы камни! Ведь тут камней, право, на все пять тысяч червонцев. Я почти ничего не нажил себе барыша этой работой. Когда-то к коронации покойной императрицы я сделал такой же, а он был оплачен мне в восемь тысяч. Такого теперь во всем Петербурге ни у кого нет. И, признаюсь вам, я не буду спать ночей, покуда не увижу и не узнаю, кого украсит мое произведение. Мне даже обидно, что господин вельможа не доверился мне.
Лейба не слушал, он ждал, что Позье передаст ему футляр. Сам же он боялся дотронуться до него. Ему казалось, что в ту минуту, когда он сам возьмет футляр со стола, раздастся над ним громовой удар, Позье бросится на него, а из-за дверей выйдут спрятанные солдаты и потащут его в острог.
Наконец еврей, стоявший в каком-то тумане, заметил, что туман этот еще более усилился. В горнице стало темней, и он не сразу догадался, что стало действительно темней, потому что Позье уж завертывает футляр в бумагу, а канделябр потушен и в горнице снова горит только одна свеча.
– Ну, вот-с! – проговорил Позье. – Поблагодарите от меня его светлость или, может быть, и высочество – за заказ. А работой они будут довольны. Позье – честный труженик, артист в душе и постарался… Cela dit tout![13]
И в помертвелые руки Лейбы сунули что-то небольшое, четырехугольное. Он шелохнулся, судорожно стиснул пальцами этот предмет и, едва не пошатываясь, вышел в переднюю, вышел на улицу, сделал несколько шагов и как-то странно ахнул, точно проснулся. Он провел рукой по глазам, вдруг оглянулся на дом и наконец, будто придя в себя окончательно, бросился с места бежать во весь дух. Через несколько шагов какой-то прохожий остановился и так удивленно поглядел на Лейбу, что заставил его опомниться. Он вспомнил, что он в мундире преображенца, стало быть, офицер, дворянин, и что ему бегать по улице не приходится.
Через четверть часа Лейба был в квартире князя, а раскрытый футляр искрился и сиял на столе Тюфякина.
Лейба, сняв мундир, остался в камзоле и стоял молча и неподвижно. Лицо его было серьезно, почти угрюмо. Князь Глеб тоже как-то смущенно сидел у стола.
– Ну что ж, – выговорил он наконец. – Все слава богу. А снявши голову, по волосам не плачут. Ступай за деньгами.
Уже около полуночи Лейба появился снова в квартире князя, отсчитал ему две тысячи червонцев, принесенных в мешочке, взял бриллиантовый букет и, обернув в бумагу, положил в боковой карман.
– А футляр-то бросьте в Неву или сожгите в печи, – вымолвил он глухо, – да прикажите хорошенько размешать.
– Нет уж сам, душка Иудушка, возьму кочергу да размешаю. – С той минуты, что букет был в кармане Лейбы, а у князя на столе лежала куча одних червонцев, князь повеселел сразу.
«Они немеченые, их не Позье делал», – думал он, и князь радостно смеялся сердцем.
– Ну, прощай, князь, – выговорил Лейба, – не поминай лихом. Коли доберусь я счастливо до Кенигсберга, то, пожалуй, тебе и спасибо скажу. Ты все-таки честно рассчитался со мной и даже дал возможность мне нажить тысячу червонцев. Эта старая собака так работает, что я его букет вдвое дороже продам везде, и в Берлине, и в Вене.
– Вишь, как распутешествовался! – заметил князь.
– Да. Нам, честным евреям, везде дорога. Только в Россию уж не вернусь никогда. Ну, прощай, князь!
– Прощай, прощай, Иуда. Жаль мне тебя. Выйдут эти червонцы, не буду знать, где другие достать, – весело заговорил князь, провожая жида.
Лейба вышел в прихожую, надел шапку, достал свою палку в углу, постоял мгновение и наконец, полушутя, полуугрюмо, стал взмахивать и водить палкой, будто гладить ею по полу, причем несколько нагибался к полу.
Князь тотчас же узнал жест палача, секущего преступника плетьми.
– Ну, ну, авось обойдется, – рассмеялся князь. – Разве где после за другое что…
– Ну а словят меня на границе, то выдам. Вот мое последнее слово, – проговорил Лейба и вышел на улицу.
Тюфякин вернулся в свою горницу и спрятал деньги в комод, отделив одну кучку в особый угол.
– Жаль мне вас, – говорил он, – глядя на отделенную кучку, – только что получил – и вези к этим головорезам Орловым. Нужно было тогда в карты играть! Ну да черт с ними, даровому коню в зубы не смотрят. А дело будет шито да крыто. Не таков мой Иуда, чтобы попасться на дороге или где на границе государства. Он в игольные уши пролезет, не только через саженную заставу российскую.
Князь тотчас же пошел в кухню, притащил сам несколько полен и, бросив в печку малиновый, изящно отделанный футляр, покрыл его дровами.
«Красивая штука, даже жечь жалко!» – невольно подумалось ему.
Кое-как нашвыряв дрова, он достал лучину и зажег печку.
Дрова начали было гореть, но через минуту снова потухли, так как князь зря кучкой навалил их в печь.
– Ишь, не хотят гореть, поганые! – воскликнул он вслух и даже как-то особенно весело.
Чувство радости, что у него в комоде лежит целая куча червонцев, конечно, не покидало его ни на минуту. Князь был из тех людей, которые тогда и счастливы и довольны, когда у них деньги.
Он снова разжег лучину, и дрова наконец занялись большим пламенем. Он захлопнул дверцу печки и, чувствуя себя усталым от целого дня, проведенного в волнении, пошел к себе в спальню полежать.
Князь предполагал, несмотря на позднее время, все-таки отправиться прямо в «Нишлот», или «Немцев карачун», где он надеялся найти еще Гудовича или офицеров своего полка и где, следовательно, можно было весело провести всю ночь и, кроме того, отвлечь подозрения Гудовича. Но, вероятно, князь чересчур проволновался и устал, потому что едва прилег, как заснул крепким сном.
За полночь явился в его квартиру ленивый, вечно лохматый и замасленный с головы по пят его Егор и прислушался к храпу барина. Он двинулся в кухню, но по дороге, в темноте, споткнулся среди коридора на полено, выроненное князем, и удивился.
– Вишь ты, вздумал печку топить в этакую теплынь! Да еще сам! Теплота такая на дворе, а он замерз!
Освидетельствовав в кухне дрова, Егор недосчитался целой охапки. Он, конечно, тотчас же зажег огарок и тихонько отправился поглядеть, какую печку и как затопил барин. Перепробовав две или три печки руками, он наконец убедился, что все холодные.
«Что за притча! Не сожрал же он дрова!» – подумал Егор и начал лазить, открывая заслонки. Оглядев две пустые, в третьей он нашел дрова, опаленные пламенем.
Егор сел около печки, держа огарок в руках, и замотал презрительно головой.
– Вот не за свое дело-то браться! Нешто они будут гореть этак? Нашвырял зря да подпалил и думает – все тут. А сделай я это… Ругать! Э-эх вы!..
И праздному лакею пришел на ум вопрос:
«Что делать: растопить или повытаскать дрова обратно? Ведь теплынь на дворе… Лучше повытаскать да сбыть соседке кухарке за стакан водки…»
Через несколько секунд тихонько, чтобы барин не проснулся, Егор повытаскал все дрова на пол. Он далеко засовывал руку и вынимал осторожно полено за поленом. Но вдруг он громко ахнул и отдернул руку, точно будто его укусило что в печи.
«Что за леший?» – подумал он.
Под руку вместо полена попало что-то легонькое и вдобавок мохнатое. Он сунул огарок в печку и опять немножко ахнул: что-то красное лежало среди старой золы и черных углей.
Через мгновение, однако, страх прошел, а красивый малиновый футляр был у него в руках, и лакей, не зная еще, что делать, бежал с ним в кухню.
– Что за притча! – повторял он. – Что за баловство! Не по ошибке же барин бросил туда такой ларец, а нарочно сжечь хотел? А зачем? Да мало ли у бар какие затеи!
Как ни был глуп Егор, однако сообразил, что надо делать. Он спрятал футляр у себя в ларе, а сам, вернувшись в гостиную, как следует снова наложил дрова и зажег их.
Когда наутро князь Тюфякин проснулся, удивляясь, что он проспал всю ночь одетый, первая его мысль была о футляре.
«Ни единой ниточки не осталось!» – весело подумал он, оглядев горячую, истопленную печь.
XXXI
В последних числах апреля в доме посланника барона Гольца была суетня, шли приготовления к официальному вечеру, который он давал столице.
Предполагался бал-маскарад, на котором, конечно, должен был присутствовать государь, весь двор и все петербургское общество. Гольц праздновал мирный договор, подписанный государем двадцать четвертого апреля.
Этот мирный договор стоило отпраздновать прусскому послу и любимцу Фридриха. За весь XVIII век не было еще заключено такого мирного договора между двумя странами, какой сумел заключить молодой дипломат.
Король получал в подарок от императора почти половину своего королевства, уже завоеванного русскими, и, кроме того, приобретал надежного союзника во всех предполагавшихся политических затруднениях; потом получал тотчас двадцатитысячный русский корпус генерала Чернышева, который еще недавно бил и разбивал его генералов, а теперь должен был под командой короля бить своих прежних союзников; наконец, король имел в виду получить большую денежную сумму, превосходившую миллион.
Со своей стороны Фридрих не жертвовал ничем. По выражению государыни, он давал: «Le pavé de l’enfer en е́change»[14], так как известно, что «l’enfer est pavé de bonnes intentions»[15]. Фридрих обещал помочь сделать курляндским герцогом принца Жоржа, если оно будет возможно; уговорить Данию отдать русскому императору Шлезвиг, но если Дания не согласится, то… avisér[16]: помочь императору деньгами или войском, если он начнет какую-либо войну. Но таковой войны не предполагалось, так как вся немецкая партия в Петербурге, то есть именуемые «голштинцы», в этом вопросе сходились и были единодушны с партией «елизаветинцев». Избегнуть войны всячески было единственным пунктом неспорным. Никто во всей России, начиная от первых министров и сановников и кончая последним рядовым гвардии и армии, не желал войны. А влиятельный Гольц должен был еще всячески отговаривать русского государя по той простой причине, чтобы избавить своего повелителя от необходимости помогать союзнику.
Гольц за последние дни был особенно в духе, даже счастлив.
Он был, конечно, честолюбив в хорошем смысле слова и знал, что в скором времени договор Пруссии и России, его дорогое детище, заставит ахнуть всю Европу: обозлит Францию, удивит Англию, поразит в сердце Австрию – переполошит всю Европу. Он знал, что его имя в продолжение целого лета будет повторяться повсюду, будет на устах всех королей, министров, посланников и сановников всей Европы. Он как полководец дал и выиграл блистательное сражение. Этим трактатом он приобретал себе сразу славу и имя на дипломатическом поприще.
Всякий человек, решивший трудную задачу и отличившийся в глазах всех и своих собственных, конечно, счастлив, но когда к этому сознанию прибавляется еще сознание своей молодости, то юношеский пыл берет верх и герой счастлив, как ребенок. Если в настоящем уже много… то сколько еще впереди!..
Гольц сознавал свое превосходство перед всеми европейскими дипломатами, вспоминая, что ему еще только двадцать шесть лет! Он знал, что король Фридрих не такой человек, чтобы не понять и не оценить его громадной заслуги перед отечеством. Гольц ожидал с часу на час всевозможных наград: и повышение в чине, и звезду, и деньги, и графство, о котором мечтал. Одним словом, красивый и элегантный барон был счастлив, весел и доволен, как ребенок. Когда он вспоминал, как просто устроил он все дело, то ему становилось даже смешно.
Съезди все послы с визитом к Жоржу, то государь не отказывал бы им два месяца в аудиенциях и они не прозевали бы трактата. Все резиденты, и английский Кейт, и французский Бретейль, и австрийский Мерсий, сидели по своим норам и переписывались с кабинетами, а он в это время курил вонючий кнастер, дружился со всеми, ухаживал, давал взаймы и дарил…
«А букет Воронцовой! – вспомнил Гольц и невольно усмехнулся. – Всего-то пять тысяч червонцев, а из-за них приобретается бог весть что». Да вдобавок и деньги-то не его личные и могли бы, как у многих резидентов иностранных, уйти на наем разных шпионов и тайных агентов, которые эти деньги прокучивают и не служат никакой помощью для их наемщиков.
Гольц призвал одного из своих секретарей и дал ему словесное поручение – отправиться к Гудовичу и спросить у него, получена ли вещь, ему известная, передана ли по принадлежности и довольны ли ею.
Через час секретарь вернулся назад и объяснил, что господин Гудович никакого ответа не дал, а обещал тотчас же приехать сам.
И вслед за секретарем явился Гудович, встревоженный, и объяснил Гольцу простую вещь: карточку с рисунком он потерял, проискал ее целый день повсюду, не нашел и послал доверенное лицо, князя Тюфякина, который, конечно, не разболтает ни слова, предупредить бриллиантщика, чтобы он не давал вещь никому, покуда лицо, заказывавшее букет, не явится лично за получением. Оказалось, что Позье накануне вечером отдал букет преображенскому офицеру, а карточку получил и в доказательство передал ее обратно. Гудович вынул разрисованную игральную карту, которая прошла столько рук, и передал ее Гольцу.
– Стало быть, вместо бриллиантового букета я получаю нарисованный! – рассмеялся Гольц немножко насмешливо. – Одним словом, украли. Не скажу, чтобы это мне было очень приятно.
И барон с досадой отошел от Гудовича к окну и стал барабанить по стеклу, насвистывая какой-то марш.
«Пять тысяч червонцев, – думал Гольц, – сумма большая, и подарить ее какому-нибудь мошеннику крайне неприятно. Сам виноват! Надо было попросить взять вещь графиню Скабронскую, а не этого тюленя. Потерял?! Черт его знает!.. Все вы тут хороши!»
И барон стал расспрашивать Гудовича о подробностях, но тот мог только повторить снова то же самое: карточка им была потеряна, найдена кем-нибудь, вещь законным образом получена, и следов никаких.
– Но позвольте! – воскликнул вдруг Гольц. – Нашедший карточку святым духом узнал, что по ней можно получить бриллиантовый букет?! И именно у Позье?! Стало быть, вы рассказали многим, что это за карточка?
Гудович сознался, что пил в трактире и болтал о карточке. Какой-нибудь лакей мог слышать.
«А может быть, и офицер!» – подумал Гольц, но, разумеется, этого не сказал.
Гудович прибавил, что так как он в этом деле кругом виноват, то будет просить государя выдать ему из собственных денег необходимую сумму, которую он возвратит барону. Гольц на это, разумеется, не мог согласиться.
– Нет, это невозможно. Но я буду только просить государя приказать Корфу взяться усердно за это дело и искать вора.
Гудович уехал, а Гольц немедленно отправился к графине Скабронской спросить ее мнения, рассказать ей все и попросить купить поскорее что-нибудь другое.
Маргарита, разумеется, ничего не знала: ее дело было только передать барону полученную карточку.
Посидев у графини, побеседовав с ней, расспросив ее о том, что говорят в Петербурге о мирном договоре и о нем самом, Гольц развеселился и забыл думать об украденной сумме.
– Главная беда, – сказал он, – не в том, главная беда, что мне теперь нечего ко дню маскарада поднести Воронцовой. У Позье, наверное, нет ничего готового свыше каких-нибудь трехсот червонцев.
Маргарита согласилась с этим, но затем, покуда Гольц продолжал рассказывать ей о своих приготовлениях к балу, Маргарита задумалась и соображала что-то. Наконец как бы пришла в себя и вымолвила:
– Хотите у меня купить бриллиантовую брошь, только что переделанную заново тем же Позье и которая мне не нужна? Мы ее свезем к нему, оценим, и вы возьмете.
Гольц с радостью согласился.
Когда он уехал, Маргарита позвала свою любимицу и весело объявила ей:
– Ну, Лотхен, опять деньги есть! Одну вещь из дедушкиных продала.
– Это все прекрасно, liebe Gräfin, но когда же вы заплатите дедушке за эти все бриллианты? – выговорила Лотхен, насмешливо и двусмысленно усмехаясь.
– Не скоро, Лотхен. И по правде сказать тебе… я буду откладывать и тянуть дело до тех пор, покуда не наступит час, в который мне можно будет совсем не платить!
– А разве такой час наступит? Не верю.
– Верь, Лотхен.
Горничная помолчала и выговорила, смеясь:
– Ну а сержант?
– Ну, об этом не смейся. Это не шутки! – как-то странно произнесла Маргарита, задумчиво и грустно.
Лотхен вытаращила глаза и чуть-чуть пожала плечами.
XXXII
Первого мая в сумерки в доме прусского посланника волнение и движение усилились.
К семи часам весь большой дом горел огнями, и светлые лучистые столпы выливались из окон, освещая, как днем, широкую улицу. Кроме того, около подъезда и вокруг всего дома горели плошки и бочонки со смолой.
Взводы гвардейских солдат от разных полков в красивых новых мундирах стали появляться под командой капралов и сержантов, и их расставляли часовыми на улице, у подъезда, в передней, на широкой лестнице и до дверей самой приемной. Это было сделано по приказу государя в знак особого почета к любимцу и посланнику нового союзника-короля.
На большой лестнице, украшенной гирляндами и венками и покрытой красным сукном, преображенский сержант расставлял часовых из своего взвода и двоих из них поставил у самых дверей, ведущих в приемную. Сержант был Шепелев, а один из рядовых, которого он умышленно поставил не в передней и не на лестнице, а на том месте, где будет видно всех гостей, был Державин. Но оба друга, сержант и рядовой, были как-то грустны. Шепелев был немного бледен и снова почти в таком же состоянии, как когда-то до своего свидания с Маргаритой у гадалки.
Державин был тоже грустен. Перевод его в голштинцы все не ладился с Великого поста, а на дворе уж май месяц. Вдобавок хотя он и любил своего ученика, но невольно стал теперь завидовать ему. Этот добрый малый ничем, конечно, не отличался, был такой же рядовой, как и он, а теперь, перескочив через чины капрала и унтер-офицера, попал прямо в сержанты бог весть за что, по какой-то странной, никому в полку не понятной случайности, по капризу принца Жоржа.
«И вот вся жизнь так пройдет, – думалось рядовому Державину с ружьем на плече, когда он глядел на товарища сержанта со шпагой. – Одному везет, а другому нет. Почему одному везет и почему другому не везет – сама матушка-фортуна не знает».
Бал-маскарад у прусского посланника, объявленный за три дня перед тем в городе, то есть вскоре после тайного подписания мирного договора, наделал много шума в столице.
«Голштинцы», и русские и немецкие, конечно, ликовали. Этот маскарад был видимый признак, что на их улице праздник.
Партия «елизаветинцев», конечно, негодовала, всякий со своей точки зрения. Одни говорили, что со смерти покойной императрицы прошло только четыре месяца, что это своего рода скандал. Другие прибавляли, что Гольц мог бы сделать простой бал, но на смех делает маскарад прежде, чем кончился траур по государыне, бывшей всю жизнь врагом Фридриха.
Многие являлись к государыне спрашивать, поедет ли она. Екатерина Алексеевна не отвечала ни да, ни нет, но в уме давно решила в этот день заболеть и остаться дома.
Многие, как Разумовские и вообще близкие люди покойной императрицы, чувствовали себя оскорбленными и тоже обещались захворать и не быть в маскараде.
Но за день до первого мая прошел по лагерю «елизаветинцев» как бы пароль: всем быть в маскараде.
Один из самых молчаливых на вид и ленивых офицеров кружка Орловых, Пассек, был в то же время самым благоразумным, осторожным и тонким.
Пассек был особенно близок и дружен с княгиней Дашковой и чаще других бывал у нее. И она и он рассудили, что не быть в маскараде прусского посланника – значит дать возможность врагам пересчитать и, так сказать, пометить всех главных лиц неприязненного лагеря. Дашкова, конечно, передала это государыне. В тот же вечер не известными никому, но, конечно, известными государыне путями весь лагерь «елизаветинцев», явных и смелых, осторожных и боязливых, получил как бы приказ готовить костюмы и мундиры и ехать к Гольцу.
И теперь не только те, которые хотели умышленно захворать, стали собираться на бал, но даже и те, которые действительно хворали, также поехали.
В восемь часов уже начался шум на улице, крики кучеров и форейторов, солдат и полицейских, гром копыт и колес по мостовой; гости начали съезжаться.
Гольц встречал всех в дверях, отделявших большую, украшенную зеленью и венками лестницу от прихожей, где на двух стенах, один против другого, висели два щита с двумя государственными гербами – прусским и российским.
И здесь сержант Шепелев, приглашенный любезно Гольцем находиться в самой прихожей в качестве дежурного, мог видеть весь высший столичный круг.
Здесь в час времени прошли все министры, послы, фельдмаршалы, сенаторы, все красавицы и львицы. Все пожилые люди были, конечно, в своих мундирах, но молодые женщины и многие офицеры гвардии были в костюмах.
И под звуки огромного оркестра на хорах весь щегольской дом Гольца переполнился блестящей, сияющей, даже сверкающей, как радуга, всевозможными цветами, шумной и гулливой толпой. Многие были просто костюмированы, другие в масках. Большая часть проходивших с замаскированными лицами тайком и быстро показывали лицо свое хозяину дома из вежливости, как бывало принято, или же просто знаком, двумя словами знакомого голоса как бы называли себя. Часто Гольц не мог расслышать голоса встречаемых, но делал вид, что узнает… Отчасти в глазах его начинало уже рябить от этой вереницы пестрых костюмов и мундиров, отчасти и музыка мешала, и гул голосов беседующих гостей, который смешивался с музыкой и иногда даже заглушал звуки литавр и труб.
Шепелев стоял у стены невдалеке от входных дверей и глаз не спускал с порога, где красивый посланник принимал гостей. Ему казалась странной та случайность, что именно его было приказано послать по наряду дежурным на бал к этому единственному человеку во всем Петербурге, которого он всем сердцем, всем юношеским пылом ненавидел и проклинал.
Он был убежден, что это его счастливый соперник; не будь его на свете, быть может, «она» не обошлась бы с ним так, как обошлась в последний раз в квартире Позье. И что за каприз сказать, что она даже не графиня? Шепелев уже после сообразил, что она могла скрывать свое имя от Позье, что он сделал нескромность. Но почему же она не пустила его к себе? Почему обошлась так гордо и глядела на него так презрительно, таким оскорбительным взглядом? Наверное, он, этот Гольц, – его счастливый соперник! Он чувствовал, что глубоко ненавидит этого человека, а между тем эта ревность, эта ненависть казалась для него самого глупою и смешною. Что общего между ним, юношей сержантом, и этим молодым красавцем, который уж теперь первая личность двух стран, важное государственное лицо в Пруссии и, по общему отзыву, теперь самое влиятельное лицо и в русском государстве?!
– Он любимец Фридриха Второго и Петра Третьего, a я любимец… Квасова! – грустно шутил юноша.
И в Шепелеве совершалась томительная борьба, сказывавшаяся какой-то острой болью на сердце, какою-то страшной тягостью в голове, во всем существе. Пускай бы она не любила его! Он не стоит любви такой женщины! Что он такое? Мальчишка! Но она любит вот этого! За что? За то лишь, что он посланник.
И юноша постоянно то и дело как бы забывался, стоя близ стены прихожей. Вереницы ярких костюмов и масок вились перед его глазами, но он почти не глядел на них. Изредка рука его, державшая обнаженную шпагу, судорожно стискивала эфес, и глаза впивались в фигуру элегантного и красивого хозяина дома в блестящем мундире.
Если бы Гольц имел время обернуться на юношу-дежурного с обнаженной шпагой в руке, и приметить его взгляд, то, конечно, несмотря на свои заботы, он бы все-таки удивился…
А между тем сержант не мог оторвать взора от дверей еще по другой причине. Он каждую минуту ожидал появления именно той, от которой так мучился и страдал. Он знал наверное, что графиня Скабронская будет в числе приглашенных дам как близкий друг хозяина.
Наконец на несколько минут вереницы гостей, входивших по лестнице, гром и гул подъезжавших экипажей вдруг прекратились… Все съехались.
«А ее нет!» – думал Шепелев. Но он утешался мыслью, что и государь еще не приехал. Разумовских еще нет, Воронцовой еще нет.
Гольц заметил перерыв в съезде гостей и обрадовался возможности отойти от дверей и отдохнуть. Так как каждое слово его в этот вечер могло быть замечено, рассказано, перетолковано, то он решил заранее почти не говорить ни с кем из высших сановников в отдельности, то есть без свидетелей, и вообще мало говорить под предлогом хлопот хозяина.
Теперь, в свободную минуту, он заметил в той же прихожей будто стерегущих его: фельдмаршала Трубецкого, Глебова и нового врага своего, на днях побежденного им, тайного секретаря государя, Волкова. Он догадался, что они хотят с ним заговорить, но очень ловко парировал светское нападение врага.
Гольц, увидев юношу, отошел к нему и стал говорить с ним будто бы о деле. В действительности он спрашивал, делает ли Преображенский полк успехи в экзерциции, многие ли офицеры говорят по-немецки, как солдаты приняли новую форму.
При этом посланник глядел на юношу-сержанта так, как стал бы смотреть на кресло, стол или канделябр.
Конечно, Шепелев, хотя не привыкший к светским приемам, все-таки понял, что посланник говорит не с ним лично, а что ему нужен какой-нибудь предмет. Он отвечал кратко, слегка смущаясь, но не столько от неловкости, сколько от горького чувства на сердце.
Не успел он ответить две или три фразы посланнику, как в дверях показалась новая маска. Ее нельзя было бы не заметить в целой толпе ряженых: костюм ее бросался в глаза.
После вереницы костюмов и мундиров, которые отчасти ослепили глаза, новая гостья-маска являлась отдыхом для глаз.
Гольц, заметя, что юноша зорко смотрит в дверь, обернулся и тоже удивился.
К нему шла тихо монашенка-кармелитка. Весь костюм ее состоял из длинной и простой рясы до полу из белого кашемира. Большие рукава спадали до пальцев, закрывая даже на половину ее белые перчатки. Большой капюшон был собран складками на голове и спускался прямо на лоб и на белую атласную маску с золотым кружевом, слегка закрывавшим рот и подбородок. В талии эта ряса была схвачена серым шелковым шнуром, очень искусно изображавшим простую веревку. На этом отшельническом кушаке были перекинуты белые перламутровые четки с медалькой на конце.
Костюм этот был даже не костюм; толстые складки матового кашемира так закрывали эту женщину, что не было никакой возможности догадаться, молода ли она, стара ли. Во всяком случае, не было ни малейшей возможности узнать, кто она.
Но странное дело. Случилось то, что случалось в подлунном мире во все века и будет случаться вовеки впредь. Юноша-сержант или, лучше сказать, его влюбленное, томящееся сердце узнало, кто эта маска. Едва появилась эта кармелитка, и переступила порог, и двинулась к нему вся тщательно укутанная с головы и до носков белых башмаков, Шепелев уже знал наверное, чувствовал, что это Маргарита.
Посланник, вероятно, не был влюблен в Маргариту, потому что подошел к гостье, протянул ей, вежливо кланяясь, руку, но глаза его говорили: скажитесь.
– Что? Вы меня не узнаете?
И, благодаря замолкшей музыке, благодаря чуткому настроению Шепелева, он ясно расслышал голос Маргариты.
Гольц узнал тоже голос, ахнул и выговорил по-немецки:
– Но что значит этот костюм?
– Это мой каприз, а отчасти необходимость. Вы получили мою записку? Комната приготовлена? Спасибо. И я полная там хозяйка, хоть бы до утра?..
И на утвердительный ответ графиня прибавила:
– Ну, покажите ее мне, чтобы я знала заранее, где она.
Гольц тотчас же подал графине руку и повел ее во внутренние комнаты, но при этом взял не налево, где была большая гостиная, потом бальная зала, переполненная гостями, а направо, где были две маленькие гостиные, а за ними его собственные апартаменты.
Сердце дрогнуло в юноше, он снова стиснул свою шпагу и почувствовал, что слезы готовы выступить у него на глазах.
Комнату до утра?! Отдельную комнату?! На бале, в маскараде! Зачем?! Это низость! Ведь на это способны те женщины, про которых рассказывал ему Квасов. И это красавица высшего общества!
И юноша до такой степени был поражен, что у него руки и ноги стали дрожать. Он невольно вышел на лестницу и опустился на стул около часового Державина, закрывая глаза рукой, чтобы отереть позорные слезы и прийти в себя.
– Что ты? – шепнул ему приятель-рядовой.
– Ничего! – глухо отозвался Шепелев. – Ничего, ничего! – повторил он. – Вернусь домой – я это кончу!
– Что? – недоумевая отозвался тот.
– Все, все это кончу. Надо кончить: так жить нельзя!
Приятель что-то спросил, но он не имел даже силы отвечать.
– Встань, голубчик, – выговорил вдруг Державин шепотом, – гетман идет.
Шепелев через силу поднялся и увидал, что по лестнице поднимается граф Кирилл Разумовский в красивом гетманском мундире; с ним вместе шел его друг и бывший воспитатель Теплов. Сержант быстро двинулся снова в прихожую и стал на прежнее место.
– Отчего же ему не праздновать и не раскошелиться, – шептал гетман Теплову, – когда целое государство подарили да миллион в придачу? Бал дешевле стоит!
Гетман прошел, за ним прошли еще два сенатора, затем прошел Панин. Все они искали глазами Гольца.
«Да, ищи его! – злобно усмехнулся Шепелев. – Ищи!» – И он чуть-чуть встряхнул своей шпагой. Невольно ему почудилось, что он бы мог с наслаждением, особенно благодаря последним урокам фехтования, беспощадно пронзить Гольца двадцатью ударами.
В то же самое мгновение хозяин дома появился один, быстро огляделся, увидел несколько новых гостей, которых опоздал встретить, и пошел здороваться и извиняться.
Тотчас же образовался около него кружок, и здесь, при нескольких свидетелях зараз, Гольц менее боялся говорить. Но и тут счастье помогло ему. Не прошло пяти минут, как в приемную вошла новая костюмированная гостья без маски. Многие двинулись, прерывая беседу, Гольц бросился навстречу к даме и, кланяясь, стал всячески благодарить за честь и любезный сюрприз. Это была Воронцова, и слова Гольца относились к ее костюму. Елизавета Романовна отплачивала за брошь, полученную поутру, и явилась в костюме, который был скопирован с портрета Фридриха. Это был, в сущности, прусский мундир с прибавлением белой атласной юбки. Золотисто-желтый атласный камзол, вышитый серебром, красный кафтан из бархата, черный галстук на шее, а на голове фридриховская треуголка с белым атласным бантом, на котором и красовалась полученная брошь.
XXXIII
Около получаса простоял Шепелев, в подробностях обдумывая, как он, вернувшись в казармы, попробует убить себя.
«Не хватит храбрости, – думалось ему, – но попробую, все-таки попробую. Может быть, как-нибудь нечаянно сам себя обману. Буду говорить, что только ради пробы, ради шутки, и как-нибудь вдруг застрелюсь или зарежусь».
– Господин сержант! – раздался около него голос, от которого вся кровь хлынула у него к сердцу и к лицу. – У меня до вас большая просьба… – говорила стоящая перед ним кармелитка, но уже без маски, которую она держала в руке.
Шепелев едва двинул губами, все чувства его онемели, а сердце стучало настолько, что казалось, даже она заметила это по галуну и пуговицам, которые равномерно вздрагивали на его груди.
И кармелитка сделала движение рукой, совершенно закрытой длинным рукавом, как бы приглашая юношу отойти к окну вместе. Сделав несколько шагов, она стала ближе к нему и выговорила:
– Вы здесь должны быть весь вечер на часах?
– Да-с, – через силу вымолвил Шепелев.
– В таком случае вы исполните мою просьбу. Очень важную просьбу! Гораздо более важную, нежели она вам покажется, нежели вы думаете. Сегодня здесь будет на бале, должна быть каждую минуту, одна замаскированная гостья, недавно приехавшая прямо из Вены и не знающая никого в Петербурге, незнакомая даже лично с господином посланником, хотя и приглашенная им сегодня. Если я или барон будем в эту минуту здесь в дверях, то моя просьба к вам окажется излишней, но если ни меня, ни барона не будет, то я прошу вас провести эту даму. Она предупреждена и двинется прямо за вами. Вы, идя перед ней, незаметно проведите ее к посланнику и, найдя его среди гостей, знаком укажите ей. Поняли вы меня?
– Понял. Это я понимаю! Но зато, кроме этого, я ничего не понимаю, – выговорил Шепелев, немного придя в себя. – То, что для меня вопрос жизни и смерти, того я не понимаю. Неужели вы, графиня…
– Ну, об этом после, – резко выговорила она. – Теперь не время, и я… Вы поняли мою просьбу?
– Да-с.
– А как вы узнаете ту даму, про которую я говорю? – рассмеялась кармелитка.
Шепелев подумал и вымолвил неохотно и даже с оттенком грусти в голосе:
– Да, правда. Как же мне узнать ее?
– Я вам скажу ее костюм. Ее заметить будет немудрено. Она явится на этот яркий и пестрый бал, как пятно.
– Признаюсь, не понимаю.
– Да. Ее костюм будет… среди других, как черное чернильное пятно среди белой бумаги.
Юноша не понял. Маргарита повторила:
– Она явится в черном с головы до ног. Понимаете?
– Понимаю-с.
– Ошибиться мудрено, я надеюсь…
– Мужчины, графиня, вообще не ошибаются, как может ошибиться женщина, – грустно выговорил Шепелев. – Женщина, в особенности красавица и кокетка, может ошибкой дать даже поцелуй.
– По ошибке поцелуя не дают, а дают иногда… из жалости! – рассмеялась Маргарита.
– За это, право… – вдруг глухо выговорил Шепелев. – Право, можно зарезать…
– Тут, на бале… Полноте… Вот и видно: ребенок. Да неужели вам не жалко было бы убить женщину, которую вы любите?.. И как любите! Ведь вы говорите, что умираете от любви.
И Маргарита звонко расхохоталась, но немного искусственным смехом.
– Пощадите, графиня… – упавшим голосом вымолвил Шепелев.
– Ну, так помните, не спутайте. Окажите эту милость для меня. Исполните как следует мою просьбу об маске.
И Маргарита, весело и беспечно смеясь, отошла от Шепелева и прошла в бальную залу. Он был возмущен до глубины души ее словами, и голосом, и смехом.
«Понадобился на то, на что годился бы всякий лакей в доме, – озлобленно подумал он. – Господи! Неужели уж нельзя перестать любить ее? Бросить, забыть… Ну, влюбиться в другую! Она жестокосердая, злая… Ей все только смех… Может быть, здесь, на бале, человек сто, которых она так же целовала, как и меня».
И долго размышлял юноша. Ему, конечно, доставила наслаждение возможность поговорить с ней хотя минуту, но едкое, горькое чувство как будто еще прибавилось. Она насмехалась над ним. Понятно, она даже явилась из такой комнаты, где может остаться до утра, которую почему-то заготовил ей заранее хозяин дома. И Шепелев вдруг злобно рассмеялся.
В эту же самую минуту в зале и прихожей началось маленькое волнение.
Гольц двинулся снова к дверям лестницы, но спустился по ней донизу, а вслед за ним хлынула и пестрая, блестящая кучка сановников. И через несколько минут прихожая и вся лестница были полны вышедшими навстречу гостями. Только узкое свободное пространство оставалось по лестнице. Приехал государь.
Шепелев на минуту забыл свое горе. Он редко и издали видал государя, и ему хотелось теперь не упустить этого единственного случая видеть русского монарха не на коне, не на плацу, а простым гостем на бале.
Через несколько минут государь, взяв под руку Гольца, поднялся по лестнице, весело кивая головой направо и налево, изредка подавая руку, преимущественно старикам и иностранным послам. За ним вслед поднимался по лестнице принц Жорж, а за Жоржем непременный хвост его, всей гвардии ненавистный Фленсбург. Все прошли в залу. Грянула музыка, и начался менуэт.
Тотчас же стало известно на бале, что государыня хворает и быть не может.
Шепелев, занятый своей заботой, все-таки невольно заметил после этой вести много сияющих и торжествующих лиц. Вскоре мимо него прошли и стали невдалеке два сановника. Шепелев знал, что один – воспитатель наследника, а другой – наперсник и друг братьев Разумовских. Эти два человека считались во всем Петербурге самыми умными и самыми образованными, учившимися за границей. Юноша слыхал даже, что Панин, не любимый императором, считался в лагере «елизаветинцев» и был в числе явных друзей императрицы. Он слыхал тоже, что Теплов «голштинец», горячий и искренний приверженец императора, друг всем немцам, ибо говорит великолепно по-немецки и воспитывался в германском университете. Шепелеву было даже интересно поближе рассмотреть Теплова, так как говорили, что оба графа Разумовские у него в руках и делают, что он прикажет. Если бы не этот Теплов, то Разумовские, по словам Квасова, были бы еще более любимы в столице, но теперь их стали любить меньше, потому что Теплов заставил их тоже сделаться чуть не «голштинцами».
Идя мимо и не обращая внимания на сержанта, Панин горячо воскликнул:
– Однако ж позвольте, Григорий Николаевич. Положим даже, что она и не захворала, положим, что ей не захотелось быть на этом торжище, где празднуется позор Российской империи. Наконец, вспомните, что сегодня только четыре месяца и одна неделя, что скончалась государыня. Можно было бы пообождать скоморошествовать и всякие дурацкие костюмы напяливать на себя.
– Не согласен, Никита Иванович, – спокойно отозвался Теплов. – Вы знаете мой образ мыслей насчет всего этого. Договор этот я не считаю позорным: у нас будет надежный союзник. Земли мы ему отдали назад такие, которыми владеть бы не могли, которые никогда российскими бы не сделались. Что касается до болезни ее величества, то скажу даже с вашей и ее точки зрения: нехорошо мелочами раздражать государя и общественное мнение. Что стоило сюда приехать, когда здесь вся столица, и здесь, наконец, сам Разумовский Алексей Григорьевич, которому, как вы знаете, покойная государыня тоже была не чужой человек, – многозначительно и налегая на последние слова, выговорил Теплов. – Ему еще тяжелее в его трудном положении через четыре месяца на этом плясе быть, однако приехал.
Шепелев заслушался было беседы двух сановников, говоривших такие слова, которые редко удавалось слышать простому сержанту. Если бы они знали, что сержант их слушает и понимает, то, конечно, понизили бы голос. Тайная канцелярия и «слово и дело», еще недавно уничтоженные, были еще всем памятны. А в канцелярии не разбирали, кто простой человек, хотя бы даже разносчик, и кто сановник, хотя бы даже фельдмаршал.
И Шепелев напрягал свой слух, чтобы слышать окончание беседы…
Но в эту минуту он вдруг ахнул. Поручение той, которая могла все приказать, могла приказать даже умереть… это поручение приходилось теперь исполнить.
В дверях приемной появилась маска. Шепелев двинулся, да и не он один! Все бывшие недалеко от него и даже спорящие Панин и Теплов – все обернулись и двинулись вперед… и смутный гул одобрения, если не восторга, сорвался у всех с языка. Все ахнули, любуясь.
XXXIV
На пороге стояла стройная и грациозная женщина, вся в черном. Она казалась не маской, а привидением. Вся она с головы до ног была окутана в легкий и прозрачный черный газ. На черных как смоль волосах лежала бриллиантовая диадема с большой яркой звездой, из-под которой падал длинный газовый вуаль. Охватив ее всю, как легкое черное облако, он лежал прозрачными волнами на обнаженных плечах, вился по изящному бюсту, сбегал, ниспадая по платью, до полу, и, отлетая назад, развевался за нею над шлейфом, змеей лежащим на паркете. И вся она была осыпана звездами, от буклей прически до башмаков. По юбке рассыпались семь больших звезд в сочетании Большой Медведицы. На вырезанном вороте корсажа, окаймляющем грудь, горит самая яркая звезда, а у пояса, под сердцем, на черном атласном корсаже, плотно обхватившем ее пышный бюст, лежит, покачнувшись и грациозно прильнув к груди, большой сияющий полумесяц. Лунный серп вспыхивает и сверкает… и бьющая волна его света, пронизывая облако газа, обдает алмазным сиянием и всю ее черную фигуру, и все окружающее. И под легкими черными волнами газа снежно белеются, как изваяние, изящные обнаженные плечи и руки, не разделенные рукавом. Только две черные ленты с двумя бриллиантовыми звездочками на бантах отделяют руки от плеч.
Черная маска с плотным кружевом чересчур тщательно скрывала все лицо ее от диадемы на лбу до горла. Лица не существовало, и вместо него была немая мертвая личина, ничего не говорящая, но зато лучистый огонек будто вспыхивал в отверстиях маски, где сверкали два глаза, такие же черные и такие же блестящие, как и вся эта костюмированная «Ночь». Но тот, кто видел теперь эти плечи и руки, как изваянные из белого мрамора, тот ни мгновения не поколебался бы решить, красавица ли эта явившаяся незнакомка или нет.
Шепелев, подобно всем, и даже более всех, стоял как бы под обаянием изящного костюма, эффектно идущего вразрез со всеми остальными.
«Она явится, как чернильное пятно на белой бумаге», – вспомнил он слова Маргариты. Нет, это не пятно. Она явилась сюда, как таинственная, сияющая звездами ночь, которая больше говорит сердцу, более пленяет его, чем самый светлый и сверкающий солнцем день.
Но незнакомка знала, что делала. Она знала, что, когда пройдет, все сотни глаз будут следить за ее змеино вьющимся шлейфом! Она знала, что ей неопасно закрыть лицо, что ее бюст, ее плечи и руки скажут о лице! И скажут больше, чем, быть может, сказало бы оно само за себя! Неведомое всегда чарует человека и всегда очаровательнее того, что он знает и видит…
Шепелев, смущаясь, двинулся к вошедшей, наклонился, хотел что-то сказать. Но, вспомнив, что говорить ничего не нужно, он пошел снова вперед и только косо оглянулся, чтобы видеть, идет ли она за ним.
Она идет. Все взоры выстроившихся рядом сановников, как если бы снова государь проходил, пристально, невольно следят за нею, и, конечно, не чувство почтения приковало теперь их глаза.
Да и впрямь, если это был не монарх, не государыня, то это была тоже царица, но иная… Царица бала. Царица, всегда за все века, всюду провозглашаемая молчаливым, но единодушным решением общественного мнения. И если это царствование кратко, продолжается одну ночь, то всякая, бывавшая хоть раз царицей большого блестящего бала, до старых лет помнит это, передает и детям и внучатам как событие в жизни, как собранную дань с побежденного, как дорогую и светлую минуту. И это воспоминание самое отрадное! Всегда сладко и тепло сказывается оно на сердце какой-нибудь седой, уже морщинистой бабушки!..
Шепелев прошел несколько шагов по зале, увидел Гольца и приблизился к нему, ни слова не говоря и только оглядываясь на «Ночь», каким-то фантастическим видением скользящую за ним по паркету.
Гольц обернулся, сделал движение, выдавшее его удивление, и затем – как показалось Шепелеву – со странным двусмысленным выражением лица быстро подошел к незнакомке и сказал ей громко по-немецки:
– Прошу считать меня вашим давнишним знакомым, даже другом. Прошу вас здесь быть как дома. Я с нетерпением ожидал вас… Прежде всего я позволю себе испросить сейчас позволения у государя представить ему «Ночь», а затем и познакомить с «Ночью» некоторых гостей.
– Благодарю вас за честь быть представленною его величеству, – вымолвила «Ночь» голосом, который показался проходившему мимо нее Шепелеву странным, будто искусственным.
Ему показалось, что костюмированная незнакомка нарочно изменяет свой голос. Он приостановился невольно, хотя не имел на это права, и расслышал еще фразу:
– Помимо государя, барон, я могу в качестве маски говорить с кем хочу, не будучи знакома? И мне широкое поле интриговать, так как я приезжая, не могу быть узнана.
Шепелев нехотя вернулся на свое место и думал:
«Какие плечи и руки! Какая, должно быть, красавица! И опять-таки ее приятельница! Должно быть, и приятельницы ее все такие же красавицы, как она. Эта, пожалуй, даже еще красивее графини».
В ту минуту, когда Гольц, покинув «Ночь», подошел к государю, Петр Федорович стоял у канделябра и читал бумагу, вытащив ее из обшлага кафтана. Лицо его было сумрачно.
Гольц подождал; государь прочел бумагу до конца, поднял глаза и выговорил по-немецки:
– А, это вы, барон, отлично… Подойдите сюда. Посмотрите. Вы можете мне совет дать, потому что и прочитать это можете. Я получил это, выходя из кареты, на вашем подъезде… Приятное очень развлечение для бала!..
И государь передал Гольцу письмо на французском языке.
Гольц быстро пробежал его. Оно было подписано французским именем, и даже громким: Валуа. Содержание письма был донос. Писавший его доводил до сведения государя, что один из важных сановников, господин Григорий Теплов, позволил себе в присутствии нескольких свидетелей отозваться о его величестве в самых ужасных выражениях, прибавляя и грозясь, что скоро всему будет конец: государь будет свергнут с престола, а заменен истинным и законным императором, Иоанном Антоновичем, томящимся в заключении.
– Ну, что же скажете? – вымолвил Петр Федорович, когда Гольц прочел.
– Но кто же этот Валуа? – произнес Гольц. – Француз?
– Я только знаю, барон, – рассмеялся государь, хотя лицо его было угрюмо, – что это не случайный потомок французской королевской фамилии, давно угаснувшей. Но заметьте все-таки, что это имя напоминает целый ряд заговоров, покушений и убийств. Последние Валуа кончили трагически свое существование, хотя сами были тоже устроители самой страшной и позорной в истории резни в ночь святого Варфоломея. Мне часто приходит на ум эта ночь, и я всякий раз с ужасом представляю себе, как это происходило на улицах многолюдного города, где брат убивал брата и отец – сына.
– Да, это была не дипломатическая ночь, – усмехнулся Гольц. – Но позвольте мне, ваше величество, сгладить дурное впечатление, представить вам сейчас другую ночь, не Варфоломеевскую.
Государь не понял и пристально взглянул ему в лицо.
– Позвольте мне представить вам «Ночь», иначе говоря, маску, изображающую «Ночь». Но с одним условием, если вы позволите: я только завтра скажу вам, кто она. Говорить с ней вы можете свободно по-немецки. Она нерусская, приезжая, и ее родной язык – ваш и мой… Прибавлю еще, как необходимую нескромность, что «Ночь» замечательная, поистине красавица и таковою слыла и в Париже, и в Вене…
– Давно она в Петербурге?
– Об этом позвольте мне умолчать до завтра. Завтра вы узнаете все: кто она, что она, откуда и зачем. И мы вместе посмеемся весело.
– Отлично! Пускай она меня интригует как бы простого смертного! – весело выговорил государь и фамильярно хлопнул Гольца по плечу бумагой, которую держал в руках.
Но это движение невольно снова напомнило ему о доносе.
– Но что же с этим делать, барон?
– Право, не могу вам сказать.
– Ах… фуй!.. Русский ответ… Стыдитесь, господин прусский посол! Ну, ну, советуйте, скорее советуйте! Велеть его сейчас арестовать?
– Кого? Этого француза? – спросил Гольц. – Пожалуй…
– О нет! – воскликнул государь. – Теплова, Теплова.
– Я бы этого не сделал, ваше величество. Зачем спешить? Наконец, признаюсь вам… – Гольц рассмеялся добродушно и прибавил: – Признаюсь откровенно, что я, как хозяин дома, прошу отложить этот арест. Зачем вы хотите портить мне бал? Мне хочется, чтобы все сегодня были веселы. А арест такого лица, как Теплов, у меня на бале смутит тотчас весь дом, а затем, конечно, всю столицу, Теплов, наконец, такая личность, что, откровенно говоря, мне кажется все это ошибкой, если не преступным поступком, то есть дерзкой клеветой на русского сенатора со стороны однофамильца французской королевской династии. Вспомните, ваше величество, – рассмеялся Гольц, – что последние короли этой династии были ужасные лгуны и клеветники. Позвольте мне прежде всего, будто от себя, узнать у господина Бретейля, который знает в лицо всех своих соотечественников, что за птица этот Валуа.
Государь согласился и поблагодарил, но попросил барона сделать это тотчас же.
Гольц быстро отыскал среди играющих в карты французского посланника и объяснился с ним. Разумеется, и Бретейлю то же самое пришло на ум, и он выговорил рассеянно, как бы себе самому:
– Les Valois ont regné en France![17]
– Полагаете вы, что это один из них? – сострил Гольц довольно дерзко.
– О нет! – встрепенулся вдруг уколотый француз. – Если бы, например, один из сыновей гениальной интриганки Екатерины Медичи был теперь в Петербурге, вам не удалось бы, барон, заключить с Россией ваш новый трактат.
И Бретейль язвительно улыбнулся, глядя на Гольца, который невольно вспыхнул.
– Итак, вы не знаете… но не знает ли кто этого Валуа в вашем посольстве?
Бретейль подумал, потер себе рукой лоб, потом пожал плечами и встал, чтобы разыскать секретаря посольства.
От него они узнали, что есть в Петербурге Валуа, простой каменщик, работающий в доме графа Разумовского. Это показалось странным совпадением для Гольца. Валуа писал, что он слышал слова Теплова при свидетелях, не называя места или дома, теперь же оказывалось, что Валуа работает в том самом доме, где Теплов прежде жил, а теперь бывает от зари до зари.
Гольц, ворочаясь к государю, соображал, что если этот каменщик окажется прав, то произойдет сильный переворот при дворе, и ему лично выгодный. Он предвидел неминуемое падение и, пожалуй, ссылку обоих братьев Разумовских, вкруг которых, осторожно и тайно, группировались все враги правительства и самые отчаянные враги его короля и его детища, то есть нового мирного договора.
Сведения, сообщенные посланником, произвели на государя такое же впечатление, как и на Гольца. Государь раскрыл широко глаза и вымолвил любимцу своему тихо:
– В доме Разумовских? Наверное! Конечно! Так! У Разумовских? – И лицо его пошло пятнами. – Ну, барон, – выговорил государь, – если бы это было не у вас, я бы приказал сию же минуту арестовать Теплова, да, пожалуй, и этих близнецов-хохлов. Недаром говорят здесь, что хохлы хитрый и лукавый народ! Ну, завтра к утру Теплов будет у меня уже допрошен. Я им покажу пример всем, что я не позволю шутить с собой. Я не царица-баба вроде тетушки да и не младенец-император, которого из люльки выкинули прямо на снег.
Государь помолчал несколько минут и тяжело переводил дыхание.
– Ну, что вы хотели? – веселее произнес он наконец. – Вы что-то мне предлагали?
Но в ту же минуту государь пристально устремил взгляд в дальний угол залы, где среди яркой, пестрой толпы было странное, черное и сияющее вместе пятно; серебристые лучи от массы бриллиантов даже издали светились.
– Кто это? Что это? Домино? Нет?
– Нет, это она и есть, ваше величество, – усмехнулся Гольц. – Позвольте, я сейчас представлю ее вам.
И Гольц быстро прошел залу, подал маске руку и повел к государю.
– Позвольте, ваше величество, – сказал посол, весело улыбаясь, – представить вам «Ночь», явившуюся в Петербург. Не вашу северную, холодную ночь, а южную, чудную и поэтическую, покровительницу любви и влюбленных. Ручаюсь вам, что вы не будете скучать и даже забудете все ваши заботы и всех этих крамольников, – серьезнее прибавил Гольц и, поклонившись, отошел от обоих.
– Я счастлива, наконец, – заговорила «Ночь» чистым немецким языком, – я достигла моей давнишней мечты видеть монарха, имя которого скоро облетит весь мир и останется навеки в истории, сияющее славой великих дел.
Государь между тем невольно любовался костюмом незнакомки, затем он подал ей руку и повел из залы, где снова начиналась музыка и танцы, в другие комнаты, где можно было говорить.
И всюду толпы гостей становились рядами на проходе государя, но глаза всех все-таки были устремлены не на него, а на его спутницу, всю блестящую в алмазных лучах и сияющую своими снежно-белыми плечами…
XXXV
Шепелев стал у окна приемной и не спускал глаз с государя и маски, сидевших в соседней гостиной. Беседа их, оживленная и неумолкаемая, длилась долго, но расслышать он не мог ни слова. Она говорила по-немецки то страстно, с жаром, то тихо, почти шепотом, и иногда будто рассказывала что-то. Государь молчал и, очевидно, внимательно слушал.
Два раза прошла мимо них и мимо Шепелева графиня Воронцова с изменившимся и пунцовым от гнева лицом… Она ревновала и даже беспокоилась из-за этой красивой незнакомки…
Государь вдобавок даже не замечал ее… так внимательно слушал он, что говорила эта «Ночь».
Наконец они поднялись и, пройдясь по гостиной, двинулись прямо к окну, где стоял Шепелев.
Юноша немного посторонился и слегка вытянулся. Несмотря на легкое смущение и даже робость близости государя, он не мог снова не подумать, любуясь на «Ночь»:
«Какой костюм!.. И как, должно быть, собой-то хороша».
– Нет, ты мне скажи правду! – воскликнул государь по-немецки, приближаясь к Шепелеву на подачу руки и как будто показывая ей на сержанта.
– Я вам уже сказала, что нахожу эти новые мундиры прелестными. Сколько вкуса! И при этом они удобны, – говорила маска, тоже по-немецки, но со странным звуком в голосе, будто слегка картавя. – Вот, например, этот мундир. Какой это мундир, ваше величество?
И вдруг маска остановилась, фамильярно задерживая своего собеседника.
Государь, довольный, что тема разговора умной, заинтриговавшей его маски перешла на более простой предмет, и вдобавок его любимый, повеселел еще более.
– Это преображенский. Прежде были зеленые длиннополые кафтаны. Красив ли он?
– Конечно. Очень красив… И удобен! Я думаю, сами офицеры с этим согласятся. Господин офицер! – вдруг обернулась «Ночь» к Шепелеву, еще более картавя. – Вы, вероятно, говорите по-немецки, как все офицеры здесь. Скажите мне, не правда ли, мундир этот удобнее старого?
Юноша, уже смущенный донельзя тем, что государь стоит так близко и смотрит на него, теперь при вопросе, внезапно к нему лично обращенном, окончательно потерялся до такой степени, что даже пробормотать ничего не мог.
– Ведь лучше и удобнее, господин офицер? – немного свысока и холодно повторила маска по-немецки.
– Он еще не офицер. Он сержант… – рассмеялся государь.
– So-o!..[18] – протянула она как истая немка. – Какая же разница?.. Ну, я этого знать не могу. Вот вам, ваше величество, надо знать все это до мелочей… Я могу ошибиться, а вы не можете.
– Еще бы… Да я за сто верст всякий галун отличу.
– Вы даже не имеете права ошибаться. Это было бы неудобно и опасно для венценосца…
– Как? Я не понимаю. Что ты хочешь сказать? – добродушно вымолвил Петр Федорович.
– Как? Вы не знаете? Un monarche ne se trompe pas[19]. Вы не знаете анекдота про Людовика Пятнадцатого, как он однажды ошибся. Он перемешал на вечере по близорукости одного нетитулованного придворного с другим, герцогом, и сказал: «Vous, monsieur le duc»[20], a тот ответил: «Merci pour cette grâce, Sire»[21].
– Ну, что ж? – рассмеялся государь.
– Когда дело объяснилось, король пожал плечами, рассердился, но сказал: «Un monarche ne se trompe pas!»[22] – и прибавил: «Ramassez le duc… monsieur!»[23] С тех пор этого придворного иначе и не звали, как наоборот: le duc, monsieur[24].
– Ramassez![25] Вот это я люблю. Как если бы он потерял что-нибудь! – громко рассмеялся Петр Федорович.
– Вот вам, властителям, ошибаться и нельзя. Если бы вы сказали этому сержанту: «Господин офицер!» – то он бы им и был, как бы по закону… А вам бы, господин преображенец, было бы очень приятно, если бы не я, а его величество так ошибся? – уже отчасти ласково обернулась «Ночь» к юноше. – Очень сожалею, что мои слова не имеют силы закона… А как это, должно быть, приятно – иметь эту власть?
Государь двинулся далее тихим шагом. «Ночь» болтала без умолку, оживленно и кокетливо.
– Ваше величество, – вдруг выговорила она. – Сделайте, как один монарх в одной сказке… Он передал на пять минут свою власть одному нищему…
– Это глупо…
– Нет, это очень мило… в сказке. Нищий в пять минут сделал столько добра, сколько монарх за всю жизнь не сделал… Вот если бы и ваше величество… дали мне вашу власть только на одну минуту…
Государь остановился, рассмеялся, потом хотел снова двинуться, но маска сильнее оперлась красивой обнаженной рукой на его руку и, грациозно наклоняясь к нему всем бюстом и своими изящными плечами, шепнула почти страстно:
– Я не шучу… Дайте…
Женщина эта, ее голос, красота этих плеч и рук, корсаж платья, который слегка отстал при ее движении, еще более обнажая ее грудь… не могли не подействовать на всякого.
– Дайте, дайте! – шептала она, все ближе наклоняясь, и ее страстный лепет звучал ребячески наивно.
– Изволь… – не выдержал государь. – На минуту по часам… Но что ты сделаешь?
– А? Увидите! Три вещи. Но даете ли вы мне честное слово, что все будет исполнено?
Государь колебался и вдруг выговорил:
– Даю… Это даже любопытно.
– Благодарю… Но я буду действовать через вас. Это все равно. Я буду шептать вам, а вы приказывайте. Постойте! Надо подумать… Ну-с! Во-первых, сделайте этого преображенца офицером. Сейчас!
– Вот уж именно бессмысленный женский каприз – осчастливить первого попавшегося человека. Пойдемте…
Государь, смеясь, приблизился снова к окну, где стоял Шепелев, и вымолвил ласково:
– Ты дежурным на бале посла?
– Точно так-с, ваше величество! – прошептал снова смущенный юноша.
– Ради барона Гольца, празднующего сегодня мирный трактат, я, как исключение, поздравляю тебя офицером.
Юноша широко раскрыл глаза, вспыхнул и стоял истуканом от неожиданности. Когда он догадался поклониться и пробормотать что-то бессвязное, то государь с «Ночью» уже удалялся в залу.
– Ну-с, теперь… теперь… – говорила «Ночь», – сделайте хозяина этого дома, барона, командором вашего голштинского ордена Святой Анны.
– Ты отгадала мое желание. Я сам хотел давно. Но и так говорят, что он мой любимец, и это непременно раздражит других резидентов… Принц-дядя меня отговаривает и уверяет, что теперь это невозможно.
– А ваше слово?.. Ну, хорошо, бог с вами… Тогда прикажите выслать из Петербурга адъютанта принца – Фленсбурга.
– Это зачем? – громко вскрикнул государь, искренне изумившись.
– Он мне не нравится, – шутливо отозвалась «Ночь».
– Стало быть, ты его знаешь и, стало быть, не сегодня приехала из-за границы. Вот я тебя и поймал. Ты петербургская жительница!
– Нисколько. Я его сейчас видела. Мне его назвали, и лицо его мне противно! Я прошу его выслать.
– Это не причина. Да и какая же ты злая и бессердечная! Потом, ты забыла, что хотела власть, чтобы делать добро, а не зло.
– Это правда. Ну, не надо, ничего не надо… Вы мне уже два раза отказали! – ребячески капризно вымолвила она.
– Ну, уж так и быть. Я сегодня, уезжая, поздравлю Гольца командором. Ну, теперь третье.
– Третье… Дайте графу Кириллу Скабронскому придворное звание, какое-нибудь…
– Зачем? Он умирает… Или уж умер, кажется…
– Нет, он жив…
– Умрет на днях!.. – рассмеялся государь.
– Но его вдова, моя давнишняя приятельница, получит право бывать при дворе государя, самого любезного, доброго и умного.
– Вот это отлично, с удовольствием. Я ее однажды видел. Она замечательная красавица. Сейчас прикажу, и завтра она узнает это. Ну а себе ты ничего не выпросила…
– Себе… себе… – рассмеялась «Ночь», – я попрошу у вас нечто очень важное, но не сегодня, а в следующем маскараде, где мы встретимся…
– О чем же ты будешь просить?
– Теперь я не скажу.
– Ну, хоть намекни! Я прошу тебя… – несколько увлекаясь и слегка умоляющим голосом выговорил Петр Федорович.
– То, о чем просила одна ветхозаветная красавица…
– Это ничего не говорит! Это даже не намек. Кого она просила?
– Одного очень умного и красивого молодого человека.
– Но кто он был? Чем известен?
– Тем, что у него было одиннадцать братьев… – нерешительно вымолвила «Ночь».
– Это мудрено. Хотя я знаю отлично Ветхий Завет, но сразу отгадать… Чем он был сам?
«Ночь», очевидно, колебалась и, наконец, выговорила слегка взволнованным голосом:
– Скажу… Но только потому, что я в маске и в случае… если одумаюсь… или, если вы… Ну, одним словом, я могу еще, если захочу, остаться вам неизвестной…
– Ну, ну, говори! – оживленно приставал государь.
– Он был продан этими братьями, попал в Египет и…
– Иосиф! – вскрикнул государь.
– Не знаю…
– А просила его супруга сановника Пентефрия… – весело рассмеялся он. – Так?.. Так?!
– Не знаю… – тихо и совершенно смущаясь шепнула «Ночь».
– Скажи, отгадал ли я? Скажи… Пожалуйста… Скажи только одно слово: да…
В эту минуту прямо на государя и его даму шла графиня Воронцова. Она на этот раз уже почти преградила им путь и с озлобленным пунцовым лицом обратилась к государю:
– Ваше величество, я уже целый вечер жду возможности сказать вам хоть два слова! – вспыльчиво выговорила она.
Государь видимо заколебался и не знал, что делать: ему, очевидно, не хотелось покинуть «Ночь».
– Погоди, Романовна… Сейчас. Вот пускай маска скажет, отгадал ли я ее загадку… Я без того не могу уйти.
– Так будьте так добры, скажите! – гневно обратилась Воронцова к замаскированной.
– Вы приказываете, графиня… Сказать? – кокетливо, но насмешливо произнесла «Ночь», налегая на слово «вы».
– Приказать я не могу, а прошу… А то этак конца не будет.
– Разумеется, – воскликнул государь. – Ну, отгадал? Ну?
«Ночь» как будто еще колебалась и молчала.
– Да говорите, сударыня! – вне себя произнесла Воронцова. – Подумаешь, важное дело.
– Хорошо… Только для вас, графиня… По вашей просьбе, – звонко рассмеялась «Ночь». – Да, ваше величество, от-га-да-ли!!!
Государь улыбнулся, хотел что-то сказать, но, поколебавшись мгновение, любезно простился и, покинув «Ночь», подал руку Воронцовой.
XXXVI
Шепелев простоял как истукан несколько минут после слов государя. Он готов был верить, что видел все во сне. Двух недель нет, что он надел мундир сержанта, и теперь, сейчас… уж он офицер!
«Да, это счастье! Сумасшедшее счастье!..» – думалось ему. Но все это отдал бы он сейчас, снова бы стал рядовым, если бы она… Да, если б этой жертвой мог купить не только ее любовь, хотя бы только ее ласку, вместо холодного или презрительного отношения к нему.
«Но где же она, где монашенка?! Ее уже давно не видать. Верно, веселится. Верно, все танцует в зале!» – думал юноша, вспоминая, что действительно кармелитка давно не проходила по приемной.
В эту минуту «Ночь» шла из залы одна, поневоле уступив своего кавалера графине Воронцовой. Она быстро приблизилась прямо к нему.
– Господин офицер, – вымолвила она по-немецки и картавя. – Проводите меня, в знак благодарности за офицерский чин, до уборной графини Скабронской. Она сейчас мне сказала, что вы знаете, где комната.
– Я? Нет! Но я думаю, что это там, за гостиной. Можно спросить людей. Если прикажете, я сейчас пойду и узнаю…
– Пойдемте вместе… Скорее найдем…
Она двинулась через гостиную, Шепелев почтительно пошел за ней. Пройдя две пустые комнаты, они увидели направо длинный коридор, выходивший на ту же парадную лестницу, и Шепелев разглядел вдали фигуру Державина на часах. Здесь же, против коридора, оказалась приотворенная дверь, в которую виднелся красивый дамский туалет.
– Барон не женат, – сказала незнакомка. – Стало быть, это и есть…
Быстро оглядевшись кругом, она еще быстрее вошла в эту комнату и тоже осмотрелась, Шепелев остановился перед дверями и хотел поклониться.
– Войдите! – едва слышно и странным голосом выговорила она.
Юноша недоумевая вошел и также невольно огляделся.
Это была маленькая, красиво убранная спальня, освещенная двумя канделябрами, поставленными на двух белых тумбах; но, очевидно, это не была спальня хозяина дома, а, судя по всему, наскоро приготовленная для женщины. На туалете два красивых шандала, два севрских амура держали две розовые свечи. В углу горницы из-под высокого балдахина висели длинные, опущенные на кровать занавеси нежно-розового цвета…
«Так вот где ты будешь… до утра!» – грустно подумал Шепелев, и сердце сжалось в нем острой болью.
– Потушите, пожалуйста, канделябры. Мне режет глаза этот свет. Довольно мне и этих двух свечей… Вы, кажется, не желаете мне помочь, господин «внезапный» офицер, – снова заговорила она по-немецки все тем же картавым голосом, видя, что юноша не двигается.
Шепелев повиновался, и в комнате стало гораздо темнее.
Между тем, покуда он снимал с тумб тяжелые канделябры и тушил свечи, «Ночь» быстро вернулась к двери. Замок вдруг быстро щелкнул… и, сунув куда-то ключ, она вернулась к туалету.
– Вы в плену… – упавшим голосом произнесла она.
Шепелев, изумленный, стоял не двигаясь и глядел на незнакомку.
«Что за странная шалость! И неуместная!» – думал он и вымолвил наконец:
– Что вам угодно от меня? Мне надо скорее идти: я – дежурный.
Она быстро, ловко искусной рукой сняла с себя диадему и, выпутавшись из облаков газового вуаля, засияла еще ярче своими звездами в полутемной комнате… Затем она сняла большой серп луны и стала отцеплять все эти звезды и звездочки, складывая их на туалет. Скоро осталось на ней только созвездие Большой Медведицы, пришитое к юбке.
– Ночь проходит, луна зашла, звезды гаснут и закатываются… – шутливо, но тихо шептала она, а голос ее слегка дрожал. – Да!.. Наступает день!.. Счастливый день для того, кто любит! Любит, как я! Любит, как ребенок или как бедная женщина, никогда еще не знавшая любви!
Она смолкла, но вдруг, будто вспомнив, заговорила скорее:
– Все это смело и дерзко, конечно, господин офицер! Но что же делать? Другого исхода нет! Впрочем, умная женщина когда за что возьмется, то всегда счастливо доведет до конца.
Шепелев слушал, ничего не понимая, изумлялся и невольно любовался ею теперь снова, когда плечи ее, окаймленные одним черным корсажем, лишенные облаков газа и сверкавших звезд, казалось, засияли вдруг еще более собственным снежным светом. Лицо, закрытое черной маской, еще более оттеняло белизну горла и груди.
Но вдруг он вскрикнул и двинулся… в полной тьме! Она погасила последние две свечки.
– Что вы делаете! – воскликнул он, и невольная дрожь пробежала по телу… «Не может быть! Не может быть!» – мысленно кричал он сам себе, будто отвечая на какой-то вопрос. – Что вы хотите? Я дежурный… Позвольте мне выйти…
Но она молчала. Он чутко прислушивался. Она шевелилась, быстро двигалась… Но сильное прерывистое дыхание ее даже заглушало шелест платья и движений…
Через мгновение шорох и это тревожное дыхание послышались ближе к нему, и вдруг две руки нашли его в темноте. Они дрожали на лице и голове его.
– Я не понимаю… Это прихоть, но и дерзость… – глухо проговорил он.
Но обнаженные руки крепко, судорожно обвили его шею. Горячие губы коснулись во тьме его лица, отыскали его губы и с порывом жажды прильнули к ним с поцелуем. И вся она затрепетала вдруг.
– Я люблю другую… Люблю безумно… Поймите… – забормотал юноша.
– А я люблю тебя, тебя… – горячо и страстно отозвалась она вдруг по-русски, но продолжая картавить. – И клянусь, в первый раз в жизни люблю! Клянусь святой Марией, что я…
– Что?!! – вскрикнул Шепелев, как оглушенный молнией, которая бы вдруг, среди полной тьмы, осветила ему на миг все окружающее. Эти два слова – ее два слова!.. Как помнит и любит он их, хотя слышал давно и только один раз.
– Боже мой!.. Ах, если б я знал, что это вы! Скажи мне, что это ты? – задрожавшим от восторга голосом шепнул он.
– Я. Ей-богу. Я… Я…
– Графиня?
– Нет, не графиня… для тебя. А ты любишь графиню? Какую? – страстно смеялась она ему в лицо, продолжая покрывать его нескончаемыми поцелуями.
– Бога ради, скажи мне… Или пусти. Я безумно люблю тебя, если ты Маргарита! – восторженно вскрикнул он. – Но если я ошибаюсь, то я не могу… не хочу, ни за что! Пусти.
– Графиня Скабронская? Так вот кого ты любишь! Глупый!.. Разве ты не видал ее сегодня кармелиткой? Она мой старый друг.
– Да, да… Но право… Твой голос теперь другой. И теперь это почти ее голос. Да! Я с ума сойду. Говори! Или… пусти меня. Ты Маргарита?! Говори!..
– Нет! Нет!..
Шепелев с отчаянием освободился от ее объятий и, сделав несколько шагов по паркету, наступил на что-то мягкое, и тотчас что-то хрустнуло под его каблуком.
– Святая Мария! Безумный! Ты топчешь… Передавишь все звезды моей Медведицы!!
Шепелев вскрикнул, бросился на голос и безумно обнял ее. Это был уже громкий, неподдельный и дорогой ему голос.
– О Маргарита!.. – почти простонал юноша, как бы от страшного страдания и боли.
Бал все разгорался, оживлялся… Молодежь танцевала до упаду по просьбе любезного хозяина.
Перед полуночью явились на бал еще двое костюмированных. Это были два негра в блестящих фантастических и совершенно одинаковых туниках и шальварах из пунцового бархата, сплошь вышитого золотом. Оба негра были огромного роста, широкоплечие, могучие богатыри и красавцы лицом даже под черной мазью. Таких витязей в Петербурге было немного, и если бы они были теперь в масках, то и тогда бы легко всякий признал Григория и Алексея Орловых.
Братья были в кандалах и прикованы сверх того один к другому. Золотые большие браслеты у каждого на руке соединялись висевшею между ними цепью. Поэтому они ходили вместе и не танцевали, извиняясь невозможностью разлучиться.
Причина, побудившая братьев явиться неграми и вымазать лица, был большой черный пластырь на виске и ухе Алексея, который он носил с самого сражения в «Нишлоте» и который он покинуть не мог. А между тем по приказу государыни надо было явиться в маскараде Гольца. Кроме государыни и княгини Дашковой, тут явились все.
Благодаря костюмам все внимание было теперь обращено на братьев, государь тоже заметил их и, близко пройдя мимо, указал на них Жоржу и прибавил громко, но шутливо:
– Хорошая выдумка! Подходящая!.. Может быть, даже предсказание.
Принц ничего не ответил на шутку. Он был не в духе, потому что любимец его, Фленсбург, был расстроен чем-то и даже бледен и не хотел ему объяснить ничего о причине своей тревоги.
Действительно, Фленсбург был на себя не похож. Он куда-то исчезал и теперь, вернувшись, стоял в приемной на месте пропавшего дежурного. Он будто ждал его. Около полуночи к нему подошел его друг Будберг и обратился к нему с тем же вопросом, что и принц Жорж.
– Что с тобой, Генрих? – сказал он по-немецки.
– Со мной? Со мной смерть! Смерть в душе! – глухо выговорил Фленсбург.
– Все она… Кармелитка! Вот уж можно сказать: le diable gui se fait ermite!..[26] Брось ее, милый друг. Она авантюристка с головы до пят.
– Полно шутить! Ты видишь, что со мной! Скажи лучше, – ты уроженец Петербурга и должен знать, – покуда я был в ссылке, при покойной царице бывали здесь поединки? Или это дикое и развратное общество не знает, даже не слыхивало никогда, что такое – дело чести и вызов на поединок…
– Насколько помнится, бывали, но между нашими, то есть иноземцами вообще…
– Стало быть, эти звери знают, что такое поединок?.. Ну, тогда будь готов, милый друг, послужить мне секундантом.
– Что за вздор! Как не стыдно! С кем наконец?!
– С дрянью, которая не стоит того, чтобы я его убивал! А убью!! А государь наверное простит. Он понимает и любит такие выходки. Пойдем отсюда. Я тебе все расскажу, и авось легче на душе будет…
Между тем хозяин дома, веселый и довольный, все подзадоривал молодежь и посылал танцевать. Бал удался на славу. Даже старики и «елизаветинцы» развеселились, глядя на пляшущую молодежь.
Время проходило быстро, и, наконец, уже было далеко за полночь. Вдруг, как по сигналу, танцы сразу прекратились. Государь внезапно, чем-то рассерженный, собрался уезжать.
Кавалеры даже покинули на время своих дам и пошли за двинувшимися из залы пожилыми сановниками. Государь выходил, Гольц, рядом с Жоржем, провожал его, а за ними двигалась масса гостей, министров, послов и первых вельмож. Все проводили государя до лестницы, а Гольц спустился до самого подъезда. Некоторые вернулись в залу, другие остались на верху лестницы, чтобы, обождав отъезд государя, тоже уехать. В числе последних был и гетман.
Спустившись вниз, в швейцарскую, Петр Федорович поблагодарил Гольца, поздравил с орденом Святой Анны и поцеловал. Затем он обернулся к принцу и вымолвил по-немецки:
– Ваше высочество, надеюсь, не забыли. Теперь можно. Даже пора!
Жорж понял, обернулся и стал искать глазами Фленсбурга, но адъютанта не было. Это даже обеспокоило принца.
Государь догадался по фигуре дяди, что он без адъютанта как без рук, и нетерпеливо обернулся к сопровождавшему его Гудовичу:
– Прикажи сейчас арестовать Теплова.
Гудович вытаращил глаза.
– Что ты? Не слышишь! Или не понимаешь! – гневно выговорил государь и, повернувшись, вышел к поданной уже карете. – Ну вот, хоть этим прикажи, – показал он Гудовичу на двух кирасиров у подъезда. – Хорош и ты – адъютант! – прибавил государь, садясь, и крикнул сердито: – Да ну… Скорее!
Кучер принял это на свой счет и с места взял почти в карьер. Гудович принял на свой счет и быстро пошел назад, крикнув кирасирам:
– За мной!
На лестнице, как нарочно, в числе прочих сенаторов и рядом с гетманом спускался и весело рассказывал всем что-то очень смешное сам Теплов.
– Я вас арестую по приказанию государя! – пробормотал Гудович, смущаясь.
Все стали как ошеломленные.
– Меня? – выговорил Теплов, меняясь в лице.
– Да ты спутал, батенька! – сказал гетман.
– Это еще что? – вдруг взбесился Гудович, которому показалось слово: спятил. – Возьмите и сдайте на Морскую гауптвахту! – приказал он солдатам.
Кирасиры бессмысленно бросились как по команде.
Теплов, пораженный, бледный, будто боясь насилия со стороны солдат, сам быстро двинулся на подъезд. Он забыл даже шинель. Кирасиры кликнули извозчика и посадили арестанта в блестящем мундире. Теплов забыл, что у него карета. Он все забыл. Да и все свидетели происшествия растерялись и позабыли его образумить.
Понемногу дорогой придя в себя, он прошептал вслух:
– Это ошибка! За мной ничего нет! – И через мгновение он прибавил гневно: – Но так не ошибайтесь никогда, господа правители! И если арестовали по ошибке такого, как я… так уж, чур, не выпускайте опять на волю!!
…Тоже далеко за полночь.
Шепелев бродил и шарил в полной темноте, но только принадлежности женского туалета попадались ему под руку.
– Маргарита, бога ради, позволь зажечь свечку! Я ничего не найду…
– Пустяки. Найди! – рассмеялась женщина из угла комнаты.
– Но что за прихоть, милая? Ведь теперь уж нечего… Уж ты ведь не приезжая из-за границы, да еще не говорящая по-русски! – сказал он, подсмеиваясь.
– А что за прихоть упрямо называть меня Маргаритой потому, что мой голос похож на голос графини?
– Так два голоса не бывают похожи… Фу! Господи… Да сколько же у тебя тут башмаков! Уж пятый под руку попался…
– Впрочем, я сейчас перестану быть Маргаритой, когда ты выйдешь, убедишься… как найдешь Скабронскую на бале.
– Это было бы дьявольским наваждением.
– Однако ты видишь, что здесь нет ничего из костюма кармелитки!
– Да я, милая, ничего не вижу! Ни зги не вижу! – рассмеялся юноша. – Я того и жду, что глаз себе выколю… А!.. Слава богу!.. Но только… ни портупеи, ни шпаги…
– И без них можно… Или после…
– После! – рассмеялся Шепелев. – Барона попросить доставить ко мне на квартиру… Я без шпаги прямо под арест попаду. Впрочем, и так, если дежурного хватятся, то улетишь на гауптвахту. Куда тебе! Дальше!
– Я же тебе говорила, что просила у барона позволения послать тебя за поручением… Ты теперь по городу ездишь…
Наступило молчание. Шепелев возился и двигался на стуле.
– А все-таки… Это все было дерзко и почти невозможно! – вымолвил он через несколько минут.
– Только то и дорого и хорошо, что «почти невозможно»! – медленно проговорила она как бы сама себе.
– Ну! Теперь опять на поиски… За шпагой! – весело вымолвил Шепелев и начал снова шарить, приговаривая: – Платье… Перчатки!.. Шкатулка!.. Должно быть, чулок… Опять башмак!.. А это… Это уж и не знаю. Мы этого не носим!
Она тихо смеялась из своего угла.
– Хорошо… Смейся! Встанешь, как я опять на платье да Медведицу попаду ногами и вторую звезду раздавлю….
– Не смеешь по небесным светилам ходить!
– Слава тебе, господи! – воскликнул юноша. – У окна очутилась.
– Нашел? Ну-с… Извольте теперь идти вон, дерзкий мальчишка, клявшийся мне в любви… к другой.
– Пожалуйте ключ, госпожа тюремщица.
– Извольте, господин узник. Идите ко мне. Ключ здесь, под подушкой.
Шепелев ощупью подошел.
– Купи его! – шепнула она. – За десять поцелуев…
– Это дешево… За сто согласен. О! Милая! Вовеки бы… не расстался! – прошептал он, обнимая ее и всю покрывая поцелуями… – Так до завтра… – вымолвил он наконец.
– Да. Да. Да. Уходи… – прошептала она.
Он двинулся к двери, но она снова позвала его:
– Еще один… Последний…
И на несколько мгновений в комнате наступила мертвая тишина. Только поцелуй беззвучно жил… и длился!
XXXVII
Шепелев отомкнул звонкий замок, приотворил слегка дверь и глянул. Кто-то шел мимо. Он подождал, потом выглянул снова. Прохожая горница и коридор были пусты, только издали доносился гул голосов и шум толпы. Он быстро вышел и еще быстрее направился к зале.
Идя через гостиную бодрыми шагами, он вдруг почувствовал, будто слегка шатается, а в глазах как-то потемнело и зарябило.
Против него оказалось зеркало. Он взглянул на себя и улыбнулся. Он сам себя не узнал: настолько было бледно, но оживленно лицо его и настолько сверкали глаза.
– Да! Счастье то же, что и хворость!.. Но господи! Думалось ли мне, что сегодня… Вдруг! Среди маскарада. И как она заранее все обдумала! Да, дерзко, а как просто!.. Она говорит: безопасно, потому что если кто и увидит, то глазам не поверит! Вот уж дьявольский расчет! Но никто не видал… Да! Счастливее меня теперь в столице никого нет! Господи! Авось я с ума не сошел. Авось все это было! Было! Не сон же это? Нет, сон! Ей-богу, сон! – восторженно воскликнул он.
Шепелев двинулся было от зеркала, но сильный гром колес на улице заставил его выглянуть в окно, и он увидел среди плошек быстро, вскачь удаляющуюся карету.
«Разъезд! Должно быть, уж поздно», – подумал он.
И он двинулся в приемную. Она была полна гостей, толпившихся в ней и на лестнице. Он озирался смущенно и потуплял глаза каждый раз, когда кто-нибудь случайно взглядывал на него. Во всяком взгляде ему казался допрос. Он чувствовал, что на лице его написано нечто, что может сейчас всякий прочесть, узнать и ахнуть!
Он стал близ дверей лестницы, но, оглядевшись, вдруг пошатнулся, как пораженный громом, и, схватясь за сердце, едва не вскрикнул. У окна, на стульях, сидел старик граф Скабронский, а около него… кармелитка. Она что-то тихо рассказывала ему и смеялась. Он тоже громко смеялся, покачиваясь на стуле.
– Не может быть… Другая! Другая! – шептал Шепелев почти громко, застыв от ужаса и отчаяния.
Он двинулся ближе к ним, и его почти безумный сверкающий взор приковался к белой маске кармелитки. Она вдруг увидела Шепелева, будто вздрогнула и перестала смеяться и говорить.
«Подойду!» – решил он и сделал через силу еще два шага.
Кармелитка, глядевшая пристально на него, быстро встала, взяла руку Скабронского и, видимо, сильно потянула его за собой, увлекая в толпу.
– Ах ты, вьюн! Смотри, пожалуй! под ручку!! – захохотал увлекаемый старик.
Но Шепелев этого не слыхал. Он двинулся к окну и ухватился за что-то рукой, чтобы не упасть от той бури, которая забушевала у него на душе.
– Мальчишка! Дурак! Дурак! – шептал он. – Вообразил, поверил! Но голос… Голос ее!.. Да! Ее голос. Я с ума схожу!..
Долго ли пробыл юноша в состоянии оцепенения, застыв от отчаяния, он сам не знал. Он бессознательно видел только, что всюду поднялась какая-то сумятица. Все будто встревожены. Гольц стоит окруженный разными сановниками. Откуда он пришел? С лестницы, кажется. Около него Панин, фельдмаршал Трубецкой, Бретейль и целая кучка важных, ему незнакомых сановников. Вот и в зале тоже стихло… Музыка играет, но никто не танцует. Вся молодежь – двигаются, сходятся вместе, шепчутся… а все будто оробели.
– Арестован! – слышит Шепелев несколько раз.
С лестницы появился гетман, бледный, встревоженный, и прямо подошел к Гольцу… Шепелев стал было прислушиваться к взволнованному голосу гетмана, который клялся, божился и умолял посланника. Горе, отчаяние слышалось в его голосе… Но едва стал юноша понимать, что дело идет о каком-то арестованном, как внимание его было снова отвлечено… Граф Скабронский прошел в гостиную с кармелиткой и повел ее туда… Туда, где он был!.. Где думал, что нашел свое счастье, а был глупо и грубо обманут какой-то развратной женщиной, кидающейся в объятия первого встречного. И он ощутил вдруг на сердце страшное чувство. Сердце будто упрекало его, что он осквернил то, что жило в нем и еще недавно было чисто и свято для него, а теперь попрано и поругано.
– Да нет, нет! Я же с ума сошел! – шептал он. – Два голоса не могут так быть схожи!..
Скабронский вернулся один и присоединился к кучке, слушавшей горячую речь гетмана. Шепелев тоже глядел на всех и тоже будто внимательно слушал, а сам прислушивался к тому, что шептало ему страдающее и упрекающее сердце.
И вдруг он двинулся и, теперь еще более бледный, с дикой, полубезумной решимостью в глазах, почти побежал через гостиную…
– Нескромность! Дерзость! Бог весть, что выйдет! Может быть, сестра ее… – шептал он на ходу. – Ах, все равно! Все равно! Мне хоть умирать! Мне надо знать!!
Он был уже у двери уборной и, задыхаясь, взялся за ручку… Дверь была заперта…
– Кто там? – раздался тревожный голос, но он узнал его сразу… Это голос обеих… Голос «Ночи» и голос кармелитки.
– Мне надо… – начал Шепелев, но губы его дрожали, язык не повиновался, голос рвался на части.
– Кто тут? – повторила она, приблизясь к самой двери.
– Я… Шепелев… – через силу громче говорил он.
Замок щелкнул, дверь отворилась, и на пороге в полусумраке явилась кармелитка Маргарита, без маски на лице.
Шепелев схватил себя за голову и отступил…
– Что вам угодно? – холодно, строго, почти гневно вымолвила Маргарита.
– Ах, графиня… Я не знаю!.. – со страданием в голосе прошептал он.
– Вы не знаете?! – воскликнула она, выдвигаясь еще немного из дверей. – Так я знаю!.. Вы хотите преследовать и срамить женщину за один неосторожный поступок! – прошептала она. – За один шуточный поцелуй!.. Что ты говоришь? – обернулась она вдруг назад в комнату за растворенную дверь. – Кто это? А это тот дежурный, который по твоей милости офицер и который неизвестно по какому праву считает возможным лезть в нашу уборную.
В ответ на это сдержанный смех послышался в углу горницы.
– Ну-с, я прощаю вас. Я сама виновата! Но это уж в последний раз! – несколько мягче вымолвила Маргарита.
Дверь снова затворилась, снова щелкнул звонко замок.
Шепелев, едва двигаясь, тихо двинулся от дверей. Он уже ни о чем и думать не мог. Мысли рвались, путались. То отчаяние овладевало им, то вдруг сердце, встрепенувшись радостно, говорило ему, будто вскрикивал в нем самом другой человек: неправда! это она!.. она! Сердце знает, видит и чует лучше разума, лучше глаз и ушей.
Вернувшись в залу, Шепелев заметил опустевшие комнаты. Гостей оставалось не более полсотни человек, и то все больше иностранцы. Русские вельможи и сановники все сразу разъехались, будто их разогнала гроза.
На устах у всех теперь было имя Теплова.
Гольц тихо говорил по-немецки в углу с датским посланником Гактгаузеном, и Шепелев, стоявший недалеко от них, расслышал фразу:
– А главное, он наперсник и друг обоих графов. Да, русской партии конец. Их всех теперь развезут по захолустьям их пространного отечества!
Граф Скабронский разговаривал с Фленсбургом, и адъютант изредка взглядывал на Шепелева. Казалось, он один прочел что-то на лице юноши и, раз взглянув на него, теперь постоянно снова переводил глаза на его бледное лицо… и снова читал!..
Шепелев невольно отвернулся и подумал:
«Проклятый немец! Ненавидит меня… И за что? За то, что я когда-то ночью неохотно за слесарем сбегал!»
Через несколько минут Шепелев, стоявший у окна опустя голову, вдруг встрепенулся, будто нечто случилось около него.
Сердце подсказало верно…
Она шла по гостиной и появилась в комнате. Маргарита в том же своем длинном, простом белом костюме, но без маски на лице была еще красивее обыкновенного.
Шепелев пристально и пытливо глядел в ее лицо.
Она увидала Скабронского и подошла к нему.
– Ты, внучка, слышала ли, что тут сейчас было? – сказал старик.
– Теплов арестован! – выговорил Фленсбург.
– Ну, так что ж? – равнодушно отозвалась Маргарита.
И все трое зашептались…
И Фленсбург стал что-то шепотом рассказывать ей, но, послушав без внимания минуту, Маргарита отошла от них к Гольцу и, мимоходом взглянув на Шепелева, сделала невольное движение, будто изумилась.
Она простилась с хозяином и тотчас подошла к юноше.
– Будьте столь любезны, посадите меня в карету.
Шепелев радостно двинулся.
– Позвольте, графиня. Эту честь я никому не уступлю, – выговорил Фленсбург.
– Да я тебя довезу в своей, внучка, – сказал, усмехаясь, Скабронский.
– Ни вас, ни вас тревожить не хочу! – шутливо, но решительно произнесла Маргарита обоим по очереди.
– Это пустяки… – вымолвил угрюмо Фленсбург, подавая ей руку. – Теперь мой черед! – прибавил он, улыбаясь дерзко и как-то двусмысленно.
– Нет. Это очень, очень серьезно! А очереди я не признаю, – отвечала Маргарита холодно, и, обернувшись к Шепелеву, она прибавила: – Господин офицер, вашу руку.
– По крайней мере, не повышайте его в чине… еще! Довольно с него нелепо полученного сержанта! – вспыхнув, сказал Фленсбург.
– Извините, господин Фленсбург. Вы ошибаетесь, – выговорил Шепелев злобно. – Государь сегодня на бале поздравил меня офицером.
Фленсбург отчаянно вытаращил глаза…
Маргарита взяла Шепелева под руку и несколько театрально и насмешливо, глядя на деда и адъютанта, присела низко обоим как бы в менуэте и двинулась весело на лестницу.
– Отчего вы так страшно бледны? – тихо заговорила она, спускаясь быстро по ступеням и невольно прижимаясь к нему, чтобы не оступиться. – Я даже испугалась. Мне стало жаль вас. Оттого я вас и позвала.
– Ах, графиня… Что ж тут спрашивать! Ведь вы сами все знаете!.. – с отчаянием воскликнул он. – Ведь это были вы?.. Вы!
Маргарита не отвечала и, спустившись в швейцарскую, бросила его руку и стала надевать салоп.
Лакеи выбежали на улицу… и кричали ее карету. Маргарита тоже вышла на подъезд. Утренняя свежесть охватила ее.
– Скажите мне, умоляю вас. Умоляю!.. – преследовал ее Шепелев. – Иначе меня завтра к вечеру уже не будет на свете!..
Но Маргарита молчала, только глядела ему в глаза и улыбалась. И лицо ее, обращенное к нему и освещенное теперь ясной зарей, вдруг будто само ответило ему… Теперь только заметил он странное, новое, доселе им не виданное у нее выражение, которое, казалось, легло резкой печатью на все черты ее чудно красивого лица, – выражение восторженного утомления…
– Только то и дорого и хорошо, что «почти невозможно», – с расстановкой и вразумительно выговорила она и быстро прыгнула в поданную карету… Покуда лакеи становились на запятки, она высунулась в окно к юноше и вскрикнула, смеясь звонким и счастливым смехом: – А по небесным светилам ходить – грех!!
XXXVIII
В доме гетмана Разумовского никто не ложился в эту ночь. Все было на ногах, и все лица были смущены и встревожены.
В десять часов утра неспавший гетман поехал к принцу, а от него через час был уже в канцелярии, где Гудович и Нарышкин разбирали дела, перешедшие к ним из уничтоженной Тайной канцелярии. «Слово и дело» не существовало и не повторялось уже три месяца. Теперь доносчик говорил: «Имею за собой важность» – и его вели к ленивому Гудовичу и остряку Нарышкину.
Француз, каменщик Валуа, был уже допрошен и поставлен по просьбе приехавшего гетмана на очную ставку с Тепловым.
И ничто не подтвердилось. Все оказалось выдумкой и клеветой. Подтвердилось только многими свидетелями, что Теплов за три дня перед тем зело шибко побил Валуа за ухаживание и приставание к его, Теплова, возлюбленной, живущей на Васильевском острове.
– Ну, извините, Григорий Николаевич! – сказал, смеясь, Гудович. – Натерпелись страху небось. Что делать! Ну а ты, прохвост, теперь улетишь далеко. Я из-за тебя ночь не спал!
– Если б вы мне вчера сказали имя доносчика, – глухо и озлобленно выговорил Теплов, – то я бы сам догадался, в чем дело.
После полудня Теплов был уже освобожден по приказу государя и поехал домой. Лицо его было чернее ночи.
Через час явился к нему Перфильев и передал от государя записку, собственноручно написанную. В ней было: «Григорий Николаевич. Не сердитесь! Зачту!»
И много народу перебывало у Теплова за весь день. Он не принимал никого и сидел задумавшись в кабинете.
Не более как через часа четыре после Перфильева к нему явился Григорий Орлов.
Теплов был изумлен этим визитом буяна-гвардейца, с которым он не имел ничего общего и который за всю зиму раза три всего был у него в гостях. Он тоже не захотел, конечно, его принимать, но Орлов уперся и насильно, якобы по делу, влез к нему.
Через несколько минут Теплов был озадачен откровенной речью гвардейца. Он считал его трактирным буяном и шалуном, думающим только о попойках, женщинах и картах, а тут перед ним оказался вдруг совсем иной человек.
Но и Орлов в свою очередь был немало удивлен. Он думал, что ему придется разжигать Теплова насмешками и шутками, которые будто бы ходили об нем в городе, что ему придется убеждать Теплова считать себя оскорбленным. А между тем это оказался напрасный труд. Когда Орлов вошел в горницу, то нашел Теплова ходящим быстрыми шагами из угла в угол. Лицо его было сильно взволнованно. После первых же слов Орлова Теплов еще более изменился в лице и губы его затряслись. Он замахал руками, хотел говорить и не мог; затем, передохнув, он заговорил, и Орлов узнал, что этого человека нечего уговаривать и разжигать.
Теплов был действительно вне себя от случившегося с ним позора. Это был человек в высшей степени самолюбивый и даже мелочного самолюбия, сановник из самых свежеиспеченных дворян, да вдобавок еще не из тех гренадеров, которые возвели цесаревну на престол, а из тех, которые справляли еще недавно всякие лакейские домашние услуги.
Орлов увидал ясно, что незачем скрываться от Теплова, что пожилой и умный сановник настолько глубоко оскорблен арестом, что никогда его не простит.
– Нельзя, нельзя, нельзя… – шептал Теплов, ходя из угла в угол. – Так не поступают! Ошиблись? Так не ошибайся, прежде осмотрись!
Дав высказаться Теплову, осыпать все и всех бранью, произнести несколько таких угроз, которые было бы даже опасно так громко произносить при малознакомом ему человеке, – Орлов заговорил в свою очередь искренне и закончил беседу словами;
– Итак, Григорий Николаевич, теперь понимаете, почему я к вам приехал? Нас народу немало, но сидим мы, у моря погоды ждем! Как быть, что делать – не знаем. И покуда только набираем и набираем народ. Я и брат как только заслышим, что кого одолжили, погладили, подарили, вот как вас теперь этим арестом, мы едем, знакомимся и зовем к себе. А там дальше что бог даст! Приезжайте к нам и найдете препорядочную кучку молодцов, которым нынешние порядки невмоготу. Заправилы у нас нет. Коли угодно, можете взять команду! Приказывайте и распоряжайтесь, слушаться и повиноваться будем слепо, если только увидим, что попали в руки настоящего опытного заправилы. Угодно вам или нет?
Теплов, видимо смущенный, пристально глядел в глаза Орлова, как бы колеблясь.
– Григорий Николаевич, – горячо и простодушно воскликнул Орлов, – да вы боитесь, опасаетесь меня! Поймите, вы, умнейший в Питере человек, и не можете отличить правды от кривды. Посудите, могу ли я лгать и притворяться? Разве я хитрю, разве я не наговорил вам сейчас таких слов, за которые вы можете меня через час выдать с головой и меня прикажут схватить и сослать в Пелым? А когда человек отдается так головой в руки, нешто можно ему не верить? Я вам предлагаю быть у нас, перезнакомиться со всеми нашими приятелями. Я иду и на то, что вы завтра можете быть хоть фельдмаршалом. Стоит вам только всех нас назвать и выдать. Только одно прибавлю: тот, кто это сделает, конечно, двух дней головы не сносит. Какой-нибудь из нас да останется, чтобы ему горло перерезать.
Последние слова Орлов произнес таким голосом, по которому видно было, что этот вопрос о предателе давно решен в кружке.
Теплов задумчиво молчал несколько минут, не зная, что ответить. Но вдруг снова вспомнил он, уж в сотый раз, как его в мундире, во всех орденах, выходящего из маскарада посланника садиться в карету, схватили два кирасира… изорвали платье… поволокли на извозчичьи сани. Снова вся кровь хлынула в сердце и ударила в голову, зарумянила лицо самолюбца, и под этим наплывом гнева и горечи он выговорил вслух:
– Нет, нельзя, нельзя! Никогда не прощу! Нет, такого дела не прощают!
– Вестимо, не прощают, – проговорил Орлов.
Теплов протянул ему руку и выговорил твердо и резко:
– Да, я с вами. Лишь бы только вас было больше, да не дураки, да не болтуны. А остальное все само приложится! Недаром я правил при гетмане целой страной, целой Хохландией, чтобы не управить вами. Да, у тебя губа не дура, тезка Григорий Григорьевич, что ты влез ко мне ныне силком. Скажи своим, что вы такого человека теперь залучили к себе, который заставит вас действовать как по писаному и разыгрывать все как по нотам. Когда у вас сходка?
– Да мы всякое утро собираемся, а иногда и вечером. Иногда ночь сидим. Запремся и будто в карты дуемся, а сами толкуем.
– Только толкуете?
– Да.
– Ну завтра же утром я буду у вас. Слов мало, надо и дело! Ну, голубчики! – произнес Теплов, как бы обращаясь к каким-то невидимкам, стоящим перед ним в горнице. – Обзавелись вы теперь благоприятелем в особе Григория Теплова!..
И на другое же утро в квартире Орловых собрались приятели их; но на этот раз комнаты едва вместили новых друзей и товарищей.
Давно ли Пушкин и Бибиков стали бывать здесь? А они были уже свои люди, после них явились уже другие, более новички. За последнюю неделю человек десять новых друзей из разных полков появились у Орловых. Не прошло двух часов беседы, в которой все больше слушали Теплова, чем говорили, как вся компания повеселела и как бы ожила. Теплов задавал им такие вопросы, делал такие возражения, предлагал такие вещи, что молодежь сразу признала в нем не более не менее как своего главнокомандующего. Будто разум вдохнули в тело. Как тройка борзых коней, почуяв сильные искусные руки, подобравшие вожжи, мчится с места бодрее и веселей, так все эти молодые люди воодушевились сразу, почуяв, что у них завелся настоящий искусный и замечательный руководитель.
В сумерки, когда молодежь начала уже расходиться от Орловых, каждый уходил веселый, довольный, как будто бы на другой день предстояло начать общее дело, которое, по убеждению теперь каждого из них, должно кончиться неминуемо полным успехом. Алексей Орлов бодрее и радостнее всех других весело отправился с тайным поручением от Теплова к главе синода, Сеченову.
Когда у Орловых остались самые близкие, самые давнишние друзья, братья Рославлевы, Всеволожские, Ласунский и Пассек, то последний, самый дельный из всех, обратился к Теплову с вопросом:
– Григорий Николаевич, неужели вы, которому молва приписывает такое влияние на Разумовских, не можете поручиться сейчас же, что граф Алексей Григорьевич и граф-гетман тоже присоединятся к нашему делу?
– Нет, Петр Богданович, об этом и думать нечего. Да их государственное положение и не дозволяет того. Случись что, они против нас не пойдут, но чтобы теперь им пристать к компании молодцов-офицеров – это невозможно. Подумайте, мне сорок пять лет, а ведь я самый старший у вас. Между вами, поди, ни одного сорокалетнего не найдется, а по чину самый чиновный, поди, только майор. Нет, вы графам Разумовским не компания, да я и не сунусь к ним с таким предложением. Гетман Кирилл Григорьевич выгонит меня вон, а Алексей Григорьевич и того хуже, поедет да государю и доложит. И уж тогда коли меня стащат, так опять не выпустят. Да они нам и не нужны…
И Теплов, собираясь уезжать, взялся за шапку.
– Помните одно… Осторожнее! – заговорил он снова. – Нам нужна гвардия – это ваше дело! Нам нужны сенаторы, хотя бы десятка два, но самых дельных – и это мое дело… Нам нужно духовенство, синод… Ну, об этом уже, верно, постарался Сеченов и еще постарается сам Петр Федорович!.. Простите покуда… Заходи, тезка, завтра ввечеру на пару слов, – обратился Теплов к Григорию Орлову. – На парочку, братец, самых важных слов, которых всем вам незачем и знать!!
– Ладно. Буду! – отвечал Григорий, весело улыбаясь.
– Только эту парочку слов не я скажу тебе! Я с тебя потребую признания, – сказал Теплов. – Не ради бабьего любопытства, а ради дела. Коли ты подтвердишь мою о тебе догадку, то дело пойдет у нас совсем как по маслу.
В эту минуту в передней раздался удар хлопнутой двери, быстрые шаги, и затем обе половинки дверей в гостиную тоже распахнулись с громом, так что ключ, выскочив из замка, зазвенел по полу.
На пороге появился Алексей Орлов с оживленным лицом и, слегка задохнувшись, крикнул:
– Скорее… Идите! Все!
Офицеры повскакали с мест и бросились к нему.
– Что такое? Что? – был общий вопрос.
– Скорее, говорят, идите. Такое… Такое увидите, чего отроду не видали.
– Да что?
– Слышите – барабан… Рота измайловцев! С караула идет. А кто впереди? А?! За простого капрала шагает. Кто?!
– Ну! Ну!
– Граф-гетман! Сам ваш Кирилл Григорьевич! – обратился Алексей к изумленному Теплову.
Все офицеры бросились врассыпную по горнице хватать свои шляпы, кивера и шпаги.
– Да врет он все… Чего вы его слушаете! – крикнул Пассек. – Балуется!
– Ей-богу же! Ей-богу.
– Полно блажить, Алеша! Тут тебе поручили важное дело, а ты…
– Стану я тебе, чучело, даром божиться да грешить! – крикнул Алексей решительно.
– Да не может статься. Гетман при мне в маскараде был обласкан государем, – сказал Теплов, – а это же ведь хуже плюхи…
– Идите, говорят вам! Жалеть после будете! – крикнул Алексей и побежал вниз.
Офицеры бросились за ним. Теплов последовал тоже.
Между тем барабанный бой приближался, и на глаза высыпавшей на улицу молодежи из-за угла Адмиралтейского проспекта показалась рота Измайловского полка. Впереди двигалась, шагая в такт барабанного боя, в блестящем на солнце мундире, во всех орденах и Андреевской ленте, высокая, всем знакомая фигура графа-гетмана.
Густые брови его слегка сдвинулись, глаза были опущены в землю, и лицо немного бледно.
Он, очевидно, замечал останавливающийся по бокам народ, столпившуюся кучку офицеров, изумленно и молчаливо взиравших на него, но, медленно и гордо шагая перед ротой среди улицы, поравнялся и прошел, не подняв глаз, опущенных в землю. На лицах солдат, равномерно шагавших за гетманом, было заметно что-то особенное, необыденное. Они будто не знали, как им смотреть на прохожих: переглядываться и смеяться чудной оказии или смотреть тоже исподлобья, как гетман.
Рота завернула и скрылась за углом Большой Морской, за ней в нескольких шагах следовала большая красивая берлина, голубая с позолотой, с золотым гербом графов Разумовских на темно-синем бархатном чехле козел. Длинный цуг красивых и выхоленных коней, по два в ряд, выступал лихо, горячась и играя нетерпеливо.
Глаза и лицо старика кучера, когда-то подаренного гетману покойной императрицей, говорили толпе с козел то, чего не могли сказать опущенные глаза его барина. Злоба и остервенение были в них! Пустая берлина, качаясь тихо на ремнях, шагом, будто на похоронах, тихо завернула за угол.
Между тем прохожие по всему пути останавливались и, обернувшись, глазели, разиня рты. Питерцы любили гетмана, и теперь имя Кирилла Григорьевича было на всех устах, и всякий обращался к соседу или вслух сам к себе с вопросом:
– Что за притча?.. Гетман роту ведет?
– Что ж это такое! – вымолвил, наконец, и Григорий Орлов в кучке офицеров.
В эту минуту показался на площади верхом Перфильев и крупной рысью ехал в Морскую.
– Стой! Стой! Степан Васильевич! – закричала вся кучка офицеров, бросаясь к нему навстречу.
Он круто остановил лошадь. Офицеры, а за ними и народ окружили его.
– Что такое? Объясни, братец, виденное сейчас позорище, – сказал Григорий Орлов. – Гетман провел роту измайловцев, и сам пешком!
– Государь приказал… Завтра будет указ всем высшим чинам гвардии, даже фельдмаршалам, быть в строю и бывать на всех экзерцициях и во всех караулах. Всем – от последнего сержанта до генерала.
– Что-о?! – воскликнули все враз.
– Да. Еду вот к Никите Юрьевичу с указом лично привести сейчас на плац преображенцев.
– Старого филина – поделом. А гетмана жаль, – сказал Ласунский.
– Трубецкого? Разумеется, не жаль!
– Да он с тех пор, что генерал-прокурором, шпаги в руки не брал! – воскликнул кто-то.
– Вспомнит небось, как под ружье поставят! – воскликнул, смеясь, Перфильев.
– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – захохотал Алексей Орлов. – Фельдмаршалов да генерал-прокуроров будут скоро на вести ставить!
– Разумеется, коли укажут! – сказал сухо Перфильев, отъезжая от молодежи.
В кучке офицеров наступило гробовое молчание… Некоторые переглядывались.
– А видели лицо гетмана? Белее скатерти! – тихо сказал Пассек.
– Да, у него теперь на душе кипит.
Алексей Орлов наклонился к брату и шепнул ему на ухо:
– А гетман-то наш теперь! А?!
– Пожалуй, что и так! – отвечал Григорий вслух и, увидя на крыльце своего дома Теплова, подошел с вопросом: – Ну что, Григорий Николаевич, графы теперь поподатливее будут?
– Вестимо! – отвечал весело Теплов. – Это еще лучше моего ареста.
XXXIX
В тот же вечер все три брата Орловы, взяв с собой и молоденького кадета Владимира, а с ними Ласунский, Пассек и Талызин весело пообедали в трактире и уже вечером вышли на улицу.
Майская ночь была великолепна: тихая, теплая и ясная. Полная луна на небе светила так ярко, что на дворе было светло, как днем. Всем поневоле захотелось пройтись пешком, и они отправились к берегу Невы, по направлению к дворцу принца Жоржа.
Талызин, флотский офицер, обожавший море, предложил воспользоваться чудной ночью и затишьем и прокатиться в лодке.
Все единодушно согласились, только один Григорий Орлов стал отказываться, чувствуя страшную усталость. Он отсутствовал всю ночь из дому, вернулся со свидания только в шесть часов утра. Этого никто не знал и не видал, кроме старого Агафона, который его каждый раз упрямо дожидался одетый и с фонарем на столе. Теперь он чувствовал себя усталым настолько, что уже мечтал только об одном – очутиться в постели.
– Нет! – воскликнул Алексей. – Уж ехать, так всем ехать! И ты ступай! А коли разберет сон, ложись в лодке и спи.
– Что ж с вами делать! Поедем…
Вся компания направилась вдоль набережной по направлению пристани, помещавшейся против мыса Васильевского острова. Здесь всегда бывали перевозчики и всякие лодки.
Талызин, как знаток, выбрал самую большую лодку. Все вошли, расселись и взялись за весла.
Алексей Орлов сел передним гребцом и взял два огромных весла. Талызин сел к рулю. Только Григорий отказался грести наотрез, умостился за братом на самом носу лодки и, подложив себе под голову снятый Алексеем мундир, тотчас улегся…
И лодка стрелой понеслась вниз по течению благодаря бойким взмахам гребцов и силе быстрого течения. В десять минут лодка была уже на взморье. И сразу развернулось перед ними, будто обхватило их в огромные объятия, просторное, спокойное и необозримое лоно вод, перерезанное пополам лунной сверкающей полосой. Будто серебряная, но зыбкая и обманчивая дорога – по ровному, по темному и неведомому царству! Будто символ жизни нашей!
Талызин, сидевший лицом к великому простору, глянувшему вдруг на них среди ночи и затишья, не выдержал.
– Стой! – вскрикнул он. – Убирай весла!
Все повиновались.
– Поворачивай голову! – смеясь, скомандовал он. – Гляди и чувствуй. Где лучше? У вас или у нас? В казарме или на корабле?
Все обернулись, и никто не сказал ни слова. Все залюбовались тихим таинственным простором вод, и на всех повеяло чем-то чудным, новым, чего нет в городе, нет в поле…
– Гриша, – сказал наконец Алексей, – гляди, что за диво? Знаете, ребята… Чудно! Просто хоть молиться. Гриша!
– Отстань! А молиться хочешь, так и меня помяни, а я спать хочу, – промычал тот в ответ.
– Ну, матросы, за весла! – скомандовал Талызин. – Мы еще с полверсты двинем в море, а там назад.
И лодка снова понеслась по гладкой, незыблемой поверхности. Только весла, всплескивая воду, нарушали общий сон и затишье, и будто серебром посыпало по бокам лодки, да серебристый след вился за ней, как хвост, и, расходясь в обе стороны, страшно разрастался, но все-таки пропадал и умирал в безбрежном и живом просторе.
Гребцы, налегая усердно на весла, молчали; всякий думал свою думу, сознавая, что ставит судьбу свою на карту…
Григорий Орлов тоже, скорчившись и согнувшись на носу лодки, думал свою думу. Он думал о том, как много перемен совершилось за последнее время. Он вспомнил двадцать четвертое апреля, которое теперь на всю жизнь останется у него запечатленным на сердце. Он почти не шутил, когда говорил старому Фошке, что закажет мраморную доску, вырежет на ней это число и будет поклоны класть.
«И для Фридриха это число важное! Трактат мирный его сочинения одобрен…»
Затем, думая о последних днях, мысль его поневоле сосредоточилась на Теплове. Человек этот, присоединившись к их кружку, по-видимому, должен был совершенно все круто видоизменить, и к лучшему.
«Это действительно заправила наш, – думал Григорий Орлов, – и действительно я клад нашел. Только одно мучит душу. Ну вдруг, не побоясь угрозы нашей, одумается он, оробеет, пойдет за прощением к государю и в доказательство раскаяния назовет всех по именам. И все дело пойдет прахом! И все мы будем… бог весть где!»
Долго думал об этом Орлов, припоминая малейшее слово, малейшее движение, даже оттенок голоса нового члена кружка, самого старшего, самого влиятельного…
Но вдруг среди тьмы зажглись огоньки и фонари улиц петербургских. Среди темной ночи каким-то зловещим, красным светом сверкнули эти огоньки. В аду, верно, этакой вот огонь неугасимый. Лодка, сильно покачиваясь на волнах, быстро двигается по узкой темной реке.
«Как Нева узка! – думает он. – А говорят, самая широкая на свете. Куда! Висла и та шире гораздо».
Лодка все двигалась и наконец с маху уперлась в берег.
Григорий вышел с братьями на берег, и в ту же минуту среди темноты несколько военных подходят к ним.
– Вы Орловы?
– Мы, – говорит Алексей.
– Вы арестованы.
– За что? – воскликнул тот.
– Там узнаете… Идите.
Не прошло нескольких мгновений, как все три брата и товарищи уже на гауптвахте. Они стоят перед зеленым столом, за которым сидят Нарышкин и Гудович, заменившие Тайную канцелярию.
Дело простое. Теплов всех выдал. Перед Гудовичем лежит длинный список, во главе которого стоят имена трех братьев Орловых.
В соседней комнате слышен гул и шум: туда свозят всех арестованных товарищей.
Григорий ясно слышал голос Шванвича, который божится и клянется всеми святыми, что он никогда у господ Орловых не бывал, что он их только бивал.
– Бывал! Бивал! – восклицает кто-то и хохочет весело.
И в каком-то круговороте Григорий с полуслов и намеков узнает от Гудовича, что государыня арестована на время в Смольном дворе. Не далее как завтра она будет отвезена в Шлиссельбург и заключена навеки.
Гудович и Нарышкин начинают подробный допрос братьев как главных участников. Григорий отвечает истину, но брат Алексей вдруг хватает его за руку.
– Гриш, нечего попусту языком болтать! – восклицает он. – Что тут сказывать, дело простое, они сами лучше нас все знают. Виноваты кругом, ну и руби головы! Дело такое, и святое и грешное, и правое и виноватое! Или пан, или пропал. Та же чехарда! Не сел на конь, стань конь! Я больше ни слова! Хоть пытай, хоть на дыбу тяни!
И через минуту Григорий уже в отдельной каморке, где стоит только одна кровать, даже без матраца. Окошко решетчатое. И в это окно проливается слабый свет не то от фонаря, не то от луны. И в этой каморке так же тихо, как в гробу. Только мышь в углу грызет гнилую доску. Да ведь и это, поди, в гробу бывает; ведь есть земляные мыши, которые прокладывают дорожку к зарытому покойнику.
«Я всех погубил! Я этого Искариота, хохлацкого наперсника, раздобыл. И всех перебрали. Никто даже не останется цел, чтобы ему, по крайней мере, горло перерезать. А она? Что она? Проклинает его!»
И под наплывом горя и отчаяния Григорий забыл о каморке. Кто-то взял его за руку.
– Что? – восклицает он, вздрогнув.
– Иди!
Он послушно встает и идет за каким-то преображенским солдатом. Солдат оборчивается, это – Квасов.
– Ты как в рядовые угодил?! – восклицает Григорий. – Ты ведь, леший, у нас не захотел быть. Так за что же тебя-то разжаловали?
Но Квасов не отвечает и только махнул рукой. Не зная сам, как и когда прошел он длинный коридор, спустился по какой-то страшно крутой, будто винтовой лестнице, – Григорий уже на улице. На дворе свежо, солнце еще не подымалось, и он чувствует, как озябла голова его без шапки. Бессознательно идет он за Квасовым, проходит крыльцо, какие-то ворота и сразу вступает в кучку телег.
И все тут! Да, все до единого! Ни одного не позабыл Теплов.
Гробовое молчание царит между ними, никто ни слова. Да и что тут говорить! Но одно только видит Григорий, чувствует, и болью отдается оно у него на сердце. Он видит на всех лицах, читает во всех взорах одно – укор!
«Ты Теплова привез! Ты нас погубил!» – говорят все эти мертво-бледные лица и трепетные взоры. И он невольно опускает глаза, закрывает лицо руками и не хочет даже знать, видеть, что происходит кругом.
Его посадили на какую-то телегу; он боится открыть глаза, но чует, что и все садятся. Он двинулся, его везут, но он чувствует, что не один он едет, всех везут, и братьев и друзей! Неужели и мальчугана Владимира не пожалели они? Чем он виноват? Тем, что родня! Как он держал его у себя на квартире? Зачем не отправил его к брату Ивану в Москву? А брат Иван, и до него доберутся? Он чем виноват? Уже три года, как не видались они. Да что он? Что братья? Букашки, прах… Она! Она им погублена. Но куда ж везут их?
И Григорий, открыв глаза, вскрикнул и схватился за сердце.
Вереница тележек выехала на Адмиралтейскую площадь, и здесь, где так часто гулял он, ездил верхом, здесь, где еще вчера проходил, спеша свидеться… здесь уже состряпали на скорую руку высокий помост, столбы и плаху…
Как часто слыхал он в детстве рассказы отца и матери, рассказы мамушек, рассказы Агафона о бироновских казнях. И вот вдруг его черед! И как скоро, просто, незаметно привела его сюда судьба и толкает на плаху…
– Не срамись, Гриша! – слышит он рядом с другой тележки. – Баба ты или офицер? Умирать так умирать! Нешто мы не виноваты?! Повернись дело вправо – были бы герои, повернулось влево – и преступники!
И от слов брата у Григория светлей на душе, он бодрее поднимает голову.
Тележки останавливаются у высокого помоста. Тысячная толпа заливает кругом и помост и телеги, но мертвое молчание царит в этой толпе. Никто ни единым словом, ни единым взглядом не хочет оскорбить преступников. Нет, на всех лицах Орлов читает жалость и сочувствие. Да, православные все знают, что за правое дело они погибают.
– Первого – Орлова Григория! – слышится голос. – С него начинать.
– Ну, что ж! – восклицает он. – Спасибо за честь! Коли всем класть головы, так уж, конечно, мне первому. Простите, братцы. Прощайте. Будь проклят Теплов! Благослови, Господь, ее, государыню, ни в чем не повинную! Ну, рубите, что ль, скорей! Куда класть башку-то? Эй, палач, укажи, где класть. Одолжи разок, в другой раз сам буду знать! – шутит Григорий, а на глазах слезы…
Но чьи-то руки уже хватают его за плечи. Палач знает свое дело. Ишь как ухватил! Того гляди, плечо вывернет…
– Да вставай же. Ну! – кричит палач и пуще ухватил и тянет.
– Вставай! Государь простил! – говорит палач.
Нет, это не палач, это он сам себе говорит.
Площадь дрогнула, заколебалась вся и пошла каким-то странным круговоротом. Люди, тележки, дома, небо – все завертелось! И сразу стало светло! Прямо перед глазами круглая, ясная луна, будто кружок серебристого льда. А над ним нагнувшийся брат Алехан.
– Ну, заспался, брат. Насилу растолкал! Да еще бормочет: «Государь простил!» Аль Котцау во сне опять бил?
Григорий Орлов протер глаза, глубоко вздохнул и огляделся дико кругом.
– Что это? Где? Что? Палач! Умирать… Ну…
– Что ты! Типун тебе на язык! Экие слова на всю улицу орешь… – воскликнул Алексей. – Вставай! Все уж пошли… Вон уж где…
– Господи! Сон! Привиделось! – И Григорий вскочил на ноги. – Привиделось! Алехан! Алехан!!
И он так бросился на шею к брату, что лодка покачнулась.
– Что ты! Ошалел, что ли? Чего целуешься?
– Господи помилуй и сохрани! Господи помилуй! – начал креститься Григорий и затем, радостно ахнув, выскочил на берег и запрыгал, как мальчуган.
Алексей недоумевая вылез из лодки за братом и выговорил:
– Аль сон какой поганый?..
– Ах, что я видел! Алеханушка, что я видел! Что я видел!..
– Черта, что ли? – нетерпеливо вскрикнул Алексей.
– Ой, хуже… Ох, господи помилуй! Да ведь как живо-то! Как живо! Господи!..
И Григорий начал снова креститься, но вдруг остановился… и взбесился.
– Тьфу!.. Даже зло берет! – отчаянно воскликнул он.
Часть третья
I
Прошло две недели после маскарада у Гольца, а много воды утекло.
Кружок братьев Орловых увеличивался не по дням, а по часам. Наконец квартира Григория Орлова уже не могла вместить всех лиц, которые собирались по утрам, иногда поздно вечером и далеко за полночь. Приходилось подумать о другом месте для собраний. Неизвестно, долго ли Орловы прособирались бы найти новое помещение, если бы осторожный Теплов не взялся за дело сам.
За последнее время стали появляться в квартире Орловых личности, которых они не приглашали и которые сами навязывались в дружбу. При этих личностях, за которых ни один из братьев не мог отвечать, приходилось, конечно, осторожно молчать или просто играть в карты.
Один из этих неизвестных гостей, особенно навязчиво пристававший к Орловым повсюду, где встречал их, и раза два уже явившийся на их сборища, был приятель Фленсбурга, член кружка Гудовича – Будберг. Первый, сообразивший, в чем дело, был, конечно, Теплов.
– За нами начали присматривать, – объявил он, – Будберг таскается неспроста.
И Теплов отгадал верно.
До принца Жоржа, с одной стороны, до Гудовича – с другой, дошли положительные слухи, что в квартире Григория Орлова, где прежде бывали только кутежи и картежная игра, теперь собирается много народу уже не для вина и карт, а для бесед о разных государственных вопросах. Конечно, ни принцу, ни начальнику Тайной канцелярии, ленивому Гудовичу, не могла и на ум прийти та причина, которая руководила сборищем Орловых. Если бы кто-либо сказал, что там замышляется государственный переворот, то, конечно, каждый из «голштинцев», то есть приверженцев императора, похохотал бы до слез над такой глупостью.
Единственный человек, который отнесся к известию об этих сборищах серьезно, был Фленсбург, и он отрядил к Орловым своего приятеля Будберга с просьбой поразнюхать, что там творится.
Причина, руководившая Фленсбургом, была личная. Он искал теперь повсюду кругом себя средство как-нибудь отличиться в глазах государя. За последнее время личные дела Фленсбурга шли скверно. Фортуна отвернулась от него; графиня Маргарита почти перестала его принимать и обращалась с ним сухо и резко; а между тем Фленсбург был влюблен в нее еще более прежнего и более, чем когда-либо, ревновал ее ко всем: и к доктору Вурму, и к старому Скабронскому, и к самому Гольцу, и, наконец, за последние дни, уже на основании фактов, ревновал к мальчишке, которого Маргарита с невероятной ловкостью сделала в один месяц из рядового офицером.
Помимо неудачи в своих сердечных делах Фленсбург перестал быть тем, чем был еще недавно, – хотя и тайным, случайным, но все-таки самым влиятельным лицом в Петербурге. Еще недавно он имел полное влияние над принцем Жоржем, который в свою очередь имел влияние над племянником, то есть над государем. Теперь принц точно так же любил своего фаворита и переводчика, но сам не пользовался прежним значением при государе. Принц, а следовательно, и Фленсбург были побеждены и уничтожены другим человеком.
Этот победитель, захвативший теперь в свои руки чуть не всю Россию, по крайней мере судьбы России, был, конечно, прусский посол. Первый же друг Гольца в Петербурге была теперь графиня Скабронская. И влюбленный, ревнующий Фленсбург ясно предвидел, к чему приведет вскоре дружба Гольца с государем и с красавицей иноземкой. Фленсбург не сомневался в скором возвышении графини Скабронской, если только она не испортит все дело своим неосторожным поведением. Он не сомневался тоже, что первый человек в Петербурге, который при этом пострадает, будет, конечно, он. Вдобавок один из голштинских офицеров, бывший в маскараде Гольца, слышал ясно, как «Ночь» просила государя о высылке Фленсбурга.
И вот честолюбивый шлезвигский дворянин стал мечтать теперь о том, чтобы, помимо принца, как-нибудь приблизиться к государю. Прежде всего он стал ухаживать за Гудовичем более, чем когда-либо, и собирался, бросив место адъютанта ничего не значащего теперь Жоржа, поступить членом в канцелярию для разбора тайных дел. Он уже намекал об этом Гудовичу, обещая работать день и ночь, что, конечно, ленивому Гудовичу было на руку, и тот обещал ему поговорить об этом с государем.
Одновременно с этим Фленсбург стал присматривать за кружком Орловых. Как умный и тонкий человек, он решился следить за ними как можно осторожнее и накрыть только тогда, когда время приспеет и ему можно будет блистательно отличиться и сразу сделаться близким человеком к государю. И вот тогда-то, видя государя часто, он померяется силами с Гольцем и с отвергнувшей его красавицей. Силен Гольц, красива Маргарита, но Фленсбург не сомневался в победе. Над Гольцем он имел то преимущество, что знал страну ближе и говорил по-русски, над Маргаритой же – в том, что знал за ней кое-что, могущее в случае нужды погубить ее в глазах государя.
Впрочем, первая попытка Фленсбурга следить за Орловыми не удалась. После двух или трех назойливых посещений Будберга сборища в квартире прекратились. И, несмотря на все свои старания и даже несмотря на наемных солдат из голштинского войска, говорящих по-русски, Фленсбург не мог узнать, продолжаются ли где-нибудь сборища. Говорить же об этом он никому не хотел, даже принцу Жоржу ни слова ни разу не сказал о своем новом занятии, потому что ему хотелось вести дело одному и, накрыв подозрительных людей, присвоить себе всю честь великого дела.
Между тем орловский кружок далеко не в том виде, в каком был Великим постом, перебрался в огромный, вновь нанятый дом глухого квартала Выборгской стороны. Теперь в этом доме, кое-как меблированном на общие средства, собирались уже не одни молодцы гвардейцы. Здесь стали появляться люди пожилые, даже старые, из самых разнообразных кружков столицы. Тут было уже несколько чиновных людей, занимавших разные довольно видные должности в разных ведомствах, было уже несколько сенаторов и, наконец, несколько духовных лиц. В числе последних появился, хотя, правда, только один раз, сам Сеченов.
Деятельность кружка под управлением Теплова стала кипучая, хотя простая. Она заключалась в двух вещах: находить деньги пожертвованиями для раздачи в разных полках через офицеров и затем вербовать… и вербовать! И всякий вербовал другого и обращался к нему с одним и тем же неизменным вопросом:
– Пойдете ли вы против перемены?.. Помешаете ли чем-либо действу против существующего правительства, если таковое действо будет?
И подобного человека в столице почти не оказывалось!
Если бы Орловы и вся компания заговорщиков обращались с просьбой о помощи, с требованием действовать, то, конечно, они никого бы не нашли. Но они только заручились обещанием ничего не делать против тех, кто что-либо начнет… И отовсюду было полное согласие.
В двух только полках гвардии – в конном и Преображенском – можно было насчитать человек с двадцать офицеров, к которым нельзя было приступить с какими бы то ни было откровенными речами… Все остальные офицеры принадлежали уже кружку и сорили сборными деньгами в своих полках. В Преображенском солдаты обожали Алексея Орлова, Пассека и Баскакова, в Семеновском также обожали и повиновались Федору Орлову, в Измайловском – Ласунскому и братьям Рославлевым, а в конном делали, что хотели офицеры: князь Волконский, Хитрово и Бибиков.
Теплов играл ту же роль в сенате и мог перечесть немалое количество сенаторов, которые обещали в случае чего-либо «пальцем не двинуть». Что касается духовенства, то Сеченов ручался, что во всем Петербурге не найдется ни одного человека, носящего рясу, который бы был «сам себе враг». После отнятия вотчин у монастырей и после указа детям духовных поступать в солдаты кто же бы из них согласился ратовать за правительство, приводившее в исполнение эти пагубные для них меры?
Наконец, всякий из собиравшихся на беседы ручался за свой собственный дом, за домочадцев, за прислугу.
Прислуга была в свой черед распространителем известных речей по кабачкам и трактирам.
Таким образом, в скором времени тайные нити опутали столицу. Центром всего были Теплов и братья Орловы, из которых один бывал всякий день у императрицы. Но многие в кружке этого даже не знали.
Сама государыня тоже не теряла времени. Не было ни одного крупного сановника в столице, начиная с графов Разумовских, Панина, канцлера Воронцова, у которого бы она не выпытала, как поступит он в случае, если будет проявление недовольства и какое бы то ни было действо народное. Часто по очереди государыня беседовала со всяким из этих вельмож, но никогда ни разу не звала их вместе на общую беседу об этом предмете. Разумовские и не подозревали, что государыня осторожно беседовала с ними о том же, о чем беседовала вчера с Сеченовым, третьего дня с Паниным…
И таким образом, все и всё – от первого вельможи в государстве до последнего кабатчика – знали, ожидали и мечтали об одном и том же, но между собой об этом не говорили, воображая, каждый в свою очередь, что только один он посвященный, а другие все чуть не «голштинцы».
Единственный человек во всем Петербурге, который неосторожно, резко и откровенно заговаривал о невозможности положения дел, была княгиня Дашкова. Она чуть не самому государю говорила при встречах, что «так царствовать нельзя»! Но никто не обращал на нее внимания, всякий пожимал плечами и объяснял все словом «баба» или «фантазерка».
Вести себя так Дашкова могла, конечно, только в качестве родной сестры фаворитки и благодаря добродушию крестного отца, государя. Разумеется, из того, что знал Теплов, что знал Григорий Орлов, что знала государыня, Дашкова ничего не знала. Вреда принести она не могла, но и пользы от нее не было никакой. Она предлагала государыне действовать, заручаться друзьями и приверженцами, и государыня только улыбалась. Она предлагала государыне разные меры, но особенные, характерные. Однажды она предложила, чтобы всякий приверженец императрицы, негодующий на правительство и готовый стать на сторону ее и наследника, имел какое-нибудь отличие: подавая, например, руку, делал бы франкмасонский знак, носил бы на левой руке браслет. Особенно браслет с замысловатой надписью по-латыни преследовал княгиню и днем и ночью, и с ним преследовала она государыню настолько, что Екатерина однажды, рассмеявшись, отвечала:
– Ах, голубушка, да закажите вы себе его да и носите!
И часто государыня, оставаясь одна после визита Дашковой, весело усмехалась и думала:
«А ведь если, бог даст, совершится что-либо счастливо и удачно, то ведь она всю честь на себя возьмет!»
И ей невольно приходила на ум одна басня Лафонтена о мухе и путешественниках.
Муха в басне, назойливо кружившаяся над лошадьми, людьми и экипажем, который с трудом поднимался в гору, наконец отстала, уселась на дереве и с приятным чувством исполненного долга объяснила себе, что после всех хлопот она может и отдохнуть!..
Итак, целая сеть, невидимая и тонкая, лежала над столицей, и нити от этой сети были в руках государыни.
Но, однако, одна вещь была совершенно никому не известна: когда? что? как будет совершено? Через месяц? Или через год? Открытый бунт и кровопролитие?! Или что-либо еще ужаснее? Нападение на личность государя?!
Пассек, у которого были все бумаги кружка, а равно и деньги, выработал целый проект народного действа, но он был немыслим.
Близкий приятель Орловых, Баскаков, жертвовал собой и предлагал покончить одним разом все…
Но его предложение было единогласно отвергнуто, и даже Григорий Орлов говорил, что не решится довести до сведения государыни, что именно берет на себя одного Баскаков.
Много было переворотов в Питере с Петра Алексеевича по наши дни, говорило большинство, но ни один из них не был запятнан пролитием крови! Нет, нужно христианское, общее от всех состояний действо без преступления заповедей Божьих и во славу отечества и свою собственную.
II
Если молодцы-гвардейцы шли на действо с чистыми помыслами, без честолюбивых замыслов, то хитрый Теплов пошел на пагубное дело с расчетом пропасть или получить при дележе львиную долю.
«Похерить нынешнее правительство можно, а что на его месте поставить? От формы нового правительства будет зависеть и мое положение!» – рассудил Теплов.
И вскоре он додумался.
Однажды около полудня государыня сидела у себя в кабинете и перелистывала какую-то французскую книгу, но нехотя и рассеянно. Она ожидала к себе с первым визитом Теплова, пожелавшего иметь аудиенцию – глаз на глаз.
За последнее время в государыне произошла видимая и даже резкая перемена: она стала бодрей, веселей, даже лицо ее и взгляд чаще светились радостью.
О посещении Теплова и цели этого секретного посещения еще за день предупредил ее Григорий Орлов. И теперь государыня с утра исключительно думала о Теплове и с нетерпением ждала его. По своему положению этот человек был далеко не влиятельный вельможа, не могущественный сановник на иерархической лестнице и даже не столбовой дворянин. Но это был человек крайне образованный, воспитавшийся и учившийся за границей, человек, быть может, самый образованный из всего петербургского общества и притом злой и хитрый до крайности. Григорий Орлов уже прозвал его заглазно за последние дни дружбы «тезка Искариотыч».
Григорий Николаевич Теплов был сын монаха от жены истопника… Истопник отказался от него, но Феофан Прокопович призрел его. Фамилия была дана подходящая к занятиям мужа наложницы. Явился Теплов на свет в псковском архиерейском доме. Став юношей, он начал учиться серьезно и солидно у самого Феофана Прокоповича. Благодаря беспримерному по времени образованию, он, будучи очень юным, уже сделался секретарем всесильного Волынского. Но когда все окружающие опального, казненного кабинет-министра пострадали тоже, Теплов остался цел, невредим и даже на службе. В начале царствования Елизаветы он имел репутацию человека настолько умного и ученого, что вновь народившийся первый вельможа в государстве призвал его для самого важного и близкого сердцу дела. Вчерашний певчий, ныне граф Разумовский, вызвал из Малороссии своего младшего брата пастуха и приставил к нему Теплова в качестве ментора и воспитателя. Теплов вместе со своим питомцем уехал за границу и после долгих и усердных занятий в германских университетах вернулся, обучив многому юного Кирилла Разумовского, но одновременно образовав окончательно и себя. С этой минуты он стал почти членом семьи временщиков. Когда Кирилл Григорьевич был назначен гетманом Малороссии, с ним отправился и за него, конечно, управлял Теплов. И много лет правил он полновластно как обоими братьями, так и Украиной.
Единственный промах Теплова в жизни был тот, что, считая императрицу долговечной, он свысока обошелся раза три с наследником престола. И теперь, несмотря на поздние заискивания и лесть, новый император отставил его от всех должностей и даже, наконец… не стеснился дать приказ арестовать его на балу, как простого офицерика.
И вот после этого оскорбительного ареста и освобождения судьба внезапно перебросила его из лагеря правительственного в лагерь «елизаветинцев», или, лучше сказать, ненавистников немцев и приверженцев государыни.
Вступив в кружок молодцов гвардейцев, не умевших ступить шагу в своем пагубном деле и способных только геройски положить свои головы на плаху, Теплов заметил приятелям, что решимость класть головы – последнее дело. Всякий дурак сумеет это сделать. А главная суть дела – не рисковать, а идти наверняка!
Около полудня государыне доложили, наконец, о Теплове.
Она ласково приняла его, и разговор сначала зашел о разных мелочах и городских слухах.
Государыня давно знала Теплова как прежнего воспитателя гетмана, его наперсника по управлению Малороссией и, наконец, как друга обоих братьев, но в прямые сношения ей никогда не приходилось вступать с ним. Теперь она отчасти боялась его.
Теплов был прежде всего нравственно шаток. Оскорбление, удар его самолюбию заставили его сблизиться с кружком Орловых и явиться теперь к ней. Но что будет, если завтра государь обласкает и наградит Теплова? И это отчасти смущало государыню.
Теперь в полчаса времени, перемолвившись несколькими словами, пустыми и незначащими, и она и он как бы проникли друг друга насквозь. Теплов почувствовал, что эта женщина легко глядит в самую глубину его души своими светлыми, но проницательными глазами.
«Что ж молчать, скрывать то, что она и без того видит», – подумал он.
И вдруг, как бы встряхнувшись, Теплов пристально поглядел в лицо государыни и, желая бросить путь туманных фраз и намеков, выговорил:
– Ваше величество, позвольте мне говорить прямо и искренне, сказать, зачем я, собственно, приехал.
Государыне показался в эту минуту взгляд этого человека добрей и честней. Глаза его, маленькие и лукавые, как будто остановились на ней, перестали мигать и бегать из стороны в сторону. И еще более простым и искренним голосом она выговорила:
– Я знаю, зачем вы приехали. Говорите и будьте уверены, что я сумею сохранить в тайне все то, что вы пожелаете мне доверить.
Теплов коротко и ясно очертил положение дел: возбуждение умов в народе, невозможное положение истинно русских людей – и перешел к тому, что общественное мнение возлагает на нее все свои надежды.
– Но что ж я могу? – прервала государыня.
Теплов подробно изложил свой образ мыслей или, лучше сказать, план действий. По его мнению, государыня должна была войти в непосредственную близкую связь со всякого рода людьми сановитыми, не проводить жизнь затворницей, а видеть весь вельможный мир и прямо или через кого-нибудь заручаться их молчаливым согласием в случае действия кого-либо другого…
«Я это делаю давно», – подумала государыня, но, однако, вслух не вымолвила.
Через несколько минут молчания или как будто колебания Теплов выговорил:
– Но к чему мы будем стремиться, какая наша цель? Мы до сих пор говорили о том, что не нужно, что вредно, что надо изменить или, скажем, уничтожить. Но теперь позвольте спросить, что же нам нужно и чем мы уничтожаемое заменим? Ваше величество понимаете, что вы не находитесь в таком положении, в каком была до воцарения покойная государыня. Она была дочь великого Петра. Если равнять, то вы скорее в положении правительницы Анны Леопольдовны.
– Конечно, – заговорила Екатерина как бы с искусственной поспешностью, – я так и понимаю.
Однако хитрый Теплов понял и почувствовал в звуке ее голоса, что, соглашаясь, она, в сущности, думала совершенно иначе.
– Вы не можете быть императрицей, монархом, как иностранная принцесса. Этого за все существование русской земли не было и быть не может, если исключить императрицу Екатерину. Но там было почти завещание, была воля Петра… Теперь есть законное лицо, имеющее права законные на престол в качестве потомка русских царей. Я говорю о великом князе. Но так как он малолетний, то и он сам по себе не может быть монархом. Следовательно, исход какой же? Примеров искать недалеко, они были и есть теперь во всех европейских государствах, был и у нас при младенчестве Иоанна Антоновича.
– Конечно, – выговорила государыня, – единственный исход, единственно возможное – это регентство.
– Конечно! Но об этом я и желал бы знать ваше мнение. Регентство регентству рознь. Бывает одна личность регентом, как был регент французский, каким был у нас Бирон. Затем бывает и иной вид правительства. При малолетнем монархе состоит синклит государственных людей, правящих его именем. Мне кажется, что у нас было бы всего разумнее, если бы при великом князе состоял совет из русских людей, числом хоть десять или более. Конечно, из русских вельмож, отличных происхождением и умом. Они могли бы быть выборными и меняться по очереди, но должны бы были быть всегда избираемы из членов российского дворянства. Наконец, один из них, наиболее просвещенный, мог бы быть президентом этого синклита… даже пожизненным, пожалуй…
«Нечто вроде олигархии на новый лад», – снова подумала государыня, но снова промолчала.
– Согласны ли вы со мной? – спросил Теплов.
– Конечно. И даже знаю, кто мог бы быть душой этого синклита и самым полезным членом его… – тонко намекнула государыня, и Теплов невольно просиял.
Побеседовав еще около часу, хитрый честолюбец попросил позволения у государыни бывать у нее изредка, чтобы передавать ей, насколько общественное мнение более и более клонится на сторону перемены положения дел.
Когда Теплов встал, то государыня проводила его до двери и, вернувшись к своему месту, стала перед окном и, скрестив руки на груди, задумалась. Но лицо ее и взгляд были не печальны, напротив, она как будто внутренне подсмеивалась. Но не прошло и четверти часа, как громкие шаги привели ее в себя. Она обернулась и увидела перед собой фигуру Никиты Ивановича Панина.
Он быстро вошел в комнату, очевидно взволнованный. Панин всегда ходил так же тихо и важно, как тщательно одевался.
С утра поднявшись, даже у себя в горнице один, он был всегда в парике, который не снимал до вечера. Для всякого парик был то же, что и перчатки для выездов и приемов; для Панина это была необходимость. Про него говорили, что он чуть не спит в парике.
– Что случилось? – вымолвила государыня, увидя его лицо.
– Случилось, – начал Панин взволнованным голосом, – случилось, что я уеду, я буду просить должности опять в Швецию, а не дадут, я уеду к себе в вотчину. Я не могу здесь оставаться! Я шутом не был и в скоморохи не пойду.
– Да что такое?
Панин сел в кресло и заговорил быстро и гневно:
– Вы знаете, что вчера я добился, наконец, чтобы государь сделал испытание великому князю в науках.
– Ну, знаю! Что ж? Ведь он остался доволен?
– Ну да. Он остался доволен. Он даже сказал принцу и другим присутствующим при испытании, что Павел Петрович, конечно, гораздо умнее и ученее их всех вместе. Принц Жорж даже обиделся.
– Ну так в чем же дело?!
– А в том, что сегодня я получил награду за успехи моего воспитанника.
– И слава богу!
– Нет, не слава богу, а слава шуту гороховому! – вскрикнул Панин. – Спросите, какую награду!..
– Какую же?
– Какую? Какую? – привскочил он на месте. – Пожалован в генералы от инфантерии! – отчаянно закричал Панин во все горло. – Я теперь, в мои года, надену дурацкий куцый кафтан, ботфорты, шпоры нацеплю себе, эспадрон или ружье возьму и буду тоже разные выверты прусские делать, буду тоже на плаце, как Трубецкой или Разумовский, разводы делать солдатам. Я, который с детства ненавидел военщину и солдатчину! Ведь это на смех! А за что?! За усердие. Тогда прямо взять другого воспитателя, а меня отправить. А разве это возможное дело? Это шутовство! Скоморошество!
Государыня молчала и не могла удержаться, чтобы не улыбнуться.
– Да, хорошо вам! – воскликнул Панин. – А для меня это все равно что ссылка. Я не знаю, что делать. Я буду проситься в какое-нибудь посольство, лучше всего в Швецию. Я ее знаю и люблю. Я так сказал Гудовичу, когда он пришел ко мне поздравить с этой шутовской наградой. Какими глазами будет на меня смотреть мой воспитанник, когда я буду учить его со шпорами, саблей и тремя ружьями за спиной, и, пожалуй, даже с кинжалом в зубах, как рисуют разных предводителей диких племен. Знаете ли вы, что с тех пор, что гетман, Трубецкой и другие сами водят на плац свои полки, сами расставляют часовых, то в гвардии солдаты ропщут и говорят, что это не дело генеральское, что их, генералов, унизили, осрамили, опаскостили, что это для них, солдат, чересчур велика честь. Стало быть, мужик и тот понимает нелепость этакого указа.
– Что ж делать, – выговорила наконец государыня. – Слава богу, если бы только такие меры были и такие указы. Это ничто в сравнении с каким-нибудь мирным трактатом. Вам, Никита Иванович, ваше генеральство кажется важней прусского мирного договора, где продана Россия. Как вы, однако, себялюбивы.
– Да! Что ж? Понимайте и судите как хотите. А я вам говорю, что так жить нельзя! Если государь не возьмет назад это дурацкое генеральство, то я тотчас же уеду. Воспользуюсь законом о вольности дворянства и уеду за границу, или…
Но Панин вдруг смолк. Государыня взглянула ему в лицо и вымолвила:
– Или что ж?
Панин посмотрел в ее смеющееся лицо с вызывающим взглядом и, будто сообразивши, выкрикнул громко:
– Или надо это переменить! Повторяю, так жить нельзя.
– Надо, надо! Я давно слышу, что надо, – отвечала Екатерина.
– Надо нам, умным людям, подумать, наконец, о том, что сделать. Государыня, умирая, говорила мне, что опасается и боится того правления, которое наступит на Руси. Умирая, она поручила государю, накрепко заказала не обижать Алексея Григорьевича Разумовского, и он обещал. Ей надо было заставить его побожиться, что он не будет обижать всю Россию. Нет! Пора, наконец, за ум взяться! Надо… А что надо? – с отчаянием воскликнул Панин.
– Надо, Никита Иванович, регентство! – твердо выговорила государыня. – И вам, конечно, как воспитателю и ближайшему лицу к наследнику престола, следует быть этим регентом. Вот мое мнение, о котором я часто вам намекала, теперь же говорю прямо. Но для этого мало только думать, охать и волноваться, надо действовать. Вы знаете весь Петербург почти, можете поручиться за дружбу первых сановников столицы, действуйте, видайтесь, говорите.
Панин смолк и долго сидел, не поднимая головы и раздумывая.
Наконец, видимо успокоившись, он встал и выговорил твердым голосом:
– Да, пора перестать только браниться, ахать да охать. Да что вы будете делать с этими российскими сановниками? Вот хотя бы недавний пример, Теплов! Схватили его два солдата чуть не за шиворот, стащили с бала в одном мундире в сибирку, а там выпустили. И ходит себе довольный, даже не обиделся! Он не возмущен тем, что его ошибкой, зря, и как мальчишку, на хлеб и на воду посадили. Чему вы улыбаетесь? – вдруг выговорил Панин.
– Ничему.
– Вы знаете этого Теплова?
– Разумеется. Но близко не знаю, прежде видела у Разумовских.
– Ну вот, все они таковы. Их бьют по роже, а они ухмыляются и руку целуют. Что ж можно сделать с таким народом? Или Скабронский, который хворает, когда нужно свое мнение высказать.
– Выслушайте меня, Никита Иванович, – выговорила вдруг государыня, как будто решаясь.
И в длинной речи она стала доказывать, что Панин должен немедленно для отечества, для своего воспитанника, которого любит, наконец, для себя самого начать действовать, заручаться согласием всех столичных вельмож в пользу регентства…
Панин слушал, конечно, внимательно…
III
Графиня Маргарита хотя была совершенно счастлива и довольна, но вместе с тем она боялась. Она сомневалась, как выйдет из того трудного положения, в которое себя поставила.
Когда-то давно, будучи проездом в Венеции, она пристрастилась к местной забаве венецианцев, то есть к театру марионеток, и часто проводила в театре вечера, глядя, как большие куклы, в рост человеческий, на ниточках, ясно видимых глазом, разыгрывали разные комедии и драмы.
Она помнила, как однажды невидимые руки, водившие этими куклами, перемешали вдруг все нитки и ту нелепую смешную путаницу, которая произошла на сцене. Вся публика, как и она сама, хохотала до слез. Какая-то невидимая сила вдруг заставила главную куклу, изображавшую королеву, поднять неприлично ногу и тотчас потащила ее, притянула к фигуре какого-то герольда, стоявшего на другой стороне сцены. И нога королевы очутилась на плече этого герольда. Первый министр и наперсник ее вдруг упал, а еще две-три фигуры столкнулись лбами. И все действующие лица попали в такое положение, что даже дети в театре начали восторженно кричать и хохотать. Не прошло секунды, как в облаках раздалась отчаянная брань двух голосов, и один другого ругал за неосторожность. Затем послышался треск, и с неба на землю свалились на кучу марионеток двое дерущихся. Но это были уже не куклы, а два живых существа: сам антрепренер театра и провинившийся управитель куклами.
Теперь Маргарите поневоле приходил этот случай на ум. Она тоже заставляла четырех лиц разыгрывать комедию и руководила ими, как этот итальянский импресарио водил своих марионеток на ниточках, привязанных к их рукам и ногам. И она чувствовала, что теперь перемешала неосторожно свои нитки и что ей грозит то же самое, что случилось с итальянцем. Ей грозит тоже, на потеху общества, упасть с высоты своего положения среди кукол, которыми она управляла.
С самого маскарада Маргарита все более запутывалась в своей кокетливой игре с юношей, с дедом, с Фленсбургом и, наконец, с самим… государем, который был сильно заинтригован, кто именно приятельница графини – «Ночь». Юноша оказался тем огнем, с которым шутить было невозможно. Чувство его было настолько сильно и бурно, что не могло удержаться ни в какой рамке, не могло стерпеть никаких преград. Маргарита увидала, но поздно, что он именно своим чувством, нехотя, невольно, может погубить ее. Когда-то она была удивлена и даже как-то польщена этим безграничным восторженным чувством, которое сумела внушить. Его обморок у гадалки мог быть для нее предсказанием, как бурно может чувствовать этот красивый полуребенок.
«Да! Это молоденький, маленький львенок, – рассуждала теперь Маргарита. – Молоденький, неопытный… но все-таки хищный львенок, у которого хватит силы растерзать человека».
Покинуть свой план действий относительно Шепелева Маргарите пришлось вскоре и очень просто.
На другой же день после маскарада, или, лучше сказать, в тот же день, так как они расстались уже на заре, Шепелев в сумерки явился у подъезда дома графини. Ему сказали, что она почивает с самого бала. И это была правда.
Вечером, когда три окна угольной гостиной, дотоле темные, засветились огнем, Шепелев снова смело вошел в дом. После доклада лакея вышла все та же немка и объяснила юноше, что графиня просит его пожаловать завтра в полдень.
Всю ночь Шепелев не мог глаз сомкнуть. Даже его новый офицерский мундир не радовал его. Он до утра не раздеваясь просидел у окна и продумал, споря сам с собой:
«Кто „Ночь”?! Очевидно, „Ночь” – Маргарита!»
А между тем сколько доказательств против этого предположения. Ведь кармелитка была в зале со Скабронским, когда он вышел из уборной. Ведь Маргарита разговаривала с той, когда он стоял потом перед дверью уборной! Да, но лицо Маргариты уже на подъезде, ее взгляд, ее улыбка, ее шутки о раздавленной звезде… Она почти созналась!.. Или та рассказала ей все! Было нечто и еще, что смущало юношу. После бала, когда все разъехались, он решился обратиться к послу с вопросом, кто была «Ночь»? Гольц, шутя, отозвался, что это была одна красивая дама в маске и что назвать ее теперь было бы равносильно тому, как если бы он сорвал с нее маску на балу. Юноша не удовольствовался ответом посла и стал умолять Гольца сказать ему, есть ли у графини Маргариты сестра. Гольц рассмеялся и выговорил:
– Есть! И вторая она! Такое сходство!
И теперь Шепелев с ужасом думал о том, что, быть может, он был игрушкой случайности.
Утром, продремав немного у окна, Шепелев проснулся и, приведя себя в порядок, отправился снова к дому графини.
Предстоящее свидание являлось ему вопросом жизни и смерти. Что скажет она? Признается окончательно и будет мила с ним, как была мила на подъезде? Или будет холодна и высокомерна, какою была в дверях уборной?
Шепелев почти не помнил, как доложили о нем, как вошел он в маленькую гостиную, и очнулся только тогда, когда к нему вышла Маргарита.
Она как-то сияла своей красотой! Никогда не казалась она и не была действительно так хороша! Фантастический пунцовый халат с золотыми брандербургами и кистями был, в сущности, тоже костюмом, годным для маскарада, и удивительно шел к ней, оттеняя ее пышные и черные как смоль волосы…
Она усмехнулась и, лукаво заглядывая ему в глаза, подошла и протянула ему руку. Шепелев взял руку и стоял смущенный и еще более встревоженный мыслью о предстоящем объяснении.
– Поцелуйте руку! – вымолвила Маргарита шутливо-грозно. – Это невежливо… Еще раз, господин офицер.
Шепелев повиновался, и, касаясь губами ее руки, он вдруг внезапно, будто… всеми фибрами своего существа, ясно почувствовал, что стоящая перед ним – она, «Ночь»! Вдобавок от этой руки повеяло тонкими духами, и этот запах в один миг воскресил перед ним всю уборную дома Гольца и все то, что теперь сводило его с ума.
– Ну-с, садитесь. Довольны ли вы вашим чином? – вымолвила Маргарита, усаживаясь на диван и оправляя складки своего халата.
– Да. Благодарю вас… Но мне не до этого…
– Вы должны сегодня же поехать и поблагодарить Эмилию; если б не она, то вы никогда не были бы офицером, то есть были бы им через пять лет.
И Маргарита делала вид, что не замечает широко раскрытых, изумленных глаз Шепелева.
– Графиня, я вас прошу прежде всего прекратить эту пытку. Я не могу… Да я и не понимаю ничего! Что это? Игра? Забава? Можно ли играть тем, что для людей должно быть всегда свято? Скажите мне… прямо и сейчас.
– Что? Я вас не понимаю.
– Ах, боже мой! Вы были одеты «Ночью». Вы были в уборной. Вы или нет?..
– Нет, Эмилия. Мой лучший друг, с детства…
– А я говорю, что это были вы, что никакой Эмилии на свете нет! – почти вспыльчиво произнес Шепелев. – Скажите, зачем эта комедия? Зачем вам нужно мучить меня? Или вы хотите, чтобы все это так и кончилось, чтобы наша, наша… ну, наше знакомство на этом и оборвалось, то…
– Я вас не понимаю. Эмилия мне говорила, что…
– Довольно, графиня. Я знаю, что это вы… Я чувствую это… Я голову сейчас за это отдам. Вы не сознаетесь. Стало быть, для вас это не святое чувство, а забава, потеха. Нынче один, завтра другой, а там и третий… Фленсбург, Орлов… сам Гольц!..
– Как вы смеете это говорить! – с чувством вымолвила Маргарита, и лицо ее вспыхнуло.
– Про что? Что говорить? – воскликнул радостно Шепелев. – Про что я говорю? Если это Эмилия… то почему же вы оскорбляетесь?.. Стало быть, вы знаете…
– Эмилия мне во всем призналась… Я нахожу это безумием… но что же делать…
– Так вы не хотите сознаться! Стало быть, всему конец… Это как тот поцелуй… выходка, которая не должна иметь никаких последствий! Это даже бесчеловечно! – с отчаянием в голосе произнес Шепелев.
Маргарита молчала и, задумавшись, будто колебалась.
– Ну, так прощайте, графиня! Пожалеете вы меня, когда будет поздно…
И слезы выступили на глазах юноши. Он провел рукой по изменившемуся лицу и выговорил глухо:
– Я надеюсь, что у меня хватит силы…
Маргарита пристально глядела на его красивые глаза.
Она заметила искренность и почти наивность, которыми звучали его слова.
– Нельзя! Нельзя! – бормотал он сам себе. – Да и зачем?.. Лучшего не будет ничего в жизни… Но помните, графиня, никогда никто не будет любить вас, как я люблю. Прощайте…
– Что же вы хотите делать?
– Я хочу… Я попробую застрелиться…
– Какой вздор! Никогда вы этого не сделаете. Полноте, мой милый ребенок.
Шепелев взглянул на Маргариту печально, но спокойно и тихо вымолвил:
– Не знаю… Но я попробую. Я не могу так оставаться. Это пытка… Я думал… я верил, что это вы… Если это были не вы или даже и вы, но не хотите сознаться и не сознаетесь… И это так и останется!.. Никогда не повторится!..
Юноша восторженно всплеснул руками и воскликнул:
– Зачем же я буду жить! Умирать надо? Надо! И скорее!..
И он двинулся к дверям. Маргарита бросилась, догнала его и сильно схватила его за руку.
– Стойте, – выговорила она упавшим от волнения голосом. – Погодите… Я вам скажу…
И она запнулась, будто снова колебалась.
– Ну, ну… – шептала она сама себе и вдруг вскрикнула: – Что ж тут делать? Святая Мария!..
– Ах, это слово! Это слово! – воскликнул Шепелев. – Ведь оно за вас говорит. Оно все говорит.
Маргарита вдруг, будто с отчаянием решимости, взяла его за руку и потянула в свою спальню-гостиную.
– Ну вот! Гляди! Глупый, упрямый, капризный! – нежно выговорила Маргарита, введя его в комнату. – Заставил меня изменить моему слову! Гляди!
Шепелев поглядел по направлению ее руки и увидел на диване черный газовый костюм, а на столе кучу сложенных бриллиантовых звезд с полумесяцем.
Он боялся понять, что это наконец признание.
– А «Ночь»! Она? Ведь вы «Ночь»? Вы?..
Маргарита, молча и слегка смущаясь, тихо вскинула руки ему на плечи и, обвив его шею, припала к нему и прильнула губами к его губам. Шепелев вскрикнул слабо и прошептал:
– О Маргарита! Теперь я… Да что говорить! Не надо, не надо говорить…
IV
Маргарита понимала, что после этого признания дерзкий и прихотливый поступок ее становится роковым. Связь с Шепелевым ставила ее в трудное положение с дедом и с Фленсбургом. Приходилось играть и хитрить еще более! Маргарита к тому же не обманывала себя и предугадывала, что рано или поздно и тот и другой поймут и увидят ее игру. В деде она теряла огромное состояние, о котором мечтала так давно, а в Фленсбурге наживала беспощадного врага.
«Все это бессмысленная прихоть! Уступка разума сердцу! – думала она теперь. – Любовь заставила меня быть глупой, нерасчетливой… Но любовь ли это? Не вспышка ли? И вспышка, которая так сильна, что не может быть долговечной… Бог знает! Я сама не знаю!.. Будь что будет! Авось все это еще не скоро спутается!..»
И Маргарита ошиблась. Все спуталось гораздо скорее и неожиданнее.
Иоанн Иоаннович, поддавшийся ее недавней искусной игре, был, однако, достаточно проницателен, чтобы не начать вскоре же подозревать внучку.
После маскарада он был уже несколько раз, сидел у нее подолгу, полушутя-полусерьезно и намеками предъявлял уже разные требования, обещая, однако, при этом переделать завещание в ее пользу, так чтобы все его состояние могло перейти ей.
Маргарита и прежде колебалась, так как неодолимое отвращение часто являлось у нее к этому старику; теперь же она окончательно не знала, как быть и что делать. Она опять играла насколько могла умнее, но хитрый старик начинал уже угадывать, подозревать и раздражаться. Уже раза два странным голосом Иоанн Иоаннович спросил у нее, кто и что молоденький офицер, который сажал ее в карету после бала посла и которого он уже дважды встретил у нее в гостях. Иоанн Иоаннович, по счастью, как всякий старик, был убежден, что женщина не может увлечься юношей.
– Что у тебя за дела с этим щенком? – спросил Иоанн Иоаннович. – Что он, влюблен, что ли, в тебя?.. Так прогони, чем возиться с молокососом.
И Маргарита объяснила, что юноша – родственник одной ее приятельницы, которая просила покровительствовать ему. Но старик не совсем остался доволен этим объяснением.
И Маргарита начинала бояться, что Иоанн Иоаннович вдруг прямо и круто поставит вопрос, на который она не знала что отвечать. Конечно, в крайнем случае могло воспоследовать только одно – возвратить бриллианты, за исключением броши, проданной Гольцу для Воронцовой. Но чтобы можно было поссориться с дедом снова, для этого надо было себя обеспечить иначе. Гольц уже не раз предлагал ей денег, но как ни велика была эта сумма, все-таки она не могла равняться с тем, что мог дать дед.
На другой же день после того же маскарада явился и Фленсбург. Она три раза отказала ему, но через неделю он вошел почти насильно и резко объяснил ей, что он все знает.
Сидя у Маргариты, Фленсбург был, однако, очень взволнован. Лицо его было слегка бледно, голос прерывался.
– Я отлично понимаю, – сказал он, – что мое положение крайне глупо, даже позорно. Я едва не собрался убить соперника на поединке, но бросил ради срама… Для мужчины нет положения смешней, как быть влюбленным и ревновать, не имея на это никакого права. Вы со мной тоже играли, игра вам надоела, и вы бросили. Это для кокетки не преступление. Она даже может сама сознаваться в этом… Но… одно время вы не играли! Вы были даже искренни. Но с тех пор многое переменилось. Во-первых, в доме вашем появился этот отвратительный старик, и, несмотря на то что он вам приходится дедом, он влюблен в вас… и вы терпите это… Это вам выгодно!..
– Какая нелепость! – воскликнула Маргарита и рассмеялась, но смех этот был неестественный.
– Главное не в этом… Это пустяки. А вот что не пустяки! После вашей дружбы с бароном Гольцем мне стало казаться, что вы сильно заняты… что у вас новая цель… как бы вам это сказать? Что сам Гольц надоумил вас начать осаду кокетством несколько выше, то есть выше нас, простых смертных. Но в ту минуту, когда я был убежден, что вы заняты тем, чтобы понравиться и влюбить в себя… скажу прямо – государя!.. в это время оказалась для меня невероятная вещь! Оказалось, что вы связаны, но очень серьезно, с мальчишкой, с рядовым, почти с ребенком. Признаюсь, я перестал понимать то, что видел! Этот гадкий, отвратительный старик, с одной стороны, и, с другой – мальчуган, едва вышедший из пеленок… Признаюсь, от всего этого на меня повеяло Петербургом. Хотя вы иноземка, но и в вашей личности сказалось влияние Петербурга, то есть привычки и нравы здешнего высшего общества. Вся его мерзость, разврат, даже преступления против самых простых, самых святых законов общежития и нравственности! Вы знаете, я не преувеличиваю! Я не ненавижу… я просто презираю это общество. Вы знаете так же, как и я, всю эту грязь. Возьмем пример. Вы знаете, что здесь, в обществе, то же, что и в народе русском, есть чуть не обычай, что жена юноши-сына – сплошь и рядом любовница свекра-отца. Ну а любовница деда мужа… это еще законнее для них…
Фленсбург говорил тихим, но дрожащим голосом и при последних словах слегка побледнел. Но эти слова его заставили и Маргариту перемениться в лице.
– Вы кончили? – произнесла она едва слышно.
– Да, хотя не совсем еще.
– Ну, с меня и этого достаточно. Хотя вся ваша речь есть речь безумного, но тем не менее я отчасти довольна, что вы высказались. Вы мне дали право на этот раз окончательно попросить вас оставить меня и не посещать.
– Стало быть, это полный разрыв? – выговорил Фленсбург.
– Даже не разрыв, потому что никогда никакой связи между нами не было, – выговорила Маргарита, злобно усмехаясь. – Вы говорите, что я когда-то была искренна, и хотите сказать, что я, хотя недолго, любила вас. Вы ошибаетесь, никогда, ни единого дня этого не было. На это есть свидетель. Хотите его… это Лотхен!
– Графиня! Не наживайте во мне заклятого врага. Как я умею сильно, долго любить, так же умею и ненавидеть. И я не настолько христианин, чтобы платить добром за зло. С той минуты, как я узнаю, что мы с вами враги, я буду действовать против вас! И беспощадно!..
– Сколько вам угодно, – усмехнулась Маргарита. – Надеюсь только, что вы меня не зарежете из-за угла. А все остальное мне не страшно.
– Даже не страшно, если я поеду к вашему верному другу Гольцу и скажу ему нечто, мне одному известное, и после чего… нога его не будет у вас.
– Я даже не понимаю!
– Я поеду рассказать Гольцу, что иноземка графиня Скабронская решилась на такой поступок, который хотя очень обыденный и простой при здешних диких и распущенных нравах, но который сам по себе со стороны иноземки и относительно Гольца есть поступок нечестный и мерзкий. Вы меня поняли?!
– Я даже не хочу беспокоиться понимать. Все эти угрозы смешны… Повторяю, делайте, что вам угодно…
И Маргарита поднялась со своего места. Фленсбург встал поневоле.
– В таком случае, графиня, я начинаю мщение, – выговорил он. – И тотчас еду рассказать Гольцу, как в его маскараде «Ночь» проводила время в устроенной для ее отдыха уборной. Я знаю, видел и могу доказать… Да! Доказать, что внесла в честный и приличный дом прусского посла чешка-авантюристка Маркета Гинек.
Маргарита вдруг побледнела как полотно и от разоблаченной тайны, и от своего прежнего имени, которого не могла слышать равнодушно. Каким образом Фленсбург узнал это имя, которого она никогда никому в Петербурге не сообщала? И каким образом он знал об ее дерзком поступке в ночь маскарада?
Наступило гробовое молчание.
Фленсбург ожидал, что вот сейчас побежденный враг, как бы под угрозой смертельного удара, попросит пощады.
Маргарита действительно стояла, опершись дрожащей рукой о кресло. Ее красивые пальцы с острыми ногтями как бы впились в спинку кресла, чтобы удержаться на ногах. Голова ее была слегка наклонена, глаза полузакрыты, и длинные ресницы скрывали теперь от Фленсбурга тот пламень, который горел в ее опущенном взоре.
«Что делать, как быть? – стучало в голове ее как молотом. – Как обезоружить его, как заставить молчать?»
В одно мгновение Маргарита обсудила свое положение и решила, что заставить молчать врага можно только слишком дорогой ценой, – следовательно, совершенно невозможно. Приходилось поневоле поднять перчатку.
– Снова повторяю вам, – едва слышно вымолвила Маргарита, не поднимая глаз, – что я прошу вас избавить меня от вашего присутствия и от ваших дальнейших посещений.
Она повернулась и пошла к дверям своей спальни.
– Одумайтесь!! – крикнул в волнении Фленсбург. – Я предлагаю беспредельное искреннее чувство на всю мою жизнь или беспощадную месть.
Маргарита не оборачиваясь искусственно рассмеялась и вышла из комнаты, заперев дверь за собой на ключ. Она серьезно боялась преследования Фленсбурга, лицо которого показалось ей даже страшным в последнюю минуту.
Часа два спустя Маргарита писала записку Гольцу, прося его приехать тотчас же по одному очень важному делу.
Гольц, уже считавший графиню Скабронскую одним из своих тайных агентов, подумал, что дело касается до каких-нибудь важных вестей, которые графиня могла узнать в городе, и тотчас явился к ней.
Маргарита решилась объясниться прямо, но в последнюю минуту, когда Гольц уже сидел против нее в кресле, она стала колебаться. Зачем начинать самой свою исповедь, просить прощения, когда Фленсбург, быть может, только грозился и не решится так низко и подло мстить ей.
– Не думайте, барон, – начала Маргарита, – что дело, о котором я писала вам, особенно важно. Оно, во-первых, не касается вас или короля Фридриха, – через силу усмехнулась Маргарита. – Оно касается меня или, лучше сказать, одного офицера, хорошо вам известного, Фленсбурга.
– А, так я знаю, в чем дело! – воскликнул Гольц. – Фленсбург был уже у меня. Мне кажется, что он или безумно влюблен в вас, и при этом несчастливо, или просто… безумный. Он был у меня час назад и наговорил мне кучу таких нелепостей, что я серьезно опасаюсь за его рассудок.
– Что ж он сказал вам? – невольно потупляясь, вымолвила Маргарита.
– Разный вздор.
– Скажите, какой вздор?
– Полноте, стану я передавать сплетни или клевету, созданную отвергнутым влюбленным. Но признаюсь, я считал Фленсбурга более достойным уважения.
– Что он сказал вам? – повторила вызывающе Маргарита, словно сама идя навстречу опасности. – Скажите мне все, передайте мне все до последнего слова. Я этого требую.
– Это невозможно, графиня, все это слишком глупо наконец, чтобы передавать.
– Я требую, барон.
– Так и вы обладаете мелкими женскими недостатками и, между прочим, праздным любопытством, – рассмеялся Гольц. – Я считал вас более серьезной женщиной.
– Но верите ли вы тому, что говорил вам Фленсбург?
– Нет, не верю, потому что мудрено поверить этому. Я попросил у него, конечно шутя, доказательств того, что он утверждал.
– И что ж он?
– Обещал их на днях.
– Ну, так выслушайте, барон, я сама расскажу вам то, что мог низкими, недостойными средствами узнать господин Фленсбург.
И Маргарита подробно, но красноречиво и горячо рассказала Гольцу все, что могла рассказать как бы на исповеди. Начав почти с своего детства, передав все, через что пришлось ей пройти, она окончила эту исповедь признанием в странной, для нее самой непонятной любви к юноше. И наконец, призналась в своем свидании с ним во время маскарада в уборной.
Искренность чувства, которым дышало всякое слово Маргариты, тронула Гольца.
И то, что он узнал, почти выкупалось этим чувством.
Гольц увидел перед собой одну из сотен женщин, которых было много во всех столицах Европы, при всех дворах. И Гольц знал этот тип. Он должен был сознаться, что из всех ему знакомых подобных женщин, то есть авантюристок высшего полета, созданных распущенностью нравов при европейских дворах, Маргарита была еще лучше всех, все-таки выше всех. В ее жизни играли роль чувство, сердце, душа и не было холодного разврата, не было, наконец, простых мошеннических проделок. Единственно, что неприятно подействовало на Гольца, это те отношения, в которые Маргарита невольно поставила себя к старику Скабронскому.
Тонкий и умный дипломат, которому эта красавица была нужна для его собственных целей, более высших, тотчас же взвесил все, сообразил и решил мысленно, как поступить. Да и какое ему было дело до нравственности этой женщины, чуждой ему вполне! И Гольц, смеясь, выговорил, протягивая руку Маргарите:
– Благодарю вас за доверие и за искреннее признание. Теперь мы с вами окончательно друзья. Настолько друзья, что я начинаю с того, что беру вас под свою защиту против Фленсбурга и заставлю его молчать; если мне это не удастся простыми средствами, то я пользуюсь достаточным влиянием, чтобы добиться его высылки из Петербурга. Остается только ваша прихоть… то есть этот мальчуган, который может сделаться тоже опасным по молодости и опрометчивости. На это я смотрю как на каприз милой, умной, но главным образом странной женщины, которая из всего Петербурга выбрала… обратила милостивый взор на юного птенца. Это принадлежит к сфере тысячи и одного секрета женского сердца. Вы знаете, что существуют сказки арабские «Тысяча и одна ночь», которым подражают писатели разных стран. Я удивляюсь, что до сих пор ни один из писателей не попробовал рассказать тысячу и один каприз женского сердца.
– Так вы меня не презираете? – вдруг горячо воскликнула Маргарита.
– Так же презираю, как вот эту милую ручку, – выговорил Гольц, взяв ее руку и целуя. – Говорю вам, за вашу искреннюю исповедь я отплачу вам тем, что беру вас под свою защиту. Только одно прибавлю: мы должны с вами заключить еще более тесный союз. И если мне случится поручить вам… – Гольц запнулся и будто не решался говорить. – Если бы пришлось мне когда-нибудь… может быть, не придется… но если бы была необходимость, то я надеюсь… Если бы непременно нужно было… – Гольц видимо колебался и, наконец, запнувшись, смолк.
– Говорите, говорите прямо! Что бы то ни было! Я почти понимаю! Следовательно, выражайтесь прямо, хотя бы резко.
– Если бы мне пришлось, графиня, ради высших целей и высших политических соображений, ради дела, которое для меня святое дело, великое дело, просить вас… Вот видите ли… Часто великие дела, даже великие исторические события зависят от самых мелких, самых незначащих, пустых и даже очень часто от самых глупых причин! Если бы мне пришлось попросить вас, дать вам поручение, передать в ваши руки судьбы… Я тоже, как видите, начинаю свою исповедь! – рассмеялся Гольц.
– Да, говорите! Говорите… – воскликнула Маргарита.
– Если б я был вынужден вследствие важных соображений просить вас пожертвовать собой, не жизнью, конечно, но пожертвовать очень многим! – И Гольц умышленно сделал ударение на эти последние два слова. – Могу ли я надеяться, что вы не откажете мне?
– Выслушайте, барон: вам – никогда ни в чем! Понимаете! Это с моей стороны клятва! Вам никогда ни в чем не будет отказа! Что бы вы завтра или хоть сейчас ни приказали мне, все будет исполнено немедленно.
– Так что, если бы, – начал Гольц, опустив глаза, – если бы я попросил вас употребить ваше искусство, ваше кокетство, чтобы сблизиться, сойтись совершенно с человеком крайне неприглядным, некрасивым и ради высших целей отдаться ему… то вы согласитесь! Я надеюсь, что нечего говорить яснее!
– Я вас понимаю и отвечаю: да и да! И отвечаю искренне. Наконец, это будет мне даже нетрудно, так как прямая выгода от этого будет самой мне.
– Само собой разумеется. Но знаете ли вы, графиня, понимаете ли вы, какая это сила – наш союз! Догадываетесь ли вы, что мы со временем можем быть в состоянии уничтожать и созидать герцогства, королевства… Вы без меня – красавица, кокетка… но и только… Я без вас искусный дипломат, но и только… Мы оба вместе, если только все пойдет, как я имею основания надеяться… мы – великая сила… Архимедов рычаг… Ну, вы этого не понимаете… Итак союз, на жизнь и на смерть!..
– Зачем такие страшные вещи?! – рассмеялась Маргарита. – Скажем лучше: на жизнь и на власть…
Посол и красавица весело расстались…
V
В доме Тюфякиных была прежняя тишина и скука. Ни Гарина, ни княжны не ездили никуда, у них же только изредка бывали гости. Но так как всякий знакомый замечал, что в семье что-то не ладится, всякому бывало неловко и скучно, то вскоре эти посещения прекратились окончательно.
Единственный человек, который бывал чуть не всякий день, был новый приятель Гариной, а в особенности Василька, лейб-кампанец Квасов. Тетка была по-прежнему постоянно угрюма и задумчива, и только Аким Акимович мог расшевелить ее и привести если не в веселое, то в более оживленное состояние духа.
На Фоминой неделе Гарина пробовала объясниться с Настей и с «киргизом». Князь Глеб и племянница, успевшие сговориться, признались тетке просто и искренне в том, что Настя часто и подолгу бывала у брата на квартире.
– Неужели тебе было веселей сидеть у этого вертопраха, чем в гостях? – спросила тетка.
Настя объяснила, что у брата бывали иногда голштинские офицеры и что один из них ее очень забавлял. При этом она прибавила, что офицер этот все-таки ей не нравится настолько, чтобы она согласилась выйти за него замуж.
– Да он и не нашей веры, тетушка, – объяснила Настя, – стало быть, за него и нельзя идти замуж.
Все это, разумеется, был вымысел, но Гарина поверила.
За объяснение с князем Тюфякиным опекунша взялась совсем иначе. Она начала беседу со слов:
– Уж так и быть! На праздниках я тебе ничего не дала, так теперь дам.
Гарина вынесла племяннику пятьдесят червонцев и будто бы кстати заговорила о том, что снедало ее за последнее время:
– Ну, вот тебе деньги, вертопрах. А все ж таки я на тебя сердита.
И понемногу Гарина свела беседу на то, что наиболее озабочивало ее. Она была слишком прямая женщина, чтобы уметь хитрить незаметно и искусно; князь тотчас же догадался, за что он получил деньги, и подумал:
«Старая думает, дала горсть червонцев, так я самого себя сейчас ей продам».
Князь, которому ложь и игра были последним делом, на этот раз сыграл особенно искусно и совершенно успокоил тетку.
– Велика беда, что сестра была на моей квартире! Нашли вы, чем беспокоиться! – изумился он.
Но в начале этой беседы князь все-таки немножко смущался. И только один вопрос тетки сразу сделал его веселым. Князь успокоился вполне, догадавшись, что тетка, в сущности, лучшего о нем мнения, нежели он думал и боялся.
– Скажи мне по совести, побожись вот перед иконой святой, что ты не солжешь, – спросила Гарина. – С кем ты Настю у себя сводил?
Этот именно вопрос объяснил князю все и успокоил его. Он стал клясться и божиться, и мог, конечно, клясться, что у него никого не бывало. И это была правда.
– А один голштинский офицер, про которого Настя сказывала?
– Да он всего четыре раза и был, это она так похвастала.
И Тюфякин так клялся, что у него на квартире Настя ни с кем не видалась, кроме как с ним да с одним евреем, что Гарина не могла не поверить.
Осталось только одно сомнение, почему Настя не хотела говеть, но и на это нашелся ответ у князя, да вдобавок такой, который был вдвойне выгоден.
«Одним камешком двух воробьев убью!» – подумал князь.
И он подробно объяснил тетке, что так как он постоянно нуждается в деньгах и дошел до того, что не знает, что делать и как прожить, то Настя, не имевшая сама денег, решилась выручить его из беды не совсем чистым образом. Одна приятельница передала ей сколько-то червонцев с поручением что-то купить, а Настя из жалости отдала ему эти деньги и сказала приятельнице, что потеряла их и когда-нибудь возвратит.
– Стало быть, выходит, что она из жалости ко мне чуть не украла. Так как же ей было тогда говеть, сами посудите, – закончил князь.
Гарина одновременно и пришла в ужас, и обрадовалась. Дело было поправимое. В тот же вечер князь искренне хохотал вместе с Настей о том, как они одурачили тетку. Даже деньги, будто бы потерянные Настей, были получены от тетки и перешли, конечно, в карман сводного брата.
Более всего была счастлива и довольна Василек. Она даже укоряла тетку за ее напрасные подозрения.
Однако по временам Гарина все-таки была задумчива, и часто, ложась спать, когда Василек садилась около ее кровати, тетка говорила любимице:
– А все-таки как-то на душе скверно, все как будто чувствуешь беду какую. И верю им, и будто не верю. Сдается мне все, что есть обман.
– Не грех ли вам, тетушка!
– Грех, – отвечала Гарина, – а все не могу. Иной раз кажется все-таки дело нечистым. Не могу я уразуметь, на какой прах молодая девица будет сидеть целые вечера у брата своего, вместо того чтобы на вечере веселиться. Сдается все, что кто-нибудь да бывал там, с кем Насте хотелось видаться. А видаться они могли у нас. Сказала бы, и стали бы приглашать сюда, если человек хороший. А коли нужно было соблюдать тайну, стало быть, дело нечистое.
Вскоре Гарина, чтобы успокоиться совершенно, залучила через людей ленивого и лохматого Егора, лакея князя, и при помощи всяких обещаний и подарков заставила его признаться, что барышня бывала часто, но что, помимо жида Лейбы, никогда никого не было. Даже о появлении голштинского офицера Егор ничего не знал.
Однако на душе опекунши все-таки было смутно, и она стала подумывать – пристроить скорее младшую племянницу. Гарина, еще недавно не хотевшая брака ее с Шепелевым, теперь уже начала мечтать об этом, и снова начались у нее совещания с любимицей, как бы поскорее женить Шепелева на Насте.
Каждый раз, что Васильку приходилось говорить с теткой об этом деле, сердце ее сжималось и замирало. Она могла с трудом скрыть от тетки свое волнение, и теперь уже Васильку приходилось, точно так же как и сестре, хитрить с теткой и лгать через силу.
– Ты его будто не любишь, будто разлюбила. Прежде ты горой за него стояла и хотелось тебе с ним породниться. А теперь вот чудно так отзываешься или отмалчиваешься, – заметила Гарина.
Опекунше, конечно, и в ум не могло прийти, какая причина заставляет ее любимицу беседовать о браке сестры сдержанно и как-то неохотно.
По первому же слову Гариной о том, что можно приняться за сватовство, князь даже обрадовался мысли опекунши и в тот же день поехал знакомиться с Квасовым.
Неожиданный, решительный, даже резкий отказ Шепелева смутил всю семью. Гарина всегда замечала, что юноша относился к Насте хладнокровно, сама Настя считала Шепелева слишком глупым, чтобы думать о возможности его отказа. Князь тоже не ожидал от медвежонка такой прыти, но он не отчаивался в успехе, он думал, что вместе с Квасовым женит юношу на Насте чуть не силком. Но когда Шепелев разошелся с дядей, переехал на собственную квартиру и, вдруг произведенный в сержанты, зажил гораздо шире, тратя большие деньги, князь Тюфякин смекнул, в чем дело, и понял, что все пропало. Только одна Василек приняла этот отказ Шепелева не так, как вся семья. С первого мгновения Василек почуяла такую глубокую искреннюю радость на сердце, что сама за себя испугалась. В этот день она сказалась больной и нарочно, чтобы скрыть свое волнение от всех, пролежала целый вечер на постели. С сумерек и до поздней ночи пробыла она в своей комнате без свечи, притворяясь спящей, когда ее окликали, и, широко раскрыв глаза в темноте, сама не знала, что в ней происходит. На душе ее была почти такая же тьма, как и в горнице. Только одно ясно сказывалось – радость. Василек теперь только стала понимать, стала сознаваться сама себе, что сердце ее, всякое движение, всякий помысел ее принадлежат этому человеку.
«Господи, грех какой!» – внутренне повторяла Василек, крестясь среди темноты.
После своего отказа Шепелев перестал бывать в доме Тюфякиных. Василек только раз мельком видела его на улице верхом на великолепной лошади, красивого, но печального. Слишком близок был ей этот человек, чтобы не догадаться, не почуять сердцем, что у него есть тоже свое большое горе. Но Василек, сама влюбленная, не догадалась, какое горе у Шепелева. Ей на ум не пришло, что его печаль та же самая, что и ее печаль.
Новый друг Василька, Аким Акимович, стал бывать все чаще и уже несколько раз прямо объяснил княжне, что он в жизнь свою никого так не любил, как их семейство.
По целым вечерам случалось Васильку беседовать с Акимом Акимовичем, но о Шепелеве никогда не было речи. Аким Акимович был глубоко оскорблен поступком племянника, отчасти тем, что он не захотел по его совету жениться, но главным образом тем, что съехал с его квартиры и зажил самостоятельно. Вдобавок Квасов был недоволен, что Шепелев живет на какие-то темные средства.
«Вот, – думал он, – считал я его добрым малым, честным, а он на такой же срам пошел, как и другие офицеры».
Василек еще более Квасова избегала не только говорить о Шепелеве, но даже упоминать его имя; она боялась, что при одном имени своего племянника этот новый друг ее прочтет в ее глазах дорогую для нее тайну.
Наконец прошел весь апрель месяц. В городе много говорили о предстоящем бале у прусского посла по поводу заключенного мирного договора. И до Тюфякиных достигла эта весть. Если бы Гарина захотела, то, конечно, могла бы получить приглашение через своих родных. Но Настя отказалась ехать, а Василек отвечала тетке, как всегда:
– Где мне с моим лицом рядиться да плясать! Только осмеют!
Разумеется, Василек преувеличивала свое положение. Лиц, испорченных оспой, было так много, это было таким простым явлением, что почти не было семьи, в которой бы не нашлось одного человека, пострадавшего от распространенной в Европе и России болезни. Сам император имел явные следы ее.
Если бы Василек знала, кого она может встретить в маскараде Гольца, то, конечно, поехала бы хотя под маской. Но она не могла знать, что сержант Шепелев будет выбран, чтобы дежурить на бале посланника.
На другой же день после этого бала Аким Акимович особенно быстрой походкой шел через Чухонский Ям, и лицо его сияло довольством. Как ни убеждал себя добрый лейб-кампанец, что он ненавидит и презирает своего племянника, однако при внезапно распространившейся вести в полку, что тот на бале лично произведен государем в офицеры, Квасов от радости чуть совсем не лишился рассудка.
Многие офицеры в полку, явные враги всех мер, и важных и пустых, нового правительства, приняли производство, не в пример прочим, сержанта Шепелева как странное и обидное для всех. Действительно, производство это было странное. Очевидно, сильная рука покровительствовала юноше. В один месяц рядовой сделался офицером, тогда как другим приходилось прослужить восемь и десять лет до офицерского чина.
Нового офицера приняли в полку так недружелюбно, что юноше было даже неловко. На вопросы всех он сам не знал, как объяснить свое неожиданное повышение. Конечно, многие подумали, что он скрывает истинную причину по невозможности признаться в ней.
Один Аким Акимович догадался отчасти, что и квартира, и деньги, и чины идут из одного источника. Лейб-кампанец почти ворвался в дом новых друзей и объявил весть Васильку:
– Офицер! Да-с! Офицер! И сам государь поздравил!
Василек вспыхнула и вся затрепетала от радости. Но не прошло получаса, как она уже сидела перед Квасовым бледная как полотно. И особенно некрасиво было теперь лицо бедной девушки.
Квасов, объясняя повышение племянника покровительством, понемногу высказался откровенно:
– Замечательная красавица, которая всех сводит с ума, сошла с ума от юноши!
Вот что нежданно и негаданно узнала Василек!
Квасов ничего не мог услышать об этом в городе. Он сам догадался… И уже не в первый раз в жизни – догадался верно!
Однако теперь, когда княжна Василек внезапно стала жаловаться на смертельную головную боль и, бледная, пошатываясь, вышла из гостиной и кое-как добрела в свою горницу, то догадливый лейб-кампанец… не догадался!..
VI
Десятого мая с утра началось по улицам столицы особенное движение. День этот был назначен для официального празднования мира с Пруссией.
Около полудня вся площадь около дворца была покрыта экипажами придворных, съехавшихся с поздравлением к государю.
В этот день все, сколько-нибудь причастные к делу трактата, были щедро награждены государем. Многие получили ордена; даже жена и дочь принца Голштинского сделались кавалерственными дамами ордена Святой Екатерины.
Государь был очень в духе, весело разговаривал со всеми во время приема и на поздравления первых вельмож государства, а равно иностранных посланников отвечал, что этот день «счастливейший в его жизни»! Государь сам лично многих приглашал на большой парадный обед, назначенный в этот день.
За исключением государя и барона Гольца, никто не праздновал в душе этого праздника. Даже принц Жорж в это утро, любуясь на своих двух кавалерственных дам, покачал головою и прибавил:
– А все-таки этот мир не принесет ему пользы, а только вред, во мнении его подданных. Русский народ не любит немцев, потому что он чувствует, что немцы – люди, а русские – скоты. Эта ненависть происходит от зависти и невежества… Барон говорит правду, Россию по справедливости следует называть не Russland, а Thiersland!![27]
Несмотря на то что при утреннем приеме государь был ласков со всеми, многие были обижены или какой-нибудь шуткой его, или неосторожным словом.
– Думали ли вы когда-нибудь, – сказал государь фельдмаршалу Разумовскому, – что наступит день, в который Россия будет праздновать вечный мир с Фридрихом?
– Нет, ваше величество, – отвечал фельдмаршал, озираясь на ближайших, – никогда ни на уме, ни на сердце сего не держал. Если б год тому назад сказали мне про такое празднество, то я бы не поверил. Покойная государыня никогда бы сего мира не заключила.
– Конечно, конечно! – визгливо воскликнул Петр Федорович. – Тетушка была вообще немного глупа, по правде-то говоря. Она бы и не могла понять ту политическую систему, которая явилась плодом мира моего с Фридрихом.
Послам иностранных держав, каждому по очереди, государь полушутя-полусерьезно сказал, что он приглашает их к парадному обеду не в зачет, так как они своим поведением этого не заслужили.
Французский посол Бретейль после такого объяснения уехал домой и решился не быть на обеде. В тот же вечер он написал своему правительству, что положение его становится окончательно невозможным и что Франция должна его отозвать, а выслать на его место простого поверенного в делах.
На этом же приеме многие поневоле заметили новую придворную даму в великолепном костюме, покрытом бриллиантами. По этим бриллиантам многие узнали «Ночь» маскарада Гольца.
Хотя у графини Скабронской было много знакомых в столице, но все-таки первые чины двора, первые вельможи не были с ней лично знакомы. Красота Маргариты, изящество ее костюма и бриллианты теперь поневоле поразили многих. Кроме того, все обратили на нее особенное внимание вследствие изысканной любезности, с которой государь долго говорил с ней и много смеялся, часто повторяя слово «ночь». Затем он пригласил ее на парадный обед, прося сесть не очень далеко от него.
Наконец, государь, очевидно говоря о костюме Маргариты, сказал фразу, от которой некоторые старые дамы смутились, а две из них даже решились отойти, не зная, чем кончится любезность государя и кокетничание новой придворной дамы.
Государь, осмотрев все звезды Маргариты, спросил вдруг:
– Et votre croissant? Est-il déja pleine lune? Ah! Si cetait une lune de miel et que vous me l,accordiez!..[28]
Маргарита вспыхнула, однако дерзко выговорила по-немецки, и настолько тихо, что, кроме Петра Федоровича, никто не мог расслышать:
– Подавать надежды с тем, чтобы потом забыть, что обещаешь, есть злое кокетство, не присущее мужчинам. Я знаю, что Людовик Пятнадцатый и ваше величество – два современника, любящие с бессердечной ловкостью делать несчастных.
– Людовик Пятнадцатый – может быть, но не я, – более искренне и менее шутливо произнес государь, невольно любуясь Маргаритой, и прибавил многозначительно: – Все в ваших руках!
Графиня снова вспыхнула уже от радости и отошла.
После приема государь отправился к себе в кабинет, пригласив с собой только дядю, Гольца и полицмейстера Корфа. Вслед за ними явился и Гудович.
Беседа зашла о недавней истории с бриллиантовым букетом, о которой узнал государь еще в маскараде, и Петр Федорович, вдруг рассердясь, отпустил Корфа со словами:
– Делай что хочешь, а букет этот мне найди. Если не найдешь, то из своих денег выплати барону, или если он не хочет, то мне или Романовне.
Затем государь отправился в большую залу, выходившую окнами на Неву, и оглядел сам приготовления к парадному обеду. Потом он послал Перфильева и Гудовича осмотреть приготовления к фейерверку и доложить ему, все ли в исправности. В четыре часа снова начался съезд, и дворец скоро наполнился блестящей толпой. Садясь за стол, многие заметили, что государь, бывший веселым с утра, немного угрюм и не в духе. На вопрос Жоржа, нет ли чего нового, государь отвечал довольно громко:
– Скверное, но не новое. Жена чудит! При тетушке чудила, ни ее, ни меня не боялась! Ну а теперь я не позволю.
Когда стали садиться на заранее назначенные места, государыня заняла свое обыкновенное место среди стола. Государь должен был сесть против нее, но вдруг, взяв Гольца под руку, увел его на самый конец, где сидели меньшие чины двора и, между прочим, Фленсбург.
– Пойдем туда, – рассмеялся государь, – не хочу я сидеть визави с этой дамой.
– С какой дамой? – изумился Гольц.
– Ну, с Алексеевной…
Гольц двинулся с государем, но вдруг ловким маневром покинул его, сказав что-то тихо и смеясь почти ему на ухо.
– Отлично! – отвечал государь.
И через мгновение Гольц появился, ведя даму в крайне эффектном платье, черном, бархатном, с красной отделкой огненного цвета. Покроем оно напоминало костюмы времени Екатерины Медичи.
Маргарита была необыкновенно хороша в этом платье. Эти огненные языки на черном бархате и какое-то злорадство на лице придавали что-то демонское всей ее фигуре. И все взоры снова обратились на нее, и ради костюма, и ради попрания всякого придворного этикета.
Таким образом, на конце стола между молодыми офицерами очутились вместе четыре человека – государь, Гольц, Маргарита и Фленсбург. Принц Жорж всячески со своего места, и руками, и глазами, и головой, показывал Фленсбургу уйти. Он даже сам собирался перейти туда же, умышленно захватив с собой канцлера, чтобы этот край стола сделать более приличным. Но все уже расселись по местам, переглядываясь молча и удивленно.
Государыня очутилась против пустого куверта, так как место государя никто не посмел занять. Но она была весела и любезно, ласково начала говорить со своими соседями.
За ее креслом стоял, чтобы прислуживать ей, камергер граф Строганов, родственник княгини Дашковой и любимец их обеих. Государыня шепотом начала шутить с ним по поводу поступка государя и, смеясь, показывала глазами на пустое кресло. Строганов, один из первых остряков двора, вероятно, тоже острил, потому что государыня едва сдерживалась от смеха. Но эти шутки не ускользнули от косого взгляда, который бросил внезапно государь на середину стола.
– Чему она там радуется? – обернулся вдруг государь к Гудовичу, который стоял за его креслом. – Пойди скажи Строганову, что он здесь не в трактире и чтобы вел себя приличнее, а то я его выгоню вон!
Гудович обошел стол, шепнул что-то на ухо Строганову, и тот, несколько смутившись, перестал разговаривать с государыней.
С этой минуты государь не обращал внимания ни на что, усердно кушал, запивая мадерой, своим любимым вином, и угощая двух своих соседей, Гольца и сиявшую самодовольством, счастливую и поэтому гордую и высокомерную графиню Скабронскую.
Обед шел медленно и молчаливо, только раздавался шум посуды и приборов; этот шум покрывался веселым и визгливым голосом государя. Взоры всех присутствующих почти не покидали конца стола; но по мере того как государь делался разговорчивее, Гольц становился пасмурнее и все чаще взглядывал через стол на принца Жоржа. Маргарита тоже чувствовала себя неловко, и в душе она не рада была, что села на это место.
Наконец, не дождавшись последних блюд, государь поднял бокал с венгерским и громко провозгласил тост – за здоровье императорской фамилии!
Все поднялись на ноги, гремя стульями и при громких кликах; одна государыня осталась на месте.
Петр Федорович вдруг тоже вскочил с места, сильно покраснел и, обернувшись к стоящему за его стулом Гудовичу, выговорил:
– Поди спроси у нее, зачем она не встает?
Гудович видимо колебался.
– Ну, ну, живей! Любопытно, что она ответит?
Государь сел, все опустились тоже на места. Но все глядевшие на государя, когда он обернулся к Гудовичу, теперь следили глазами за фаворитом.
Гудович, наклонясь, тихо передал что-то государыне и, получив ее спокойный, но несколько удивленный ответ, медленными шагами обошел опять стол и так же, наклонясь над стулом государя, заговорил шепотом.
– Громче, громче! Нечего шептаться! – воскликнул государь.
– Ее величество приказали сказать, – нетвердым голосом произнес Гудович, – что так как императорская фамилия состоит из государя, государыни и отсутствующего наследника престола, то она не нашла нужным вставать.
– Императорская фамилия состоит не из троих лиц, – воскликнул Петр Федорович. – Принц Георг Голштинский и принц Голштейнбекский со своими семьями принадлежат тоже к императорской фамилии, и она должна это знать. Поди скажи, что она дура.
Гудович остолбенел, и все близ сидящие смутились. Гольц, тоже смущенный, заговорил что-то государю, но он не слыхал.
– Ступай скажи! Да нет, – вскрикнул вдруг Петр Федорович, – пожалуй, надуешь.
И, обернувшись быстро в ту сторону, где сидела государыня, он выговорил громко через стол:
– Ты дура!..
Это слово магически подействовало на всю залу. Наступили гробовое молчание и полная тишина; ни один голос не слышался, ни вилка, ни ножик не стукнули по тарелке, никто даже не кашлянул. Будто всякий затаил дыхание! И среди этого гробового молчания в огромной зале, где сидело несколько сот человек… послышался сдержанный плач! Государыня сидела, закрыв лицо платком. Эта внезапная и мертвая тишина будто накрыла все каким-то тяжелым покровом и лежала гнетом над всем и надо всеми. Но вдруг государь поднялся на своем месте и… провозгласил новый тост:
– За друга моего, учителя и покровителя короля прусского! – И затем он прибавил по-французски: – А la santé du roi, mon maitre![29]
После сдержанного крика гостей государь провозгласил третий тост – за процветание счастливого мира, только что заключенного между двумя народами, русским и немецким.
Он чокнулся с Гольцем и затем, поцеловав его, начал снова весело болтать. Но за столом от двух последних тостов, а отчасти и от случая с государыней было по-прежнему особенно тихо. Один государь становился все веселее и оживленнее и громко говорил Гольцу, изъявляя надежду, что мир с Пруссией будет вечный, что за его царствование Россия поймет, какое благо мир искренний и крепкий с сильным соседом; что Пруссия, идя по стопам Фридриха, сделается первой державой в Европе, а если Россия будет следовать его политической системе, то процветет тоже и равно сделается сильной державой.
– Вы и мы, – воскликнул наконец государь, – когда Петра Третьего и Фридриха Второго уже не будет на свете, конечно, вы и мы завоюем мир. Империя Марии-Терезии будет уничтожена, стерта с лица земли, французское королевство снизойдет на степень второстепенного государства.
Австрийский посол Мерсий, издали слышавший немецкую речь государя, обернулся к гетману Разумовскому, сидевшему около него, и выговорил:
– Спасибо за пожелание! Ваш государь – человек чересчур откровенный.
Гетман лукаво усмехнулся:
– За столом держать язык за зубами мудрено…
VII
Обед кончился. Государь поднялся из-за стола, все последовали его примеру, и шумная толпа разошлась по многочисленным комнатам дворца. Петр Федорович отправился в свой кабинет, пригласив с собой первых сановников и послов.
– Я вас там угощу таким вином, – выговорил он, – которого на свете только десять бутылок осталось! Венгерское, которому около тысячи лет!
– О! – воскликнул вдруг Жорж несколько печально и пошатываясь, так как за столом тоже успел малую толику хватить через край. – Это невозможно, ваше величество, такого вина нет. Венгрия тысячу лет тому назад не…
– А вас я прошу, ваше высочество… мне никогда не противоречить. Я слишком искусен на шпагах, чтобы мне кто-нибудь смел давать… dementi[30].
Принц опешил, сконфузился, даже рот разинул…
– Впрочем, – воскликнул вдруг государь, – я забыл, что вы по-французски не понимаете. Вы и не знаете, что такое un dementi. Во всяком случае, прошу вас вести себя осторожнее со мной, а то я могу вас вызвать на дуэль… и уничтожить.
Никто из присутствующих не понимал, шутит государь или нет, настолько серьезен и искренен был его голос.
Уже при выходе из залы ему на глаза попалась фигура Строганова.
– А! – воскликнул он. – Ты! Шутник! Убирайся вон! Хоть в какое-нибудь из твоих поместий! И ко двору носа не показывай. Чтоб я тебя никогда не видал! Hopp! Hopp! Zum Teufel!..[31]
Строганов побледнел, поклонился и пошел.
Государь снова после этих слов стал веселее и, обернувшись к Жоржу, взял его под руку, ввел в кабинет и, отведя в сторону, выговорил:
– Ну, дядюшка, не обижайтесь, с вами я пошутил. А вот что, в эту ночь извольте лично арестовать жену и отправить ее в Шлиссельбург.
– Ваше величество! – воскликнул Жорж, всплеснув руками. – Бога ради! Это ужасно! Вы не можете себе представить, что произойдет во всем Петербурге, даже во всей России. Это невозможно!
Жорж так потерялся, что даже хмель будто выскочил у него из головы.
– Пустяки! Делайте, что я говорю…
– Не верите, спросите у Гольца.
Жорж стал звать барона, но, видя, что он не слышит, сам пошел к нему за помощью.
– Пустяки! Оставьте, завтра забудет, – сказал Гольц как-то рассеянно и будто думая о чем-то другом.
В это время кабинет стал наполняться лично приглашенными государем отведать венгерского.
Через час в кабинете государя было настолько весело, что, вероятно, он был отчасти прав, когда говорил, что его венгерскому тысяча лет. Только три небольшие бутылки были опорожнены гостями, но смех, шум, шутки далеко разносились по соседним горницам.
Некоторым лицам, которые еще не были в кабинете государя после его переезда в новый дворец, он показывал разные мелочи и, между прочим, пару новых эспадронов, полученных из Берлина.
Наконец государь развеселился настолько, что велел снова подать шипучего венгерского. Когда все бокалы были наполнены, он вызвал всех за собой в свою спальню и, став перед портретом Фридриха, который висел над его кроватью, выговорил, поднимая руку с бокалом:
– Пью за твое здоровье, великий человек, мудрец и гений, друг и учитель, отныне покровитель мой! И чтоб доказать вам, господа, – вдруг воскликнул государь, – насколько я люблю и уважаю этого человека, смотрите! А вы, барон, напишите ему, больше я сделать не могу.
Государь вдруг упал на колени, вытянул руку с бокалом к портрету, а затем осушил его до дна.
– Виват! – воскликнул он, вставая.
– Виват! – воскликнули все, и громче всех Жорж и Гольц.
– Еще, еще! – воскликнул Жорж. – Наливайте! Я тоже хочу… Я тоже сейчас хочу на колени, – бурчал принц Жорж, сильно захмелевший.
– Нет, не позволю! – крикнул государь. – Вы недостойны этого!
– Как недостоин?! – воскликнул Жорж запальчиво. – Как это… недостоин?
– Молчите! Я вам говорю, вы недостойны. Став на колени и подражая мне, вы унизите мой поступок. Да и для Фридриха… что вы такое?..
Жорж вдруг обиделся чрез меру и побагровел. Если б не Гольц, появившийся между спорящими, то бог знает, что произошло бы вдруг.
Между тем на дворе все темнело. Набережная вокруг дворца уже давно начала покрываться густыми толпами народу. Противоположный берег за Невой тоже шумел и гудел, заливаемый волнами веселого любопытного люда.
Все ожидали давно заготовленного фейерверка, который был устроен на мысу Васильевского острова, выдающегося против дворца. На площади и набережных, затесненные густой толпой, стояли уже давно, не имея возможности двинуться, несколько экипажей. Вся река была унизана лодками, барками и всякого рода челноками, тоже переполненными зеваками. Окна дворца, и в особенности большой залы, где был обед и предполагался вечером бал, ярко освещали толпу, сплошь наполнявшую всю набережную.
Наконец на углу Васильевского острова вспыхнул букет из нескольких сотен ракет, и тотчас же среди восстановившейся тьмы зажглись в двух разных концах на Неве и на Невке две гигантские фигуры, в которых более просвещенные из публики узнали символическое изображение России и Пруссии. Обе сияющие фигуры двинулись, пошатываясь, и сошлись у края острова. В ту же минуту между ними загорелся высокий щит, изображавший жертвенник. Две огромные фигуры протянули над жертвенником руки и после этого символического дружеского пожатия стали тухнуть. А на острове вспыхнул и загорелся, протянувшись далеко в обе стороны, целый ряд арок, колонн, порталов и шпицев, сверкающих разноцветными огнями; это было феерическое и великолепное здание, долженствующее изображать храм мира.
Фейерверк продолжался долго. Когда на Васильевском острове прогорели все щиты, то на самой Неве стали появляться плавучие фигуры, которые зажигались и, медленно скользя, спускались по реке. Когда река и обе набережные были особенно ярко освещены разноцветными огнями, недалеко от дворца принца Жоржа, где было менее народу и где экипажи могли двигаться, стояла на берегу большая колымага, запряженная цугом лошадей. В эту минуту мимо нее шагом двигалась небольшая берлина, и в ней сидели два офицера, преображенец и кирасир. Они о чем-то спорили громко, но интонация их голосов была странная, будто они шутили, а не сердились. В колымаге была княжна Василек, приехавшая посмотреть фейерверк в сопровождении одного Квасова. В ту минуту, когда легкая берлина поравнялась с колымагой, Василек невольно высунулась в окно, ахнула и снова скрылась. Она, конечно, сразу по одному голосу узнала этого преображенца, а яркий букет, загоревшийся на острове, позволил ей разглядеть обоих офицеров и обоих узнать. Но она не поверила себе и, обернувшись к Квасову, решилась вымолвить слегка дрожащим голосом:
– С кем же он?
– Да с ней же! – отозвался Квасов. – Я уж во второй раз вижу ее в офицерском одеянии. Шальная, что ж ей! Ей всё Святки, она хотя трубочистом нарядится. И как это позволяют? Арестовать бы ее?
Василек ничего не сказала и глубоко задумалась, а через минуту приказала кучеру ехать шагом домой. Колымага повернула и тихо двинулась через площадь к Невскому проспекту. Квасов тоже молчал и только косился на свою спутницу.
А в берлине, двигавшейся по набережной, длился веселый разговор и смех. Шепелев и Маргарита говорили по-немецки, чтобы не быть понятыми кучером и окружающей толпой. Они шутили насчет того, что Маргарита поставила в гостиной с куполом огромный шкаф, будто бы для своих платьев, а в сущности затем, чтобы прятать юношу, когда к ней приезжали неожиданные гости. И уже раз шесть высидел Шепелев в огромном шкафу и однажды даже часа два не мог быть освобожден благодаря долгому визиту старого Иоанна Иоанновича. Шепелев жаловался только, что благодаря величине шкафа и массе платьев он не мог ни видеть, ни слышать того, что происходит в горнице.
Фейерверк давно был сожжен… Вся столица уже спала, а берлина с двумя офицерами все еще тихо колесила по окраинам Петербурга. Наконец Маргарита завезла юношу на его квартиру, пробыла у него далеко за полночь и вернулась домой полусонная.
И в этот раз она потребовала у Лотхен двойную порцию своего любимого, но убийственного питья.
Новые отношения юноши и красавицы были теперь, конечно, таковы, что они потеряли счет времени, дням и часам. Они не помнили себя и не думали ни о чем более, как только видаться чаще, видаться от зари до зари. Шепелев был, конечно, без ума, без памяти. Да это было и немудрено! Можно было и не юноше потерять рассудок от такой женщины, как Маргарита. Она же, со своей стороны, ребячески отдалась странной прихоти и, казалось, была еще более ребенок, чем он. Неосторожности Маргариты по отношению к любовнику совершенно не согласовались с ее тайными помыслами, мечтами и планами, составленными верным союзником Гольцем.
Пруссак легко заставил молчать оскорбленного шлезвигца, но сама Маргарита себя выдавала постоянно. Ежедневно обещала она Гольцу быть осторожнее и продолжала действовать как бы в опьянении.
Только с дедом довольно искусно вела она игру. Иоанн Иоаннович то обижался, дулся на внучку, сидел дома, то снова прощал ее, заискивал и ухаживал за ней, веря ее обещаниям.
Вообще же между красавицей кокеткой и четырьмя обожателями была видимая путаница в отношениях, такая же путаница, какая была и в душе Маргариты. Она говорила себе ежедневно:
– Покуда пускай так!.. А там видно будет!.. Авось я не упаду среди моих марионеток.
Юношей красавица, разумеется, забавлялась, как игрушкой, чувствуя, что когда-нибудь она эту новую милую игрушку все-таки разобьет… сломает. Теперь начинала сказываться только одна вещь, удивлявшая обоих… Им не о чем было говорить! Часто целые вечера приходилось молчать и только любоваться друг на друга. Между ними оказывалось мало общего.
Сначала они до сотни раз говорили о маскараде Гольца, о том, как искусно Маргарита разыграла роль «Ночи», явившись на бал в двух костюмах и одев кармелиткой Лотхен, чтобы обмануть и Шепелева и публику. Сначала Маргарита часто рассказывала любовнику всю свою жизнь… искренне, правдиво, описывала свои путешествия до и после замужества…
Но все это было скоро исчерпано! И часто, и все чаще, приходилось после поцелуя… сидеть, глядеть друг на друга и молчать!..
Юноша был все-таки счастлив. Но Маргарита думала: «Однако… как все это странно… даже глупо… Ну вот и все!.. А потом что же?!»
VIII
Однажды вечером, в ясную лунную ночь, когда Гарина была уже в постели, Василек в своей горнице усердно и печально молилась на коленях перед своим киотом. Ей было со дня празднества и фейерверка особенно тяжело. Настя в своей комнате сидела неподвижно у открытого окна, несмотря на свежесть ночи, и, казалось, давно замерла под гнетом своей страшной думы о том, в чем еще боялась сознаться себе самой и виновнику его, то есть князю Глебу. Среди затишья ночи и тишины в окружающих дом пустырях на дворе вдруг послышался стук колес, топот лошадей и голоса. Люди, наполовину уже спавшие, наполовину ужинавшие и собиравшиеся тоже спать, повскакивали на ноги.
Ночные посетители не столько испугали всех, сколько изумили. Никогда еще ничего подобного не бывало в доме. Василек слишком горячо молилась, чтобы услыхать этот шум, Настю слишком угнетала ее тяжелая дума; одна Пелагея Михайловна услыхала этот шум на дворе, но это было настолько невероятно, что она протерла себе глаза, чтобы убедиться, не снится ли ей весь этот гвалт во сне.
Шум в доме все рос, раздались шаги на большой лестнице, затем раздались в коридоре, уже не шаги, а беготня десятка человек и крики. Если бы шайка грабителей ворвалась в дом, то, конечно, переполох был бы не больший.
Настя, еще одетая, и Василек, раздетая наполовину, выскочили обе тоже в коридор. Гарина села на постели и даже перекрестилась. Несколько мгновений ломала она себе голову, чтобы придумать, что могло быть, и ничего не придумала.
Наконец в комнату влетела Василек и, задохнувшись, замахала руками… Она хотела что-то сказать тетке, но опустилась в кресло и если не лишилась сознания, то лишилась способности произнести хоть одно слово.
А в коридоре шум увеличивался и приближался к горнице Гариной. И вдруг Пелагея Михайловна, глядевшая в растворенную Васильком дверь, вскрикнула, как если бы ее ударили ножом.
В дверях показался совершенно незнакомый кирасир. Через несколько секунд появление ночных посетителей объяснилось и, как гром, поразило всех в доме. Офицер с солдатами явился арестовать госпожу Гарину и двух княжон Тюфякиных.
Все три женщины совершенно помертвели от страха. Первая пришедшая в себя Василек обратилась к незнакомому кирасиру с вопросом:
– Не ошибаетесь ли вы? Нас ли?
Офицер с немецким акцентом объяснил, что ошибки нет никакой.
– Да за что же? – вымолвила Василек. – По чьему приказанию?
– По приказанию из канцелярии, по приказу господина Гудовича, а за что, собственно, вам лучше знать!
– Нам?.. Но мы ничего не знаем…
– Странно… Впрочем, всегда все так говорят, Я только слышал, что вы кого-то ограбили. Ваш братец уж арестован.
При этих словах Настя, стоявшая недалеко от офицера, вскрикнула и упала на пол без чувств. Крики и вопли людей, плач, сумятица продолжались около получаса.
Одна княжна Василек понемногу стала совершенно спокойна, только вечно ясные, добрые глаза ее, быть может в первый раз за все ее существование, были холодно-злобны. Она медленно, спокойно, сдержанно и говорила и распоряжалась. Сначала привела она в чувство сестру, потом стала помогать тетке одеваться.
– Не тревожьтесь. Полноте! Не кричите! Не плачьте! – повторяла она всем. – Беды никакой нет. Мы знаем, что ни в чем не виноваты. Тут ошибка какая-нибудь. Только срам будет велик, а беды никакой нет.
Офицер хотел посадить всех трех на большую тележку, в которой приехал. Василек стала просить его дозволить им ехать в своей карете.
– Смотря по тому, каких коней впрягут, – холодно сказал офицер. – Если плохие кони – можно; а на хороших нельзя, а то вы у нас из виду ускачете.
Однако в конце концов офицер все-таки позволил ехать женщинам в своем собственном экипаже.
Через час времени после появления кирасира и переполоха в доме карета Тюфякиных, запряженная цугом, тихо двинулась среди ночной тишины. На козлах сидел один кирасирский солдат, а около кареты ехали верхом офицер и еще два солдата.
Путешествие это продолжалось долго, так как арестованных прямо везли в канцелярию Гудовича. По крайней мере, им не пришлось срамиться и ехать днем через весь город. Арестованные были тотчас заперты в большую горницу дворянского отделения.
Опекунша, казалось, лишилась всех чувств, сознания окружающего и всего совершающегося с нею. Настя глядела косо, холодно и злобно. Одна Василек была совершенно спокойна, немного грустна и еще нежнее обращалась с теткой и с сестрой.
«Беды не будет! Господь не попустит правым пострадать! – крепко верила и думала Василек. – Но срам велик… Те же арестантки…»
Наутро Пелагею Михайловну позвали первую к допросу, затем обеих княжон. Гудович обходился со всеми тремя вежливо, но все три женщины вернулись с допроса смущенные. Всем трем показалось, что их умышленно хотят во что бы то ни стало запутать в дело, о котором они не имели никакого понятия. Из допросов они поняли, что их подозревают в краже чего-то… Им не сказали даже, в чем дело. Их спрашивали о разных непонятных им вещах. У Гариной долго допытывались, знает ли она бриллиантщика Позье… Бывала ли на квартире Глеба? Есть ли у нее знакомые жиды?..
Между тем дело было самое простое. Вечно сонный лакей князя, Егор, продержав футляр с неделю у себя, пошел, наконец, шататься из магазина в магазин, продавая этот красивый пунцовый ларец от неизвестной ему вещи. Наконец он зашел и в лавку немца, приятеля Позье, который давно знал историю пропажи букета, а когда-то видел у Позье и букет и футляр. Разумеется, Егор тотчас же был схвачен и признался, что нашел вещь в печи, куда ее кто-то запрятал, вероятно сам барин…
Гудович сразу догадался, когда именно князь его обокрал. Он вызвал его к себе и прямо поставил вопрос и предложение:
– Где букет?.. Или кнут и Сибирь!
Пораженный внезапным раскрытием своего преступления и своей сокровенной тайны, Тюфякин чуть не лишился чувств и тотчас же сознался во всем.
По дороге в Митаву был тотчас же послан фельдъегерь вдогонку за жидом.
Князь ни слова не сказал про сводных сестер и тетку. Он даже сам забыл о них под ударом, его постигшим. Гудович не счел нужным их спрашивать как свидетельниц, но в канцелярии нашлись люди, «приказные пиявки», наследие еще Бироновых времен, которые убедили ленивого и бесхарактерного Гудовича притянуть к делу богатых княжон и их богатую опекуншу не как свидетельниц, а участниц преступления. И Гудович согласился… Один из главных воротил канцелярии, родом мордвин, но статский советник и кавалер, наметил Тюфякиных и начал, как паук, раскидывать паутину… А наивный Гудович ничего не видел. Даже Гольцу, заехавшему утром, показался странным допрос княжон. Сам князь Глеб, узнав про арест сестер, был в негодовании и резко, дерзко выговаривал Гудовичу, что один он виноват и что сестры слишком богаты, чтобы воровать. Однако после первого допроса и Гарина и княжны были оставлены для дальнейшего расследования дела!..
В то же утро, через несколько часов после ареста княжон и опекунши, Квасов, по обыкновению, отправился пешком к своим новым друзьям.
Когда он вошел во двор, то увидал кучку людей, сидевших на скамеечках около флигеля. Все они сразу повскакали с мест и бросились навстречу к доброму барину Акиму Акимовичу, которого все успели полюбить. Они обступили Квасова, предполагая, что он все знает, и стали расспрашивать о господах. Что с ними? Живы ли они, что с ними будет и за что такая беда?!
Квасов, ничего еще не понявший вполне, стоял как громом пораженный, почуяв несчастье. Расспросив людей в свой черед подробно о ночном аресте Гариной и княжон, Квасов не вымолвил ни слова, кое-как доплелся до ближайшей скамейки и тяжело опустился на нее. Он чувствовал, что не устоит на ногах.
Люди окружили его, и снова наступило мертвое молчание. За что были арестованы господа, люди, конечно, не знали, и многие из них, уже пожилые, помнившие царствование Анны Иоанновны, решили дело по-своему.
– «Язык» опять пошел ходить, – говорили они. – «Слово и дело» кто-нибудь сказал на барышень и на барыню.
Наконец Квасов как бы пришел в себя.
– Есть у вас какая тележка? – вымолвил он. – Коли есть, запрягай скорей, поедем в город разузнавать и хлопотать, а пешком и до вечера ничего не сделаешь.
Главный кучер Тюфякиных бросился к конюшне, и через четверть часа Квасов уже выезжал со двора на лучшем рысаке княжон.
Прежде всего Аким Акимович вернулся в полк и отправился расспрашивать всех старших офицеров, имевших связи в городе. Всякий передавал ему по-своему про неожиданный арест бывшего преображенца Тюфякина, и всякий предполагал затем уже прямым последствием его и арест родственниц, сестер и тетки. Вести были разноречивы.
Квасов увидел, что истины добиться невозможно. Он уже решил ехать прямо в канцелярию Гудовича, добиться свидания с арестованными, чтобы расспросить у них, в чем дело.
«Не допустят! – подумал он. – Все попробую, съезжу». И в совершенном отчаянии лейб-кампанец вышел на улицу и снова стал садиться в тележку.
В эту минуту на ротный двор возвращался верхом Баскаков. Оба офицера были давным-давно если не враги, то в очень холодных, натянутых отношениях. Квасов недолюбливал Баскакова как близкого друга буянов Орловых и вдобавок человека, часто дарящего и угощающего солдат без всякой видимой цели. Баскаков, со своей стороны, не любил Квасова за его беспощадное отношение к солдатам. За последнее время, однако, Баскаков сделался с Квасовым любезнее и снова раза два приглашал его от имени Алексея Орлова на их вечеринки. Орловым был теперь положительно нужен лейб-кампанец, игравший одну из самых видных ролей в дни переворота в пользу покойной государыни.
Квасов, завидя теперь Баскакова, вдруг решился обратиться к нему, но тот предупредил его:
– Что с вами, Аким Акимович? На вас лица нет!
Квасов объяснился и прибавил:
– И ничего не добьешься, никакого толку, всякий рассказывает на свой лад. Не знаешь, что и делать!
– Так вы бы прямо ко мне обратились, – усмехнулся Баскаков. – Я все дело знаю! Этот поганый князек украл обманом бриллиантовую вещь в несколько тысяч и оговорил тетку и сестер.
– Господи! – воскликнул Квасов. – Убил бы я собаку! Да неужто ж в канцелярии не разберут правого от виноватого?
Баскаков пожал плечами:
– Мудрено. Для этого нужно попросить! А так Гудович по своей лени всех под один закон подведет. Да вы чего же тревожитесь, у вас есть ходы, есть кого попросить, и все дело устроится.
– Кого же? – воскликнул Квасов.
– Полно, Аким Акимович, притворяться, – укоризненно выговорил офицер. – У вас за один месяц покровитель, как гриб после дождя, вырос.
– Да кто? Кто? – вопил Квасов на всю улицу.
– Да племянник ваш, Шепелев! Ведь дело-то затеяно прусским послом и графиней Скабронской, для которой он бриллианты эти и заказывал. Ну а ваш племянник, кажись, не только днюет, а и ночует у этой полоумной графини. Так чего же проще?
Квасов онемел от изумления при этом открытии. Он стоял неподвижно, глядя в лицо Баскакова, и долго не мог выговорить ни слова.
– Поезжайте к племяннику, и, смотрите, все уладится. Вам бы ближе знать все это, а вы не знаете; а вот Орловы да и все мы отлично знаем, кого с кем в столице черт веревочкой перевязал.
Квасов не слушал, а все думал и думал. Наконец он выговорил вслух то, что вертелось у него в голове:
– Да ехать ли?
– Куда? К племяннику-то?
– Да. Ехать ли?
– Ну, уж это ваше дело!
Баскаков вошел на ротный двор. Квасов нерешительно полез в тележку. Гордость его не позволяла ему ехать с поклоном к племяннику, к «поросе», с которым он поссорился, который его даже оскорбил.
– Поезжай шажком, а я покуда на мыслях раскину, – сказал он глухо кучеру.
Проехав одну улицу, Квасов велел остановить лошадь: он окончательно не знал, что делать.
– Нет, уж вы, Аким Акимович, будьте благодетель, – выговорил кучер, слышавший разговор двух офицеров. – Хоть и неохота вам, а поезжайте к Митрию Митричу. Подумайте, мы с вами вот по городу колесим, а наши княжны теперь на хлебе и на воде сидят, а может быть, их и пытают каленым железом. Хоть для Василисы Андреевны будьте благодетель. Она наш ангел-хранитель… Для Василисы Андреевны!
Эти три последних слова вдруг заставили Квасова вздрогнуть, и он воскликнул:
– Пошел!
А сам невольно подумал: «Для Василисы Андреевны! Для нее, моей неоцененной, не то что к поросенку этому поеду, а хоть в Неве утоплюсь!»
IX
И через несколько минут Квасов входил в маленькую, но красивую квартиру Шепелева. В обыкновенное время он бы, конечно, огляделся кругом себя и заметил бы роскошную обстановку, но теперь уже было не до того.
«Как-то примет меня? Что скажет?» – робел Квасов за свое самолюбие.
Денщик Шепелева пошел доложить барину о приезде Квасова, и, прежде чем Аким Акимович успел переступить порог из столовой в гостиную, он услыхал быстрые шаги. Юноша бегом летел к нему навстречу и через мгновение повис у него на шее.
– Голубчик, дяденька! Родной мой! Вот подарили!
И Шепелев в порыве радости и восторга, что дядя первый его навестил, схватил его красную и жесткую руку и несколько раз поцеловал ее с чувством.
Это движение юноши поразило Квасова в самое сердце, или, быть может, от нескольких часов, проведенных в волнении, сердце матерого лейб-кампанца наболело. И теперь он не выдержал, слезы вдруг полились по его суровому лицу. Шепелев схватил его за руки и потащил в крайнюю горницу, спальню.
Квасов собирался сказать ему, входя в дом, что он не мириться приехал, а просить его заступиться за семейство, которое всегда считалось роднёй и друзьями его отца и с которым он чуть-чуть сам не породнился. Но теперь Аким Акимович молчал и на благодарность Шепелева за этот первый шаг не отвечал ничего.
– Я бы сам давно к вам пришел прощения просить, да боялся, думал, рассержу еще пуще. Вот как перед Господом Богом правду говорю! – воскликнул Шепелев. – Простите меня! И вина моя невеликая! Я вам все расскажу, ничего не скрою.
– Ну, слушай, порося, – мягко выговорил Квасов, – после поговорим обо всем, а теперь времени терять нельзя. Отвечай мне по совести, кто тебя одарил и в офицеры вывел в один месяц? Правда ли, что Скабронская? Не ради пустого любопытства, а ради дела спрашиваю.
– Дядюшка! Что ж бы тут за грех? Она первая красавица в городе. А вы знаете, на счет каких старых ведьм наши же офицеры живут.
– Знаю, не в том дело, – перебил Квасов. – Стало быть, можешь ты… Захочет она для тебя заступиться за невинных?
– Еще бы! – воскликнул Шепелев.
И Квасов рассказал племяннику то, что слышал от Баскакова.
Шепелев, конечно, узнал накануне от Маргариты о мошенничестве и аресте князя Глеба, но судьба, постигшая все семейство, была для него новостью. Он вскочил с места и всплеснул руками. Квасов было продолжал рассказ, но юноша замахал руками:
– Полноте, дядюшка, что вы, чего тут объяснять! Я их лучше вас знаю. Мало того, что постараюсь сделать все, а вперед вам говорю, что, пожалуй, к вечеру же их и выпустят. Едем сейчас.
– Куда?
– Едем к Маргарите!.. К графине Скабронской, – вдруг вспыхнул Шепелев, поправившись.
– Как же? Что ты! – смутился Квасов. – Как же я?
– Непременно, сами ей все и расскажите.
Через полчаса веселая, довольная, смеющаяся Маргарита, как и всегда, красивая, изящно одетая, принимала у себя в гостиной юношу и дико озирающегося лейб-кампанца.
Аким Акимович, всегда отличавшийся медвежьими ухватками, теперь сидел в гостиной графини Скабронской совсем букой.
С первых же слов Маргарита поняла все и решила немедленно, чтобы Шепелев с дядей посидели у нее, покуда она съездит к Гольцу узнать, что делать.
– А вы не тревожьтесь, господин Квасов, – прибавила она. – Не нынче завтра всех освободят. Это дело совершенно просто. Я надеюсь, что господин посланник сам будет просить Гудовича, а то и государя освободить невинно пострадавших.
Маргарита быстро собралась и выехала из дома.
За отсутствием хозяина Шепелев тихо рассказал дяде всю историю своего сближения с графиней и затем снова попросил прощения у дяди.
– Что ж! – развел руками Аким Акимович. – Вот как посидишь около нее, так оно понятно. В сорочке ты родился, что тут сказать! Красавица такая, что даже удивительно, почему она тебя, порося, предпочла. Ведь не один ты в столице. И даже для меня, порося, это загадка! Или, может быть, ты один из дюжины?
– Как? – воскликнул Шепелев.
– Как! Известно как… Если у нее вас дюжина! Тогда легче попасть в милость.
– Что вы, дядюшка, не грех ли вам?!
– Может быть, и грешу, да так по совести сказываю. Бывает и это в столице. И, вестимо, никто из дюжины друг дружку не знает.
Маргарита вернулась домой менее довольная. Она объяснила Квасову, что не застала дома посла, увидит его на другой день и постарается все дело справить.
Отпуская Квасова, она остановила Шепелева словами:
– Погодите, мне надо с вами переговорить еще.
Шепелев остался и узнал от Маргариты, что она застала Гольца дома, но привезла нехорошие вести.
Гольц знал уже об аресте семьи Тюфякиных, знал даже подробности, присутствовал при одном из допросов и вынес полное убеждение, что в деле кражи не было ничего общего и не могло быть между княжнами-богачками и их сводным братом. Но Гольц подозревал, что в этом деле, в их аресте, есть какие-то тайные пружины.
– Гольц думает, – закончила Маргарита, – что арестовали нарочно. И что они не отвертятся; их сошлют в ссылку ради того, чтобы отписать все их большое состояние на казну. А затем государь подарит его кому вздумается.
– Кому же? – изумился Шепелев.
– Известно, судьям, их судившим.
– Что вы! Как это можно! – воскликнул Шепелев.
– Это, мой милый, практикуется в России уже со времен императора Петра II, с легкой руки Меншикова, который первый получил богатые поместья, отписанные у ссыльных.
– Да, но Гудович и Нарышкин не такие люди, – заметил Шепелев.
– Не знаю. Так думает Гольц. Во всяком случае, я вам обещаю сделать все. Завтра государь будет утром в гостях у барона, и я поеду, чтобы встретить его… как будто нечаянно…
Маргарита вымолвила это с таким странным оттенком в голосе и притом так быстро взглянула в лицо Шепелева и отвела глаза, что юноша вдруг будто оробел чего-то. Он стоял неподвижно и пытливо глядел в лицо красавицы.
– У Гольца! – выговорил он наконец. – И мы у Гольца в первый раз сошлись…
– Что ты хочешь сказать? Ты с ума сошел!..
– Нет… Все может быть с такой, как ты… красавицей.
Маргарита рассмеялась, но как-то неестественно.
– Этого недоставало, чтобы ты меня ревновал ко всем и, наконец, даже к государю!
– Нет, не ко всем и не «наконец» к государю. А прежде всего к нему! – воскликнул Шепелев. – Ты честолюбива. Уж это не в первый раз приходит мне на ум. Все говорят, что недаром ты стала придворной дамой после маскарада.
– Если вам угодно, господин офицер, – полушутя произнесла Маргарита, – то я завтра не поеду к посланнику, но тогда ваша бывшая невеста и все семейство поедут в ссылку. Это единственное средство спасти их. Я расскажу сама подробно все государю, даже намекну ему о причине, по которой хотят запутать Тюфякиных. Я не боюсь сказать это, а он прямодушен и добр! Если он будет знать истину и поверит, – а я знаю, что он мне поверит, – то Тюфякины будут освобождены сейчас же. Завтра же вечером они будут дома и счастливы. Но если вы, господин ревнивый младенец, из глупого подозрения, хотите пожертвовать целой семьей, то как вам угодно. Я буду повиноваться. Для меня Тюфякины никто, я их даже не видала.
– Поезжайте! – глухо выговорил Шепелев. – Я не муж, но… – прибавил он и запнулся. – Я теперь же скажу то, что уже несколько дней мне спать не дает, преследует меня и день и ночь. Пойми, что если когда-нибудь я узнаю и замечу… Пойми, Маргарита! Услышу что-нибудь… если будет повод… Одним словом, если ты меня обманешь, то помни, Маргарита, это будет пахнуть смертью. И сам я себя убью, но прежде тебя.
Маргарита начала хохотать, вскинула ему руки на плечи и стала целовать его. Но юноша побледнел, взглянул на нее сверкающими глазами и выговорил:
– Да ты не веришь? Божусь тебе всеми святыми, что я не шучу, не стращаю зря… Это я давно решил!
– Верю, верю! Но этого никогда не будет! – воскликнула Маргарита, но с тем же странным оттенком в голосе, который появлялся всегда независимо от нее, когда она притворялась или лгала.
Шепелев ушел домой задумчивый.
На другой день графиня около полудня начала одеваться с помощью Лотхен и провела часа полтора за туалетом.
– Да старайтесь, старайтесь! – шутила Лотхен. – Стоит повертеться перед зеркалом. И как это быстро идет, будто круговорот какой! Давно ли мы с вами сидели без гроша денег и были счастливы, что к нам ездит такая важная птица, как господин адъютант принца. А теперь не ныне завтра к нам явится с визитом, пожалуй… сам император.
– Что ж, может быть! – отозвалась Маргарита. – Однако скверно, Лотхен, что я зараз за несколькими зайцами гонюсь и, пожалуй, всех упущу.
«Самый-то дрянной пойман!» – подумала Лотхен про себя и сказала:
– Да, уж дедушку, кажется, упустили. В последний раз, что вы не приняли его, на нем лица не было от злости. Почему он озлился, я даже не поняла.
Около двух часов пополудни Маргарита выехала в гости к прусскому посланнику.
В этот день у него был завтрак. Государь обещался быть, и Гольц предупредил его, что, за неимением жены, он просил одну из самых красивых женщин столицы быть у него хозяйкой на этот день.
Государь не догадался, что это будет Маргарита, которая начинала сильно ему нравиться, или забыл все, о чем Гольц намекал ему. Он приехал к барону с дядей и с целой свитой.
После оживленного завтрака, продолжавшегося очень долго, Маргарита храбро взялась за дело. Она завела с государем спор о статуе, бывшей в дальней гостиной, и тотчас же предложила идти в эту гостиную. Но там они и остались, и она рассказала ему все, даже подозрение Гольца, и просила пощады невинному семейству.
Через полчаса после этого государь вернулся в столовую, где весело беседовали гости, и, слегка румяный, крикнул Гудовичу:
– Это что у тебя завелось в канцелярии? Грабеж! Клеветы! Шемякин суд! Кто это у тебя вздумал невинных хватать и судить?
Гудович, слегка изменившись в лице, вымолвил:
– Я не понимаю, ваше величество.
– Вы, господин Шемякин, арестовали семью, как там… Подушкиных…
– Тюфякиных, – подсказал Гудович.
– Ну да! Затем, чтобы сослать их, а вотчины описать и у меня, в награду, себе выпросить! Так я вас!.. Вас всех сошлю! Вас!
– Ваше величество! – вспыхнул Гудович. – Этого упрека я, кажется, не заслужил.
– Ну, так пошел, скачи сейчас, и чтобы через полчаса они были на свободе! – крикнул Петр Федорович визгливо. – Довольны ли вы, графиня? – обернулся он затем к Маргарите.
Графиня низко поклонилась и невольно взглянула в лицо проходившего мимо Гудовича. Государь быстро отошел от нее к Жоржу, а Гудович вдруг приостановился около нее и выговорил злобным шепотом:
– Клеветать на себя, чернить мое честное имя я никому не позволю, а в особенности всякой иноземке. Всякой проходимке!..
– Господин Гудович! – воскликнула вспыхнувшая от стыда Маргарита. – Благовоспитанный человек не оскорбляет… – Но от волнения она не могла договорить.
– Я знаю, куда вы метите! – вне себя, злобно продолжал Гудович. – Но я вам говорю, не попадете! А попадете вы ко мне в канцелярию! И я обещаюсь, что я вас, иноземную путешественницу, здорово отодрав розгами, отправлю опять путешествовать, только не в Европу, а в Пелым… Каналья эдакая!.. – прошипел Гудович, бледнея от гнева.
Маргарита вскрикнула и схватилась за голову, затыкая уши. Все обернулись. Гольц, а затем и государь с дядей быстро подошли, спрашивая, что с ней.
Маргарита не могла выговорить ни слова. Гудович, взяв шляпу, исчез из комнаты в одно мгновение.
– Что с вами? – уже в третий раз спрашивал государь.
Маргарита, придя в себя, решила не говорить теперь ничего.
– Гудович вас удивил чем-нибудь? – спросил Гольц.
– Да, удивил!.. – прошептала Маргарита. – Но я не скажу чем… Теперь не скажу, ваше величество. Но после, скоро… обещаюсь вам все сказать… Да, удивил! Хотя здесь, в Петербурге, то есть в России, это дело обыкновенное, простое… Только со мной еще этого не бывало!.. – говорила Маргарита, все еще пунцовая.
Гольц вдруг догадался:
– Графиня! Я знаю… Я понял. Мы это обсудим с вами… Ваш муж при смерти… Я попрошу его передать мне свои права.
Государь стоял открыв рот и ничего не понимал.
– Скажите, в чем дело?
– После! После! – воскликнул Гольц за графиню. – Пойдемте… Выпьем венгерского за царя Соломона и всех справедливых царей!.. – воскликнул он шутя.
Графиня вернулась от посла поздно вечером, но довольная, веселая, счастливая… Счастливее, чем когда-либо.
Она нашла у себя Шепелева. Он дожидался ее, чтобы сказать, что княжны с теткой уже освобождены. Он хотел остаться до полуночи и далее. Но Маргарита объявила ему, что падает от усталости и хочет тотчас лечь спать! А между тем глаза ее далеко были не сонные, а блестящие, искрящиеся.
Шепелев печально поцеловал ее руки и вышел из дома будто с тяжелым камнем на сердце.
X
В половине мая в тесном кружке приближенных к государю лиц было нечто новое. Все они были несколько смущены. Даже Жорж, сидя дома по целым дням, волновался и все советовался с женой, как поступить в трудных и непредвиденных обстоятельствах.
Гольц, ввиду этой новости, работал неутомимо, реже бывал у Маргариты, и по два курьера в неделю скакали с его депешами из Петербурга в Магдебург, где находился Фридрих.
Государь Петр Федорович за всю свою жизнь, а затем и за свое пятимесячное царствование переходил из-под одного влияния под другое. Теперь он вдруг оказался упрямо самостоятелен, и затея, громадная по своим размерам и последствиям, глубоко запала ему в душу, будто застряла в голове. Он ни о чем более не думал и не говорил, как об этой смутившей все и всех чудовищной затее.
Он уверял всех, что это было всегда его заповедной мечтой, что он мечтал об этом, когда еще был ребенком в Киле, мечтал, когда был наследником русского престола, за все двадцатилетнее царствование своей тетки и, наконец, что он давно твердо решил, хотя никому об этом не сообщал, привести в исполнение это давнишнее намерение при первой возможности. Теперь, после подписания мирного трактата с Фридрихом, по его мнению, настал час исполнить это заветное желание, удовлетворить и отдаться давнишнему заповедному чувству.
Эта затея, эта мечта, это заповедное чувство, внезапное признание в котором смутило всех, даже Гольца, и затем смутило несказанно самого Фридриха… было не что иное, как война с Данией! За Шлезвиг! Государь был искренен отчасти. Действительно, в Голштинии испокон века глядели завистливым оком на Шлезвиг. Будучи наследником, Петру Федоровичу, конечно, изредка случалось тоже мечтать о завоевании Шлезвига. Вступив на русский престол, он вспомнил об этом и решил когда-нибудь, воспользовавшись какими-нибудь смутами на политическом горизонте, добыть этот Шлезвиг. Но почему вдруг теперь собрался он внезапно на этот подвиг, каким образом решил он вдруг немедленно приступить тотчас же к этому делу и вдобавок с такой легкостью, как будто дело шло не о войне, а о прогулке, никто из фаворитов ни догадаться, ни понять не мог.
Через день или два после празднования во дворце по поводу мира с Пруссией государю стало как-то особенно скучно. С первых дней царствования он был занят смотрами, экзерцицией, новыми мундирами, переездом в новый дворец и, наконец, заключением трактата с Фридрихом. Теперь вдруг, мысленно оглядевшись кругом себя, он увидел, что многие мудреные задачи достигнуты, исполнены… и делать больше нечего!
– Просто беда! Что же мне делать теперь! – воскликнул он. – И даже очень скучно! Что ж теперь придумать?
К этой скуке вскоре присоединилось какое-то грустное настроение. Как всякая болезненная натура, всякий тщедушный организм легко падает, легко уступает, так и Петр Федорович вдруг почувствовал себя хворым и слабым, а в особенности грустно настроенным.
В эти минуты он всегда, еще наследником престола, становился раздражителен и привязчив; ко всем близким людям он начинал относиться придирчиво, дерзко, и чем ближе был к нему человек, тем более доставалось ему. Наоборот, ко всем тем, которых считал он своими врагами, он начинал относиться благосклонно, заискивал в них, будто бы мгновенно начинал их бояться. Но, в сущности, это происходило из очень хорошего, хотя и болезненного источника. В это время государь относился к врагам своим совершенно искренне, прощая им их действительные или вымышленные вины и проступки. А равно вспоминал он и все то, что мог сделать дурного кому-либо, и старался всячески загладить свою вину.
Наутро после пирования во дворце принц Жорж явился к государю и напомнил ему о приказе арестовать государыню. Жорж горячо стал доказывать государю, что мера эта произведет такой страшный переполох, такую сумятицу во всей столице и всей империи, что трудно даже исчислить все пагубные последствия.
Государь раздражительно и ребячески на все доводы дяди отвечал:
– Она мне надоела! Она со мной дерзко обращается! Она будто знать не хочет, что я император. Надо арестовать! Мне так хочется!.. – Но, однако, после двухчасовой беседы государь успокоился и отвечал: – Ну, хорошо, пускай! Покуда подождем, а если будет так же продолжать… тогда проучим.
Именно на другой день после этой беседы с дядей и после свидания за завтраком Гольца с красавицей графиней Скабронской напала на государя та грусть и тоска, которая являлась у него, как болезнь, на несколько дней. Приходила она, по-видимому, всегда беспричинно, но отчасти от слабого сложения, которое не выносило непрерывных обедов, завтраков и ужинов, где все, по обычаю времени, воздавали обильное возлияние Бахусу.
Прежде всего государь заметил своего жирного Мопсу и вспомнил, что дня за два он его сильно высек за что-то. Петр Федорович позвал к себе собаку, стал ласкать ее, заметил, что подушка у Мопсиньки слишком жестка, и, позвав Нарцисса, велел тотчас же сделать другую, большую и пуховую, а покуда велел класть «бедную собачку» на диван.
И мысль его двинулась по направлению прощения обид и заглаживания его собственных обидных для кого-либо поступков. Он вспомнил о Теплове и приказал явившемуся с докладом государственному секретарю Волкову поехать поздравить Теплова от его имени с чином тайного советника. Он вспомнил, что обидел на празднестве графа Алексея Разумовского словом «крепколобый хохол» и заставил его покраснеть при многих вельможах. Разумовскому, фельдмаршалу и всех российских и многих иностранных орденов кавалеру и вдобавок миллионеру, нечего было пожаловать или подарить. И государь послал сказать Разумовскому, что будет у него пировать со многими гостями в будущий праздник и просит сделать пир на весь мир для своего первого и искреннего друга русского императора. Таким образом, дня три кряду, кроме милостей и ласки, никто ничего не видал.
Но за это же время все близкие люди, Жорж, Гудович, даже Гольц, даже Воронцова, боялись подступить к государю. Каждого из них он находил чем попрекнуть, разбранить.
Гудовича государь постоянно принимался бранить за его лень, за то, что он не служит примером другим офицерам и генералам, ездит верхом, как баба-кухарка, ведет дела в канцелярии спустя рукава, оправдывая виновных и осуждая невинных, и, наконец, дошел до того, что про него в городе ходят слухи, будто он первый грабитель в империи. Основание для этого у государя было; помимо истории с княжнами Тюфякиными, за которых вступилась Маргарита, до него дошла еще другая история. Ходатай по делам колонистов-славян на юге России, некто Хорват, за несколько дней перед тем дал троим приближенным к государю лицам, и в том числе Гудовичу, по тысяче червонцев за решение неправого дела.
Принца Жоржа государь вдруг начал преследовать за то, что он ничего не делает, не имеет собственного мнения ни о чем, слушается во всем проходимца Фленсбурга. Это ему нашептала Маргарита. А этот адъютантишко хвастается по всей столице, что принц делает все то, что он хочет, а государь будто делает только то, что принц хочет.
– Стало быть, Фленсбург император? – визгливо и запальчиво вскрикивал он, налезая на дядю. – Скажите, скажите! Стало быть, Фленсбург русский император?!
Это повторялось каждый раз, как принц являлся. И наконец, добродушный Жорж исчез и, сказавшись больным, не выезжал никуда из дому, а только все совещался с женой.
Но и тут государь не оставил его в покое. Однажды утром он прислал дяде сказать, что он никогда курляндским герцогом не будет и что Россия будет поддерживать саксонского принца. Об герцогстве уже месяц и речи не было, но государю хотелось хоть заглазно чем-нибудь уязвить дядю. В другой раз Петр Федорович послал Гудовича потребовать у принца подробную генеалогию его жены, принцессы Амалии.
– Объясни ему, – сказал государь, – что я недавно сделал ее кавалерственной дамой ордена Екатерины и не справился, имеет ли она право на это, королевской ли она крови. Может быть, был какой-нибудь мезальянс…
На этот раз Жорж не стерпел и оскорбился до того, что у него даже сделалось маленькое расстройство желудка. Генеалогию жены принц не дал, а положил звезду и ленту в футляр и отослал ее с Гудовичем.
– Ну что ж! И хорошее дело! – рассердился Петр Федорович. – На… Мопсинька! Возьми себе.
И он положил футляр на подушку любимой собаки.
Барону Гольцу всякий раз при свидании государь принимался доказывать, что трактат, заключенный с Пруссией, безобразный и обидный для России, что он пошел на него только из любви к Фридриху, но при этом отчасти продал интересы России и раскаивается и что скоро придется поневоле опять переписать трактат. Гольц, ожидавший всего, все-таки не ожидал подобных бесед через два или три дня после празднования мира.
Петр Федорович при этом ссылался на всех послов, на городские слухи и на мнения первых лиц государства. И на этот раз он был совершенно прав, говоря, что мирный трактат во всем полезен Пруссии и вреден России. В этом он мог сослаться на всех первых сановников, начиная с Разумовских и кончая канцлером Воронцовым.
Гольц отмалчивался на все, разводил руками, пожимал плечами, ежился и кривлялся, как обезьяна, и, конечно, не мог ничего сказать. Да и нечего было сказать! Дома он только изумлялся и искал мысленно того человека, под чьим влиянием, по его мнению, находится теперь государь. Скоро и он перестал бывать во дворце.
Наконец, с Воронцовой произошла самая бурная сцена. Государь стал упрекать ее в том, что она постоянно клевещет и обносит государыню. Тогда как государыня тихо, мирно и безобидно живет в своей половине, Воронцова постоянно видит во всех ее действиях только умысел и дурное намерение. Кроме того, он стал упрекать Елизавету Романовну в непомерной ревности ко всякому хорошенькому личику, ко всякой женщине, с которой он скажет два слова во дворце или где-либо на вечере. На этот раз он припомнил ее поведение в маскараде Гольца, как два или три раза подходила она к нему во время беседы с «Ночью» и как, наконец, чуть не насильственно заставила его покинуть маску и подать ей руку.
– И что взяла? Ничего! – восклицал государь. – Мы с ней теперь первые приятели. Понимаешь? И она почище тебя, замарашки.
Воронцова знала лучше всех про эти болезненные припадки государя и знала, что это длится иногда неделю, но никогда более, и Елизавета Романовна засела у себя дома с пастилой в ожидании перемены погоды.
«Это все от цыганки! – думала она. – Да пройдет небось…»
За это время государь заглазно старался тоже уязвить и ее. В тот день, когда Гудович ездил к принцу и привез Екатерининскую звезду вместо генеалогии, Петр Федорович тотчас же послал его к Воронцовой.
– Ступай скажи этой толсторожей, что в Петербурге ходят слухи, будто я на ней хочу жениться, сделать ее императрицей. Стали это говорить потому, что я ей дал звезду, которую могут носить только принцессы крови. Поэтому скажи ей, что если этот слух будет все ходить по городу, то я отниму звезду и прикажу ей поехать попутешествовать по России или за границу.
Гудович съездил к приятельнице и застал ее, как всегда, в полуночном туалете. Она была не в салопе и не перед печкой, потому что была уже теплынь на дворе, но в какой-то полинялой кацавейке совершенно неизвестного цвета. Когда он передал Елизавете Романовне слова государя, она отмахнулась рукой, как если бы ее облепили мухи или если б ей сказали самую старую, давно известную вещь.
– Э! Гудочек! – равнодушно произнесла она. – Не впервой нашло на него. Пройдет неделька, и сам приедет прощенья просить.
– Да и я так-то думаю, Романовна, а все как-то страшно, уж не завелся ли какой враг у нас. По правде сказать, боюсь я малую толику этой цыганки поганой, Маргаритки. Сдается мне, что государь с ней через край хватил. Уж больно хороша она. Да и Гольц сводит, бестия!
– Это другое дело, – выговорила Воронцова, – этого и я боюсь, но думаю, что провозится он с ней и бросит! И опять ко мне! Не раз уж бывало, Гудочек. Ведь все эти красавицы самомнительны, горды, умничать любят, а ему этого не надо. А я, он знает, простота! Как ни надумает, что ни прикажет, я все сделаю. Такой другой не сыщет!
Вот именно в эти дни тоски и придирчивости, однажды около полудня, государь отправился на половину жены, вошел к ней без доклада и, отчасти испугав государыню внезапным появлением, сел около нее и с первых же слов стал просить прощения за обиду за столом при всей столице.
Он сознался ей откровенно в своем приказе в ту ночь арестовать ее и сослался на дядю, Воронцову и Гудовича, которые постоянно клевещут ему на нее.
Государыня, разумеется, лучше, чем кто-либо, знала, что случилось с Петром Федоровичем и какой стих нашел на него. Она знала отлично, что не пройдет и недели, и снова он отдаст приказ арестовать ее, а быть может, когда-нибудь, и даже скоро, подобный приказ будет приведен в исполнение. Но этими днями надо было воспользоваться. Слишком умна была эта женщина, чтобы не воспользоваться всячески всем, что посылала ей судьба в помощь.
В тот же день вечером по приглашению государыни Петр Федорович снова явился к ней на чашку чаю и нашел у нее обоих Разумовских, Панина, Дашкову, старика Миниха и некоторых других. В конце вечера государь заявил, что он давно уже не проводил время так приятно с такими умными людьми, а все его окружающие и приближенные только и знают, что пьянствуют, только и умеют, что лгать и играть в карты. Он попросил государыню на другой день снова собрать всех. Таким образом, дня четыре кряду бывали эти, по выражению княгини Дашковой, «нечаянные чайные вечера».
Все, что говорилось на этих вечерах немногими лицами, было сохранено ими в тайне, а между тем здесь и возникла мысль, здесь воскресла мечта государя, здесь была брошена искра в его душу, от которой потом загорелся целый пожар.
Искусно, умно, тонко и льстиво напомнили государю о Шлезвиге, о давнишней вражде голштинского дома с датским. Почему государыня, Дашкова или братья Разумовские заговорили о Шлезвиге и Дании, было их общей тайной. Почему захотелось им начать воевать за маленькое герцогство – они одни знали.
Миних же ораторствовал более всех по другой причине: старику полководцу хотелось снова понюхать пороху и, как бывало прежде, заставить говорить о себе всю Европу. Он знал, что в случае войны он будет главнокомандующим.
Наконец однажды, почти не спав несколько ночей от картин сражений, побед и подвигов, которые теснились в голове и сменяли одна другую, одна другой кровавей, страшней и славней, государь пришел к жене и объявил ей, что все решено! Сделав достаточно для внутреннего спокойствия и счастья России, он может, должен вспомнить теперь о счастье и правах Голштинии, о своих обязанностях уже не русского императора, а принца Голштинского.
На вопрос его, чтобы жена высказала свое искреннее мнение, государыня отвечала, что не сомневается в полном успехе, в целом ряде блестящих побед. Но советовать объявить войну она, конечно, не возьмет на себя, враги ее не преминут сказать, что она умышленно советует пагубное для России и императора действие.
Однако в тот же день все самые близкие люди государю: и те, которые бывали у него, и те, которые решились не показываться несколько дней, – все узнали о новом, окончательно решенном предприятии – войне с Данией.
Дни тоски, болезненной придирчивости к друзьям, болезненного миролюбия по отношению к своим врагам прошли, но Шлезвиг, Дания и война крепко засели в голове государя.
Два вечера ораторствовал появившийся Гольц в кабинете Петра Федоровича и, как умный человек, красноречиво, убедительно доказывал невозможность этой войны. Он доказывал, что, наверное, мысль эта подсказана государю его врагами, чтобы удалить его из Петербурга и из России, дабы за его отсутствием произвести бог весть что! Гольц привез даже два письма от своего короля, в которых Фридрих говорил о том, что он готов помогать Петру в деле Шлезвига, но считает всякую войну для русского императора на первых порах царствования пагубной и немыслимой. Король советовал прежде всего подумать о поездке в Москву и короновании. Принц Жорж тоже появился, получил обратно женину звезду, был обласкан, помирился с племянником и присоединился тотчас к послу. Но уж чего Гольц не мог сделать, то Жоржу и подавно было не по силам. Все они стали надеяться, что грезы пройдут, как прошла его придирчивость, но все ошиблись…
Мера за мерой, указ за указом доказывали, что намерение государя будет приведено в исполнение, и даже очень скоро, очень энергично и во что бы то ни стало!
Курьер государя тайно ото всех, даже тайно от канцлера империи, поскакал в Германию, в место расположения корпуса русских войск под командой Румянцева, и повез никому не известную депешу.
А между тем государь крайне любезно обращался с датским посланником Гакстгаузеном, и Датский двор не подозревал о той грозе, которая надвигается на страну со стороны России.
XI
Еще полного месяца не прошло после первого свидания «Ночи» и юноши в уборной дома Гольца, а безумный пыл страсти у своенравной кокетки прошел! Быть может, влюбленный юноша был действительно невыносимо ревнив, но Маргарита уже начала раскаиваться в том роковом шаге, который связал ее существование с этим «львенком», как она его называла.
Вдобавок у влюбленного было особенное чутье. К Гольцу Шепелев не ревновал ее нисколько, хотя за последнее время посол и красавица видались ежедневно и постоянно о чем-то совещались, и иногда даже очень долго. Но всем поездкам Маргариты во дворец юноша мешал сколько мог. Он знал, как и многие в Петербурге, что государь становился с каждым днем все неравнодушнее к замечательной красавице. Воронцова уже, заметно для многих, отходила на второй план. А друг ее, Гудович, возненавидевший графиню Скабронскую и грубо обошедшийся с ней, тоже начинал пользоваться меньшим благорасположением государя.
– Ты совсем мужик! – заметил ему Петр Федорович. – С женщинами обращаться не умеешь! Тебя Гольц хотел на дуэль вызвать, и я его отговорил. – Но более этого государь ничего объяснить не захотел.
Насколько когда-то барон Гольц был занят мирным трактатом России с Пруссией, настолько теперь он был поглощен другим делом – расположить государя к умной и замечательно красивой женщине, конечно повиновавшейся ему слепо.
И чем более был государь мил и внимателен к Маргарите, отговаривавшей его от войны, тем более становился невыносим этот юноша, искренне, глубоко и чисто любивший ее первой любовью, и тем более раскаивалась она в своем недавнем легкомысленном поступке. Иногда хотя смутно, но у Маргариты уже стала являться мысль, как бы поскорее разойтись и отделаться от «львенка». Но это было, разумеется, мудрено. Это был не Фленсбург. Во-первых, потому, что он пользовался большими, чем тот, правами, а вдобавок и потому, что, как юноша, не остановился бы ни перед чем. Если бы ему сказали, что он будет сослан в Сибирь за малейшую огласку его отношений к графине Маргарите, то он ни минуты не поколебался бы! Все чаще в своих беседах с Маргаритой он горячо доказывал ей, что сочтет святым долгом убить всякого, к кому будет иметь повод ревновать ее. Слова его дышали при этом такою искренностью, что Маргарита не могла не верить, и ей становилось еще страшнее и, конечно, еще досаднее.
Наконец к затруднительному положению присоединилось вдруг нелепое и ужасное происшествие. Так как Шепелев настоятельно требовал от Маргариты, чтобы она ежедневно бывала у него по вечерам и это было сопряжено с переодеванием в офицерский мундир и со всякого рода затруднениями, то Маргарита решилась довериться помимо Лотхен еще другому полурусскому лакею, исправлявшему должность швейцара.
И Шепелев стал появляться уже всякий день в доме Маргариты, скрываясь, как и прежде, в большом платяном шкафу, поставленном в гостиной с куполом, всякий раз, когда кто-либо из близких знакомых проникал далее маленькой гостиной. Но вскоре благодаря этому шкафу юноша стал оставаться в доме графини по два дня безвыходно, так как по вечерам они не могли бояться чьего-либо визита, ночью, рано утром – и подавно… И кто бы мог подумать, что шкаф превратился в квартиру, куда спасался его жилец при появлении людей или гостей. Одна немка знала все!.. Каждый день Лотхен накрывала стол, подавала обед, или кофе, или ужин на два куверта, а затем угрюмо и мрачно делала реверанс и уходила к себе.
Лотхен давно перестала смеяться, она ходила темнее ночи. С первого же дня она была поражена открытием, что барыня решилась на такую невероятную глупость: влюбиться в мальчишку. С первого же дня Лотхен искренне возненавидела Шепелева, потому что он сделался помехой всех ее планов насчет судьбы графини и ее собственной. Первое время она горячо спорила, упрекала и уговаривала друга-барыню, но, наконец, ей осталось одно: молчать и ненавидеть Шепелева от души.
«Авось этот каприз пройдет, – мечтала она. – Ведь этот еще хуже Фленсбурга. Тот хоть влиятельное лицо у принца, а этот просто щенок. Красавец, правда, но, lieber Gott[32], таких в столице можно найти несколько дюжин».
Внезапное событие в доме все перевернуло.
Однажды поздно ночью, когда влюбленные только что окончили ужин и молчали, так как давно все было уже переговорено, все было старо, глупо, скучно… кто-то быстрыми шагами прошел через маленькую гостиную. Довольно резко попробовав дверь и найдя ее запертой, смелая рука стала стучать.
Маргарита смутилась, догадавшись, что это не Лотхен, и, совершенно не понимая, кто среди ночи, предполагая, что она давно спит, смеет так стучать. Вдруг за дверью раздался голос камердинера, француза Эдуарда, который громко кричал:
– Madame! Madame! Ouvrez-moi!..[33]
Шепелев моментально скрылся в большой шкаф, но при этом, от смущения и неожиданности, забыл на стуле снятый мундир.
Маргарита отворила. На пороге появился Эдуард, несколько взволнованный, бледный, и выговорил:
– Monsieur le comte n’est plus![34] Он скончался.
Маргарита переменилась в лице и стояла не шевелясь, пораженная известием. Полтора года ожидала она смерти мужа и все-таки была теперь поражена. Она окаменела на месте, тяжело переводя дыхание.
Эдуард в то же время обвел глазами всю комнату и, несмотря на свое душевное состояние, поневоле заметил и забытый мундир преображенца, и, главное, два куверта на. столе. Он вдруг злобно усмехнулся и выговорил:
– Ma foi! C’est beau! Un défunt par lá, un amant par ici!..[35]
Маргарита настолько была поражена известием и смущена замечанием Эдуарда, что не нашлась даже отвечать. Верный лакей снова усмехнулся грустно, пожал плечами и пошел наверх.
Шепелев, догадавшись, что свидетеля уже нет, вышел и нашел Маргариту среди комнаты молчаливую и встревоженную.
– Что такое? – спросил он. – Что он говорил?
– Муж умер! – тихо произнесла Маргарита.
Шепелев ахнул, но через секунду взял ее за руку и выговорил:
– Ну так что ж? Бог с ним! Царство небесное! Нам же лучше!..
Маргарита все молчала и не подымала глаз. Юноша потянул ее к себе и поцеловал в лицо. Она сразу пришла в себя и легко вскрикнула:
– Что ты! Теперь! В эту минуту! – И, быстро окинув глазами комнату, она прибавила тихо: – Даже страшно! Да, да! Ей-богу, страшно! Послушай… – И после минутного колебания Маргарита прибавила: – Мне страшно!
– Чего? – изумился Шепелев.
– Мне страшно! – полубессмысленно, но с детской интонацией в голосе повторяла Маргарита.
Шепелев стал расспрашивать ее, но она села на диван, задумалась глубоко, не слушала его и не отвечала.
Мысли Маргариты улетели далеко. Она невольно вернулась мысленно в свое прошлое, в те дни, когда молодой красивый боярин без ума влюбился в нее в Карлсбаде и, наконец, несмотря ни на что, дал ей свое имя, дал состояние и из положения мещанки и вдобавок авантюристки поставил ее в возможность сделаться первой придворной дамой русского императора.
Когда он был жив и желтый, худой лежал в маленькой душной комнате с затхлым, аптечным воздухом, он был для нее тяжелой ношей и ей было его не жаль. Когда он, давно тому назад, стал упрекать ее во многом, за что имел право упрекать, она выслушала его холодно, улыбнулась презрительно и насмешливо и, спустившись к себе вниз, выговорила в первый раз:
– Как это скучно! Когда же он умрет?!
С этого дня она перестала ходить к мужу и более его не видала.
Она не сказала себе, что более не пойдет! Это вышло как-то само собой! Каждый день откладывала она свой визит к больному, и день за днем, неделя за неделей прошло страшно много времени! Вспомнишь теперь – кажется невероятным! Почти не верится! Изо дня в день прошло полгода, что она не была наверху. Как это случилось, Маргарита сама теперь не понимала.
Часто думала она, представляла себе, как и когда узнает, наконец, о смерти мужа. Как-нибудь днем прибежит Лотхен или приедет она из гостей – и ей объявят об этом. На все лады представляло ей воображение, как получит она это известие, и ей каждый раз казалось, что, кроме радости, ничего это известие в ней не разбудит. Теперь оказалось совершенно иначе.
Ночью, после ужина, в присутствии любовника, запрятанного в шкафу, отчасти наскучившего, она узнала про это давно ожиданное событие! И ей стало не весело, но и не тяжело, не грустно, а только страшно! Ей, суеверной женщине, чудится, что вот сейчас явится он перед ней, ужасный, карающий! Он теперь уже в новом мире, тайном, темном, таинственном! Когда он лежал в постели почти без движения, в последнем градусе страшной болезни, он не мог прийти к ней! Теперь же он может!.. Но иначе… Хуже!..
Между тем Шепелев догадался, что надо скорей собираться домой, и, уже одетый, при шпаге, со шляпой в руках, подошел к Маргарите и стал говорить ей. Но она так глубоко задумалась, что пришлось ее взять за плечо.
– Маргарита, мне надо скорее уходить!
Она подняла на него задумчивые глаза и, очевидно, не понимала слов. Три раза повторял он ей то же самое.
– Что?! Нет! Нет! Ни за что!! – вдруг воскликнула Маргарита и схватилась за него из всех сил. – Нет, нет, не пущу! Оставайся здесь… Я… я боюсь!.. Я боюсь…
– Господь с тобой! Что ты?! Как не стыдно… – изумился юноша.
Но, несмотря на все уверения Шепелева, что ему невозможно оставаться, что на заре подымется в доме сумятица и весь день будут появляться знакомые, Маргарита не слушала и повторяла:
– Ни за что! Я боюсь!
Когда он, освободясь на мгновение, двинулся к дверям, она кинулась за ним и страшно закричала… С нервной, невероятной в ней силой оттащив его от дверей, она бросилась снова к двери и заперла ее на ключ так же быстро и ловко, как когда-то, будучи «Ночью».
– Что ты делаешь! – с отчаянием воскликнул Шепелев и невольно вспомнил уборную дома Гольца. – Выпусти меня!
Но она не слушала и только повторяла:
– Я не могу одна остаться, я боюсь! Ты будешь здесь теперь надолго, на неделю, на две, все равно…
XII
Все, что предвидел Шепелев, то и случилось. Чуть свет началась в доме полная сумятица. Люди постоянно вызывали барыню для разных распоряжений и, наконец, без ее ведома, по приказанию Эдуарда дали ранехонько знать Иоанну Иоанновичу о смерти внука.
Когда прошло часа четыре, после первого мгновения страха и трепета, Маргарита сидела в своей временной спальне, несколько успокоившись. Она даже согласилась отпустить Шепелева до следующего вечера, выбрав удобную для этого минуту, чтобы его не видал разный чужой люд, шнырявший на подъезде и по передней. Но в эту минуту в дверь ее постучался кто-то и позвал ее… Маргарита обмерла, узнав голос деда! И во второй раз перепугалась и смутилась она, точно так же, как от известия, принесенного ночью Эдуардом.
– Ну, вот и поздравляю! – отчаянно прошептал Шепелев, узнав тоже голос старика.
Приходилось скорее прятаться в шкаф. Злобный, взбешенный влез он туда…
Маргарита поневоле тотчас отворила дверь и впустила старика деда.
Иоанн Иоаннович был бодр, весел и румян, все лицо его улыбалось.
– Ну, что ж! Поздравляю, красавица! Теперь совсем овдовела, лучше, чем наполовину-то вдовой быть.
Но старик вдруг смолк, и лицо его вытянулось от удивления. Он ожидал встретить такую же веселую женщину, как и он сам был весел и доволен, а вместо этого нашел теперь бледную, встревоженную и смущенную.
Помолчав немного, он выговорил:
– Ох, бабы-то, глупы! На бабу и сам Господь не потрафит! Ей-богу! Что же теперь, плакать, что ли, учнешь, убиваться, причитать да завывать… Ах, прихотницы вы! Сам черт вас не разберет, чего вы хотите. – Старик махнул рукой на внучку и, помолчав, прибавил: – Ну, пойду наверх, погляжу на «путифица». Недолго он по свету нашпацировал, как немцы сказывают. Всего, кажется, двадцать шесть годиков шпацир-то продолжался.
Иоанн Иоаннович двинулся было к дверям, но обернулся и прибавил, будто в укор Маргарите:
– Вот кабы я тогда в этранже не пустил его, так, поди-ка, теперь бы жив еще был.
Маргарита не слушала и выжидала; в ту минуту, когда Иоанн Иоаннович был в передней, она бегом бросилась к шкафу, чтобы быть наготове и успеть, когда дед подымется наверх, мгновенно выпустить Шепелева. Но вдруг на лестнице дома раздались тяжелые шаги и возня нескольких человек. Эти звуки Маргарите напомнили что-то знакомое. Точь-в-точь такой же шум раздавался в доме, когда ее большую голубую кровать спускали сюда сверху. Она недоумевала и, робея, вернулась к дверям. Сначала она глядела, ничего не понимая, но вдруг ахнула! Устремив глаза через анфиладу комнат, через все отворенные настежь двери, она увидела деда, который стоял перед лестницей, потом попятился и, глядя наверх, перекрестился!
Не прошло нескольких мгновений, как Иоанн Иоаннович воротился назад, а вслед за ним несколько человек тащили что-то в белой простыне.
Маргарита вскрикнула и отскочила от дверей к окну. В этом крике сказалось многое. Много различных чувств шевельнулось в ней. Но боязнь близости этого мертвеца была заглушена боязнью за невероятное стечение обстоятельств; она испугалась срама, позора и такой огласки, которая погубит все. Все ее надежды и мечты разлетятся в прах! Маргарите и на ум не приходило, что кто-то помимо ее воли распоряжается в доме. В ее смущении ей казалось, что ее губит невидимая рука, рука карающего Провидения или мстящая рука усопшего.
Но через несколько секунд она могла догадаться, наконец, кто распорядился всем и поставил ее в невозможное положение. В комнату вошел Эдуард с той же демонской усмешкой на лице и выговорил графине:
– Так как эта комната самая большая и самая приличная, то надобно покойника положить здесь, на постели, покуда мы не устроим стол, а затем мы постель вынесем.
Появившийся за Эдуардом Иоанн Иоаннович понял, в чем дело, и подтвердил то же:
– Разумеется! Народ будет. Толчея будет. Здорового все забыли, а теперь все эти шатуны к мертвому так и полезут, как мухи на мед. Случая пошататься нельзя упустить! Да! Так! Так! Француз! Же ву при! Молодец! Комса! Комса! И в этой даже комнате насилу уместятся все шатуны.
Маргарита, быть может в первый раз в жизни, потерялась совершенно. Она стояла у окна, опершись рукой на подоконник, чувствуя, что ноги ее подкашиваются, и не могла выговорить ни слова. Она понимала, что это Эдуард, верный слуга, мстит ей за любимого барина, но делать было нечего… Она была безоружна.
И через час в этой красивой комнате с куполом и великолепною мебелью, на большом прилаженном столе, уже лежал покойник, устанавливались подсвечники и свечи, а большая кровать была уже разобрана и вынесена; все лишние вещи, туалет, мелочи разные… все было убрано… А шкаф остался! Люди взялись было и за него… Дед приказал. Но Эдуард остановил людей и упорно настоял оставить шкаф!.. Этот Эдуард распоряжался всем так хладнокровно, спокойно, но твердо и самоуверенно, что никто и не вздумал ему прекословить. Приказав не трогать шкаф, Эдуард только взял три кресла и, улыбаясь, приставил их к дверцам. При этом движении лакея Маргарита от злобы сразу пришла в себя. Она села у окна, отвечала деду сдержанно и холодно на всякие его расспросы и следила за разными незнакомыми людьми, которые хлопотали вокруг покойника. Она глядела, как дьякон пристраивался с аналоем, глядела, как толстый мещанин с черной бородой протягивал вдоль лежащего на столе какую-то веревочку и завязывал узелки, но, однако, не догадалась, что это был гробовщик, снимавший мерку. Только об одном думала Маргарита: как освободить любовника и спастись от позора?
«Вот мне – наказание! – повторялось у нее где-то на сердце без конца. – Огласка! И притом самая страшная, самая невероятная! Когда будут об этом говорить, то никто верить не будет. Все это случилось само собой. И как просто случилось! Да, это он мстит мне через Эдуарда».
В комнату вошли два священника и поклонились ей. Маргарита с ужасом оглядела их, соображая, что теперь в комнате до ночи не будет ни минуты свободной, чтобы без свидетелей освободить офицера. Как пережить этот день? Дожить до ночи? Хлопотавшая любимица вошла, наконец, к барыне и опустилась перед ней на колени. Лотхен, видя графиню в смущении, молча начала руками гладить по ее лежащей руке.
– Что же вы, liebe Gräfin, – выговорила она наконец. – Бог с ним! Мы давно ожидали. Вы теперь свободны.
– Да, Лотхен. Но он здесь! – шепнула Маргарита.
– Кто? – не поняла Лотхен.
– Он здесь, Шепелев.
Лотхен разинула рот, раскрыла широко глаза, поняла, но думала, что не понимает.
– Он здесь! – шептала Маргарита. – Не успел уйти. В шкафу. Пойми, что из этого будет!
Лотхен вскрикнула так же, как несколько часов тому назад при известии Эдуарда о смерти графа. Она подумала мгновение, встала и вышла.
Между тем мысли юноши в шкафу, душном и темном, были совершенно противоположны мыслям Маргариты. Шепелеву казалось его приключение настолько невероятным, что он готов был смеяться, если бы не боялся, что его смех услышат. По шуму шагов, звуку голосов, по нескольким отдельным фразам, которые он поймал на лету, он догадался, что произошло в этой комнате, где несколько часов назад они спокойно беседовали за ужином. Впрочем, Шепелев был убежден, что Маргарита сумеет его освободить, а с другой стороны, если бы даже и случился скандал, то это не пугало юношу.
Через несколько минут Лотхен прибежала к графине, вызвала ее в другую горницу и объявила: Эдуард прямо грозится вывести офицера из шкафа в ту минуту, когда съедутся все гости. Маргарита едва устояла на ногах.
– Позови его! – воскликнула она через несколько минут. – Позови его!
Маргарита села и закрыла лицо руками. Надо было унизиться перед лакеем.
Француз явился, догадываясь, зачем графиня вызывает его. Она ожидала увидеть нахальное лицо и ошиблась.
– Эдуард! – произнесла Маргарита спокойно. – Вы, вероятно, хотите денег. Вы хотите, чтобы я выкупила у вас мою честь? Я согласна. Сколько хотите вы, чтобы все скрыть?
– Rien, madame la comtesse! Rien![36] – спокойно отвечал Эдуард.
– Однако чего же вы хотите? Я не понимаю, что вам нужно? Я вам повторяю, я не обману вас. Молчите до вечера и берите, что хотите.
– Я ничего не хочу! – был снова ответ Эдуарда.
– Чего же вам нужно? За что ж вы меня губите?
Эдуард помолчал немножко, лицо его из сурового стало грустное, и он выговорил тихо:
– Je veux venger mon bienfaiteur![37] Отомстить за единственного человека, которого любил, как отца родного! – Француз говорил так спокойно, что чувствовалось поневоле, что вся его затея давно и окончательно решена и ничто на него не подействует.
– Я вас велю сейчас же выгнать из дому! – вспыхнула Маргарита, поднимаясь со своего места. – Вы забываете, что вы лакей!
– Напрасно начинать историю. Я не уйду, покуда не съедутся все гости на панихиду. Тогда я тотчас же выведу l,amant de madame la comtesse[38]! – холодно отвечал Эдуард.
Маргарита сообразила, что надо решаться скорей. Она бы не поверила, но лицо лакея, взгляд его были еще красноречивее. Когда он говорил, что выведет l,amant de madame, то по лицу его можно было видеть, что он это сделает.
«Ведь сейчас начнут съезжаться!» – вдруг подумала Маргарита. И, как-то взмахнув руками, будто решаясь броситься в пропасть с какого-нибудь обрыва, она кинулась снова в гостиную, где был покойник. Подбежав к Иоанну Иоанновичу, она порывисто, нервно, едва переводя дыхание, потащила его за собой в маленькую гостиную.
– Дедушка! – воскликнула она. – Помогите! После все скажу. Помогите! Я пропала.
– Что ты? Что? – растерялся и отчасти перепугался Иоанн Иоаннович, думая по лицу внучки, что она сошла с ума или тоже вдруг смертельно заболела и умирает.
– Здесь в шкафу, – указала Маргарита рукой на гостиную, и рука ее страшно дрожала. – Там офицер! Офицер! Поймите! Тот, вы знаете… Шепелев. Помогите!
Старик разинул рот и так растопырил руки, что выронил свою табакерку на пол.
– Как? Что? – пролепетал Иоанн Иоаннович и, подняв табакерку, застыл, олицетворяя собой вопрос.
– В шкафу спрятан был… Спасите меня! Надо…
Иоанн Иоаннович наконец понял, сообразил, все взвесил и, вдруг разведя руками, еще более тихо и низко поклонился Маргарите в пояс:
– Спасибо, внучка! Разодолжила. Ай да… Ай да финт!
– Ах, дедушка! Помогите! Вы понимаете, что будет! Я после все объясню.
– Чего же тут объяснять! Само собой понятно! Вчерась заночевал, да на похороны без приглашения и попал… Ну, финт, цыганочка, не ожидал. Да этакого на моей памяти не бывало, а мне семь десятков. На столе покойник, а в шкафу-то любовник! Ну, будет Питер еще сто лет стоять – и до такого финта не достоится!
– Дедушка! – уже с отчаянием воскликнула Маргарита. – Хотите ли вы мне помочь? Сейчас съедутся, Эдуард грозится выпустить его при всех, нарочно…
– Ну, это он врет! – вдруг рассердился старик. – Я его, лакея… убью. Но вот что, внучка… Только и можно, что попросить у батюшек извинения, выпустить его при них. Лучше при них, чем перед всем Питером позорище устраивать.
Между тем Маргарита давно опустилась на ближайшее кресло, опустила голову на руки и не отвечала ничего.
Иоанн Иоаннович стоял на одном месте, как-то семенил ногами, потом вдруг будто рассердился на себя и быстро пошел в гостиную, где был покойник.
«Вот он, шкапище-то! Как в нем не спрятать! Дом целый! В нем жить можно! – подумал он, останавливаясь. – Фу! Создатель! Вот финт так финт!»
Между тем священники, дьяконы, дьячки и еще два каких-то причетника уже распоряжались в гостиной, как если бы они наняли теперь этот дом и эти горницы для себя. В каждом движении каждого из них чувствовалась хозяйская самоуверенность.
Иоанн Иоаннович вдруг усмехнулся, обернулся к ним и вымолвил, почесывая за ухом:
– Иереи честные, окажите мне, старому слуге царскому и российскому столбовому дворянину, великое одолжение! Произойдет сейчас в сей горнице удивительное вам зрелище. Обещайтесь мне не выносить сора из избы. И прошу я вас сохранить все в тайне.
Все духовные, конечно, ни слова не поняли, но, однако, еще несколькими словами Иоанн Иоаннович им объяснил дело. Внучек его пьет сильно. С вечера пьяный остался у сестры своей, графини. Вдруг событие, покойник! Его спрятали в шкаф. Теперь авось проспался. Ну и надо выпустить.
И затем Иоанн Иоаннович при общем изумлении, невольно усмехаясь, пошел к шкафу, отодвинул кресла и, отворив дверь, выговорил:
– Ну, ты, пьяница! Проспался? Вылезай на свет! Авось теперь пить бросишь после такого греха. Только сестру срамишь, да и меня… Ну, ну, вылезай, говорят! Какие тут прятки?
И при улыбающейся, но отчасти недоумевающей публике человек в восемь, из-за двух ярких элегантных юбок, висевших в шкафу, появилась фигура красивого, но совершенно сконфуженного юноши.
Почти не помня себя, прошел он между духовенства. Конечно, во всю свою жизнь он более смущен не бывал. Пройдя мимо Маргариты, он даже не заметил ее в углу горницы.
– Молодость! – заметил глубокомысленно ему вслед один из священников, разглаживая бороду.
Иоанн Иоаннович, покачивая головой, проводил юношу до самой передней. И уж как ему хотелось треснуть его сзади тростью по спине! Вызвав Эдуарда, он погрозился поступить с ним по-свойски, просто отодрать на конюшне за малейшее слово. Затем старик вернулся к Маргарите, все еще сидевшей в том же кресле, и, опять почесывая за ухом, сел около нее. Она видела Шепелева, ушедшего, но еще не успокоилась вполне…
«Это не останется в тайне! – думала она. – Они все всюду расскажут. Вот я и погибла! А я не хуже других. Такое ли бывает в этой столице?! Только не при такой обстановке! А между тем как это просто вышло!»
– Ну, внучка… Вдовушка моя! – заговорил ласково Иоанн Иоаннович. – Ведь я мыслил, ты воструха баба. А ведь ты, прости меня, – ты дура! К полюбовникам ходят, а к себе не водят. Так на свете заведено, и не нам мудрить и свет переменять.
XIII
Среди дня дом графини Скабронской переполнился народом. Иоанн Иоаннович был прав, говоря, что все те, которые живого графа забыли, к мертвому тотчас поедут. Впрочем, была еще и другая причина большого стечения публики. Петербург начал чуять в овдовевшей иноземной красавице нарождающуюся силу!
«Чем черт не шутит! – думали сановники. – И чего только Питер не видал за все время от Петра Первого до Петра Третьего! Как и где кончила жизнь первая супруга Петра Великого? В монастыре! Кто была вторая супруга – Екатерина Алексеевна, русская императрица? Была Марта! А тут Маргарита! Даже прозвища сходны!»
На другой день государь, узнав о смерти графа, недавно пожалованного придворным званием, приехал на панихиду, любезно и долго шутил со вдовой, долго оставался в доме и, уезжая, сказал:
– Если бы не смотр у Котцау, остался бы утешать вас до вечера!
И после этого неожиданного визита государя уже началась полная ярмарка. Кто был почти незнаком с Маргаритой, и тот приехал потолкаться и ей поклониться.
Государь действительно в этот день должен был снова быть на испытании новой партии учеников Котцау. Первое испытание показалось Петру Федоровичу настолько забавным, что он с тех пор не пропускал ни одного.
На этот раз на открытом плацу близ Адмиралтейства благодаря великолепной погоде собралась вокруг офицеров куча народу и зевак поглазеть на «немецкую драку», то есть на фехтование. Снова воспоследовало здесь то же самое, что было когда-то в кирасирском манеже. Снова государь смеялся, сердился, хвалил или бранил по очереди многих из состязавшихся с Котцау, с его помощниками и затем между собой.
Но на этот раз государь уехал особенно довольный, так как случилось неожиданное никем, неожиданное даже самим Котцау, происшествие.
В числе последних поединщиков выступил из рядов пожилых офицеров преображенец, старый лейб-кампанец Квасов и сам попросил позволения у государя показать и свои успехи.
– А! – вспомнил государь. – Ты опять хочешь наболванить! Опять тебя Котцау высечет! А ты думаешь, ему по голове попадешь! Небось во второй раз не дастся. Брось! Уходи!
Квасов стоял на своем; спокойно, но настойчиво просил позволения показать свое умение, так как за все последнее время усердно занимался фехтованием.
– Изволь, упрямая голова! Начинай! – крикнул государь.
Котцау назначил состязаться с Квасовым офицера Будберга, так как он фехтовал довольно порядочно. Однако едва успел он скрестить шпагу с Квасовым, как лейб-кампанец после двух или трех пас вышиб шпагу из рук противника и, обратясь к государю, вымолвил:
– Ваше величество, прикажите с кем-нибудь потягаться, кто поискуснее. Этот совсем ступить не умеет.
Государь, обрадованный, хотя несколько удивленный, воскликнул весело:
– Чего же лучше! Пускай сам Котцау станет. – И государь лукаво рассмеялся, уверенный, что поймал лейб-кампанца, хвастливого не в меру.
Котцау стал отказываться, объясняя, что опять этот поединок между ними окончится тем, что лейб-кампанец разозлится и забудет, что здесь смотр, а не настоящая драка или война.
И Котцау, не дожидаясь ответа государя, приказал своему помощнику Шмиту выйти потягаться с Квасовым.
Аким Акимович с особенно серьезным лицом, спокойный, отчасти даже важный, если не торжественный, стал на место против немца. Шпаги скрестили.
Не прошло пяти минут, как Шмит начал волноваться, беситься. Ему еще ни разу не удалось тронуть лейб-кампанца. Он думал, что их поединок будет потехой для всех, что он через секунду осрамит Квасова, а вдруг оказывается, что лейб-кампанец искусно парирует каждый удар. И по целым минутам стоят они друг против друга не выпадая, по невозможности поймать противника врасплох. Только обе шпаги ярко блестят на солнце и незаметно вздрагивают.
Но вдруг Квасов вскрикнул на весь плац:
– Держись, поросенок, убью!
И тотчас же три удара, самых ловких и сильных, упали на немца: удар по колену, по плечу и последний прямо в грудь с такой силой, что шпага согнулась в дугу между обоими противниками! Крики изумления, похвалы и громкий говор раздались кругом. Зеваки тоже почуяли, что «свой брат» немца одолел, и в народе тоже гул одобрения пошел.
Государь поднялся и приблизился к лейб-кампанцу.
– Не ожидал! Спасибо тебе, молодец! Ты, стало быть, работал много за это время!
– Почитай, все время, ваше величество. Часов по восьми и десяти в сутки занимался. И, как видите, не хуже других. Теперь могу помериться с господином Котцау. Разумеется, мне с ним совладать нельзя, но и тронуть я себя не дам ему.
– Ну, это вздор! – воскликнул Петр Федорович. – Уж ты и пошел!.. Вот русский человек сейчас виден. Не может не зазнаться…
– Говорю, не дам себя тронуть, – упорно стоял Квасов на своем.
Котцау ухмылялся и тряс головой.
– Что ж, mein Herr[39] деуч! – воскликнул Квасов. – Дайте мне вздохнуть малость, и начнем.
Через несколько минут лейб-кампанец и Котцау скрестили шпаги. Несколько мгновений Квасов не дал себя тронуть ни разу.
Изумленный Котцау, но довольный, как любитель своего дела, невольно восхищался своим противником. Каждый раз, что ему не удавался его удар, не удавалось тронуть Квасова, он восклицал весело, с искренной радостью:
– Браво! Карашо! Молодес! Браво!
И поединок этот вышел совершенно иной, чем когда-то в манеже. Котцау был в восторге от своего противника. Аким Акимович был, конечно, польщен, и насколько он был злобен тогда, так что глаза его наливались кровью, настолько теперь был доволен, и улыбка не сходила с его лица.
Поединщики кончили.
Все присутствующие с государем и принцем впереди обступили их кругом, расхваливая лейб-кампанца.
Отдохнув немного, Котцау произнес по-немецки:
– Ну, теперь еще один раз! Теперь скажите ему, что я его сейчас же трону секретной пасой, против которой он ничего не может сделать.
Квасову перевели, но лейб-кампанец отвечал:
– Пущай, это будет не обидно!
И едва только оба снова скрестили шпаги, Котцау ловким маневром так ударил по шпаге лейб-кампанца, что вся шпага задрожала и рука лейб-кампанца, державшая эфес, на секунду онемела от сотрясения. И в этот момент пруссак ударил его два раза в плечо и в грудь и отступил. Котцау боялся, что лейб-кампанец озлится, полезет и не будет опять конца поединку.
Но Аким Акимович добродушно рассмеялся и выговорил:
– Молодец! Да ведь вы фехтмейстер, людей мастер крошить, а я только по сю пору был табакмейстер, только табак умел крошить, как никто во всей столице.
Государь был в полном восторге и ласково обнял Квасова.
– Вот кабы вы все так учились! – обернулся он к гетману, стоявшему за ним, и тотчас же поздравил Квасова секунд-майором. Аким Акимович даже зарумянился от удовольствия и благодарности. Государь, сказав несколько слов окружающим, чтобы взяли пример с Квасова, сел на подведенную лошадь.
Все, что было офицеров на плацу, тотчас окружили героя дня с поздравлениями. Все искренне удивлялись, каким образом человек его лет мог в такой короткий срок так навостриться.
– Сам не знаю, – добродушно говорил Аким Акимович. – Сдается мне, что и прежде у меня способность к тому была, да случая не выходило заняться. Ну а тут упражнялся. И всякий-то день все легче да легче выходило. Я так полагаю, что российский человек все сделать может, только бы охота была.
В эту минуту весь Преображенский полк двигался через плац и повернул на Невский проспект. Все следившие за ним заметили, что несколько далее, впереди, остановился и государь, окруженный своей верховой свитой и толпой народу. Очевидно, что-то случилось.
Многие из офицеров с плаца тотчас же побежали на место происшествия.
В ту минуту, когда государь отъезжал от плаца верхом в сопровождении нескольких лиц, и в том числе гетмана, он увидал среди улицы хорошо знакомый ему, несколько фантастический мундир, единственный в городе. Это был арап его и любимец, лакей Нарцисс. Арап отчаянно дрался на кулачках с каким-то мещанином и был весь обрызган грязью, так как противник, отняв метлу у расчищавшего улицу дворника, уже успел два раза хлестнуть «черномазого». Но затем Нарцисс отвоевал метелку, два раза ударил мещанина палкой и, переломив ее на его голове, бросился врукопашную. Негр, рассвирепев как дикое животное, яростно кидался на сильного и рослого врага, получал могучие удары в грудь и голову, но и сам бил изо всех сил.
Государь, узнав любимца, подскакал к нему, окруженный свитой, звал его, кричал, бранил, но остервеневший Нарцисс никогда бы не покинул своего противника, если бы тот сам при виде государя не отскочил в сторону, снимая шапку. В мещанине государь узнал известного в городе палача.
– Это ужасно! – воскликнул государь. – Я лишен моего лучшего слуги! Господа! Кирилл Григорьевич! Гетман! Что же мне теперь делать? Это ужасно! Я должен его прогнать, отправить. – Гетман не понимал, и государь объяснил ему, что арап подрался с палачом и что после такого позора Нарцисс, имеющий воинское звание, настолько обесчещен, что государь уже не может терпеть его около своей особы, а равно пользоваться его услугами. Сначала гетман, Гудович и другие смеялись, но вдруг увидели, к своему удивлению, что государь говорит совершенно серьезно и на лице его написано полное отчаяние. Все лица стали серьезны.
– Как же быть теперь? Как же быть? Я люблю Нарцисса и не могу без него обойтись! – горячо говорил государь, обращаясь с седла ко всем присутствующим.
Все молчали, окончательно не зная, что сказать, и не зная, что будет далее.
– Он должен своею кровью смыть это бесчестье! – воскликнул государь. – Понимаете?
– Так мы ему немножко крови и пустим, – выговорил вдруг гетман полушутя. – Ведь не на поединке же ему драться с палачом?
– Как? – воскликнул государь. – Как пустить…
– А вот возьмем да куда-нибудь царапнем! Кровь у него и потечет. И довольно! – шутил гетман.
– Отлично! – воскликнул государь.
Гетман удивился.
– Отлично! Отлично! – продолжал Петр Федорович. – Сейчас же берите его! – приказал он.
Столпившиеся кругом офицеры подступили, но Нарцисс, уже перепуганный, что с ним хотят делать нечто совсем ему непонятное, стал в оборонительное положение, приготовясь встретить кулаками и самих офицеров.
– Сдавайся! – кричал государь, наезжая на негра, но Нарцисс упрямо тряс головой.
Государь приказал кликнуть солдат из проходившего Преображенского полка. Полк остановился, несколько солдат окружили Нарцисса и, получив несколько здоровых тумаков, наконец осилили его, схватили и держали за руки и за ноги. Никто ничего, однако, не понимал, начиная с Нарцисса и кончая даже гетманом.
– Давайте сюда знамя! – воскликнул государь. – Прикройте его. Это тоже смоет бесчестье.
И офицер с двумя солдатами-знаменосцами вышли из рядов со знаменем и по приказу государя наклонили его над арапом. В то же время Петр Федорович велел одному из солдат расстегнуть сюртук на негре и по обнаженной руке близ плеча царапнуть чем-нибудь, чтобы вызвать несколько капель крови.
Нарцисс вырывался, ругался отчаянно, грозился и визжал, оскаливая свои собачьи зубы.
Сдержанный смех раздавался кругом. Со всей улицы прохожие и проезжие бежали поглядеть, что случилось среди густой толпы и кто орет как белуга на весь Невский проспект.
– Ну, вот отлично! – выговорил, наконец, государь, совершенно довольный и счастливый. – Ступай скорей домой! Спасибо вам, Кирилл Григорьевич, что надоумили! Теперь я даже счастлив, а то мне приходилось лишиться верного слуги.
И Петр Федорович, веселый, с сияющим лицом, двинул лошадь в галоп. Свита поскакала за ним.
Офицер, знаменосцы и солдаты-преображенцы вошли в ряды, и полк вновь двинулся. Народ долго не расходился. Со всех сторон только и слышно было:
– Да что такое? Беглый, что ль, арап-от?
– В чем дело-то? Секли, что ль…
– Орал! Стало, не пряником кормили!
– Не пойму. Спросите у кого-нибудь.
– Да никто не знает.
– О дурни! Кровь пущали арапу… захворал!.. Ну, доктур в себя и приводил его. Это первое дело от застуженья, кровь пустить.
– О черт, врет! В жару эдаку, вишь, застудился он у него?!
– Да ведь он, братец ты мой, арап!! Понял ты это?
XIV
Гарина, с самого дня своего ареста и немедленного освобождения, была так потрясена, что почти не вставала с постели. Изредка на несколько минут она пробовала вставать, но, посидев немного в кресле, снова ложилась. Сильное здоровье было будто надорвано; при малейшем звуке на дворе она вздрагивала всем телом; сделав несколько шагов по горнице, она чувствовала, что ноги подкашиваются, а в руках не могла удержать ничего, даже чайная чашка и та казалась ей страшной тяжестью.
Настя на вид была еще хуже. Она страшно похудела, подурнела и тоже почти не выходила из своей комнаты, не бывала у тетки, извиняясь нездоровьем.
Василек проводила день, переходя от одной больной к другой; усердно ухаживая за теткой, она не могла видеть без боли положение сестры. Она чуяла, что помимо перепуга, ареста, страха за судьбу сводного брата, которого Настя давно любила, есть у сестры еще что-то на душе. От зари до зари в полном смысле слова была Василек на ногах в хлопотах и заботах домашних. Иногда ей случалось с утра и до сумерек не успеть или просто забыть выпить чашку чаю. Случалось, что тетка, сильно раздраженная, выговаривала своей любимице, упрекала ее в недостатке попечения о себе, в недостатке любви по поводу какого-нибудь поданного ей перекиснувшего горшка простокваши или пережаренного пирога. И Пелагея Михайловна, конечно, не знала, что Василек, молча и терпеливо выслушивающая выговоры, сама уже часов восемь не имела еще маковой росинки во рту.
Насколько Пелагея Михайловна нетерпеливо и резко относилась теперь к своей любимице и была болезненно придирчива, настолько сестра Настя, всегда гордо, чуть не презрительно относившаяся к старшей сестре, теперь была нежна к ней и ласкова. Раза два уже случилось Насте, со странным оттенком в голосе, сказать сестре:
– Обними меня, поцелуй!
Часто Василек утешала сестру, что Глеба не постигнет строгое наказание, что как-нибудь все уладится, хоть со временем, хоть через несколько годов. Настя слушала молча и не отвечала ничего. Василек чувствовала, что говорит пустяки, что дело, в сущности, не в том… А в чем?! Какая тайна чуется ей у сестры, чуется ей сердцем бессознательно…
Однажды вечером Василек, сидя с сестрой, снова стала утешать ее, что Глеб отделается только тем, что будет года три солдатом гвардии.
– Не бог весть какое наказание. Вон Шепелев недавно еще без всякой вины, а только за молодостью лет был рядовым.
– Ах, Василечек! – вдруг воскликнула Настя. – Да разве в этом дело! Вор он, вор! Пойми ты это!
И Настя заплакала.
– Уж лучше пускай в Сибирь идет, тогда хоть будет наказан и, стало быть, несчастный.
«Так вот что ей горько! – подумала Василек. – Вот ее тайна!»
И, снова принимаясь утешать сестру, она вымолвила наконец:
– Ну, положим, так. Жаль тебе его, и мне тоже жаль, но ведь все ж таки, Настенька, он нам не родной брат. Так, как ты убиваешься, ты могла бы только убиваться по жениху или по мужу.
Настя вдруг переменилась в лице и воскликнула:
– Молчи! Молчи!
Василек не поняла тайного значения этого порыва.
– Конечно, только по любимому человеку, жениху ли или мужу, можно так убиваться, – прибавила она.
Настя вдруг зарыдала, бросилась на шею сестре и выговорила шепотом, от которого у Василька сердце замерло:
– Молчи! Сама не знаешь, что говоришь! Не будем больше никогда говорить об этом.
Так как Пелагея Михайловна и обе княжны узнали, конечно, от Квасова, кто был главным их защитником, то Василек была теперь несказанно счастлива, что они всем обязаны Шепелеву. О вмешательстве графини Скабронской Квасов умолчал.
Пелагея Михайловна тотчас по возвращении домой вытребовала через лейб-кампанца юношу, обняла, расцеловала и просила его забыть все старое, забыть, что он был нареченным, и бывать запросто, как приятель. И теперь Квасов и Шепелев по очереди приносили в дом Тюфякиных вести о князе.
Однажды, через недели две после освобождения княжон, Квасов принес известие и передал Васильку, что Глеб разжалован, лишен чинов, дворянства и ссылается в Сибирь, в рудники. Пелагее Михайловне тотчас же было это передано. Лицо ее осветилось злобной радостью.
– Угодил, «киргиз»! Туда ему и дорога, поганому! – воскликнула она раздражительно и злобно. – Его бы на родину его возвратить – в степи киргизские. Ну, да в рудниках еще почище будет.
Василек, конечно, уговорилась с Квасовым скрыть на время ужасную весть от сестры. Но Настя будто чуяла, догадывалась, или, быть может, неосторожное слово кого-либо из людей заставило ее подозревать истину. На все ее вопросы целый день Василек и Квасов не отвечали правды, но Настя догадалась, как добиться истины.
Рано утром она написала Шепелеву, прося известить о судьбе князя, и подписалась: «Княжна Василиса». Тайком посланный ею мальчишка через два часа был уже обратно и вручил ей ответ.
Настя пробежала его глазами и тут же среди передней замертво упала на пол. Очнувшись в постели, куда перенесли ее, и открыв глаза, Настя не сразу пришла в себя, даже не сразу узнала Василька.
Наконец она выговорила глухим, полубезумным шепотом:
– Рудники! Далеко! Да и работать не умею! Зачем меня не учили хоть лопату держать?..
И Настя осталась в постели на несколько дней. Скрытно от всех, целые дни плакала она…
Гарина, наоборот, обрадованная известием о Глебе, будто отмщенная, казалась на вид спокойнее, будто выздоровела. Она подозревала, конечно, канцелярию Гудовича в умышленном их арестовании, но главным образом она обвиняла оговорившего будто бы их негодяя «киргиза». Василек оправдывала брата, но опекунша не верила.
Так прошла еще неделя.
Однажды утром явился в дом Тюфякиных никогда до тех пор не бывавший у них преображенский офицер, сам Алексей Орлов. Узнав, что Гарина в постели, он велел доложить о себе старшей княжне Васильку. Орлов объявил, что у него есть первейшей важности дело до ее тетки, и просил непременно, чтобы Гарина приняла его.
Пелагея Михайловна взволновалась, почуяла новую беду и, кое-как поскорее одевшись, села около постели в кресло и приняла преображенца, о котором только слыхала как о буяне. С первых же слов этот буян, бог весть почему, необыкновенно понравился Пелагее Михайловне. Она глядела на него, дивилась и думала:
«Скажи на милость, как часто про человека зря дурно сказывают. Просто витязь, молодец, красавец! Да какой вежливый, почтительный!»
К несказанному удивлению Василька, Орлов просидел глаз на глаз с теткой три часа. Заперев дверь по ее же приказанию, Василек невольно решилась раза два подойти к дверям и прислушаться, только ради того, чтобы знать, чего надо ожидать, беды или радости.
Беседа тетки с преображенцем была тихая, мирная. Василек расслышала только голос Орлова. Он говорил красноречиво, горячо и мягким убедительным голосом. Тетка все молчала и только слушала.
«Что он ей рассказывает?» – недоумевала княжна.
Наконец Пелагея Михайловна позвала Василька и приказала ей достать из сундука, стоявшего близ образницы, тысячу червонцев. Василек достала деньги и, удивляясь, положила на стол.
– Ну, бери, голубчик, только меня и моих племянниц не загубите! А если сумеете все сохранить под спудом, то приезжай, еще дам.
Орлов взял деньги, обещался бывать, как знакомый, поцеловал ручку Пелагеи Михайловны и уехал.
Василек ничего не понимала. Гарина, видя изумленное лицо любимицы, усмехнулась насмешливо и выговорила:
– Диву далась! Ну и дивись! А знать тебе этого не приходится. А приедет он, еще дам. Десять раз приедет, десять раз дам! Он не обманщик, не «киргиз»! Душа-парень! Я ему три раза тут руку целовать давала, а меня краснобайством не проймешь. А денежки эти, Василек, на такое дело!.. Ну, просто скажу, на святое дело!! Да и им-то… На вот, подавись! – И Пелагея Михайловна злобно стала стучать по столу костлявыми пальцами. – Подавись! Подавись! Коли только за этим дело стало, за деньгами… половину всего своего иждивения Орловым отдам, чтобы только отплатить разбойникам этот стыд да срам! Чтобы столбовых дворянок тащить с солдатами, зря, в холодную, на допрос и пытку!.. – И Гарина прибавила будто себе самой или мысленно обращаясь к Алексею Орлову: – Приезжай, голубчик, приезжай! Хоть до пятидесяти тысяч дойду! А только сверни ты им шею…
– Кому же это – им, тетушка, Гудовичу? – спросила Василек.
Но Гарина усмехнулась и не ответила.
В тот же вечер громовой удар, ужасный и непредвиденный, разразился над домом Тюфякиных.
Василек, вставшая очень рано, прохлопотавшая целый день, почувствовала себя вдруг дурно. Здоровье ее, хотя крепкое, тоже не выдержало, наконец, всех забот и хлопот. За все эти дни у нее бывала только одна радость, когда Шепелев появлялся к ним проведать о здоровье Гариной. Но он каждый раз спешил, и она едва успевала перекинуться с ним несколькими словами.
Василек в сумерки, чувствуя себя слабой, решилась уйти к себе и прилечь на минуту. А между тем, покуда Василек глубоким сном заснула у себя, Настя, лишь за два дня вставшая на ноги, оправившаяся немного, но давно решившаяся на объяснение с теткой, вдруг поднялась с места, прошла коридор и, постояв несколько мгновений у двери Гариной, быстро, порывом вошла…
Пелагея Михайловна сидела на постели и раскладывала у себя на коленях, на откинутом одеяле, свой любимый пасьянс. При звуке шагов она подняла глаза и увидела перед собой племянницу, которую не видала давно.
– А! – выговорила Гарина язвительно. – Собралась проведать! Хворую изображаешь! Почему? Отца родного, что ли, в Сибирь угоняют? «Киргиза» на его родину возвращают, а тебе горе. Блажишь все… Одного жениха вот упустила уж… Смотри, в девках останешься.
– Тетушка! – выговорила Настя глухим голосом, остановясь перед теткой и опираясь на задок кровати Гариной. – Я вам… Выслушайте. Вы мне не мать. Вы меня не любите. И я вас не люблю! Сестру теперь полюбила… Ее мне жаль… А вас не жаль… Я ухожу за… ним… В Сибирь за ним.
Гарина уронила карты на колени, спутала пасьянс и, вытаращив глаза на Настю, молчала от изумления.
– Вы опекунша, вы хозяйка по закону над моими деньгами, – все так же глухо и медленно, но твердо заговорила Настя, только глаза ее засверкали ярче. – Надо мной вы ничего не можете… Оставайтесь с моими деньгами. Я ухожу без них.
– Да как смеешь ты… – зашептала Пелагея Михайловна, теряясь и робея от лица и голоса Насти. – Да ты… Василек! Василек! – вдруг закричала Гарина, невольно призывая на помощь любимицу. – За «киргизом»! Ухожу! Что ты? Что?!
– Глеб для меня дороже всего на свете… Он… он… – Но Настя не могла договорить. Она ухватилась руками за кровать, будто удерживаясь от падения, побледнела, закрыла глаза и, наконец, шепнула: – Он мне больше брата… Он мне теперь… Там в Сибири законов людских нет. Там все можно… – И Настя прибавила еще несколько слов, едва шевеля губами, ослабевшим голосом.
Но Пелагея Михайловна все слышала, поняла, поверила. Услышанное подтверждало ее давнишние подозрения! Она страшно переменилась в лице и мгновенно ухватилась за голову… Помотав головой, она тихо ахнула, затем застонала еще тише и повалилась на подушки.
Настя, шатаясь, вышла и, держась за стену коридора, дошла с трудом в свою горницу.
Пелагея Михайловна лежала и, при смутном сознании своего положения, чего-то ужасного с ней, не могла двинуться и не могла позвать…
Только через час Василек была разбужена горничной, которая тормошила ее за руку. Придя в себя, она услыхала:
– Барышня! Барышня! Барыне нехорошо… И давно… Полумертвая…
Василек вскочила на ноги и не могла ничего понять. Она испугалась, но не понимала то страшное, что говорят ей про тетку. Добежав до спальни Гариной, она нашла ее в постели в страшном виде, которого Василек тоже испугалась и тоже не понимала.
Все лицо Пелагеи Михайловны покосило на сторону, она глядела одним глазом, слегка закатившимся, рот был искривлен. Увидя Василька, Пелагея Михайловна зашевелила ртом, но вместо слов Василек услыхала какие-то ужасные гортанные звуки, которые можно было принять за шутку, если бы они были произнесены ребенком.
По счастью, пришедший Аким Акимович, давно уже дожидавшийся Василька в гостиной, чтобы, по обыкновению, сесть за чай, услыхал шум и, расспросив, понял, в чем дело. Тотчас же на лошадях Тюфякиных он поскакал за доктором. Затем до полуночи прохлопотали тщетно все около Пелагеи Михайловны. У нее сделался удар…
Василек была настолько потрясена, что прежний арест уж казался ей чуть не шуткой сравнительно с теперешней бедой. Она даже не заметила присутствия в доме, далеко за полночь, человека, который все-таки был для нее дороже всего в мире, то есть Шепелева.
Около часу ночи, когда Квасов сидел около больной, а доктор уехал, Шепелев обратился к ней с вопросом, почему случился удар у Пелагеи Михайловны.
Василек отозвалась неведением и внезапно догадалась пойти к сестре. Спросить! Но она вдруг всплеснула руками и выговорила:
– Настя-то? Где ж Настя? Ее с нами не было…
Княжна только теперь вспомнила, что Настя за все это время хлопот около тетки не появилась ни разу.
– Да и я хотел все спросить, – воскликнул Шепелев. – Как же в этакое время да не прийти помочь!
Василек тотчас же решила мысленно, что, стало быть, сестра лежит тоже беспомощно в своей горнице. Она бросилась туда. Горница Насти была пуста. Только ящики комодов были выдвинуты, многое выброшено на пол. Некоторых вещей, одного образа из киота и маленького ларчика, где были ее бриллианты, не было.
Через четверть часа после новой сумятицы в доме Василек и все домочадцы убедились, что княжны Настасьи не было в доме.
XV
И странно распорядилась судьба! Самое тяжелое время в доме Тюфякиных оказалось для Василька самым счастливым временем ее жизни.
Тетка была в постели почти без движения, доктор не ручался за ее жизнь. Сестра позорно бежала из дому, сама оговорила себя в канцелярии Гудовича и добилась того, что последовала за ссыльным братом.
Но зато здесь бывал теперь всякий день Шепелев. Вместе с Васильком ухаживал он за больной, просиживал целые часы около ее постели, проводил иногда целые дни наедине с Васильком. Видать ее сделалось для него потребностью. Ей одной изливал он свою душу, ей одной передавал всякий день то, что приходилось ему теперь перечувствовать и выстрадать от бессердечной женщины.
Кончилось тем, что Шепелев рассказал Васильку всю свою историю с Маргаритой, начиная со встречи в овраге и поцелуя в доме гадалки. И наивный юноша не подозревал, как терзал он сердце бедной княжны. Он и не воображал, как тяжело было ей выслушать всю эту исповедь, все эти признания. Но за эти дни взаимные отношения Шепелева и Василька изменились. Юноша посмотрел на некрасивую княжну совершенно иными глазами. Бесконечная доброта ее закупила его, и княжна стала его первым другом. Василек по-прежнему, но уже сознательно, не боясь своего чувства, любила его и на свой лад ревновала к Маргарите. Ей казалось, что ее любовь и любовь этой женщины – совершенно два различных чувства. Ей казалось, что та страсть, в которой сознался Шепелев к этой кокетке, ее бы не удовлетворила. В грезах своих о нем когда-то, представляя себе, как он мог бы полюбить ее, она никогда не думала и не могла даже предполагать возможности такого чувства, какое было у этого юноши к красавице иноземке. Ей грезилось иное чувство, глубокое и беспредельное, как море, но тихое, мирное… Она ревновала и ненавидела графиню, но только за те мучения, которые претерпевал от нее юноша.
Василек теперь перестала смущаться Шепелева, была проще, искреннее. Юноша, со своей стороны, после полной своей исповеди обращался с ней совершенно как бы с сестрой. День за днем Маргарита все более и более мучила его, а чистота души и бесконечная доброта Василька все более привлекали его. Кончилось тем, что после каждой бурной сцены с Маргаритой Шепелев без оглядки бежал в дом Тюфякиных, к единственному человеку на земле, с которым он мог говорить откровенно обо всем.
Однажды, случайно убедившись, что есть что-то ужасное и отвратительное в поведении Маргариты относительно старого деда, Шепелев снова бросился к другу. На этот раз он был особенно бледен и печален, но сказать этому милому, чистому существу, что подозревает он и на что способна та женщина, было совершенно невозможно.
– Что с вами? – приставала на этот раз Василек.
Но Шепелев долго молчал и, наконец, отозвался:
– Даже и рассказать вам нельзя. Много было всего, но подобного, конечно, и ожидать было нельзя. Но если это правда, если я не ошибаюсь, то, кажется… Кажется, у меня к ней все пройдет…
Шепелев сидел опустив голову, глядел на пол и не мог видеть, как изменилось лицо Василька. Она пристально смотрела на него, собиралась произнести два слова, и у нее не хватало духу.
– Да, тогда все пройдет, – прошептал снова Шепелев.
– Что пройдет? – еще тише, через силу, выговорила, наконец, Василек.
– Что? Эта безумная страсть! Разве можно любить… Да нет, я и говорить вам не стану. Господи, если бы она была то, что вы! Если бы в ней была хоть малая толика той ангельской души, какая в вас!
Шепелев смолк на минуту, потом вдруг поднял голову, взглянул на Василька и выговорил внезапно:
– Скажите, любили ли вы когда-нибудь?
– Что? – едва слышно прошептала Василек и вся вспыхнула. И в ту же минуту она подумала, как всегда, что покрасневшее лицо ее особенно некрасиво. И от этой мысли она покраснела еще более…
– Скажите правду! – горячо выговорил Шепелев. – Вот я вам всю душу свою выкладывал, все рассказал, чего и не следовало. Про такую женщину, как графиня, и с такой, как вы, и говорить бы не надо. Но я сознаюсь… я с вами душу отводил, мне легче бывало, как я ворочался от вас к себе. А вы, как мне кажется, со мною не откровенны. Я правду говорю. Я вас люблю. Мне бы теперь без вас трудно было остаться в Петербурге. А вы постоянно со мною как-то странно и непонятно мне поступаете. Да, есть что-то! Вот видите, вы все краснеете, стало быть, я правду говорю.
Действительно, Василек сидела пунцовая. Вдобавок она, ни перед кем никогда не опускавшая своих глаз, теперь не знала, куда смотреть, не знала, что делать, не знала, что сказать.
– Ну, да не об этом речь, – заговорил Шепелев, – это ваше дело. Коли я вам немножко не по сердцу и вы из жалости только позволяли мне всякий день исповедоваться и плакаться, так и за то спасибо! А вот что я хочу спросить, совсем другое: любили ли вы когда-нибудь?
Василек тихо подняла руки к лицу, медленно откачнулась на спинку своего кресла и едва слышно выговорила:
– Ах, полноте, Дмитрий Дмитриевич!..
– Отчего же? Я у вас не спрашиваю кого. Да это мне и не нужно знать. Я спрашиваю только, знали ли вы это дьявольское чувство, которое меня теперь совсем измучило. Я знаю, что моя любовь к графине может пройти. Она может завтра сделать что-нибудь, за что я ее возненавижу. Прежде я думал, что я способен убить ее, но теперь вижу, что если она такая… Таких убивать не стоит, таких можно только презирать. Так вот, скажите! Понимате ли вы то чувство, которое во мне? Бывало ли с вами что-нибудь такое? Любили ли вы? Скажите, княжна! Я не отстану! – грустно улыбнулся Шепелев.
Василек сидела по-прежнему, закрыв лицо руками. Ей казалось, что она стоит на краю обрыва, на краю пропасти, в которую ей неудержимо хочется броситься. Она чувствовала, что сейчас бросится и погибнет. Она сейчас непременно скажет ему одно слово, которое все погубит. Он испугается, он перестанет бывать. То чувство, которое явится в нем к ней, будет вдобавок оскорбительно, горько для нее! Их братские отношения будут уничтожены сразу. А между тем Василек чувствовала, что вот сейчас он повторит свой вопрос, а она ответит правду, – бросится в эту пропасть!
Шепелев протянул руки, взял ее за руки и отнял их от лица. Он почувствовал, что эти руки дрожат, но не понял. Он увидал ее совершенно изменившееся лицо с страдающим выражением, он увидал что-то новое, странное, тревожное в ее великолепных, вечно спокойных глазах, но тоже не понял.
– Понимаю, – выговорил он, – это для вас тяжелое воспоминание. Простите меня! Так, стало быть, вы знаете или хоть знали, как я мучаюсь теперь. Вы все-таки любили или, может быть, до сих пор любите?
После первой мгновенной тревоги Василек остановила на его лице тот ясный и глубоко западающий в душу взор, который так ненавидел князь Глеб, который так часто тяготил многих. Но только в этом взоре теперь была глубокая, бесконечная скорбь. Она долго глядела на юношу и вымолвила наконец:
– Да, любила и люблю теперь. И кого? Вы знаете?
Шепелев широко раскрыл глаза:
– Нет, не знаю. Ей-богу! Ведь не дядюшку же моего… – усмехнулся он.
Но в эту минуту сидевшая перед ним княжна вдруг зарыдала и, закрыв лицо, быстро вышла из горницы.
Шепелев, наконец, понял… но странное, неуловимое и неопределенное чувство шевельнулось в нем.
XVI
В палатах фельдмаршала Разумовского все приняло праздничный вид и все было готово к пиру, на который государь сам назвался.
Бесчисленное количество дворни, казачков, гайдуков, скороходов в разноцветных фантастических костюмах ожидали съезда гостей и самого императора.
В большой зале, выходившей окнами в сад, был накрыт обеденный стол, сверкавший при лучах заходящего солнца белизной скатертей и серебром. Стол был убран цветами и большими канделябрами из литого серебра, изображавшими различные роды охоты. Каждый канделябр имел более пуда веса и каждый изображал какое-нибудь разветвленное дерево, под которым группировались кругом ствола фигуры охотников в иноземных платьях и какие-нибудь звери; на одном кабаны, на другом медведь, на третьем лиса или волки и так далее. Канделябры эти были подарены покойной государыней и выписаны из Парижа.
Дом Алексея Григорьевича Разумовского был, что называется, полная чаша. Состояния фельдмаршала точно никто не знал, и сам он почти счет потерял своим доходам. Это было самое огромное состояние в России, и в ту минуту, когда в государственном казначействе было только миллион двести тысяч рублей наличными деньгами, граф Алексей Григорьевич имел несколько миллионов.
После кончины императрицы весь дом его был отделан черным сукном с плерезами, и он думал оставить этот траур на два, на три года, а теперь по приказу государя приходилось придать дому праздничный вид ровно через пять месяцев после кончины государыни.
Но если палаты приняли праздничный вид, освободившись от черного сукна, крепа и газа, то сам хозяин далеко не имел веселого и праздничного вида.
В ту минуту, когда государь, Жорж, Гольц и другие гости собирались на пир, граф Алексей Григорьевич сидел у себя в кабинете в полном мундире и во всех орденах, но лицо его было особенно мрачно и тревожно. Причина этому была немаловажная.
За два дня перед тем друг и наперсник брата его, Теплов, был у него, уговаривая открыто стать на сторону императрицы в случае, если произойдет в Петербурге какое-нибудь действо в ее пользу. Разумовский отказался наотрез, он обещал только остаться беспристрастным зрителем, а в случае всеобщего поворота в пользу Екатерины присягнуть одним из первых.
Теплов остался недоволен своим неуспешным предприятием, но, уезжая, объявил графу нечто настолько важное, что смутило Разумовского на целых два дня. Как друг дома, давнишний и верный, Теплов передал Разумовскому великую тайну, что государь ввиду печального состояния финансов и нужды в деньгах для содержания корпуса Чернышева, перешедшего на сторону Фридриха, имеет виды на громадное состояние Разумовского. Одним словом, Теплов объяснил графу, что государь собирается, придравшись к чему-либо, сослать Разумовского в Малороссию и конфисковать почти все его состояние.
Граф сначала хотя и встревожился, но не поверил хитрому Теплову. Он подумал, что это выдумка для того, чтобы склонить его в пользу заговора и пожертвовать крупную сумму денег для заговорщиков. Тогда Теплов достал из кармана бумагу.
Она была писана рукой, хорошо известной графу, тайного секретаря Волкова. На большом листе в заглавии было написано: «Промемория». В этой докладной записке Волков объяснял государю, какие есть средства поднять русские финансы. Одно из главных средств было предложение сделать то, что целое столетие делалось постоянно, примеров было без числа, начиная со знаменитого князя Меншикова и кончая Бестужевым и Лестоком. Временщик, отправляемый в ссылку и теряющий громадное состояние, конфискуемое в пользу правительства, а иногда в пользу фаворита, было делом настолько заурядным, что Волков ничего нового в данном случае не придумал, а только повторял зады.
Теплов уехал, Разумовский тотчас же съездил к некоторым старым приятелям, съездил к Панину и всех просил разузнать, правда ли, что он накануне ссылки и разорения. Сведения, собранные им, были совершенно различны. Одни, близко знавшие Волкова, уверяли, что он действительно об этом проговорился, но не ради злобы против графа выдумал это, а ради того, что это было единственным средством поправить российские финансы.
Наконец, фельдмаршал через Екатерину, государыня через Дашкову, Дашкова через болтушку сестру узнали, что государь поговаривал насчет конфискования имущества Разумовского, но, однако, решиться боялся, так как в Петербурге слишком любили и уважали графа Алексея Григорьевича. Одним словом, Разумовский вернулся домой совершенно смущенный, не узнав наверное ничего. Одно только понял он, что если теперь не совершится ничего, то через полгода, через год, рано или поздно, эта беда все-таки постигнет его.
Накануне назначенного пира, утром, гетман заехал к брату и нашел его в полной форме отправляющегося к государю.
– Что ты, батя? – спросил гетман.
– Да вот, поеду к нему, нехай снимет с меня все кавалерии и отпустит до дому.
Гетман уговорил брата ничего не делать, доказывая, что если действительно государь позволит ему уехать в Малороссию, то вдали от двора он скорее лишится всего. И два брата-хохла, носители национальных черт характера, побеседовали и хитро придумали, как горю пособить.
И вот теперь перед графом Алексеем Григорьевичем, ожидавшим приезда государя и гостей, стоял на столе большой золотой поднос с вензелем, на нем лежал каравай хлеба, а на каравае солонка, отделанная драгоценными каменьями. Под хлебом виднелась толстая пачка разных бумаг.
Разумовский сидел задумавшись, изредка прислушивался к шуму на улице, изредка косился на поднос и на пачку бумаг под хлебом и раза два или три пожал плечами. Этот жест ясно говорил: «Что же делать! Поневоле!»
И раз, после долгой думы, переведя глаза снова на поднос с караваем, он усмехнулся досадливо и выговорил:
– Нехай съест!
Когда раздался гром копыт на дворе, граф Алексей Григорьевич быстро встал. Двое лакеев, которым заранее было отдано приказание быть наготове, вошли в кабинет и подняли поднос. Разумовский быстро двинулся навстречу государю, а за ним понесли и поднос.
Государь всегда, слезши с любимой лошади, долго гладил ее, ласкал, разговаривал с ней, показывал ее в десятый, сотый, тысячный раз своим приближенным, уверяя, что такого коня в целом свете нет, что этот конь много призов выиграл в Англии, хотя все знали, что конь там никогда не бывал.
Прежде чем государь покинул лошадь, Разумовский успел спуститься на самый подъезд.
– А! Здорово! Ну, вот мы и приехали покутить! Раскошеливайся, хозяин! Жаль мне, что самого бедного человека в Питере разоряю, да что делать! – шутил государь.
И эти слова поневоле как бы подтвердили мысль Разумовского, что слухи о плане Волкова не есть выдумка.
Фельдмаршал, когда государь вошел на подъезд, опустился на одно колено и вымолвил:
– Ваше величество, примите приношение на пользу государственную от вашего верного раба.
– Что это такое? – воскликнул Петр Федорович.
– Хлеб-соль. Солонка эта по праву ваша. Она принадлежала еще великому Петру Алексеевичу и была дана мне покойной государыней. А под хлебом мое верноподданническое приношение.
Государь сдвинул хлеб с места и с трудом забрал в руку всю толстую пачку бумаг.
– Да что это?
– Деньги, ваше величество.
– Деньги! Ну, спасибо, родимый. Спасибо от души тебе… А много ли?
– Миллион.
– Чего?! – разинул рот Петр Федорович.
– Тут миллион, ваше величество, то есть бумаги, по которым его можно получить от петербургских и иностранных банкиров.
– Ну, Алексей Григорьевич! – развел руками государь, и голос его дрогнул чувством. – Ну!.. Прости меня, голубчик! Какая я перед тобой… как бы сказать? Какой я перед тобой… или какая я… Да, нельзя при чужих людях себя обругать. Ведь я хотел у тебя все отнять, а ты вот сам даришь. А все разные подлецы, завистники твои.
И государь с взволнованным лицом крепко обнял Разумовского, взял его за руку и все повторял:
– Прости меня, голубчик! Вот ты человек, а это все негодяи! – показал он на всю свиту, забыв, что там и принц Жорж, и Гольц, и другие ни в чем не повинные.
Приношение Разумовского, конечно, произвело на свиту действие оглушительного удара грома. И действительно, кроме Алексея Григорьевича, во всей России никто не мог поднести такой подарок.
С этой минуты, переступив порог дворца Разумовского, государь особенно развеселился. Да и вся свита, все гости, которые начали съезжаться, хотя им было ни тепло ни холодно от миллиона, перешедшего из рук Разумовского в руки государя, все-таки повеселели от одной близости к этому миллиону.
XVII
Через час все гости уже сидели в огромной зале за большим столом и пировали. Государь был веселей всех. Принц Жорж был не менее весел, потому что, садясь за стол, государь хлопнул его по плечу и сказал:
– Ну, mein Onkel[40]. Так и быть! Я вам пятьдесят тысяч из этих денег подарю. Это будет как раз ваше жалованье за два года вперед.
Когда разлили первую бутылку шипучего венгерского, государь провозгласил тост в честь хозяина. Все шумно поднялись, и громкие крики «виват», вошедшие в моду при новом царствовании, огласили палаты.
Государь снова обнял Разумовского, поблагодарил его за подарок и, обращаясь к сидевшим около него двум посланникам, австрийскому Мерсию и датскому Гакстгаузену, вымолвил по-немецки:
– А что, господа резиденты, случалось ли подобное в анналах ваших стран, чтобы подданный дарил своему монарху такую сумму? У вас, – прибавил государь, смеясь и обращаясь к Гакстгаузену, – оно и быть не могло. У вас самый богатый вельможа имеет пять крейцеров в день на все свое пропитание. А вот у вас, господин Мерсий? Хотя бы за все царствование Марии-Терезии могло ли бы случиться когда-либо нечто подобное?
– Не помню, ваше величество. Но ее цезарское величество императрица никогда не нуждалась в чужих деньгах, – ответил Мерсий.
Под шум и ликование гостей намек резидента прошел незаметно, да и государь не расслышал хорошенько слов посланника, а, обратившись ко всем гостям, вымолвил:
– Сделайте удовольствие хозяину и мне! Напейтесь сегодня все как можно пьяней.
Это приказание государя было принято всеми с удовольствием, и его начали быстро приводить в исполнение.
Не прошло часа, как гул, крики и хохот раздавались на весь дом, слышны были даже на улице. Принц Жорж подливал редко, полицмейстер Корф еще реже, но когда эти два человека бывали во хмелю, то приходили в неописанный азарт.
Принц, хотя и тщедушный, теперь визжал так громко, что покрывал гул всех голосов. Он доказывал что-то через стол Гольцу, единственному вполне трезвому за столом, но не только Гольц не мог понять, о чем говорит Жорж, но принц и сам уже не сознавал.
Но вдруг гул голосов притих сразу, ибо раздался голос государя, уже не веселый, а гневный. Он сидел за столом, полуоборотом обращаясь к Гакстгаузену, лицо его было красно, глаза блестели. Он швырнул салфетку на стол и говорил громко при наступившей полной тишине:
– А я вам говорю, господин резидент, что я более этого терпеть не хочу. Я двадцать лет дожидался, за все царствование тетушки! И теперь на моей улице праздник. Шлезвиг должен быть моим! И будет моим! Я один в неделю справился бы с Данией, а что же будет, судите сами, когда король Фридрих обещал уже мне свою помощь. В два дня мы разнесем ваше капельное государство, так что от него следа не останется.
Гакстгаузен сидел смущенный, выпуча глаза, и не знал, как понять слова государя – как вспышку гнева, угрозу, о которой он завтра же забудет, или как правду, о которой тот случайно, против воли, проговорился.
– Да вы, кажется, не верите! – воскликнул государь. – Барон, – обратился он к Гольцу, – скажите ему, что это тайный пункт в нашем трактате с королем. Он мне не верит, скажите ему, что я не лгу.
Гольц, смущенный столько же, сколько и Гакстгаузен, не знал, что сказать, язык не повиновался ему. Важнейший тайный пункт договора сделался внезапно достоянием всех! Гольц по привычке обратился через стол к принцу, как бы призывая его к себе на помощь. Но принц, пунцовый, с разинутым ртом, не от удивления, а от хмеля, бессмысленно кивал головой, как китайская кукла. Если бы даже час целый прошел, то и тогда Гольц не нашелся бы что ответить. По счастью, государь, не дождавшись его ответа, снова заговорил:
– Да, наконец, все распоряжения сделаны. Гонец мой послан уже к Румянцеву неделю назад, приказать, чтобы он считал войну уже объявленной. Об этом можете узнать от Волкова и вот у Гудовича. А я с войском, команду над которым поручаю гетману, выступаю через месяц.
– Ваше величество, – вымолвил, наконец, Гакстгаузен, – прикажете считать мне ваши слова формальным объявлением войны? Прикажете мне дать знать это моему королю?
– Как? Что?! – визгливо вскрикнул Петр Федорович. – Да я вам целый час толкую. Это, наконец, удивительно! – И государь начал в такт своим словам стучать пальцем по столу. – Я вам – целый час – толкую, что двадцать лет – дожидался – взять у вас Шлезвиг! И вот теперь его возьму. Да что об этом толковать! Кончили мы, что ли? – обернулся он к Разумовскому и под влиянием гнева поднялся, не дожидаясь ответа.
Разумовский поспешил последовать примеру государя, и все гости встали из-за стола без пирожного.
Шумной толпой двинулись все во внутренние комнаты. Некоторые из гостей, более трезвые, горячо спорили или шептались; большинство, сильно захмелевшее, или не слыхало ничего, или забыло. И снова смех и веселые голоса огласили палаты.
Гакстгаузен немедленно исчез из дома Разумовского. Дипломат был страшно встревожен! Что скажет ему его правительство? Что он, как ребенок, прозевал все. Еще вчера послал он успокоительные депеши, а русский двор уже готов к войне.
Гольц, выйдя из-за стола, прямо подошел к государю, встревоженный не менее Гакстгаузена.
– Ваше величество, зачем вы огласили эту тайну? Наконец, сам я, пользующийся доверием вашего величества, признаюсь, ничего не знал. Я думал, что война с Данией может быть, но… но в отдаленном будущем. Король будет на меня разгневан, а между тем я не виноват.
– Не сердитесь, милый барон, я и сам не хотел сегодня объявлять, да рассердил меня этот старый гриб, я и сказал. Да что за важность, не ныне, так через месяц, не через месяц, так через год, а все равно я эту войну начну. Признаюсь вам, однако, поговорив об этом, мне бы хотелось хоть сейчас выступить. Ведь я в три дня всю Данию завоюю, не только что Шлезвиг.
И государь постепенно, покуда Гольц становился мрачнее, развеселился снова.
– Не нравится вам? – воскликнул вдруг государь, смеясь и трепля по плечу посла. – Мало ли что! Ведь вот вы какие? Я вам отдал даром обратно целое завоеванное тетушкой королевство, а вы не хотите, чтоб я себе взял маленькое герцогство.
Гольц пробормотал что-то в объяснение, но сам почувствовал, что говорить нечего.
Государь двинулся от него к кучке весело хохотавших гостей вокруг окончательно захмелевшего Жоржа. Но Гольц снова догнал государя и спросил:
– Ваше величество, окончательно ли решен этот вопрос и прикажете ли мне, по долгу посла, дать знать немедленно королю?
Лицо государя внезапно омрачилось.
– Я не понимаю вас, барон, – вымолвил он, слегка закинув голову назад. – Что ж я, наконец, император или нет? Мне кажется иногда, что около меня люди самые близкие забывают, что я… император российский. Я вам говорю при всех, что я… – заговорил государь громко, но дикий залп хохота нетрезвых вельмож покрыл голос его настолько, что Гольц не расслышал ничего.
– Ваше величество недавно писали королю, что собираетесь в Москву короноваться, а потом…
– Короноваться! Все глупости – успею сто раз… Это бабьи… Все вздор! – воскликнул государь. – Через месяц я выступаю с войском и со всей гвардией. А королю напишите от меня, что он обязан мне помогать деньгами или войском, как это стоит в нашем трактате.
– Король, – выговорил глухо Гольц, – не ожидал, что война эта будет объявлена вашим величеством так скоро. Это поразит короля, моего монарха. Огорчит его даже! Огорчит!
– А мне какое дело! – вдруг визгливо вскрикнул Петр Федорович. – Да вы, наконец, право, кажется… Оба с вашим королем, вместе…
Но Петр Федорович запнулся, так как крайне резкое слово насчет Фридриха просилось ему на язык, и затем выговорил:
– Что я, адъютант, что ли, вашего короля?! Я повелитель громадного государства, монарх, который если захочет, то может снова возвратить себе все те земли, которые недавно вам… сказать уж по правде, опрометчиво подарил.
Гольц даже побледнел.
– Да-с, опрометчиво! – горячо сказал государь. – Спросите любого вельможу столицы! Спросите первого попавшегося мужика на улице! Всякий вам скажет, что вы и ваш монарх искусно провели меня. Ну-с, – рассмеялся вдруг государь язвительно, – вот теперь и извольте-ка мне помогать бить датчан и брать Шлезвиг. А как только мы это кончим, – уже весело хлопнул государь в ладоши, – так извольте мне помогать против Польши и Саксонии, дядю курляндским герцогом посадить. А как мы и это кончим, извольте опять… Ну, там видно будет… Это уж мой секрет. А я секрета не разболтаю.
И государь быстро двинулся за кучкой гостей, заметив, что все они выходят из гостиной на балкон, а некоторые оттуда уже спустились в сад.
Гольц тотчас же уехал из дома Разумовского и поскакал прямо к Гакстгаузену.
Государь сошел за всеми в сад и, сев на последнюю ступеньку каменной лестницы, позвал к себе хозяина.
– Алексей Григорьевич, иди, голубчик! Садись со мной! Каково я отэспадронил обоих! Знатно! Не ожидали они от меня!
Между тем вельможи, спустившись в сад, по предложению кого-то начали запросто играть в чехарду. Зрелище это было настолько ново и странно, что государь стал невольно хохотать.
Сановники, уже пожилые, в мундирах, покрытые орденами, бегали мимо него, становились по очереди, прыгали, вертелись, хохотали, падали.
Наконец пришел черед принца. Жорж, первый раз в жизни игравший в русскую игру, стал на дорожке, растопырив ноги. Кто-то, Корф или Трубецкой, кричал принцу выставить одну ногу вперед, но Жорж не слушал и стоял. Трубецкой побежал первый, несмотря на свои восемьдесят лет, оперся руками в спину принца, подскочил через силу… но от старости, а может и от хмеля, застрял верхом на Жорже, неуклюже растопырившем ноги. И оба кубарем покатились в траву. Гулкий хохот раздался кругом них. Государь хохотал более всех. Два молодца, один от удара в грудь и голову при падении, а другой от старости, недвижно лежали на траве, не имея возможности подняться. Их окружили, с трудом подняли на ноги. Через несколько минут все, кроме них, снова играли в горелки. Государь присоединился к прочим, но, будучи моложе всех, бегал проворнее и ловчее и, не будучи ни разу пойман ни одним из них, вдруг рассердился:
– Что ж вы, поддаваться вздумали! Потому что я государь! Разве так играют! Это лакейство! Играйте как следует. Догоняйте! Ты, Корф… Ну-ка…
– Да… Где же мне… ва-ше… ва-а-ше… – забормотал ошалевший от вина и от усталости Корф.
– Вздор! Догонять… Гетман! Ну… За коровами бегать умел, а теперь, вишь…
И в ту же минуту государь запнулся; он заметил что-то сиявшее на дорожке и, быстро сделав несколько шагов, нагнулся и поднял звезду своего любимого голштинского ордена Святой Анны.
– Это кто потерял? – громко воскликнул он, слегка меняясь в лице. – Топтать ногами орден, учрежденный мной в память моей покойной матери! А?! Кто потерял?! Кто потерял?!!
И сразу все хохотавшие и возившиеся шалуны, из которых самому молодому было лет пятьдесят, присмирели, а некоторые со страхом шарили руками по своей груди. Владелец звезды не нашелся. Оказалось тотчас кавалеров семь этого ордена, но у всех звезда была на груди. Оглядев себя, оглядев друг дружку, пересчитавшись, компания заметила, что не все были налицо, не было и самого хозяина дома. При наступившей внезапно тишине все расслышали странные вопли за кустами. Казалось, что это овца блеяла.
Государь, держа звезду в руках, двинулся на это блеяние и увидел Разумовского, который поддерживал Жоржа. А Жорж этими овечьими печальными звуками расставался с теми блюдами, которые покушал за обедом и растревожил в чехарде…
Звезда оказалась его! Но дядя был в таком жалком положении, что государю нельзя было и рассердиться.
– Ну, хорошо, mein Onkel… – воскликнул государь снова весело. – Все-таки накажу. Она бриллиантовая! У кого из вас нет еще Анны?
– У меня нет! У меня! У меня! – раздалось сразу несколько голосов.
– Лови! – вскрикнул государь и бросил звезду вверх.
Кучка сановников шарахнулась с воплями… и ринулась. Один упал, другой насел верхом на третьего, четвертый подмял пятого… И все сразу очутилось, кричало, пылило и елозило на песке, отбивая друг от дружки засорившуюся звезду.
XVIII
Наступил июнь месяц и принес много нового.
Такие два искусных союзника, как барон Гольц и графиня Скабронская, не могли не достигнуть цели, к которой стремились всеми силами разума, хитрости и искусства.
Маргарита была, наконец, на той высоте, о которой когда-то тайно мечтала. Грезы стали действительностью, и главным образом, конечно, благодаря содействию тонкого дипломата. Уже с неделю, как высшие сановники государства перешептывались при встречах, ахали и разводили руками, поминая графиню Скабронскую и графиню Воронцову. Кто радовался, а кто ужасался, опасаясь того, что может произойти из новой Гольцевой стряпни.
Действительно, эта новая стряпня пруссака была не хуже мирного трактата. Если прежде Гольц имел влияние на самые важные вопросы российского государственного строя, то теперь влияние его могло сделаться безграничным при помощи такой союзницы, как Маргарита.
А она была предана ему всей душой, потому что чувствовала, что ей теперь мало одного кокетства, ей нужно многое, чего ей не дало ни воспитание, ни образование и чем богат Гольц. Только с его помощью она может сделаться из простой авантюристки, хотя и русской графини, всесильной личностью в этой стране, куда забросила ее судьба. Маргарита была совершенно счастлива. Голова кружилась у нее от неожиданного поворота в ее судьбе, и только жгучее раскаяние в недавнем роковом шаге мешало полному счастью.
Если у нее был верный союзник, который помогал ей всячески, даже в мелочах, то одновременно с этим было около нее другое существо, способное и готовое погубить ее ежедневно. Это был, конечно, юноша Шепелев. Остатки чувства к нему, которые были в ней еще недавно, хотя слабые, теперь исчезли окончательно. Она относилась к нему так же, как когда-то к больному мужу. Она почти не верила себе, что еще недавно могла увлечься красивым мальчуганом. Прежде она ждала смерти мужа и все мечтала о том, как от него избавится, теперь она уже хладнокровно обдумывала и обсуждала вместе с Гольцем, как избавиться от Шепелева. Перед собой она оправдывалась просто.
«Я, стало быть, никого любить не могу», – думала она.
В Шепелеве первый пыл страсти, конечно, прошел, но у него осталось искреннее глубокое чувство к этой женщине, которая первая познакомила его со всеми восторгами и муками любви. Маргарита реже принимала его, избегала встреч и, очевидно, переменившись к нему, становилась день ото дня все равнодушнее и к его мучениям. Сначала Шепелев безумно, злобно ревновал ее, но затем и это бурное чувство должно было пройти, душа изболелась настолько, что уже не могла по-прежнему чувствовать так же сильно. Буря улеглась в душе его; ее заменила грусть, даже глубокая скорбь. Снова ходил юноша бледный и печальный, как потерянный, не зная, куда деваться со своим горем.
Только беседы с Васильком, ее кроткий голос, ее дивные глаза, которые теперь Шепелев оценил и полюбил, низводили мир и тишину в его наболевшее сердце. Скоро жизнь его распалась будто на два отдельных мира: на мир горя и злобы, где властвовала Маргарита, и на мир тишины и добра, где царила Василек. И Шепелеву случалось теперь после бурной сцены ревности с Маргаритой с наслаждением бежать к новому другу, княжне, и в тишине полудеревенского дома Тюфякиных находить покой и отраду.
Когда-то в детстве, потом уже юношей, перед отъездом на службу, он мечтал о сестре, всегда жалел, что у него нет сестер. Теперь здесь он вдруг как-то нечаянно, неожиданно нашел эту сестру. Ему казалось теперь, что он любит Василька столько же, сколько и Маргариту. Столько же, но и не так же. Однажды нечаянно ему пришел на ум простой вопрос: что, если бы эти обе женщины тонули, которую бы из двух вытащил он на берег первою? Он не мог дать ответа на этот вопрос, и невозможность дать ответ поразила его. Стало быть, он любил обеих равно.
– Да, равно, – решил он наконец, – но не на один лад, и, пожалуй, даже княжну люблю больше! И чувство это хорошее, ничем не испорченное!
Несмотря на видимую холодность Маргариты, Шепелев, как и все влюбленные, всячески, на разные лады старался объяснить ее холодность какими-нибудь пустяками – то капризом, то нездоровьем, то ревностью. Во всяком случае, Шепелев хотя и ревновал ее, но еще твердо верил, что до полной измены далеко. Графиня кокетничает направо и налево даже с самыми высшими лицами в городе, но и только! Покуда она принадлежит ему одному.
Наконец однажды судьба будто нарочно захотела так устроить, что он получил два роковых удара в самое сердце в один день.
Утром на параде государь остался доволен Преображенским полком, подозвал к себе всех офицеров и стал весело и ласково беседовать с ними об экзерциции и об их успехах.
Государь хвастал теперь тем, что старый полководец Миних в себя не может прийти от удивления, как быстро изменилась гвардия.
– Я во всю мою службу, – говорил Миних, – ничего не мог из них сделать, как ни просила меня о том царица Анна Иоанновна, а вы, ваше величество, в пять месяцев поставили гвардию на одну линию с фридриховскими солдатами.
Отчасти Миних льстил, отчасти был прав.
Ежедневные смотры, разводы, парады и разного рода экзерциции подтянули и старого и молодого. Полки смотрели бодрее, и если не веселей, то стройней. Полк перестал казаться случайным сбродом или шайкой одинаково одетых парней.
На этот раз государь, заметя большие успехи офицеров, долго и милостиво разговаривал со всяким из них. Наконец, глянув через Баскакова и Квасова, он увидел Шепелева, узнал в нем сержанта, поздравленного офицером в маскараде, и подозвал его.
Шепелев сделал два шага вперед и очутился впереди.
– Ведь это ты был дежурным у Гольца? – спросил государь.
– Точно так, ваше величество!
– Помню, помню. Как твоя фамилия?
– Шепелев, ваше величество.
– Шепелев. Родня покойного гофмаршала и толстой Мавры Егоровны Шуваловой, тетушкиной приятельницы?
– Точно так, ваше величество.
– Шепелев? – повторил государь. – Скажи на милость. А я ведь думал, ты немец. Я, по правде сказать, оттого на бале тогда… – Но государь запнулся и не договорил. – Ну, русский так русский, твое счастье.
Государь повернулся зачем-то к принцу Жоржу.
Шепелев хотел снова стать на свое место, но вдруг Петр Федорович снова обернулся к нему и выговорил быстро, как если бы слова невольно сорвались у него с языка:
– За что она тебя вдруг невзлюбила? – воскликнул он.
Шепелев, не понимая, молчал.
– Тогда ведь графиня Скабронская за тебя просила на бале, а теперь все просит тебя выслать из Петербурга.
Юноша, стоя на шаг от государя, так побледнел при этих словах, что Петр Федорович даже изумился.
– Да ты не бойся, – рассмеялся он. – Она уже дней десять проходу мне с этим не дает. Но я раз сказал, что не хочу, – и баста, этого не будет. Нельзя все бабьи капризы исполнять. Ныне станет просить произвести в фельдмаршалы кого-нибудь, а завтра станет просить его же в каторгу сослать или повесить. Это невозможно! Есть русская пословица: что у бабы… Ну, не помню!! Мудреная пословица!
– У бабы, ваше величество, – выговорил Квасов, – сто две увертки в день…
– Нет, не та, другая! – рассмеялся государь.
– Бабья вранья на свинье не объедешь, – снова сказал Квасов.
– Верно! А ты много знаешь пословиц! – И государь повернулся снова к принцу…
Принц ухмылялся и, показав пальцем на все еще бледного Шепелева, вымолвил:
– Es ist unser Herr Nicht-micht!..[41]
Шепелев, пораженный слышанным от государя, стоял как истукан и не слыхал слов принца. Зато Квасов слышал и подумал: «Ох, заладила Маланья про свои оладьи!»
По отъезде государя Квасов бросился к племяннику:
– Что же это, порося, за притча? Ведь не зря же болтает он? Вот они, бабы-то, родимый! Ей теперь, стало быть, нужда отвязаться от тебя. Так ты упаси самого себя, брось ее, не перечь, не мешай. Коли просит о высылке, стало быть, ты у нее бельмо на глазу, ну и брось, пущай ее. А то и впрямь добьется высылки. Государь мягкосерд, да и вдобавок: баба – пила, хоть кого перепилит. Ты знаешь ли, самой малюсенькой пилочкой можно столетний дуб свалить наземь.
Долго говорил Аким Акимович, но Шепелев, грустно задумавшись, не слушал дядю.
XIX
В тот же день Шепелев решился на объяснение с самой Маргаритой. Не застав ее дома, он снова вернулся в сумерки, видел сам, как она подъехала, вышла из экипажа, но швейцар снова ему отказал. Наконец, вечером, в ту минуту, когда он подъезжал к дому графини, она случайно опять садилась в маленькую карету и видимо спешила.
Шепелев еще ни разу не видал у нее ни этой кареты, ни этой красивой вороной лошади, ни этого кучера, одетого немецким почтальоном, в зеленой куртке, красном жилете и ботфортах. И будто что-то подсказало Шепелеву не появляться, а тайно ехать за ней. Эта чужая карета возбудила его подозрения.
Он остановил извозчика, дал Маргарите сесть и отъехать и в недалеком расстоянии двинулся за ней. Темная ночь легко могла укрыть его.
По направлению, взятому каретой, Шепелев не мог понять, куда едет Маргарита. Он знал теперь всех ее знакомых, их дома и знал, что в этой части города у графини знакомых нет. Проехав большую Дворцовую площадь, затем миновав небольшой дворец, где жил принц Жорж, карета выехала на набережную к тому месту, где когда-то они вместе любовались фейерверком. Проехав берегом мимо нескольких домов, карета остановилась. Шепелев нагнал ее. Маргарита не выходила.
Наконец в окнах дома мелькнул свет, дверь крыльца отворилась, и к карете вышел офицер.
В ту минуту, когда он высаживал графиню из экипажа, Шепелев соскочил с дрожек и внезапно очутился тоже около Маргариты. И она и офицер невольно вскрикнули от неожиданности.
– А, так вот что! Вот где ты теперь бываешь! – воскликнул Шепелев.
– Безумный мальчишка! – выговорил Фленсбург. – Знаешь ли ты, что делаешь? Знаешь ли ты, кто…
Но Маргарита схватила Фленсбурга за руку, и он смолк.
– Мне дела нет! Я не позволю! – почти теряя рассудок, крикнул Шепелев.
Неизвестно, что произошло бы здесь, но Маргарита схватила юношу за обе руки и стала из всех сил толкать его в свою карету.
– Садись! Я с тобой. Садись скорей! Я тоже, понимаешь? Я с тобой, – заговорила она тихо, будто совершенно потерявшись.
И в голосе ее звучала и боязнь, и полная покорность, готовность на все, что бы в эту минуту ни приказал он.
Не помня себя, почти не зная, что он делает, Шепелев вскочил в эту маленькую карету. Маргарита прыгнула за ним и велела кучеру скорей отъезжать от дома.
Карета быстро повернула и помчалась назад вдоль по набережной.
Фленсбург остался среди тьмы перед крыльцом в положении истукана, изображавшего полное изумление. Дорогой Шепелев то осыпал Маргариту упреками, то угрожал ей, то молил, то клялся, что убьет ее, то, покрывая ее руки поцелуями и слезами, просил не губить его, просил даже уехать, бежать из Петербурга к нему в вотчину, к его матери, чтобы обвенчаться с ним. Маргарита сидела недвижима, тоже как статуя. Руки ее были холодны как лед, и только изредка она нервно, судорожно сжимала их, так что ее маленькие пальчики хрустели от непроизвольных движений. Если б было не совершенно темно, то Шепелев мог бы увидеть ее бледное лицо, сверкающий взгляд и даже отчасти посиневшие губы, по временам вздрагивающие и бормочущие что-то на ее родном языке.
Когда Шепелев стал усиленно требовать от нее хотя одного слова объяснения, она порывисто ответила:
– Молчи! Дома все скажу.
И в этот вечер в той же красивой гостиной с куполом, где когда-то бывали они так счастливы и где еще недавно лежал на столе покойник, а с юношей произошел невероятный и глупый случай, в этой же самой комнате теперь произошла еще более невероятная сцена.
Сначала Маргарита, запершись с офицером на ключ, призналась ему искренне во всем. Шепелев ревновал ее к Фленсбургу; она объяснила ему всю ничтожную роль самого Фленсбурга в том, чему внезапно помешал Шепелев. Она думала полным признанием обезоружить юношу и, к ужасу своему, увидала, что ошиблась, что дала ему еще более сильное оружие в руки! Своей откровенной исповедью она совсем себя погубила! Чувство юноши было настолько велико, что он не мог идти ни на какие уступки и сделки со своею совестью. Все было на свете мало, мизерно и ничтожно для него сравнительно с тем чувством, которое поглощало все его юное существо.
– Из-за тебя, – воскликнул он безумно, – я на самого Сатану не побоюсь броситься.
Маргарита знала его давно, а вполне узнала только теперь. Она думала найти в нем такую испорченную натуру, как и все ее окружающие. Она думала задеть его честолюбие или корыстолюбие – оказалось, что у юноши есть только одно – любовь к ней! И вот это одно он ни за что, никому, никогда не отдаст!
«Сама, сама себя погубила!» – думала Маргарита, сидя теперь перед Шепелевым с опущенной на руки головой и стараясь придумать какой-нибудь исход из того положения, в которое она себя бессмысленной исповедью поставила.
Но от всего перечувствованного за этот вечер, от усилий нравственных, которые она делала над собой, голова ее будто устала, разум будто отуманился. Она ничего и придумать не могла.
– Что делать? Что делать? – без конца повторяла она мысленно и, наконец, невольно выговорила слова эти вслух, с полным отчаянием в голосе.
– Одно делать! – воскликнул Шепелев, опускаясь перед ней на колени. – Брось это все и люби меня! Меня! Слышишь ли, одного меня! Уехать отсюда! Стоит ли губить меня да и себя из-за двух недель или месяца прихоти? Ведь это прихоть его! Ты сотая или тысячная женщина у него. Через месяц он забудет даже твое имя, а наша любовь погибнет, будет опозорена.
Маргарита долго молчала, не отнимая головы от рук. Наконец она вдруг подняла голову, лицо ее было снова бледно как полотно, а глаза страшно, каким-то диким огнем засверкали на юношу. И вдруг Маргарита расхохоталась сухим, металлически звенящим, отвратительным смехом.
У Шепелева даже сердце замерло. Он никогда в жизни не слыхал подобного смеха.
Маргарита потрясла головой, оглянулась на комнату и на него, стоящего перед ней на коленях, и снова так же сверкали глаза ее, и снова тем же ужасным смехом рассмеялась она.
– Что с тобой? – невольно, почти рыдая, выговорил Шепелев.
– Ничего. Я решилась! – странно улыбаясь, выговорила Маргарита.
Голос ее звучал дико, казалось, что это говорит существо не разумное, не понимающее собственных своих слов.
– Да, я решилась. Решилась! Решилась!
– На что? – вымолвил он.
– На окончание. Понимаешь, надо кончить это.
– Ты согласна уехать?
– Да, да, согласна на все. Дай мне сроку три дня. Через три дня все будет сделано так, как ты пожелаешь.
– Правда ли это? – воскликнул Шепелев.
– Клянусь всем, чем хочешь. Три дня, слышишь ли ты? Три дня. И ты даже не придешь сюда, даже не напишешь ничего, ничего не спросишь. В три дня я все сделаю и на третий день сама пошлю за тобой или приеду. Ну, теперь поздно, ступай к себе!
Шепелев поднялся недоумевая и пристально смотрел ей в лицо.
– Мне нездоровится, – вымолвила Маргарита. – Все это слишком сильно потрясло меня; сейчас я лягу. Я чувствую себя дурно, прощай! Уходи!
И Шепелев через несколько минут был уже на улице, задумчивый и грустный. Что-то говорило ему, а быть может, само лицо Маргариты, ее злые глаза, ее смех ужасный, действительно отвратительный, что она решилась на зло, а не на добро.
«Но что же? Что же она сделает?» – вопрошал сам себя Шепелев, тихо двигаясь среди темной и пустынной улицы.
XX
Маргарита, оставшись одна, просидела несколько мгновений неподвижно в кресле, потом снова странно мотнула головой и начала быстро ходить по гостиной из угла в угол, как будто бы ей было душно и тесно в этой горнице.
Она была вне себя от гнева. Ей все чудилось, что совершившееся в этот вечер было сном, и самым ужасным ироническим сном. Действительно, судьба будто издевалась над ней. До сих пор в жизни все удавалось ей, никогда не случалось ей запутаться, а теперь юноша, которым она непонятно, бессмысленно увлеклась на минуту, запутал ее в какие-то простые, но крепкие сети, из которых она не знала, как выбраться.
В этот вечер почти решалась судьба ее. В этот вечер должно было состояться первое свидание, о котором еще недавно она не смела бы и мечтать. А куда должно было привести это свидание, к каким последствиям, к какому громадному перевороту в ее жизни, трудно было и определить. И все это здание, долго, с трудом, с искусством возводимое, рухнуло от простого толчка взбалмошного мальчишки. Можно ли еще вернуть потерянное? Поправима ли нынешняя беда?
В этом доме она должна была встретиться с государем, который за последнее время явно и сильно ухаживал за ней. Все говорили, что он серьезно увлекся красивой иноземкой, серьезно неравнодушен к ней. Все знали, что государь был влюбчив, за последние десять лет не было ни одной женщины при дворе и в обществе, за которой он не ухаживал бы хотя месяц. Но все тоже знали, что не было ничего более шаткого, как все эти мимолетные связи и вспышки влюбчивого сердца. Единственная женщина в Петербурге, чувство к которой было крепче других и продолжалось около трех лет, была графиня Воронцова, самая некрасивая и самая глупая женщина придворного круга. Но здесь была уже простая дружба, и эти дружеские отношения не мешали государю продолжать поочередно быть занятым и иногда поглощенным на время разными красавицами.
Гольц и Маргарита знали это, но они знали еще и другое. Гольц знал, что ни у одной из этих женщин, мимолетно любимых государем, не было верного союзника, такого, как он. Маргарита знала, что из прежних красавиц петербургских, нравившихся государю, не было ни одной такой хитрой, как она. Когда-то она не была уверена, что государь обратит на нее внимание, хотя большое общество уже преклонялось перед ее красотой и умом. Но она была уверена вполне, что государь, раз обратив на нее внимание, надолго, если не навсегда, останется под ее влиянием, полным и исключительным.
«Заставить его первый шаг сделать, вот что мудрено!.. – думала иногда она. – А второй, десятый, сотый… будет для меня шуткой и забавой».
За последнее время ей нужен был второстепенный помощник, нужен был не вполне опрятный душою человек, ловкий, честолюбивый и скрытный. Тот же Гольц указал графине на Фленсбурга, и Маргарита сразу согласилась, что именно таков шлезвигский уроженец. Мировая с Фленсбургом совершилась быстро. Фленсбург и Маргарита примирились искренне, поняли друг друга на полуслове и поклялись действовать искренне и дружно.
Фленсбург, собиравшийся было действовать против Гольца и графини и выдвинуться доносом и захватом орловского кружка, с радостью вступил в союз со своими врагами, когда этот союз подвигал его еще более на пути честолюбия. Благодаря ходатайству Гольца Фленсбург тотчас же бросил свое ничего не значащее теперь место адъютанта у принца и поступил в канцелярию Гудовича. Там нашлись у него средства еще деятельнее следить за орловским кружком, но все, что он предпринимал с этой целью, не знал даже сам начальник канцелярии Гудович. Этот труд Фленсбург брал на себя, наслаждаясь мыслью, что вскоре и весь успех возьмет на себя одного.
Фленсбург нанял квартиру на набережной, невдалеке от дворца принца, где когда-то жил.
Государь уже чаще шутливо и милостиво заговаривал с Фленсбургом при встречах. Роль помощника Маргариты, которая выпала теперь на его долю, не только не казалась ему унизительной, но даже льстила его самолюбию. Эта роль была прежде всего выгодна. Любовь и ревность к красавице Маргарите не могли побороть его честолюбия.
В это же время влюбленный юноша, ничего, конечно, не знавший, но все-таки ревнующий, беспокойный, связывал Маргариту по рукам, и она действительно решилась просить государя о высылке его из Петербурга. Но государь, отчасти добродушный, отчасти прихотливый, с первого же раза воскликнул с удивлением:
– За что? Славный офицер! Бог с ним! Да и зачем, что за каприз? То награждай и повышай, то ссылай, чуть не казни!
И чем чаще настаивала Маргарита, тем более шутил государь и упрямо отказывал. В этих случаях, как всегда бывает у людей слабодушных, у него являлось какое-то подобие характера, то, что называют упрямством. После трех или четырех просьб Маргариты государь уже окончательно решил ни за что не соглашаться на высылку ничем не повинного юноши. Он требовал повода и причин у Маргариты, а она, конечно, не могла сказать правды, а придумать было нечего.
Наконец однажды наступил давно ожидаемый вечер, который долженствовал изменить судьбу графини Скабронской. Фортуна подавала ей руку, чтобы вести за собой. А куда? Как далеко и как высоко? Никто, кроме самой фортуны, знать не мог. Маргарита чувствовала только, что ей нужна рука этой фортуны, чтобы подняться только на первые ступени бесконечно высокой лестницы, а затем она уже не сомневалась достигнуть собственным разумом и искусством до последней ступени, чего бы это ей ни стоило.
И вот именно в этот самый день благодаря неосторожным словам государя на плацу судьба толкнула Шепелева в дом Маргариты, а затем привела его и на подъезд дома Фленсбурга.
И теперь Маргарита, оставшись одна, не могла в себя прийти. Гнев душил ее, и именно этот гнев заставил ее смеяться тем смехом, звенящим, металлическим, бесчувственным, который показался юноше так отвратителен. В то мгновение, когда Маргарита хохотала так, она решила в сердце отделаться от этого юноши, уничтожить его как помеху, уничтожить каким бы то ни было образом, хотя бы самым бесчеловечным. Честолюбие и в ней тоже заглушило все, что было в душе доброго и хорошего. Казалось, что честолюбие это есть главный фибр ее существа. И едва только обстоятельства коснулись этой слабой струны, все лучшие и добрые стороны души замолкли. Когда-то она говорила Лотхен, что никогда никого не любила и не полюбит, что она сама – ее первая и последняя любовь. Теперь она чувствовала это более, чем когда-либо.
План, как действовать, мгновенно зародился и созрел в голове ее в те самые минуты, когда Шепелев стоял перед ней на коленях, покрывая руки ее поцелуями и слезами.
Теперь она окончательно решилась на исполнение этого плана. Несколько раз собиралась Маргарита позвать Лотхен и лечь в постель, но каждый раз ей снова и снова вспоминалось, как юноша заставил ее из боязни пагубной развязки обратно броситься в карету, уехать, увозя и его. И каждый раз бурное чувство злобы будто приливом душило ее, и ей было не до сна.
Часа через два после ухода Шепелева она несколько успокоилась и наконец вымолвила вслух:
– И отлично! Отлично! Дело поправить можно, и по крайней мере теперь благодаря этой комедии я возненавидела его окончательно. Святая Мария! Как я ненавижу тебя! – воскликнула она, стоя среди комнаты и будто обращаясь мысленно к Шепелеву. – Да! Отлично! Все к лучшему! Еще утром мне было жаль тебя, теперь же я готова собственными руками…
Маргарита подняла руки над головой, и в ее жесте сказалась злоба тигрицы. В ту минуту казалось, что ее маленькие красивые руки способны в самом деле растерзать человека.
Наконец она позвала Лотхен, но, несмотря на все расспросы немки, ничего ей не объяснила, сказала, что у нее болит голова, и только велела на другой день пораньше разбудить себя.
XXI
Наутро Фленсбург, проведший самый неприятный вечер, какой когда-либо удалось ему провести в жизни, получил от графини записку быть у нее немедленно. Она вышла к нему в черном атласном платье и черном вуале, которые надевала крайне редко. Ей захотелось надеть траур!..
Вести, привезенные Фленсбургом, не оказались дурными, и в тот же вечер Маргарита могла, если того пожелает, быть снова у него.
– Но что ж нам делать с этим сумасшедшим теперь? – спросил Фленсбург.
Маргарита рассмеялась сухим смехом, уже легким отголоском вчерашнего. Та же нота бездушной жестокости звучала в этом смехе, но только слабей.
– Вы смеетесь, а я у вас серьезно спрашиваю. Надо кончить. Что ж нам с ним делать?
– Все! – отозвалась вдруг Маргарита тихо и резко.
– Что?
– Все, говорю я вам.
– Я вас не понимаю.
– Странно. Вы спрашиваете, что с ним делать. Я отвечаю: все. Поняли?
Фленсбург подумал мгновение и выговорил несколько нерешительным голосом:
– Да, то есть не совсем. Я понял так: что бы ни случилось с этим мальчуганом, вы все одобрите?
– Все! – кратко и сухо повторила Маргарита. – Но я сама не могу. А кто пойдет на это «все»?
Фленсбург усмехнулся. Улыбка его говорила:
«Разумеется, ты рассчитываешь на меня. Опять я! И на этот раз я должен даже рисковать собой, а ты только воспользуешься успехом».
– Вот видите ли, – вымолвила Маргарита, – я решилась на все, а помочь мне некому.
Фленсбург пожал плечом:
– Полноте! Зачем мы будем играть. Я понимаю, что вы выбрали меня, иначе вы бы не стали говорить. Ну что ж, я пойду на это «все».
– Но как? Вот вопрос. Что? Каким образом?
– Ну, да нечего играть с вами! – вдруг вымолвил Фленсбург. – Ведь его убить надо?
И он пристально взглянул в лицо Маргариты. Она нетерпеливо дернула плечом и отвернулась.
– Что же? – вымолвил Фленсбург.
– Ах, боже мой! Вам хочется заставить меня произнести то, что вы понимаете. Извольте. Да, его смерть нужна, потому что другого исхода нет. Выслать нельзя. Купить тоже ничем нельзя. Даже оклеветать нельзя…
– И вам будет его не жаль? – уже с любопытством выговорил Фленсбург.
– Как это глупо! – вспыхнула Маргарита.
Наступило мгновенное молчание.
– Странные вы существа – женщины! – задумчиво и добродушно проговорил Фленсбург. – Странные! Вчера решаются на безрассудный поступок, рискуют своим положением, добрым именем, безумствуют как бы от самой сумасшедшей страсти, которая поглотила все существо, способна вести хоть на смерть, а сегодня…
– Да, уж вы бы лучше поступили в проповедники! – прервала его Маргарита, сердито усмехаясь. – Поступайте вот сюда, vis-а-vis[42], в церковь нашу, да по воскресеньям с кафедры и проповедуйте об испорченности нравов и о слабостях дочерей праматери Евы.
– Простите! Это явилось поневоле. Но не в том дело, надо подумать! Решиться мало, надо суметь довести дело до успешного конца. Обещаюсь вам подумать.
– Не забудьте, однако, что я вам даю три дня срока.
– О! Это для меня совершенно достаточно. Так до свидания! Будете ли вы сегодня вечером?
Маргарита рассмеялась и выговорила:
– А как вы думаете?
– Но если он опять явится?
– Нет, уж за это я вам отвечаю. Три дня он по уговору будет ждать терпеливо у себя того, что я ему обещала.
– То есть смерть! – громко выговорил Фленсбург. – Глупо, а все-таки скажу: бедный юноша! Зачем он замешался на вашем пути? Знаете ли, мне его жаль!
– Святая Мария! – раздражительно воскликнула Маргарита. – Вы невозможны. И я боюсь даже, что вы колеблетесь, что вы ничего не сделаете. Даете ли вы мне слово?
– Даю, даю, успокойтесь! Это «все», это прелестное женское «все» будет исполнено прежде трех дней.
Маргарита пристально глядела в лицо Фленсбурга, чтобы убедиться окончательно в серьезности его слов. Лицо шлезвигца было спокойно, решительно и холодно. Он не решался в минуту вспышки, а решался просто, бестрепетно, почти равнодушно.
Маргарита поверила ему и почувствовала, что судьба юноши теперь решена ими двоими, бесповоротно и безжалостно. Она тихо опустила глаза с лица Фленсбурга на пол, а затем незаметно, будто под какой-то тяжестью, тихо опустила и голову.
Фленсбург простился, пожал ее слегка похолодевшую руку и вышел.
Маргарита все стояла на том же месте. Наконец она очнулась как бы от сна, подняла голову, увидала себя в зеркале и вздрогнула. Она испугалась своей собственной черной фигуры с матово-бледным лицом. Тихо сделав несколько шагов, она села на диван, и вдруг слезы показались на ее лице.
– Что же делать? Иначе нельзя, – выговорила она шепотом. – Нельзя! Нельзя иначе!
В соседней горнице раздались шаги, и Маргарита быстро отерла слезы.
Гость оказался не простой, а визит его – многозначащим… Генерал-полицмейстер Корф явился засвидетельствовать графине свое почтение. И больше ничего! А прежде он никогда не бывал у красавицы иноземки.
Фленсбург между тем спокойно вернулся домой и не успел еще доехать к себе, как уже решил, что делать. Еще когда-то в маскараде, под наплывом ревности, он решился было вызвать на поединок простого сержанта. Но от этой нелепости отговорил его приятель Будберг. Теперь Шепелев был офицером, они были равны, и он мог не унижаясь драться с ним.
Для Фленсбурга, шлезвигского уроженца, покинувшего родину еще юношей, памятны были постоянные и бесконечные поединки студентов разных университетов, о которых так много и так часто слыхал он. Если бы он сам остался в Германии, то, конечно, теперь уже раз двадцать подрался бы. Для него поединок казался вещью самой простой и естественной. Разница была только в том, что там поединок случался из-за разных пустяков и кончался почти всегда легкими ранами, здесь же приходилось драться насмерть, или, верней сказать, здесь приходилось идти наверняка убивать юношу, едва умевшего держать шпагу.
И теперь роли как-то переменились и перепутались, теперь этому же Фленсбургу жаль было прежнего ненавидимого им соперника. Но и он, как Маргарита, кончил рассуждением: что ж делать! Иначе нельзя!
XXII
Ровно через сутки на Преображенском ротном дворе офицеры и даже солдаты толковали о безобразном случае, который все видели на плацу.
Бывший адъютант ненавидимого Жоржа привязался ни с того ни с сего к недавно произведенному офицеру Шепелеву, которого именно за это в полку недолюбливали как выскочку и голштинца. Но поступок Фленсбурга был настолько несправедлив и груб, что все офицеры невольно были на стороне Шепелева.
Фленсбург после развода заспорил с юношей по поводу его неправильно будто бы сшитого нового мундира и назвал его словом «щенок»!
Юноша вспыхнул, бросился к Фленсбургу, но тут же получил удар в лицо, настолько сильный, что опрокинулся навзничь. Вскочив снова на ноги, он снова бросился на оскорбителя и, несмотря на новый удар в грудь, успел сорвать с Фленсбурга орден и два раза ударить его в лицо. Тогда подоспели офицеры и разняли обоих.
– Ну, через час ты обо мне услышишь! – воскликнул Фленсбург. – Дорого тебе это обойдется!
И эти слова были поняты на ротном дворе совершенно иначе. Все офицеры поняли, что Фленсбург нажалуется Жоржу и государю, а Шепелев будет тотчас разжалован и, во всяком случае, выслан из Петербурга.
Но Фленсбург, произнося эти слова, предполагал совершенно иное и даже решился спешить. Он знал отлично, что если дело успеет дойти до государя, то, конечно, Шепелев не окажется виноват, потому что в действительности он и не был виноват. Но огласка, допрос Шепелева могли повести к его нескромным заявлениям, могли запутать все дело и погубить Маргариту.
После нежданного происшествия Шепелев, едва пришедший в себя от случившегося, сидел в квартире дяди, а Квасов громадными шагами метался по своей маленькой горнице вне себя, чуть не натыкаясь на стены. Лицо его было красно, губы ежеминутно тряслись. Но с самой минуты драки и до сих пор он не вымолвил ни единого слова. Раза два или три Шепелев спросил что-то у дяди, но Квасов вскинул на него только помутившимся взглядом и не отвечал ни слова, только закусывал дрожащие губы и продолжал шагать.
Часа через два в квартире Квасова появился Будберг и, хотя знал обоих офицеров в лицо, однако спросил об имени и отчестве каждого. Квасов остановился молча, сложив руки за спиной, и глядел на Будберга теми же мутными глазами. И Шепелеву, назвавшему себя, пришлось отвечать и за дядю.
– Да, это Аким Акимович Квасов.
Будберг в коротких словах объяснил, что оскорбленный Шепелевым его приятель Фленсбург присылает его секундантом для вызова Шепелева.
В первую минуту ни юноша, ни лейб-кампанец не поняли слов голштинца и оба глядели на него почти разинув рты.
Будберг объяснился как бы с двумя детьми, передав им подробно и обстоятельно, в чем дело. Шепелев вдруг радостно вскочил со своего места, будто луч света ярко блеснул для него среди полной тьмы. Действительно, за минуту назад он сидел, не зная, как выйти из своего положения, а здесь ему сразу показали, что делать, и он радостно ухватился за это предложение. Он слыхал о поединках когда-то и не понимал их, считал безумством, грехом, заморской выдумкой, теперь же ухватился за предложение Будберга как утопающий за соломинку.
Квасов также понял, наконец, что надумал немец.
– Да, – протянул Аким Акимович. – Тэк. Тэк!
И это были первые звуки его голоса после двухчасового молчания.
– Так. Теперь понятно! – заговорил он будто сам себе. – Совсем понятно! Это, стало быть, по-законному, по-заморскому. Невзлюбил человека, убил на дороге, из-за угла или хоть при всей честной компании. Виноват! В Сибирь! А это по-законному! Невзлюбил, отдул, сам же обиделся и зову: дай, мол, себя убить. Ай да немцы! У вас всякая мерзость и та так отглажена, что просто золотом блестит. Слыхал я всегда, что вы, немцы…
И Квасов прибавил такое слово, от которого Будберг покраснел невольно до ушей.
– Ну а теперь сам буду знать, что вы… – И Квасов снова повторил то же слово.
– Послушайте, господин Квасов, – заговорил спокойно Будберг. – Я не затем пришел, чтобы слушать от вас оскорбительные выражения. Ругаться нетрудно, и всякий пьяный мужик сумеет это сделать. Я знаю, что нам будет очень мудрено втолковать вам все правила поединков так, как они спокон века совершались и совершаются в Европе. Я знал заранее и говорил Фленсбургу, что, прежде чем вы поймете и согласитесь, надо будет, как говорится, выпить целое море.
– Пей, голубчик, что хочешь! Хоть море, хоть другое что, вот тут у меня, осуши до дна! А вот что я тебе скажу. Поезжайте к Фленсбургу и скажите ему, что дядя с племянником на все согласны. Скажите ему, что нет человека, которого бы я так любил и уважал, как господина Фленсбурга, и, кстати, припомните ему про колбасу, которую я ему в кобуру вложил тому месяца два или три будет.
– Так вы согласны? – прервал его Будберг.
– Согласны, согласны! – в один голос отвечали Квасов и Шепелев.
– Где же и когда мы должны встретиться?
– Где прикажете, – говорил Квасов, заслоняя племянника, как если бы дело шло о нем самом.
– По дороге в Метеловку, самое лучшее. Там глухо всегда.
– Самое настоящее разбойничье место, – отозвался Квасов. – Там и будем друг дружку по-заморскому и законному резать.
– Так завтра в шесть часов утра мы будем там с Фленсбургом.
– И мы будем.
– И я надеюсь, – прибавил Будберг, – что до тех пор никто, кроме нас, об этом знать не будет. Иначе, как вы, вероятно, понимаете, начальство прикажет не допустить поединка, – вразумительно говорил Будберг Квасову.
– Стало быть, вы предполагаете, – отозвался Аким Акимович, – что мы, так сказать, сбегаем сейчас к тетеньке пожаловаться на вас. Не бойтесь, в шесть часов будем там.
Будберг вышел совершенно довольный, не ожидавший такого быстрого успеха. Он полагал, что ему придется часа три поучать русских офицеров и чуть не упрашивать и умасливать идти на поединок, а вместо этого юноша видимо обрадовался предложению, а Квасов тоже если не обрадовался, то со злобой поневоле согласился.
После ухода Будберга дядя и племянник остались глаз на глаз.
Шепелев сел на кровать дяди, понурился и задумался. Квасов стоял перед ним среди горницы, не двигаясь, не шевелясь, как истукан, и наступило мертвое молчание во всей квартире.
Наконец Квасов шагнул к юноше, положил ему руки на плечи. Шепелев пришел в себя, поднял голову.
Лицо Квасова было в слезах. Едва только глаза их встретились, лейб-кампанец вдруг зарыдал, как ребенок, шлепнулся на постель около юноши и, обхватив его сильной рукой, навалился на него, всхлипывая.
– Дядюшка! Дядюшка! – повторял Шепелев. Голос его дрожал и рвался от наплыва различных чувств. И горе, и стыд, и боязнь – все спуталось в нем и будто застлало ясное сознание того, что будет завтра.
XXIII
На другое утро чуть свет извозчичьи большие дрожки тащились шагом по скверной дороге из Петербурга в Метеловку.
Это был десяток изб на крайнем конце Фонтанки, и место это было разбойничьим гнездом. Никакие полицейские меры не могли прекратить разбоев, и шайка, здесь жившая, была, казалось, неуловима.
Шепелев сидел слегка бледный. Красивые глаза его блестели ярче, отчасти лихорадочным блеском, но выражение бледного лица было не тревожно, а бесконечно грустно. Он знал наверное, что едет на смерть.
Он понимал, что оскорбление Фленсбурга было умышленное, чтобы вызвать его, а вызов понадобился ему затем, чтобы убить.
Была ли тут замешана Маргарита, он подозревал, но просто боялся думать об этом.
«Лучше умереть, не зная этой мерзости!» – думалось ему.
Ему будто не хотелось уносить на тот свет с собой не светлый и не чистый облик предмета первой любви своей. Разумеется, Квасов уверял его, да и сердце подсказывало, что Маргарита не чужда всему происшествию, но о том, насколько замешана она в нем, он усиленно старался не думать.
Об исходе поединка он, конечно, сомневаться не мог. Фленсбург, как иностранец, как адъютант принца, ежедневно учившийся у Котцау, владел шпагой если не безукоризненно ловко, то, конечно, гораздо лучше Шепелева, который успел только взять несколько уроков, когда заставал своего дядю усиленно трудившегося и ломавшего себя на все лады, чтобы отомстить публично Котцау.
Квасов, наоборот, сидел бодрый, чуть не веселый, шутил с извозчиком, подшучивал даже над двумя хромоногими клячами, которые их тащили.
Шепелев грустно поглядывал на дядю и недоумевал, каким образом может этот самый Аким Акимович, вчера рыдавший над ним, сегодня относиться так безучастно к его судьбе.
А Квасов был просто бесконечно доволен собой. Еще накануне вечером он обежал чуть не всех офицеров своей роты, съездил к какому-то еще французу в городе и собрал всевозможные сведения о всевозможных дуэлях и поединках.
Вернулся он домой ночью, вполне обученный, узнавший и понявший до тонкостей все многоразличные правила заморских поединков. Вдобавок теперь у Квасова в руках была пара новеньких шпаг одинакового размера. Этим он готовился удивить самих немцев. Квасову объяснили, что если у Фленсбурга шпага будет хоть на вершок длинней шпаги Шепелева, то дело плохо. И Аким Акимович вечером съездил к оружейнику на Невском и купил пару новых шпаг, лихо отточенных и блестящих, как серебро.
Наконец, после часа езды по рытвинам и лужам они достигли поворота, за которым открылись пустыри. Вдали виднелась деревня, а ближе, саженях в восьмидесяти, стояла щегольская коляска и около нее два офицера.
Противники и секунданты раскланялись.
Шепелев при виде врага как бы встрепенулся. Лицо его оживилось, но стало еще бледнее.
– Против этого ничего не имеете? – вымолвил Квасов насмешливо, достав и показывая шпаги.
– Ничего… Все равно! – отозвался Фленсбург, косо глядя на оружие.
– Отпустите извозчика, – заметил Будберг, обращаясь к Квасову. – Нельзя же при нем. Он перепугается, начнет кричать, пожалуй, прибежит народ из деревни.
Квасов приказал извозчику вернуться назад, стать за углом и дожидаться.
Извозчик, будто подозревая что-то, охотно погнал своих кляч обратно и вскоре скрылся за поворотом.
– Ну-с, – вымолвил Квасов, – мы, помощники, станем тоже каждый около своего, на всякий случай!
– Конечно, конечно, – холодно выговорил Фленсбург, но вдруг пристально взглянул в лицо Квасова странным взглядом, как будто удивился этим словам, которых он не ожидал от лейб-кампанца.
Фленсбург знал, что Квасов за последнее время удивительно обучился фехтованию и что если бы ему пришлось драться с лейб-кампанцем, то, пожалуй бы, дело окончилось скверно. Будберг отлично помнил, как Квасов на смотру у государя в одну минуту вышиб у него шпагу из рук.
Выбрав удобное место, противники сняли сюртуки и камзолы и получили от Квасова по шпаге. Фленсбург оглядел свою, блестящую и славно отточенную, и ухмыльнулся. Шепелев перекрестился три раза на сиявший где-то вдали золотой крест церковный. Противники стали друг против друга и скрестили шпаги.
Лицо Шепелева покрылось ярким, но неестественным румянцем, а губы сжались в судорожную и горькую улыбку. Лицо его будто говорило:
«Я знаю и понимаю всю эту подстроенную западню. Ну и пускай! Убивайте!..»
Прошло несколько мгновений, и ни один из противников не тронул другого.
Шепелев напрягал все силы разума, всю силу руки. Ему самому казалось, что он будто бы ввиду опасности гораздо ловчее, искуснее держит шпагу.
Фленсбург, со своей стороны, будто наоборот, зная, что все в его руках, что когда захочет он, тогда и нанесет смертельный удар, выжидал и не спешил. Но, кроме этого, было и нечто неожиданное!.. Странно изменившееся лицо лейб-кампанца, стоявшего за его противником, тоже с обнаженной шпагой, мешало ему действовать, смущало его. Это лицо стало совершенно другим. Черты лица Квасова страшно изменились в одно мгновение, и он не смотрел на Будберга, стоявшего тоже с обнаженной шпагой. Едва только шпаги засверкали на солнце, как Квасов с помутившимися от злобы глазами, похожий на какого-то голодного волка, водил ими за всеми движениями не Будберга, а его, Фленсбурга, и следил за кончиком его шпаги в позе, которая говорила, что каждое мгновение он готов ринуться, даже вопреки правилам, на помощь племяннику. Эта фигура Квасова, и это лицо с судорожно изменившимися чертами, и эти злобой налитые глаза, упорно впивавшиеся в Фленсбурга, мешали ему, и он чувствовал, что нечто очень похожее на робость начинает вкрадываться в его сердце. Сжав зубы, он крикнул что-то по-немецки Будбергу. Квасов был до такой степени начеку, что даже вздрогнул от непонятного немецкого слова. Шепелев тоже не понял. В его положении, полусознательном, было не до того. Он заметил только, что секундант противника более приблизился, более надвинулся вперед и не спускает уже глаз с Квасова. Если бы Шепелев в эту минуту более владел собой, то он увидел бы, что не только Фленсбург смущен, но и Будберг бледнеет все более и более и, надвигаясь вперед позади приятеля, держит шпагу в слегка дрожащей руке.
Наконец шпага Фленсбурга зазвенела, как-то свистнула, блеснула сбоку. Шепелев вскрикнул, отступил, и кровь фонтаном брызнула у него из плеча… Но Фленсбург налезал… И Шепелев, не видя уже ничего перед собой, ожидал другой, и последний, удар!! И в тот же миг какое-то страшное, адское ощущение холода в груди заставило его дико вскрикнуть и опрокинуться навзничь… Фленсбург новым ударом поразил его недалеко от первой раны, но уже в грудь.
В то мгновение, когда Шепелев упал, Фленсбург бросился на него с опущенной шпагой, чтобы поразить еще раз уже лежачего на земле. Шпага его, верно направленная в сердце, вдруг уперлась в образа на груди юноши, согнулась, скользнула, царапнула грудь и вонзилась в землю около головы.
Но в это мгновение кто-то заревел:
– Мерзавец! Лежачего!
И Фленсбург увидел перед собою другую шпагу, а за ней не человека, а разъяренное животное с глазами, налитыми кровью. Ему надо было защищаться! Этот зверь налезал на него, грозя пронзить ежеминутно.
– Будберг! Будберг! – вскрикнул он отчаянно, поняв сразу, что может произойти.
Будберг бросился мгновенно на Квасова с поднятой шпагой и что-то кричал ему.
Квасов ловко отскочил влево, но в то же время со стороны снова напал на одного Фленсбурга, и снова тотчас явились перед ним обе шпаги. Но в одно мгновение одна из них зазвенела и полетела под ноги Фленсбурга. Обезоруженный Будберг ахнул… Он не мог даже поднять своей шпаги, так как отчаянно защищающийся приятель наступил на нее ногой.
– Я устал! Это нечестно! Нельзя! – кричал Фленсбург, парируя быстрые и сильные удары противника.
Но лейб-кампанец давно лишился, казалось, всех чувств и жил только глазами и только рукой. Шпаги так взвизгивали, сверкая на солнце, что у потерявшегося Будберга при виде их рябило в глазах.
Но вдруг раздался дикий и ужасный вопль. Шпага Квасова была в груди Фленсбурга и вышла насквозь за спиной. Мгновенно он вырвал ее и, казалось, собирался снова вонзить. Но Фленсбург, обливаясь потоками крови, тяжело и грузно грянулся о землю. Ужасные стоны его огласили пустырь.
Квасов вдруг онемел, застыл на месте, не спуская глаз с упавшего противника, рука его, державшая шпагу, с которой текла кровь, дрожала… Он тяжело дышал и прошептал:
– Царица Небесная! Прости и помилуй!
Будберг бросился к товарищу, стал подымать его, повторяя отчаянно какие-то немецкие слова. Но Фленсбург отвечал только страшными стонами.
В нескольких шагах от него пришедший в себя Шепелев приподнялся и сидел на земле. И, кроме полного изумления, ничего не было на лице его. Наконец он будто понял вдруг все совершившееся, поднял руку, чтобы перекреститься, но от боли рука только тронула лоб и упала.
Фленсбург, мотая головой из стороны в сторону, прижимая обе руки к груди, судорожно дергался на земле и стонал. Вдруг он повернул лицо к Будбергу, будто хотел что-то выговорить, но кровь хлынула горлом… Он задохнулся, захрипел и, как-то потянувшись, замер недвижно… Будберг подложил ладонь под голову товарища и, стоя около него на коленях, шептал что-то по-немецки, как будто молитву.
Квасов, наконец придя в себя, обернулся к племяннику, увидел его сидящим и перекрестился.
– Ну, вот он, Господь, на небеси! Недаром я поучился фридриховским артикулам. Можешь, порося, встать? Будешь жив? Как сдается?
– Не знаю, – шепнул чуть слышно Шепелев. – Что он?.. – и юноша показал глазами на недвижно протянувшегося на земле Фленсбурга.
– Там ничего, порося, там готово! Царство небесное, коли, по грехам, пустят!
В это мгновение Фленсбурга сильно передернуло всего. Ноги, судорожно протянутые, задрожали… Но это было последнее движение, и на земле замер уже не человек, а труп…
XXIV
Конечно, только и было речи в Петербурге, что о поединке двух офицеров. Вся история рассказывалась на разные лады, с разными подробностями. Несмотря на то что все дело было придумано Маргаритой и дорого поплатившимся Фленсбургом, а поединок состоялся, по-видимому, вследствие ссоры офицеров на плацу, но тем не менее, как часто бывает, истина не укрылась от общественного мнения.
Весь город понял, что вся история произошла из-за Маргариты. Теперь уже все в городе подозревали, в каких отношениях она была к юноше, произведенному ею же в один месяц из солдат в офицеры. Только одного никто не мог знать, какую роль играла сама Маргарита в этом поединке. Все говорили, что Фленсбург из ревности захотел уничтожить счастливого соперника и поплатился сам.
Во всяком случае, огласка, которой боялась Маргарита, вышла полная, и если был человек, который не знал истины, то это был один государь. Даже принц Жорж, искренними словами оплакивавший потерю любимца, знал, что Фленсбург убит счастливым любовником красавицы иноземки. Но принц не решился сказать это государю.
Среди офицеров гвардии более всего, более, чем о Фленсбурге и Шепелеве, говорили, спорили, даже ссорились по поводу Квасова. Мотивом этих споров и ссор было вмешательство лейб-кампанца на дуэли. Ставился вопрос: имел ли он право, на основании обычных правил и законов поединков, выступить действующим лицом и, защищая Шепелева, перейти в наступление и убить его усталого противника? Этот вопрос решить было мудрено. Одни говорили, что Квасов мог защищать Шепелева, но не убивать Фленсбурга. Другие отвечали, что если шлезвигский уроженец решился на такую низость, чтобы лежачего дорезать, то Квасов имел право защищать его, а при упорстве противника и самозащите случайно убить его.
Будберг, единственный очевидец всего, поневоле должен был искажать все факты и лгать, так как его роль оказалась на поединке самая позорно плачевная. Если Квасов так яростно напал на Фленсбурга благодаря своим внезапным, невероятным успехам в фехтовании, то что ж делал Будберг, зачем не защитил, как умел, товарища? Вдвоем они, конечно, обезоружили бы, если б не убили Квасова. Будберг мог только извиниться одним, что Квасов тотчас же вышиб у него шпагу из рук, а Фленсбург в эти несколько секунд борьбы наступил на нее ногами. Но шпага Шепелева была недалеко и свободна! Да! Но хорошо потом рассуждать!.. Тогда он потерялся.
Около полудня Квасов на своем извозчике доставил племянника на его квартиру, но без чувств. Раны Шепелева оказались неопасными, но при переезде от Метеловки до центра города он потерял слишком много крови. Когда он двинулся в путь с места поединка, то был в полном сознании, спокойно говорил с дядей, благодарил его и все повторял:
– Вот милость-то Божья! Ведь все это почти чудо!
– Молодец Аким Квасов! Кабы мог, расцеловал! – шутливо отзывался сияющий довольством лейб-кампанец.
Но затем, так как кровь лила ручьем, то на полдороге юноша лишился сознания и пришел в себя только в постели.
Одновременно Будберг привез в город труп своего приятеля. Когда он ехал в коляске по улицам Петербурга, то многие офицеры, встречавшие экипаж, узнавали безжизненно лежащего Фленсбурга, который хорошо был известен гвардии. Все были так поражены новостью, что весть о смерти ненавистного адъютанта Жоржа как молния обежала столицу.
Едва Будберг успел доставить тело на квартиру, как уже весь лагерь голштинцев и принц Жорж прежде всех были уже вокруг убитого. Будберг тут же в первый раз, но в совершенно искаженном виде передал подробности поединка.
Так как государь уехал накануне в Ораниенбаум, то Жорж тотчас своею властью приказал арестовать Квасова и Шепелева.
Не успел Аким Акимович позвать доктора, не успели фельдшера сделать Шепелеву первых перевязок, как явились офицер и два кирасира с приказанием принца. Но доктор, вызванный Квасовым, известный в Петербурге Вурм, объявил, что он не позволит трогать раненого офицера, покуда не получит письменного приказа от принца.
Так как Вурм лечил у принца, то поэтому решил тотчас же ехать и объяснить Жоржу, что арестовать офицера и перевозить опять – значит убить его.
Квасов повиновался кирасирам беспрекословно, не смутился и только с ужасом воскликнул, увозимый с квартиры племянника:
– Кто ж за ним ходить будет? Ведь у него во всем городе ни души родной нет. Не Маргаритка же эта треклятая придет ходить за больным.
Действительно, когда Квасов был сдан на свой же ротный двор и посажен в ту горницу, где сидели когда-то братья Орловы, то Шепелев остался один с глуповатым денщиком.
Между тем Маргарита на рассвете этого дня вдруг проснулась как от толчка. Она сразу поднялась, села на постели и, взглянув в окно, подумала:
«Да, теперь… Теперь они едут на место, а быть может, теперь его уже нет на свете!»
И красавица опустила голову и просидела так, неподвижно, сама не замечая, около двух часов времени. Ей теперь было искренне жаль этого юношу, которого, в сущности, она же завлекла в свои сети.
Лотхен, которая со дня смерти графа спала на диване в той же комнате около барыни, проснулась, увидала Маргариту, сидящую с опущенной головой, и тотчас же поднялась. Она уже знала, что совершается в это утро, и понимала, что заставляет графиню сидеть неподвижно и задумчиво с опущенной головой. Лотхен встала, подошла к Маргарите, сказала ей что-то, привела ее в себя.
Маргарита вздохнула и выговорила:
– Да, все-таки грех! Бедный мальчик, недолго он прожил на свете.
– Ложитесь-ка лучше опять спать, покуда не приедет Фленсбург! – уговаривала Лотхен. – Во сне ни горя, ни заботы.
– Нет, нет! – вдруг воскликнула Маргарита. – Напротив. Надо вставать, надо одеваться!
И действительно, Маргарита быстро оделась и села к окну. Лотхен подала ей кофе. Маргарита не притронулась ни к чему и не отрываясь глядела на улицу, где понемногу увеличивалось дневное движение. В каждом мундире, который показывался вдали, на Невском, ей чудился Фленсбург с известием о том, что она уже знала, решила на уме, и только ожидала подтверждения.
Наконец ей вдруг пришла мысль, и она передала ее Лотхен. Горничная немедленно распорядилась.
Был послан лакей к квартире Шепелева стоять как бы на часах и прийти с известием, если случится что-нибудь особенное.
Около полудня, когда Фленсбург все не ехал, Маргарита увидала собственного лакея, бегущего по панели. Она не выдержала, бросилась через все комнаты и, не найдя людей, сама отперла дверь на подъезде. Она не вымолвила ни слова, но лакей по лицу ее понял вопрос.
– Привезли мертвого, сударыня! – воскликнул он.
Маргарита не сказала ни слова, повернулась и тихо пошла в свою спальню. Она села в то же кресло у окна, долго сидела не двигаясь, наконец слезы показались у нее на глазах. И долго тихо плакала она.
Через час незнакомый ей офицер голштинского войска вдруг явился у ее подъезда верхом, передал лошадь и велел о себе доложить. Маргарита вышла, удивляясь, и офицер передал ей от имени Будберга судьбу шлезвигца.
Маргарита всплеснула руками и выговорила только:
– Как! Оба?!
Офицер объяснил графине, что один Фленсбург убит, а что молодой офицер, его противник, ранен, и очень неопасно, так что его приказано арестовать.
Маргарита вскрикнула, в одну секунду бросилась к офицеру и вскинула ему руки на плечи. Еще секунда, и она бы поцеловала его. Опомнившись, она воскликнула:
– Простите! Да правда ли это? Правда ли?
– Наверное, графиня! Я сам видел Будберга и Квасова, – отвечал офицер, удивившийся, что в этом деле Маргарита интересовалась судьбой только преображенца.
Офицер уехал недоумевая. Ему приказывали как можно осторожнее сообщить графине о смерти Фленсбурга… А тут вот что?!
Лотхен, которая стояла все время в горнице и слышала все, вдруг расхохоталась безумным смехом.
– Что скажете! Liebe Gräfin? Какова история! Нет, Фленсбург-то, Фленсбург! – воскликнула Лотхен и снова покатилась от смеха. – Подумайте! Фленсбург-то!
И Лотхен, не имея возможности держаться на ногах от хохота, упала на диван.
Маргарита, с блестящими глазами, с румяным лицом, поневоле тоже начала улыбаться. Действительно, ей казалось, что помимо страшного во всем этом деле есть что-то необыкновенно глупое, если не забавное.
– Фленсбург-то, Фленсбург! – повторяла Лотхен и истерически хохотала до искренних, крупных слез.
Первое движение Маргариты было одеться, чтобы идти прямо на квартиру Шепелева, но Лотхен остановила ее словами:
– Разве вы не помните, ведь офицер сказал вам, что он арестован.
– Я поеду туда, где он арестован.
Долго Лотхен отговаривала барыню не усугублять положения и не делать огласки и, наконец, убедила ее. Маргарита осталась, но с тем условием, что Лотхен сама отправится на Преображенский двор, все узнает, а главное, узнает, в каком положении юноша, как он ранен и что думают доктора.
Лотхен собралась тотчас же, но вместо того чтобы отправиться на ротный двор, отправилась к своим приятелям, людям принца Жоржа, чтобы узнать прежде всего подробности невероятного события, которое приводило ее в такое искренне веселое настроение. Даже дорогой Лотхен мысленно повторила раза два имя Фленсбурга и не могла удержаться от смеха.
XXV
В это роковое утро княжна Василек, проснувшись, по обыкновению, очень рано, оделась, потом, по обыкновению, помолилась и пошла в горницу больной тетки.
Гарина не только не поправлялась, но положение ее было еще хуже. Она была жива наполовину; мозг был отчасти парализован, и больная смотрела бессмысленными глазами на все, произносила какие-то дикие гортанные звуки вместо слов или же спала большую часть дня и ночи с сильным, неестественным храпом, который томительно действовал на Василька. Присутствие ее у постели больной не приносило никакой пользы, а этот сон тетки или бессмысленный взгляд ее действовали так на княжну, что она не могла долго выносить ни того ни другого и принималась плакать. Поэтому Василек стала сажать по очереди около постели больной старших горничных, любивших барыню, а сама сидела у себя. Ее вызывали каждый раз при малейшем движении больной.
На этот раз Василек, постояв около постели и видя, что Пелагея Михайловна крепко спит, вернулась снова к себе.
Каждый раз, что она оставалась теперь одна, на нее всегда нападала тоска. На выздоровление тетки надежды не было. Сестра была бог весть где, и Василек понимала, что Настя никогда не вернется из своей добровольной ссылки. Единственно, что она считала долгом сделать, это переслать сестре ее часть состояния немедленно после выздоровления или смерти тетки. Может быть, тогда она выкупит Глеба! Василек не знала, но только смутно и боязливо чуяла, что заставило сестру пойти за князем и чем убила она тетку.
Единственной отрадой Василька была мысль о Шепелеве. После ее внезапного и странного полупризнания прошло много времени, она привыкла к мысли, что высказалась, что он догадался и знает все. И в лице его, в глазах она читала теперь такое доброе чувство к ней, что если это и не была любовь, то для нее, для ее счастья и этого было довольно. На этот раз, вернувшись в свою комнату, Василек села, не зная, что делать. Но вдруг, без всякой причины, она почувствовала такую тоску, так щемило сердце, так ныла душа ее, что суеверная Василек вдруг заволновалась, вдруг перекрестилась, вдруг заговорила, успокаивая самое себя:
– Что ж это? С чего это я? Помилуй бог! Точно будто еще какая новая беда. И с ним! С ним!
И совершенно невольно, бессознательно Василек очутилась у своего киота и снова помолилась.
Побывав еще раза два или три у тетки, которая проснулась, бессмысленно поглядела на нее и снова заснула, Василек под влиянием все того же тревожного чувства вышла и стала гулять по двору. Наконец, уже в изнеможении, она села на скамейку около палисадника и не понимала, почему такая усталость сказывается в ней. Она не заметила, что часа четыре пробродила по двору.
В эту минуту раздался среди тишины, окружающей всегда их дом, резкий, отчетливо звонкий топот скачущей лошади, и в ворота галопом въехал преображенский офицер.
Василек затрепетала вся, тихо вскрикнула, и во всем ее существе будто раздалось кем-то громко сказанное слово: «Вот!»
Да, она была убеждена, она знала вперед, что и о ком скажет этот незнакомый вестник. Замирая, она двинулась ему навстречу и выговорила: «Ну?!» – так, как если бы ожидала его давно и знала, что он привезет страшную весть.
В двух словах офицер объяснил княжне все случившееся и просил от имени Квасова прислать какую-нибудь женщину – горничную или няню, так как Шепелев хотя неопасно ранен, но все-таки нуждается в уходе и помощи.
Но Василек не слыхала последних слов. Двор, дом, красивая вороная лошадь, офицер, небо ясное, синим сводом покрывавшее их, – все сразу исчезло из глаз Василька! Она очнулась в своей комнате. С княжной сделалось дурно, и если бы не люди, окружавшие ее в ту минуту, когда въехал во двор всадник, то Василек упала бы на землю к ногам лошади.
Очнувшись, открыв глаза, оглядев все добрые и тревожные лица прислуги, Василек спросила, истинно ли было это все или ей приснилось. И она увидела по лицам, что все это был не сон.
Василек поднялась, перекрестилась, потом двинулась, оглядываясь, тихо, спокойно, как если бы ей приходилось привести все в порядок в своей комнате. Еще спокойнее оделась она и велела закладывать лошадь, на которой всегда отправлялась в город или к обедне. Затем она прошла к тетке, поглядела на больную, крепко спящую, нагнулась, поцеловала худую руку, свиснувшую с кровати, и ровным шагом, спокойно вышла и села в дрожки.
– Квартиру Дмитрия Дмитриевича знаешь… Туда! И поскорее! – произнесла она кучеру.
И эти слова звучали как-то особенно спокойно, ласково и мягко.
Через несколько минут, несмотря на крупную рысь лошади, она снова повторила кучеру:
– Поскорей, Иван!
Въехав в улицы города, снова повторила она то же слово. И если лицо ее и голос были совершенно спокойны, то на душе бушевало такое чувство, которое не могло удовольствоваться движением экипажа. Если бы лошадь мчалась как вихрь, то и тогда бы это чувство заставило Василька повторять без конца:
– Поскорее!
Почти через полчаса езды Василек вошла в незнакомую квартиру и ровным, твердым шагом прошла горницу за горницей, покуда не увидала в углу кровать, на которой лежал дремавший Шепелев, бледный, уже похудевший. Как тихо вошла она, так же тихо опустилась на колени около этой кровати и недвижно, но долго оставалась в этом положении. Сколько времени пробыла она так, глядя в лицо его, она сама не знала.
Денщик, отлучившийся куда-то по соседству, вернулся и увидел на коленях какую-то барыню в белом платье… Лица ее, обращенного к больному, он видеть не мог.
Наконец, спустя много времени, Шепелев проснулся, открыл глаза и с изумлением остановил их на Васильке. Очевидно было, что он принимал действительность за собственный бред.
– Это я… Ходить за вами… – шепнула Василек, быстро вставая и краснея.
Шепелев молчал и не двигался. Только глаза его, обращенные к ней, многое сказали ей.
– Я буду вашей сиделкой… – старалась шутить княжна.
– Нет! Ангел-хранитель… – тихо выговорил Шепелев.
Через минуту раненый, от слабости, опять закрыл глаза и будто опять забылся. Василек села на стул у его изголовья и глубоко задумалась. Но вдруг какое-то странное чувство, тяжелое, будто болезненное, заставило ее сразу очнуться и поднять голову.
И Василек тихо вскрикнула, затрепетала, задохнулась. Она увидела близ кровати недвижно стоящую женщину, всю в черном, которая ястребиными глазами впилась в бледное лицо юноши.
Василек, конечно, угадала ее сразу, но все-таки на нее напал какой-то суеверный страх. Она безотчетно шагнула между нею и кроватью и, опустившись на колени, заслонила руками и грудью, будто защищала юношу не только от врага, но от демона или от смерти, пришедшей за ним.
– Оставьте! Оставьте!.. Уйдите! – умоляя и будто страдая от суеверной боязни, прошептала Василек.
Маргарита не шевельнулась, только глаза ее блеснули ярче на эту незнакомку. Она догадалась также, что это княжна Тюфякина. Догадалась, что если она здесь, то имеет нравственное право на это.
– Оставьте! – снова шептала Василек.
Маргарита опустила голову, потом вздохнула, повернулась и, не вымолвив ни слова, тихо вышла из комнаты.
Василек бросилась к окну и видела, как графиня села в карету. Долго недвижно простояла Василек у этого окна и мысленно упрекала себя.
XXVI
Государь в первых числах июня месяца переехал в Ораниенбаум, его любимое местопребывание, где он подолгу жил, будучи наследником престола. Несмотря на то что Петр Федорович по характеру не был способен стесняться, соблюдать известного рода этикет и сдерживаться в своих привычках, тем не менее в Петербурге он чувствовал себя менее свободным в большом новом дворце, и, напротив, ему нравилась обстановка Ораниенбаума. Она могла напоминать ему тот маленький немецкий двор, в обстановке которого он родился и провел свое детство.
Здесь жизнь пошла совершенно иная. Здесь, во-первых, стоял любимый его голштинский полк, состав которого был самый странный. Весь полк, за исключением десятка человек, состоял из немцев всякого наименования: и бранденбуржцев, и баварцев, и швейцарцев, и силезцев. Были и другие иноземцы: полуславяне, полувенгерцы; были личности совершенно неизвестного происхождения, был и один еврей. Вдобавок все это был оборыш Европы. Это были люди военные не по призванию, а личности, не годные ни на какое дело, как только носить мундир и справлять службу в мирное время, крепко веруя и надеясь, что сражаться никогда не придется.
Пополнять армии наемниками и сбродом со всяких стран было еще в ходу во всех странах. Фридрих Прусский еще более ввел это в моду. Нуждаясь в солдатах и офицерах и не имея возможности пополнять ряды своими подданными, Фридрих завербовывал всех, кого только мог, убежденный, что человек почти без роду и племени, даже настоящий мошенник или разбойник, должен быть самым лучшим воином.
Недостаток в рекрутах был настолько велик в Пруссии, погибавшей от ударов, семь лет наносимых ей союзниками, Россией и Австрией, что король завел особый способ вербовки: всякого всячески различные власти заманивали, а то и насильно делали солдатом. Все европейские державы постоянно жаловались королю Фридриху, что различные подданные, попавшие в Пруссию, завербовывались насильственно под его знамена. Всякий молодой человек, иноземец, попавший за какой-либо проступок в руки полиции, лаской и угрозами делался солдатом, а раз надев мундир, не мог уже бежать, рискуя быть расстрелянным. Подобных примеров вербовки и расстреливания было много.
Петр Федорович, любивший военщину более всего, знал отлично и порядки фридриховские и мечтал завести точно такую же армию и у себя.
В России уже было общее мнение, сильно укоренившееся, что «вольность дворянская», данная государем тотчас по вступлении на престол, была не льгота, а был очень тонкий способ очистить ряды от русского элемента и заменить его иноземным. И в этом была своя доля правды. Государь мечтал завести иностранное войско на манер фридриховского и, опираясь на этот сброд всякого рода авантюристов, оборышей Европы, большею частью сомнительной репутации и дурного поведения, заменить им гвардию, главную деятельницу во всех переворотах.
Голштинское войско, помещавшееся в Ораниенбауме, было сколок с армии Фридриха. На улицах городка были постоянно беспросыпное пьянство, буйство и драки и слышалась постоянно если не исключительно немецкая, то всякая иноземная речь. Архиепископ Сеченов, побывавший раз в Ораниенбауме, говорил, что дворец и местечко напомнили ему сказание библейское о столпотворении вавилонском, где раздавались все языки земные.
С первых же дней переезда в свою любимую резиденцию государь ежедневно занимался смотрами, экзерцициями и обучением войска. Но главной его задачей были приготовления, всевозможные и деятельные, к войне с Данией, уже решенной окончательно. Подарок графа Разумовского облегчил, конечно, во многом эту задачу.
Утро государя проходило в занятиях по поводу войны, в совещаниях с Минихом и гетманом Разумовским, которых он хотел сделать начальниками частей будущей действующей армии, оставляя главное командование за собою. Помимо этого по совету Жоржа государь занимался сортировкой сановников, которых следовало взять с собою или оставить в Петербурге. Все, кто казался подозрительным новому правительству, хотя бы и не военные, и каких бы лет и чина ни были, долженствовали последовать за государем в действующую армию в качестве волонтеров.
Барон Гольц, поняв, что отговорить государя от неприятного для его короля и вместе с тем пагубного для самого государя предприятия нет никакой возможности, старался теперь всячески как-нибудь оттянуть время и ослабить будущие дурные последствия войны. Гольц бывал в Ораниенбауме постоянно и знал все, что делается, знал все приготовления и тонко, искусно мешал предприятию государя.
Но один Гольц не мог бы ничего сделать, если бы у него не было верного союзника. Этот союзник теперь при маленьком дворе Ораниенбаума ежедневно приобретал все большее и большее значение. Этот союзник была огромная сила, тот архимедов рычаг, которым можно земной шар свернуть.
Крайне умная, замечательно красивая, энергичная и изящная женщина все сделает, всегда совершит что захочет. И не раз в истории подобные личности совершали великие исторические события, держали в руках своих судьбы целого государства, иногда судьбы нескольких стран. В интимной и простой обстановке маленького дворца появилась Маргарита. Добродушным, мягкосердным, слабохарактерным поклонником женской красоты было вообще завладеть нетрудно. Графиня увидала вскоре, что задача ее гораздо легче, нежели она думала. Это был император всероссийский, но ведь это был болезненный, тщедушный человек, падкий на лесть и, конечно, падкий на кокетство такой красавицы, какою была Маргарита.
Не прошло и двух недель со времени переезда государя в Ораниенбаум, как Маргарита в качестве придворной дамы бывала там чуть не всякий день и даже собиралась переехать туда совсем на житье. И скоро все, что окружало государя, – и тот же Миних, и тот же Корф, и, наконец, сам принц Жорж, – все было у ног красавицы, одушевлявшей ежедневные вечеринки во дворце. И все они были даже искренны!
Эта иноземка, русская только по фамилии, но, однако, славянка, была настолько очаровательна, настолько увлекательна в малейших пустяках, в простой беседе, в простых играх и шутках, что нельзя было устоять против нее. Вдобавок Маргарита чувствовала теперь, что она совершенно в своей сфере и будто родилась для того, чтобы вести дворцовую интригу, изящно обманывая всех придворных, и старых и молодых. Многие из посещавших Ораниенбаум бывали несколько скандализованы ролью красавицы, но не могли не согласиться, что эта женщина в интимном кругу опасна даже для всякого. Даже два посланника, Мерсий и Бретейль, находили удовольствие в беседах с вечно веселой и остроумной кокеткой.
Маргарита объяснялась свободно на трех языках, и это тоже немало помогало ей. Пребывание ее после замужества в Версале, в придворном кружке Людовика XV, хотя и краткое, тоже отчасти теперь помогало ей. Она вспомнила все, что когда-то видела там. Маркиза Помпадур не выходила у нее из головы, была идеалом ее грез, всех ее помыслов, всех ее стремлений. Но чтобы сделаться в России тем же, чем была та женщина во Франции, сделаться повелительницей всей страны, мало было одного кокетства. Надо было овладеть государем вполне, властвовать над каждой его слабостью, над каждым его помыслом, не делясь ни с кем. Следовательно, надо было прежде всего избавиться от его фаворитов и друзей, и Маргарита, уже ненавидевшая Гудовича, стала стараться удалить главного фаворита. После Гудовича приходилось вступить в борьбу с Воронцовой, но и это было нетрудно. Графиня Воронцова, которую Бретейль окрестил именем «servante de cabaret»[43], не только совершенно стушевывалась около блестящей Маргариты, но даже помимо своей воли служила тем, что Бретейль называл теперь «repoussoir»[44]. Когда Маргарита садилась около краснолицей, толстой, неуклюжей женщины, то от сравнения казалась, конечно, еще красивее, изящнее. Мерсий однажды, видя этих двух женщин рядом, даже не выдержал и, невольно обратившись к Миниху, сказал:
– Посмотрите на этих двух личностей, на этих двух графинь. И эта женщина, и та тоже женщина! Но одна возвышает ваши помыслы своим изящным обликом, другая низвергает вас в Дантов ад. Впрочем, нет, даже и не то… эта фигура скорее сорвалась с какой-нибудь картинки Теньера. У дверей таверн Голландии я видал часто таких матрон.
Если бы чувство государя зависело от лица и ума Воронцовой, то, конечно, победа была бы давно на стороне Маргариты. Но у государя была привычка к «Романовне». Кроме этой привычки было еще что-то.
Маргарита всячески и давно старалась разгадать, что могло привязать Петра Федоровича к этой невозможной женщине, и теперь она начала догадываться. Когда-то Воронцова говорила Гудовичу, что графиня Скабронская скоро надоест государю и что он снова вернется к ней, потому что она: «Простота! Что он ни скажет, все сделаю, а другие умничать начнут!»
Тонкая Маргарита однажды именно это и поняла! А Воронцова вдруг однажды догадалась, что эта изящная красавица и умница ей подражает. Она тоже теперь «простота, и что ей ни прикажут, все делает».
В этот день Воронцова целых два часа совещалась с Гудовичем, в первый раз стала бояться за свое влияние и разревелась, как деревенская баба, причитая на все лады. Гудович на этот раз ушел от нее тоже смущенный.
XXVII
Наконец однажды вечером государь позвал к себе Жоржа и, немножко смущаясь, попросил его совета: возможно ли и не возбудит ли чересчур много шума, если он решится сделать графиню Скабронскую кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины. Жорж смутился, но отвечал, что если есть на свете изящная женщина, на которую бы следовало надеть всевозможные регалии всех стран, то, конечно, это графиня Скабронская. Но, однако, принц уговорил государя обождать, так как и без того много клевет, много лжи из-за пребывания графини в Ораниенбауме.
– Вся столица уверена, что вы влюблены в графиню! – заметил Жорж.
– Что ж! Это сущая правда! – отозвался государь добродушно.
Жорж несколько опять сконфузился и прибавил:
– Она красавица… Но в Петербурге говорят злые языки, что вы хотите постричь государыню и… и жениться на графине Скабронской, сделать ее императрицей.
– И это правда… Может быть.
Жорж совсем опешил и замолчал.
– Скажите, дядюшка, что дед мой, великий Петр, был дурак, по-вашему? Нет! Хорошо! А он разве не развелся со своей женой, разве не женился второй раз?.. А на ком? Кто была Марта? Солдатская жена. А потом кто была она? Императрица Екатерина всероссийская. А чем Маргарита хуже Марты? Сравнения нет!.. Марта была необразованная женщина, но любившая моего деда. А Маргарита блестящая женщина! И умна, и красавица, и обожает меня. Что скажете?
Принц Жорж ничего не сказал, а только повторял про себя: «Ungeheuer! Ungeheuer!»[45]
Действительно, влияние графини над государем уже зашло далеко… И многое казалось уже возможным…
Влияние это все увидели на первых же порах, а поводом послужил поединок Шепелева.
Принц Жорж прискакал в Ораниенбаум, передал государю весть о поединке, о смерти своего любимца – человека, который еще на днях верой и правдой служил лично государю. Жорж передал подробности поединка со слов Будберга и вдобавок еще присочинил. Шепелев и Квасов вышли какими-то голыми разбойниками, которые заманили двух немцев в пустырь за город и чуть не умертвили обоих.
Государь был поражен смертью Фленсбурга, которого видел за два дня перед тем, но он вспомнил и те успехи, которые сделал в фехтовании старый лейб-кампанец, и понял теперь, что такой противник, конечно, должен был оказаться опасным для всякого. Государь будто чуял, что в рассказе принца не все ясно, тем не менее он отдал приказ немедленно судить Квасова и Шепелева военным судом и тотчас же разжаловать обоих в рядовые.
Одна из первых узнала об этом приехавшая из города Маргарита. Государь тотчас же передал ей о своем намерении примерно наказать виновных и отплатить за смерть ее друга Фленсбурга. Петр Федорович думал вдобавок, что он этим сделает большое удовольствие графине.
Маргарита, одна знавшая, как было все дело, как они со шлезвигцем осудили на верную смерть бедного юношу, пришла в ужас.
Жорж поскакал в Петербург исполнить приказ государя, а Маргарита осталась с ним. По ее просьбе через час поскакал гонец в Петербург с приказанием доставить в Ораниенбаум Квасова и Будберга.
На другой же день Будберг и накануне под конвоем привезенный Квасов явились к государю, и Петр Федорович сам расспросил подробно и того и другого, по очереди, обо всех подробностях поединка. Будберг путался более, чем когда-либо, врал и сам себя опровергал, не желая сознаться в своей жалкой роли секунданта.
Квасов после него рассказал государю все в мельчайших подробностях, от драки на плацу и до смерти шлезвигца, и каждое слово лейб-кампанца дышало негодованием и искренностью. Более всего поразило государя, что Фленсбург бросился уже на упавшего и безоружного Шепелева, намереваясь просто зарезать, так как первые раны, полученные при законных условиях, были совершенно легкие.
– Так он его зарезать хотел, как режут из-за угла! – воскликнул государь. – Когда дрались законно, не сумел убить, а тут упавшего дорезать захотелось! Не знал я, что он такой негодяй! А еще немец! Это бы тебе под стать…
– За что же, ваше величество? – вспыхнул Квасов. – Чем же мы, россияне, заслужили такого об нас рассуждения? У нас и пословица есть на нашем российском наречии: лежачего не бьют!
– А разве есть такая пословица? – удивился государь.
Поняв все дело как следует, государь рассудил его совершенно справедливо. Он взял во внимание, что Фленсбург первый нанес оскорбление безо всякого повода и вызвал на поединок юношу, едва умевшего держать шпагу в руке, с тем чтобы наверняка убить его. И это непременно случилось бы, если бы не Квасов, недавно выучившийся мастерски владеть оружием.
Квасов был тотчас же освобожден самим государем. А после этого, при встрече с Маргаритой, Петр Федорович поблагодарил ее при всех за совет вызвать участников поединка и допросить их лично. И при человеках двадцати придворных государь произнес несколько горячо:
– Я не привык к умным советам! Мне все глупости советуют. Спроси я по поводу этого поединка хоть бы вот Романовну, или Гудовича, или хоть дядю, непременно бы заставили сделать черт знает что. Я отныне буду пользоваться только вашими советами, когда будет к тому случай. А за нынешнее позвольте мне при всех расцеловать ваши ручки.
XXVIII
Наступили, наконец, и последние дни июня месяца.
Весь этот месяц государь прожил в Ораниенбауме почти безвыездно. Государыня сначала оставалась в Петербурге одна в большом новом дворце и здесь на свободе принимала всех петербургских сановников, все чаще являвшихся к ней, все дольше засиживавшихся у нее по вечерам. Но затем вскоре ей приказано было переехать в Петергоф.
Еще с первых чисел июня, когда по городу распространилась громовая весть о новой предпринимаемой войне с Данией за Шлезвиг, никому ни на что не нужный, вся столица заволновалась: и двор, и дворянство, и простой народ. Мало того, что правительство примирилось с исконным врагом, с Фридрихом, и стало помогать ему в его войне с прежними своими союзниками! Мало того, что отданы Фридриху даром годами завоеванные земли! Теперь начиналась война с государством, с которым отношения были отличные, из-за маленького клочка земли, которого, конечно, Дания не может отдать без упорной и кровавой борьбы. Недавно подарили Фридриху чуть не целое королевство, а теперь хотят завоевать маленькое герцогство!
Но более всех заволновалась гвардия. Дармоеды-солдаты, привыкшие по ротным дворам к жизни между курами, детьми и бабами, валяться на печи от зари до зари, негодовавшие еще недавно на простые парады и смотры, были совершенно поражены мыслью о походе и войне.
Сначала прошла весть, и ей никто не верил, а затем весть была подтверждена указом государя, что первая выступит на войну и первая понюхает пороху, конечно, гвардия. Люди, пользовавшиеся каждым удобным случаем, чтобы в превратном виде представить все распоряжения правительства, тотчас же распустили слух, которому всякий солдат рад был верить. Слух этот был, что государь, хотевший прежде раскассировать гвардию, поделав из нее полевые команды, теперь хочет отделаться от нее более жестоким способом, – всю положить на полях иноземных под пушками датчан. Ему не Шлезвиг нужен! Зачем ему маленькое герцогство? Ему нужно средство, законное и хитрое, истребить гвардию. Кто и не верил этой нелепости, повторял, клялся, что будто бы государь прямо и искренне говорил об этом многим и совет этот подан ему Фридрихом.
Так или иначе, но гвардейские полки, в особенности Преображенский и Измайловский, весь июнь волновались без конца. Бабы плакались и причитали от зари до зари о том, что мужья осуждены на смерть.
Чьи-то червонцы щедрой рукой сыпались в ряды солдат. Конная гвардия, измайловцы, семеновцы, преображенцы, от капрала до рядового, с утра ходили во хмелю. Случаи неповиновения, открытого буйства, дерзостей относительно нелюбимых офицеров все учащались. В Преображенском полку три ненавистных солдатам офицера – Текутьев, Воейков и Квасов – даже опасались за свою жизнь.
Текутьев однажды на собственном ротном дворе, в темную ночь, получил страшный удар кулаком по голове. Он не мог поймать оскорбителя, но видел, однако, на нем свой преображенский мундир.
Квасов, проходя, тоже ночью, по коридору ротной казармы, получил удар, но уже не кулаком, а ножом. По счастью, ножик скользнул, распорол ему сюртук, прорезал обшлаг мундира и только расцарапал плечо. На его крик выскочило несколько солдат, но злоумышленник тоже не был найден. Наутро, когда Квасов и Воейков требовали выдачи этого человека, которого солдаты, конечно, не могли не знать, то из толпы раздался крик:
– Небось не выдадим! Обожди малость, скоро вас всех, голштинцев, передавят!
И Квасов уже опасался бывать в сумерки и по вечерам на собственном ротном дворе.
Впрочем, лейб-кампанец редко бывал даже на своей квартире. Он проводил дни, а иногда и ночи около выздоравливавшего племянника.
Вместе с ним, не отходя ни на шаг, ухаживала за юношей и Василек.
Шепелев поправлялся медленно, но к концу месяца был уже на ногах, и только немного бледный, немного слабый от большой потери крови. Вместе с тем он возмужал. В лице его и красивых глазах уже не было прежнего юношеского наивного выражения. Глаза его будто подернулись легкой дымкой печали, дымкой пережитого, выстраданного. Такие драмы, как его сердечная драма, не проходят даром, и даже не рана от шпаги Фленсбурга, и не потеря крови, а главным образом рана, нанесенная в сердце Маргаритой, подействовала на него и если не состарила, то заставила возмужать.
Впрочем, со дня поединка, со времени болезни юноши, уже случились два события, которые в жизни Шепелева и жизни княжны отдалили и будто поставили на второй план преступный, отвратительный поступок Маргариты.
Василек была неотлучно день и ночь у изголовья юноши вопреки всем приличиям, вопреки собственным свойствам характера и в первый же день, на увещания Квасова, отвечала спокойно и твердо:
– Что мне! Пускай! Будь что будет! Ведь я ему сказалась! Он знает! Что ж тут скрытничать! А что про меня выдумают злые люди, мне все равно. Я ведь потом в монастырь пойду. Господь видит, что я дурного не делаю. А ходить за ним мне сердце и совесть велят.
Через неделю после этого почти безотлучного пребывания у Шепелева Василек, бывшая только два раза около больной тетки на минуту, собралась однажды снова проведать больную. Но явившиеся на квартиру Шепелева люди объявили, что барыня приказала долго жить, что поутру ее нашли скончавшейся.
Василек вздохнула, перекрестилась, пожелала тетке царства небесного, но совесть не укорила ее. Тетка лежала последние дни в совершенно бессознательном положении, Василек ничем не могла ей помочь, а здесь, около этого человека, который был ей дороже всего на свете, она была полезна. Вдобавок доктор Вурм, пользовавший юношу, сказал ей совершенно серьезно, что Шепелев очень многим, если не жизнью, обязан ей.
Василек вместе с Квасовым прохлопотали три дня, похоронили Гарину, и княжна, приказав запереть опустелый дом, вернулась снова в маленькую квартиру выздоравливающего.
А через дней пять после этого первого события случилось другое, даже не внезапное или неожиданное, а понемногу незаметно готовившееся, но про него покуда знали только Василек и Шепелев.
Однажды вечером Квасов, придя с ротного двора в квартиру племянника, застал Шепелева уже сидящим в кресле, а Василек наливала ему чай.
Квасов остановился, поглядел на них, нюхнул с присвистом из тавлинки и выговорил:
– Вот только тут и душу отведешь! Молодец, порося, давно бы тебе сидеть! Завалялся! Небось, поди, и ноги трясутся, как у столетнего старца. Да, – прибавил лейб-кампанец, – тут вот тишь да гладь, а что, порося, у нас творится, так бежал бы за тридевять земель.
– На ротном дворе? – спросил Шепелев.
– Да, кажись, не нынче завтра, ей-богу, офицеров перережут. А речи такие слышишь, что волос дыбом становится. А главное, чего, подлецы, захотели? За нами тянутся! Мы щенка немецкого свергли с престола и российскую девицу, дщерь Петрову, возвели на его место. А они чего захотели? Въявь орут, законного государя и законного внука того же великого Петра низвергнуть, а на его место немецкую принцессу посадить! То есть шиворот-навыворот – вверх тормашкой!
И Квасов злобно расхохотался.
– Поглядел бы я хоть одним глазком, каково бы это правление и царствование было, кабы Екатерину Алексеевну царицей или регентшей объявить? Покуда Павел Петрович вырастет да примет правление, каких бы, голубушка, она несуразных глупостей натворила!
Квасов помолчал и прибавил снова с презрительным смехом:
– За нами тянутся! Мы, вишь, пример! Нет, голубчики, это то же, да не то. Я теперь костьми лягу, коли какое только буйство на улице будет. Законный царь всероссийский, каков бы он непорядливый ни был, по его доброте сердечной и небольшому разуму, все-таки Петр Федорович. А Павел Петрович еще мальчуган! И если бы Екатерина Алексеевна попала за него в правительницы, то опять будет на Руси полная беспорядица и смута. Все-таки она чужая нам, ангальтская принцесса.
– Да, это истинно, – вымолвила Василек, – хотя она и добрая и совсем нету в ней ничего немецкого, а все-таки рождением своим она чужая для нашего отечества. Все-таки она чужеземная принцесса, стало быть, опять то же, что была Анна Леопольдовна.
– Еще меньше того! – воскликнул Квасов. – Анна Леопольдовна происхождением все-таки нашего царского дома была, а Екатерина Алексеевна такая же русская, как вот графиня Скабронская. Только по имени.
Шепелев вздрогнул, поднял глаза на дядю и вдруг выговорил слабо, но отчетливо и резко:
– Дядюшка! Просьба у меня до вас: никогда вы эту… эту… ну ее!.. не называйте при мне. Она для меня померла, но я не могу ее, как мертвую, добром поминать. Я не могу даже имени ее слышать. Можете вы сделать это для меня?
– Господь с тобой, порося, как ты прикажешь. Вот я дьявола не люблю поминать, ну, теперь буду знать, что есть два дьявола, которых поминать не след. Никогда больше не услышишь. А придется при случае по какому делу назвать, буду говорить «второй», и это будет значить: второй, мол, дьявол.
Наступило молчание. Только лейб-кампанец, закусив губу, постукивал ложечкой по стакану и слегка сопел. Он собирался теперь сказать нечто, что собирался сказать давно. Но каждый раз слова не сходили с языка, дух спирало в груди, сердце замирало. Он боялся вымолвить эти несколько слов, потому что боялся того впечатления, которое произведет это на Шепелева и на Василька. Он боялся, что нечто, ставшее для него единственной дорогой мечтой, окажется вдруг несбыточной вещью.
Но на этот раз Квасова особенно что-то толкало заговорить и высказаться. Наконец он вдруг бросил на стол ложку и вымолвил:
– Слушай-ка, порося. Я твою просьбу исполню. Это немудрено! Никогда второго дьявола именем не звать. А вот что! У меня есть до тебя просьба. Давно собираюсь, да все страшно вымолвить. Откажешь ты мне, прощай, брат, на вечные времена. Никогда не увидимся.
– Что вы, дядюшка!
– Да «не что вы»! Не про пустое сказываю, а дело великое, святое. Грех даже, что ты не понимаешь и не догадываешься, про что я говорю. Ты бы должен давно сам заговорить. Чего ждешь? А если просьбу мою не уважишь, вот видишь – лежат шпага и шляпа; надену их, скажу гут морген, и никогда меня не увидишь.
– Так объяснитесь, дядюшка, а то, ей-ей, ничего не понимаю.
– Ты сказывал не раз, что хочешь пользоваться новою вольностью дворянской и, выздоровев, просить абшид и уехать к матери, благо уж офицер.
– Правда.
– Ты и меня звал с собой.
– Вестимо, – отозвался Шепелев. – Что вам тут делать? Слава богу, наслужились довольно. Да и всякий день сказываете, что служить больше нельзя, что не нынче завтра зарежет какой-нибудь солдат.
– Все это верно, я, пожалуй, тоже абшид подам. Ну а потом что ж? Мы с тобой так и поедем к твоей матери?
– Вестимо, дядюшка.
– И только того и будет?
– Да чего же вам еще?
– Да что ты! Одеревенел, что ли? – стукнул Квасов кулаком по столу так, что все стаканы зазвенели. – Что ты, каменный, что ли? Или у тебя Фленсбург весь разум проковырял своей шпажонкой и совесть отшиб! Пойми, про что я тебе сказываю.
Шепелев сидел, вытараща глаза на лейб-кампанца, и лицо его ясно говорило, что он ничего не понимает. Княжна Василек еще более удивленно глядела на своего дорогого друга, наконец скрестила руки и своими чудными глазами как будто хотела проникнуть в душу лейб-кампанца и увидеть, что там бушует.
– Так ты да я поедем в Калугу? – выговорил Квасов.
– Да, – отозвался Шепелев, удивляясь.
– А княжна? – вдруг выговорил лейб-кампанец таким голосом, как если бы произносил самую страшную вещь.
И действительно, в этом слове, в этом вопросе теперь заключалось сразу все то, что бушевало в нем давно, все то, что не мог он произнести, боясь узнать как бы свой собственный смертный приговор.
Шепелев молча поглядел на дядю слегка блеснувшими глазами и улыбнулся. Княжна Василек вспыхнула и отвела глаза.
Наступило молчание.
– Да, – проговорил, наконец, укоризненно лейб-кампанец. – Да! Вот что! Ваше дело, как знаете! Добрая девушка всегда готова себя загубить, но Каин тот, кто губит. Всяк может сказать: дай, мол, я за тебя помру, да ты-то сам этого не должен допускать. Ну, стало быть, пеший конному, гусь свинье, честный подлому, а я тебе – не товарищи.
Голос Квасова задрожал при последних словах; он поднялся и пошел в угол, где была его шляпа. Когда он обернулся, то Шепелев сидел, улыбаясь, и глядел на Василька. Затем он сделал едва заметный знак бровями.
Она встала, обернулась к лейб-кампанцу, тихо, будто робко подошла к нему, вскинула руки ему на плечи и вдруг поцеловала его.
Квасов как-то ахнул, будто его ударили по голове.
– Что? – выговорил он изменившимся голосом.
– Аким Акимович, да ведь это давно… давно кончено!
– Что кончено? – заорал вдруг Квасов на всю квартиру, так что на улице двое прохожих вздрогнули и остановились под окошками.
– Дядюшка, идите сюда, – сказал Шепелев. – Я еще вставать боюсь. Поцелуемся, простите меня! Я уже и матери писал, и ответ имею. Как в Калугу приедем, так и пир горой.
– Так как же ты смел! – заревел Квасов совершенно серьезно, наступая с кулаками на племянника. – Как же ты смел, щенок поганый!
– Вам не сказать? – отозвался Шепелев. – Ну, уж если вы хотите драться, так бейте Василька, а не меня. Она виновата.
– Вы виноваты? – обернулся Квасов, тоже наступая, но уже опустив руки и разжав кулаки.
– Я, Аким Акимович! Мне хотелось вас попытать, мне хотелось, чтобы вы сами и первый заговорили…
Квасов остался среди горницы как истукан, поглядел по очереди на Василька и на Шепелева, потом достал тавлинку и, нюхнув чуть не целую горсть, выговорил, качая головой и щелкая пальцем по тавлинке:
– Ах вы, разбойники; ах вы, людоеды! Да вас теперь надо… Что надо?.. А?! До смерти вас надо избить!!!
И при тусклом свете нагоревшей свечи, близ самовара, Шепелев и Василек увидали суровое коричневое лицо лейб-кампанца, мокрое от слез. Василек бросилась и снова обняла друга. Шепелев, через силу, тоже приподнялся и протянул руки к дяде.
– Второй раз завыл по-бабьи! – шепнул Квасов в его объятиях. – Первый раз перед резней было… и вот опять…
XXIX
В Ораниенбауме за целую неделю начались большие приготовления на двадцать девятое число к празднованию дня Петра и Павла – именин императора и наследника престола. Предполагался фейерверк, иллюминация всего городка и концерт, в котором должен был участвовать сам государь, недурно игравший на скрипке. Все должно было закончиться балом, на который уже рассылались приглашения всем лицам, имеющим на то право.
По поводу этого бала в Петербурге уже шел смутный говор. Говорили, что императрица, находящаяся в Петергофе почти в заключении, обставленная часовыми и шпионами, не будет приглашена на праздник и именины мужа и сына и что Панин один привезет наследника. К этому прибавляли невероятный слух, что принимать в качестве хозяйки на празднестве будет графиня Скабронская.
Государь на время бросил экзерциции и смотры и с увлечением принялся разучивать свою партитуру квартета, в котором должен был участвовать.
В Петре Федоровиче была положительно жилка артиста и не было только выдержки и прилежания. В музыке он мог бы достигнуть известного совершенства, если бы усидчиво занимался. Но он всегда бросался на музыку случайно, временно, мимолетно, предавался ей запоем и потом снова бросал на несколько месяцев, иногда на целый год.
Однажды, будучи еще наследником престола, он сам и Елизавета Петровна разыскивали для него по всей Европе самую лучшую скрипку. После многих хлопот, переписки и крупной суммы, обещанной за первую скрипку в мире, была найдена такая в Венеции. Говорили, что скрипке двести лет, что она диво дивное, чуть не сама играет и поет, как живой человек. Так, по крайней мере, описал ее в донесении государыне российской посол при венецианском доже. Но когда скрипка достигла Петербурга, Петр Федорович и не взглянул на нее. В это время он муштровал своих голштинцев и выдумывал какое-то построение для атаки, которое будто бы когда-то изобрел и предпочитал македонский царь Филипп, отец знаменитого Александра.
Теперь государь бросил все заботы о кампании и походе в Данию, о войне и приготовлениях не смел никто и заикаться. Государственный секретарь не смел появляться с докладами, как бы они важны ни были. Даже с Маргаритой, окончательно поселившейся во дворце, государь перестал беседовать и болтать, как прежде, по целым часам. Он сидел за скрипкой и, едва успев позавтракать или пообедать, снова садился за пюпитр с нотами и снова разучивал квартет.
Однажды утром, недовольный своей игрой, он в припадке гнева схватил скрипку и, ударив ею о пюпитр, сломал его, а скрипка, конечно, разлетелась на десятки кусков. Через минуту Петр Федорович опомнился и понял, что сам себя погубил, что к скрипке этой он все-таки привык и на новой окончательно не мог бы играть. Тогда все, что только было в Ораниенбауме придворных, офицеров, адъютантов, было послано в Петербург в один день разыскать скрипку такого же размера, как разбитая. Даже принца Жоржа чуть-чуть не заставил государь тоже ехать и разыскивать инструмент по столице.
В числе лиц, посланных на поиски, был Будберг, который теперь заменил убитого приятеля в должности адъютанта принца. Будбергу посчастливилось: он тотчас же по приезде в столицу отыскал немца-музыканта, у которого была целая коллекция скрипок. Одну из них, очень дорогую, с которой бы немец никогда не решился расстаться, как с другом или любимым детищем, он, конечно, пожертвовал для государя с удовольствием.
Когда Будберг у подъезда дворца принца садился с инструментом в бричку, запряженную тройкой ямских, чтобы скакать в Ораниенбаум, к дворцу подъехал на извозчике и подошел к бричке неизвестный ему офицер, громадный детина на коротких ногах.
Будбергу показалось, что он где-то видал это чудовище и прежде. Но вспомнить его фамилию он не мог.
Неуклюжий и огромный офицер был Василий Игнатьевич Шванвич.
Угрюмо, не называя себя, он молча передал Будбергу письмо и записку. Затем тотчас сел на извозчика обратно и уехал. Большое письмо было на имя «его императорского величества» с обозначением, что содержит государственную тайну. Записка была для Будберга, и в ней незнакомая личность говорила офицеру, что письмо императору заключает в себе открытие самого дерзкого заговора против правительства, а что один из участников, именно преображенский офицер Баскаков, берет на себя адское намерение убить государя. А если же Будберг или даже сам государь не поверят неизвестному доносчику, то могут, арестовав офицера Пассека, немедленно найти при нем все данные, все списки участников, даже документы, обличающие все и всех.
Будберг был поражен, прочитав записку. В ней было сказано, что она есть краткое изложение того же, что в подробностях сказано императору.
Будберг и многие другие немцы-офицеры так мало обращали внимания на все, что не касалось их маленького честолюбивого мирка, что они не знали, не подозревали даже того, что было почти известно в любом кабаке, в любом трактире, чуть не на улице. Весь Петербург за последние дни чуял что-то. Всякий, от вельможи до простолюдина, знал наверное, что как только будет государь в отсутствии из столицы и начнется датская война, то здесь произойдет событие, после которого будет малолетний император и правительница, или регент, или государственный верховный совет.
Будберг поскакал еще шибче в Ораниенбаум, везя скрипку и донос. Только по дороге вспомнил он, что сделал глупость, не арестовав незнакомого офицера, и потерял следы, по которым можно было бы в случае нужды узнать многое другое. В случае правдивости доноса государю и наградить некого будет.
Вечером Будберг был в Ораниенбауме, передал лично государю инструмент, и Петр Федорович был в восторге. Скрипка оказалась еще лучше, еще удобнее его собственной.
Письмо, заключающее в себе государственную тайну, Будберг побоялся передать лично, так как он, подобно многим, боялся внезапных и непонятных вспышек государя. С Петром Федоровичем было легче, чем с кем-либо, нажить себе беду, рассердить, угождая ему, или возбудить сильный гнев исполнением долга, иногда даже исполнением его собственного приказания.
Будберг передал письмо принцу. Жорж, выслушав все то, что мог рассказать Будберг, и прочитав, конечно, записку на имя офицера, тотчас же взял пакет и направился на половину, занимаемую государем. На дороге ему попался Нарцисс, говоривший очень порядочно по-немецки.
На вопрос, что делает государь, негр отвечал:
– Пилит.
– Как пилит? – воскликнул Жорж. – Кого пилит?
– Скрипку, – отозвался Нарцисс, оскаливая свои громадные собачьи зубы.
– Как ты смеешь так говорить! Dumm!..[46] – невольно заметил Жорж.
– Это не я говорю, он сам всегда это говорит.
– Ну, пошел, доложи государю, что мне нужно его видеть.
– Не приказал, – отвечал Нарцисс. – Ни за что не пойду, он меня убьет. Сказал: никого не пускать; сказал, если будет светопреставление, то и тогда не пускать!
Жорж вытаращил глаза.
– Ей-богу, ваше высочество, это так он сам сказал: потоп будет, то и тогда не смей мешать.
Принц, понимая все важное значение своего дела, смело пошел далее и приблизился к двери кабинета. Оттуда долетали до него звуки какого-то Allegro и топанье в такт каблуком по паркету.
Жорж попробовал дверь, она была заперта на ключ. Он стал стучать, но громкая музыка, очевидно, заглушала его постукивание. Принц начал вертеть ручку двери, музыка продолжалась.
– Ваше величество! – закричал Жорж громко, насколько мог собрать силы и духа в своей тощей груди.
Ответа не было, и музыка продолжалась.
– Ваше величество! – еще два или три раза прокричал Жорж, задохся и, стоя перед запертою дверью, даже нос опустил.
Постояв мгновение, принц решился и начал стучать кулаками в дверь. Нарцисс, выглядывавший через комнату из-за занавески на действия принца, снова оскаливая зубы, смеялся своими толстыми негрскими губами и думал: «Ну, погоди, даст он тебе!»
Действительно, через мгновение дверь сразу отворилась настежь, оттолкнутая сердитым движением, и чуть не треснула Жоржа в лоб.
На пороге появился государь, бледный, со скрипкой и с поднятым смычком в другой руке, как если бы он собирался хлестнуть того, кто смел нарушать его занятия.
– Was wollen Sie?![47] – визгливо воскликнул, как всегда, по-немецки Петр Федорович. – Вы видите, вы знаете, заперто. Что вам?
– Ваше величество, извините, – смутился принц, боясь познакомиться ближе со смычком. – Но тут важнейшее дело, вот письмо, в котором до вашего сведения доводят…
– Письмо! Из-за письма вы… – воскликнул государь.
– Но тут заговор, вас убить хотят! – закричал Жорж с таким отчаянием, что даже Нарцисс выбежал из засады и перепугался чуть не насмерть.
Петр Федорович, несколько успокоившись, медленным движением взял письмо той же рукой, в которой был смычок, повернул его два раза, покачал головой и выговорил:
– Мерзавцы, проклятый народ! Уж это десятое, коль не двенадцатое; кабы мне хоть один из них попался.
– Тут, вероятно, все названы, – произнес Жорж.
– Кто названы? Заговорщики? Так я их всех наизусть выучил! А доносители, мерзавцы, себя не называют. Их бы я перебрал всех. Какие нравы, какие люди! Администраторов нет, командиров нет, солдат нет, духовенства нет, никого нет! – прокричал государь. – Понимаете вы, никого в государстве нет! А доносители есть! Доносчиков полон Петербург! И какие доносчики: артисты, виртуозы!
Жорж стоял, изображая статую изумления. Нарцисс стоял за Жоржем, как-то скорчившись, вытянув черную длинную шею вперед и распустя толстые губы. Он не сморгнув глядел на государя, вне себя кричавшего с порога.
– Но послушайте, дядюшка, – кончил государь спокойно. – Прошу вас отныне и навсегда, не беспокоить меня, когда я занят делом, подобного рода письмами. Даже если вы завтра получите донос с аршин величиной, с самой страшной надписью, то и тогда прошу вас сжечь его в камине, а ко мне с пустяками не приставать. Вам это в диковину, а я вам говорю, что я целый месяц живу в Ораниенбауме под этими доносами, как под перекрестным огнем в пылу сражения.
Государь снова стихнул, обернулся к Нарциссу и прибавил:
– А ты, черный черт, если еще кого допустишь до моих дверей, то сядешь в бричку и поедешь в Сибирь! А после твоей родины там тебе покажется несколько свежо.
И при этом государь уже добродушно улыбнулся и запер дверь. Жорж развел руками, повернулся и так, с разведенными руками, прошел через весь дворец на свою половину.
XXX
На другой день вечером была назначена репетиция квартета. Государь заранее позволил ближайшим лицам приехать, чтобы критиковать и подавать советы.
Одна из маленьких зал была освещена, а на середине расставлены пюпитры и табуреты, а государь, как ребенок, суетился, сам поправлял все и замечал, что было не в исправности.
Гостей приехало из столицы человек двадцать, помимо тех, которые жили в Ораниенбауме. Конечно, для них не было ничего интересного в этом квартете, который им приходилось еще другой раз прослушать в Петров день. Но не приехать на приглашение государя теперь было гораздо опаснее, нежели отсутствовать на большом выходе или на большом придворном балу. Это был праздник для самолюбия государя-артиста, и отсутствующий показал бы свое презрение к таланту монарха. А это, конечно, могло бы ему не пройти даром.
Выбор участников квартета доказывал как нельзя более, насколько увлекался государь, когда запоем отдавался музыке. Квартет состоял из фаворита Гудовича, с которым он был за последние дни крайне резок и придирчив; из какого-то сморщенного, как гриб, с отталкивающей физиономией старика шведа, когда-то найденного в Петербурге именно ради этих концертов с государем. Старик, конечно, был замечательный скрипач, но все-таки его никто, помимо Петра Федоровича, никогда бы не решился допустить до себя. Швед, отчасти грязно одетый, с какими-то красными крючковатыми руками, в каком-то нелепом одеянии из коричневого полинялого бархата, с какой-то пелериной того же цвета на плечах, с каким-то хвостом вроде фрачных фалд, был похож на неведомую хищную птицу, и, конечно, не европейскую, а разве австралийскую.
Но этого было мало. Нужна была виолончель. А лучше всех играл на виолончели и даже особенно любил играть тот квартет, который был выбран теперь государем, не кто иной, как Григорий Николаевич Теплов. Опять-таки ненавистное лицо государю.
Но государь-артист будто не имел ничего общего с государем-монархом. Музыка могла примирить его, хотя мимолетно, со всяким. И он сам за несколько дней написал письмо, прося злейшего врага своего обрадовать его участием в квартете. Теплов, конечно, не замедлил отвечать согласием и благодарностью за предложенную честь. Объяснив Орловым, что он будет участвовать в концерте, он предупредил их не удивляться и, чего доброго, не сомневаться, что он, разыгрывая совершенно иную преступную музыку в оркестре заговорщиков на сходках Орловых, едет разыгрывать квартет в Ораниенбаум.
Около восьми часов вечера гости были в сборе. Музыканты садились на места, и государь, не только довольный, но счастливый, с сияющим лицом, добрый, ласковый, предупредительный со всеми, был, казалось, теперь готов обнять каждого.
Он любезно разговаривал и с австралийской птицей, и с Тепловым. Голос его звучал таким детским довольством и таким детским добродушием, что если бы явился сюда на одно мгновение посторонний человек, не знающий ничего об императоре Петре III и об его самодержавстве, то этот человек унес бы воспоминание, что видел однажды олицетворение самого добра, искренности, наивности и мягкосердия.
Музыка началась. У всех трех партнеров этого добродушнейшего монарха сердце щемило. Каждый из троих знал наверное, что если соврет хотя на йоту и собьет меломана-монарха, то этот добродушнейший человек бог весть что скажет при всех. Более всех, конечно, боялся Теплов. Он уже не в первый раз играл с государем и знал, что иногда случалось из-за ошибки, часто даже собственной ошибки государя. Но Теплов был слишком искусный музыкант, чтобы соврать в квартете, который знал вдобавок наизусть уже лет шесть.
Менее всех боялся старик швед, хотя и ему объяснили, что он при случае может после концерта улететь из Петербурга если не в далекие страны, то на родину, а это вовсе не соответствовало его намерениям и семейным делам.
Квартет был страшно велик и должен был длиться до конца при мертвой тишине публики. Но вся эта публика, видимо, относилась совершенно безучастно к музыке. Приказали приехать! Ну и приехали! А приказать слушать, по счастью, нельзя!..
Более всех дремал и поклевывал носом принц Жорж. Не менее вздремывал гетман. Один только генерал-полицмейстер Корф сидел, вытянув шею, как вытягивал часто свою Нарцисс, и так же, как он, выпуча глаза, глядел в лицо монарха, отчаянно махавшего и мотавшего смычком, рукой, скрипкой и головой.
Остальная публика не спускала глаз не со скрипки государя, не с музыкантов вообще, а с двух женщин, сидевших впереди остальных гостей за спиной государя.
Одна, красавица, в пышном изящном наряде, сидела так близко, что даже положила свой веер свободно и бесцеремонно на пюпитр государя. Это была, конечно, Маргарита, уже озиравшаяся кругом в этом дворце, как может озираться только хозяйка.
За нею, несколько отступя, сидела, как наседка на вновь выведенных цыплятах, графиня Воронцова и, точно нахохлившись, недвижно сложила красноватые толстые руки на коленях. Она точно так же, как и Корф, глядела не сморгнув на играющих; но при этом она не глядела на кого-либо из них. Маленькие серые глазки ее уперлись в самый центр, то есть в пустое пространство между четырех пюпитров. Ей казалось, должно быть, что это самый настоящий пункт и есть, откуда вылезает музыка и гудит над ее ушами безо всякого смысла, без толку, без конца!.. То шибче, шибче, громче, то почему-то опять тише, совсем тихо, почти нет ничего, замолчали… Кончили, знать. Ан нет!.. Вдруг опять, бог весть зачем, так дерганули да так завозили смычками, что даже у нее за ушами щекотало. И Воронцова не сморгнув, не шелохнувшись сидела как истукан.
Наконец наступил антракт. Раздались рукоплескания, комплименты, похвалы. Вся публика проснулась и восторгалась, разумеется, исключительно игрою государя. Государь отказывался, благодарил Теплова и старичка за игру, благодарил Будберга за скрипку. Но они тоже отказывались. И все ахали, и все ухмылялись, и все, кроме этого государя, добродушного и, строго говоря, честного и хорошего человека, только не для царствования над громадным государством, – все равно чувствовали, что ведут себя подло. У него у одного совесть была чиста. Он с ребяческим восторгом предавался теперь запоем тому, что понимал и любил. И если он играл плохо, то эта игра все-таки доставляла ему самому великое, невинное, никому не зловредное наслаждение.
Во время этого антракта одна графиня Скабронская не вымолвила ни слова, никого не похвалила, сидела спокойно и улыбалась. Петр Федорович заметил это, быстро обернулся к красавице и выговорил:
– Ну а вы, графиня, молчите? Что же? Скверно я сыграл свою партию?
– Для меня, всё… – кокетливо и мило склонив головку, выговорила Маргарита, – всё, что вы делаете, хорошо. А искусны ли вы – я не могу судить. Я в музыке мало понимаю.
– Дипломат, дипломат! – весело погрозился государь пальцем. – Ученица Гольца.
Маргарита хотела шутя отвечать, но в ту же минуту глаза ее остановились невольно на дверях, ведущих в другую гостиную. Взор ее мгновенно вспыхнул, она даже вздрогнула и изменилась в лице.
Вдали за анфиладой освещенных комнат, за несколькими настежь растворенными дверями, стояла фигура преображенца. Никто бы не узнал этого человека, если бы увидел его теперь так далеко и вдобавок в этот вечер и в этом дворце. Но Маргарита увидала и сразу узнала его не глазами, а скорее сердцем, совестью своею узнала! Это был тот, которого она недавно послала на смерть и который спасся только чудом.
Но зачем он здесь? Как попал он во дворец? Он не имеет на это права! Он еще недавно лежал в постели, едва поправляясь от ран, а теперь он здесь! И Маргарита чувствовала, что догадывается, чувствовала, что сейчас способна упасть в обморок здесь, на полу, среди концерта.
Шепелев, очевидно, являлся мстить, являлся в одно мгновение погубить ее, заставить государя и этот блестящий двор вышвырнуть на улицу развратную и жестокую до преступления авантюристку!
XXXI
Всякая другая женщина, конечно, упала бы в обморок, но в Маргарите было слишком много силы воли, было слишком много неженской отваги, заставлявшей ее не бежать, а бросаться вперед не только на опасность, но хотя бы на верную смерть.
Красавица спокойно поднялась с места, твердыми шагами, даже грациозно, даже с изящным движением в походке, шумя пышным шлейфом по паркету, вышла из залы. Она пошла через все комнаты прямо на этого вестника если не ее смерти, то падения с той высоты, которой она достигла ценою всяких усилий.
Идя на бледного, неподвижно стоящего юношу, еще слабого от болезни, с лихорадочно сверкающими, слегка печальными глазами, Маргарита двигалась, как двигается на поединке человек на меткий, неотразимый, ежеминутно ожидаемый выстрел, который положит его замертво. Но она шла…
Давно ли этот недолго, но страстно обожаемый любовник был ее игрушкой, теперь она становилась игрушкой в его руках?! Ему стоит лишь пройти эти комнаты, войти в залу, приблизиться к государю и только сказать ему:
«Ваше величество! Прогоните от себя мою любовницу, решившуюся отделаться от меня простым убийством».
И все будет кончено для нее!..
Маргарита подошла к неподвижному, как статуя, Шепелеву и стала перед ним. Но если когда в жизни случалось ей робеть, падать духом, дрожать всем существом от ожидаемого удара в самое сердце, то, конечно, теперь…
В ту ночь, когда полиция в Карлсбаде требовала от графа Кирилла ее паспорт, – конечно, она не так оробела, как теперь. Тогда она меньше теряла!..
Маргарита остановилась, глядя юноше в лицо, и молчала. Что же ей было сказать? Остановить поздно, нельзя. Он оттолкнет ее и пройдет в эту залу. Просить, умолять, хотя бы упасть на колени, – не поведет ни к чему! Обмануть, клясться в любви, снова вернувшейся, – бессмысленно! Кто же поверит? Конечно, он не простит ей теперь, когда прежнего страстного любовника в нем нет и помину!
Уже есть другая женщина, которая еще недавно заслоняла его, как ангел-хранитель, от нее, приняв ее ребячески искренне за воплотившегося демона.
– Ты меня убить пришел? – дрожащим голосом выговорила, наконец, Маргарита. – Ты пришел сказать ему, что я тебя любила как безумная. Что же? Это теперь преступление перед тобой? Что я, разлюбив тебя, послала на смерть! Это ложь! Я и теперь люблю тебя! Но что же мне делать, если иные чувства заглушают во мне эту любовь? Мне захотелось иного. Честолюбие заговорило… Иди, делай что хочешь, но ты слишком добрый, хороший, чтобы делать зло… – Голос Маргариты дрожал и стал едва слышен… – Помни, что за мою любовь к тебе, хотя и недолгую, тебе грех…
Она не договорила, отступила в сторону и, будто очищая ему дорогу в залу, хотела прибавить: «Иди…» – но это слово от волнения и прилива чувства осталось у нее в гортани, и Шепелев не слыхал его, а только понял.
В зале взвизгнули смычки, и началась вторая часть концерта.
Шепелев двинулся, но не в залу, а назад и вымолвил голосом, отчасти слабым от болезни:
– Идите, графиня, за мною!
И Маргарита повиновалась быстро и почти безотчетно. Она смутно понимала только, что они двигаются в противоположную сторону от той бездны, в которую она была уже готова пасть. А куда ведет он ее, все равно. Если даже он пришел исполнить ту угрозу, которую когда-то среди безумных ласк постоянно ей повторял! Если он хочет просто зарезать ее на подъезде дворца или в садах, окружающих дворец?
В эту минуту гордой и самолюбивой красавице, царившей в придворном кружке этого дворца, казалось, что позор среди залы хуже смерти в глуши дворцового сада.
Сделав несколько шагов, Шепелев вымолвил:
– Где ваша горница? Проведите меня туда и не бойтесь. Я вам простил. Я не мстить здесь. Я исполняю святой долг верноподданного, многим лично обязанного особе государя. Хотя и ради вашей прихоти. Я устал, я недавно начал вставать с постели, проехался… Дайте мне сесть!
И Шепелев вдруг опустился среди прихожей на первую попавшуюся скамью. Маргарита стала над ним, скрестив на груди руки, и вдруг странное чувство шевельнулось на душе ее, и странная мысль ясно и глубоко сказалась в голове:
«Если б я была другая женщина, как бы я любила тебя!»
Много перечувствовала Маргарита в эти минуты! Резкий переход от убеждения, что юноша пришел губить ее, к известию, что он простил ей все и, больной, явился по чувству долга и признательности к государю, – заставило встрепенуться ее сердце.
Через мгновение Шепелев снова поднялся и тихо двинулся за графиней, которая повела его в свои комнаты.
Шепелев объяснил Маргарите, что он должен сообщить ей ужасную весть о громадном, правильно организованном заговоре против государя, во главе которого находятся даже ближайшие к нему вельможи. Тот, который коноводом этого заговора, теперь, быть может, в зале сидит около государя.
Юноша передал графине большой лист бумаги, исписанный кругом, полученный им от Квасова и перешедший, быть может, через несколько рук. Это был донос, в котором повторялось почти то же самое, что было в письме Шванвича, поданном Будбергу. Тут упоминались братья Орловы, братья Всеволожские, Теплов и другие как главные заговорщики; упоминался Баскаков как будущий цареубийца, упоминался Пассек, в руках которого найдутся все доказательства…
Маргарита недаром была в лагере «голштинцев», недаром была близким лицом теперь ко двору и государю. Это обстоятельство уже как будто обязывало ее ничего не знать и не ведать, что ведал или, по крайней мере, чуял всякий петербургский мещанин.
Маргарита была настолько поражена, что несколько времени не могла прийти в себя.
– О, как вы отплачиваете мне! – воскликнула она наконец. – И за то, что я заставила вас выстрадать, вы даете мне средство сразу достигнуть той цели, которая была все-таки еще далека. Теперь, передав в руки государя эту бумагу, которую принесли вы мне, я спасаю его. Он обязан мне своею жизнью, своим царствованием. Поймите, что вы даете в мои руки. Вместо того чтобы раздавить, вы еще более возносите меня!
– Не в этом дело, графиня! – отозвался Шепелев. – Не вам я хочу помогать для достижения великого звания однодневной или месячной фаворитки. Мне все равно, выиграете ли вы от этого или потеряете. Мое дело обязать вас клятвой сегодня же передать бумагу государю. Меня можете не называть. Мне не награда, не чин или крест нужны! Я на днях выхожу в отставку и уезжаю к матери… – Шепелев запнулся и выговорил странным голосом: – С невестой!
Маргарита на это последнее слово хотела что-то сказать, но эти слова показались ей неприличны, невозможны с ее стороны, и она промолчала. Шепелев поднялся и взял шляпу, собираясь выйти и уехать. Маргарита подняла руку, протянула ее к нему.
– Погодите, – быстро вымолвила она, – вы наверно уезжаете из Петербурга?
– Да.
– Быть может, вы никогда или бог весть когда вернетесь в Петербург. Быть может, я долго не увижу вас. Исполните мою последнюю просьбу, которая прежде была бы шуткой, а теперь… Теперь я не знаю, что это такое!.. Но теперь я умоляю об этом…
– Что прикажете? – холодно и все-таки слабым голосом отозвался Шепелев.
– Дайте мне в последний раз… поцеловать вашу руку! – прошептала Маргарита.
Шепелев удивленно раскрыл глаза и не понимал. Сто раз делала это Маргарита, но при иных условиях, в иные минуты. Теперь то же самое казалось ему какой-то неуместной затеей.
– Извольте! – тихо произнес он и протянул руку.
Маргарита схватила ее, прижала к губам, прижала к лицу. И вдруг она упала перед ним на колени и зарыдала так громко, что посторонние свидетели из соседних комнат могли услышать это рыдание. Кто-нибудь мог прибежать, увидеть ее в ногах офицера и точно так же погубить, сделать то же, чего боялась она от Шепелева за полчаса назад.
– Прости меня! – едва слышно, прерывая рыданиями, повторяла Маргарита.
Тут только юноша понял, какое значение было для нее в этом поцелуе в последнюю минуту перед разлукою.
Шепелев освободил руку, всю покрытую слезами, и, несмотря на слабость, которую чувствовал, двинулся быстрыми шагами. В каком-то опьянении горя, отчаяния и воспоминаний прошлых дней любви, которые воскресли теперь в его воображении, он без оглядки вышел из этого дворца.
Очутившись в тенистом саду, под чистым звездным куполом неба, он, обессилев, упал на скамейку, попавшуюся на дороге, и прошептал, почти теряя сознание:
– Маргарита! Маргарита! Когда я забуду тебя?
XXXII
Маргарита осталась одна, на коленях, среди комнаты, на несколько мгновений. Она не видала, но слышала быстро удалявшиеся шаги Шепелева. Слезы все еще тихо лились на руки, которыми она закрыла лицо, когда Шепелев отнял свою руку.
Но она почувствовала себя теперь лучше, спокойнее, счастливее, будто тяжелое бремя спало с души. Он сказал, что прощает ее, простил, и голос его звучал искренностью! Он жив, женится, но кажется, что еще любит ее.
И Маргарита поднялась на ноги, перекрестилась на свой лад, то есть по-католически, и тотчас вспомнила, как уже давно не случалось ей креститься. Она даже и не знала, когда это было. Она помнила, что на похоронах мужа ни разу не осенила себя крестным знамением.
В эту минуту Маргарита поклялась сама себе, что если судьба допустит ее когда-либо до той высоты общественного положения, о которой она мечтает и к которой теперь уже близится, – непременно поквитаться с Шепелевым. Она даст ему все, что только будет в ее власти. И выдающееся положение, и состояние. Но только одного никогда нельзя будет сделать – дозволить ему пребывание в столице. Их обоих стеснит это…
Маргарита быстро отерла лицо и хотела уже, взяв бумагу, идти в залу, но остановилась. Она посмотрела на себя в зеркало и увидала, что с таким лицом невозможно показаться в ярко освещенную горницу. Следы тревоги, следы слез, обильных и горьких, были так явны, что все гости тотчас же заметили бы их. Лицо ее пылало, прическа была расстроена, так как она в порыве прижималась головой к руке Шепелева, и обшлаг ее рукава унес половину пудры с головы. Маргарита стала звать Лотхен, но немки не было. Она быстро прошла в остальные горницы отведенного ей апартамента. Лотхен не было. Она вышла, встретила двух камер-лакеев и послала их скорей разыскать горничную.
В ожидании Лотхен Маргарита скорей отерла себе лицо душистым притиранием, снова нарумянилась, обильнее напудрила волосы, посидела, немного успокоилась… Лотхен все не было!
Наконец, поглядев на себя снова в зеркало, она решила, что может вернуться в залу… Лицо ее было несколько спокойнее и свежее… Но зато сама она была точно разбитая… Слабость сказывалась во всем теле. Маргарита взяла бумагу, но тотчас одумалась и решила, что нельзя подавать ее государю во время концерта, не обратив на это всеобщего внимания.
«Бог знает! Быть может, в этой же зале найдется кто-нибудь, как говорил Шепелев, какой-нибудь участник заговора; он может незаметно ускользнуть из дворца, броситься в Петербург – и все дело будет испорчено».
Маргарита пробежала глазами бумагу и, читая ее, невольно качала головой. Только в одном месте она странно улыбнулась, приостановилась читать и задумалась на минуту. Государыня была настолько замешана в заговоре, что и она должна быть уничтожена, – арестована, пострижена! И тогда он будет вдов! Казалось, сама судьба устраняет все препятствия на пути Маргариты к тому, что было еще недавно безумными грезами.
Маргарита тотчас же взяла маленький клочок бумаги, быстро написала записку и передала содержание всей бумаги в коротких словах. После писания она почувствовала себя еще слабее и хотя нетвердыми шагами, но наружно почти спокойная… вернулась в залу.
Она боялась опоздать, но, по счастью, когда квартет кончился, после долгого антракта государь предложил еще сыграть две-три вещи, к великому, но, конечно, скрытому неудовольствию всех гостей. Когда Маргарита снова появилась среди гостей, все невольно обратили на нее внимание и, конечно, все-таки заметили в ней следы если не тревоги, то некоторого волнения. Кроме того, по первому движению графини все увидели, удивились, а некоторые даже догадались, что случилось за это время…
Когда красавица, вместо того чтобы сесть на свое место, протянула руку и положила на пюпитр государя маленькую записку, Петр Федорович, не переставая играть, быстро взглянул на нее с таким выражением нетерпения и досады, что она даже слегка смутилась.
Маргарита села на свое место, дожидаясь перерыва, чтобы просить государя прочесть записку. По счастью, этот перерыв вскоре же был сделан среди нового взрыва рукоплесканий и комплиментов, но уже более холодных, так как всем начинала надоедать эта бесконечная музыка.
Маргарита обратилась к государю и вымолвила:
– Ваше величество, прошу вас прочесть немедленно эту записку.
– Хорошо! Хорошо! – повторил государь, очевидно думая о другом. И, обернувшись к старику шведу, он заговорил с ним и заспорил о каком-то месте партитуры, уверяя, что старичок играет его совершенно неверно.
Между тем Маргарита чувствовала себя все хуже и все слабее. Она была, в сущности, настолько потрясена встречей, объяснением с Шепелевым, его известиями, что теперь пережитая тревога сказывалась все сильнее. Она чувствовала, что окончательно не может досидеть до конца вечера. Вдобавок лицо ее выдавало эту слабость, а ей не хотелось, чтобы придворные заметили, насколько она встревожена.
Маргарита обратилась к Воронцовой и попросила ее помощи:
– Мне очень нездоровится. Я уйду, но прошу вас, графиня, добейтесь, чтобы государь прочел записку, которую я положила на пюпитр.
– Хорошо, матушка, – отозвалась Воронцова, сидевшая по-прежнему наседкой в кресле. – Скажу. Да небось все пустое! Цидулька-то небось вздорная, только подведешь меня…
– Напротив, графиня, это очень важное дело. Если бы я чувствовала себя хоть немного лучше, я бы осталась и заставила бы государя тотчас прочесть ее.
Не надеясь на Воронцову, Маргарита, пользуясь антрактом, подошла к Жоржу и попросила его тоже заставить государя прочесть записку. Жорж, конечно, тотчас же догадался.
– Вести из Петербурга? – спросил он по-немецки.
– Да, ваше высочество.
– Я знаю, он только взбесится…
И Жорж быстро передал графине сцену свою с государем накануне.
– Я умоляю вас это сделать, даже до утра нельзя отложить.
– Хорошо! Я сошлюсь на вас… Напомню, что вы его о чем-то просили. Но о записке ни за что говорить не буду!..
Маргарита вышла, вернулась к себе и чувствовала себя все хуже с каждой минутой.
Она снова позвала и стала искать Лотхен, чтобы раздеться и лечь спать. Но немки не было нигде. От лакеев, которых она посылала за горничной, графиня узнала, что Лотхен не нашли нигде, обшарив весь дворец и весь сад.
Маргарита поневоле встревожилась. Делать было нечего. Она не могла и не умела раздеваться одна и потому, только расстегнув и сбросив корсаж, накинула на себя свой любимый пунцовый платок и умостилась кое-как на диванчике в ожидании немки.
Через несколько минут появилась женщина, которая в свой черед исполняла должность горничной Лотхен, и объявила графине, что немка, вероятно по приказанию самой графини, уехала на тройке в Петербург еще в начале концерта.
Графиня раскрыла широко глаза и от изумления не могла выговорить ни слова. Этот поступок Лотхен был совершенно невероятен, и Маргарита готова была верить, что женщина просто сочиняет.
Однако, раздевшись с ее помощью, Маргарита поспешила лечь. Ей было настолько дурно, что вдруг в тот момент, когда она засыпала, ей пришла безумная мысль в голову: уж не отравили ли ее? Есть такие яды, медленно действующие! Уж не Лотхен ли, подкупленная врагами, отравила ее и спаслась бегством? Неужели она заснет и не проснется завтра!..
Но, обсудив хладнокровно все, Маргарита поняла, что ее состояние было не что иное, как последствие тех редких, но бурных душевных потрясений, на которые она бывала с детства склонна… Скоро ее тревожные мысли перешли в крепкий сон.
XXXIII
Между тем в зале все поднялись, собираясь переходить ужинать в столовую.
Только один человек сидел как пригвожденный к своему месту и не двигался. Глаза его тревожно обегали всех и затем подолгу, будто прикованные, не покидали записки, лежащей на пюпитре государя.
Григорий Николаевич Теплов, сидевший лицом к тем дверям, в которые выходила Маргарита, видел в конце анфилады комнат фигуру преображенца и узнал Шепелева еще прежде Маргариты. И этого было довольно!..
Теплов знал, когда ехал сюда, что в Преображенском полку, по словам Алексея Орлова, произошла днем бурная сцена между Пассеком и Квасовым. Квасов грозился, что в тот же день он или его племянник будут в Ораниенбауме и доведут до сведения государя то странное, что творится на ротном дворе, и все, что узнал случайно Квасов от пьяного солдата. Орлов, передавая это Теплову, считал все за пустую угрозу, хотя Квасов грозился, что имеет доказательства. Давно уже бывали подобные разговоры и ссоры во всех полках, и некоторые офицеры грозились довести до сведения государя то, что, в сущности, им только чуялось, но чего доказать они не могли. И угрозы всегда оставались угрозами!..
Теплов, едучи в Ораниенбаум, все-таки думал об этом случае на ротном дворе. И тут вдруг во время квартета, в ту минуту, когда он наиболее был спокоен и усердно водил смычком по своей виолончели, вдруг предстало перед его взором ужасное видение. Этот преображенец Шепелев, конечно, смутил Теплова не менее, чем и Маргариту. Если графиня боялась в нем своего палача, то и для Теплова точно так же это был палач. Если преображенец явился во дворец, вопреки этикету проник до первых комнат и стоит в ожидании выхода государя, то, очевидно, он не с пустыми руками. А если у него есть хоть что-либо, то и судьба Теплова тоже в его руках.
И в ту минуту, когда Маргарита вышла к Шепелеву и говорила с ним у дверей, затем исчезла за ними, Теплов, не спускавший с них глаз, начал отчаянно путать и ошибаться на всяком шагу. Государь уже раза три гневно взглянул на него и два раза нетерпеливо вскрикнул, не относясь ни к кому:
– Quelle mazette!..[48]
Во время антракта Теплов несколько успокоился, но затем, когда Маргарита снова появилась в зале и положила записку на пюпитр государя, он мгновенно изменился в лице. Тонкий Теплов заметил тотчас в графине следы страшной тревоги. Спокойное и красивое за час назад лицо ее было, по его наблюдению, с совершенно изменившимися чертами. Вдобавок она не усидела в концерте и ушла нетвердыми шагами.
Скоро все поднялись с места, и многие уже прошли в столовую вслед за государем, а в зале оставались только несколько человек, в том числе принц, гетман и Корф. Теплов почувствовал, что сердце его затрепетало от радости. Записка, забытая государем, лежала на пюпитре. Теплов был убежден, что это донос Квасова на Баскакова и Пассека и поэтому его жизнь и жизнь его новых друзей зависит от этой бумажонки.
«Надо уничтожить этот клочок как бы то ни было!» – решил он.
Теплов слышал и знал, что графиня, сказавшись больной, ушла спать. Он понимал, что завтра Маргарита или, наконец, тот же Шепелев или Квасов снова повторят, доведут до сведения государя то, что теперь написано на этом клочке. Но главное не в том, надо выиграть время! Завтра – не сегодня! Ночью он уже побывает у Орловых, и что-либо предпримут они. Григорий Николаевич отважно подошел к пюпитру государя, будто для того, чтобы проглядеть его ноты. Скоро рука его уже двигалась около записки…
В ту минуту, когда он начал перевертывать страницы тетради, последние находившиеся в зале вышли в столовую. Но вдруг Теплов, к ужасу своему, увидел, что принц Жорж не последовал за другими, а зорко следит за ним!.. И вот он близится к тому же пюпитру и, став около него, косо поглядывает на записку.
«Взять нельзя! Он знает! Он понял!» – простучало молотом в голове Теплова.
Действительно, было ясно, что Жорж пришел стать стражем над этой запиской. Теплов ожидал каждое мгновение, что принц протянет руку, возьмет записку и просто снесет ее государю. Он не знал, как досталось Жоржу накануне от племянника, чтобы он решился теперь на новую головомойку. Жорж твердо решился только караулить записку! Теплов быстро сообразил, что делать. Он предложил руку принцу, чтобы вести его ужинать. Принц охотно согласился, и оба двинулись в столовую. Маленький беленький клочок бумажки остался на пюпитре.
Теплов тотчас заговорил о Германии, в которой долго жил, но, проходя первые комнаты, он вдруг покинул на минуту Жоржа, подошел к гетману и быстро выговорил:
– Кирилл Григорьевич! Идите в залу, уничтожьте записку. Не то завтра и мне, и вам, и многим снимут головы!
Гетман побледнел как полотно. Он, конечно, как и другие, заметил продолжительное отсутствие Маргариты, заметил ее тревогу, видел записку.
Теплов быстро вернулся к Жоржу и снова завел речь о германских университетах. И снова, любезно подав ему руку, провел в столовую.
Гетман, от природы очень трусливый, по национальности осторожный, стоял на месте и не знал, что делать. Он верил Теплову на слово, потому что перед тем сам ему предсказывал донос. Он не знал, что государь, уже получив несколько доносов, не верил им. Кирилл Григорьевич думал, что это первый донос. А он сам как на грех со дня объявления войны с Данией вступил через Теплова в сношение с кружком Орловых, который был уже теперь не кружок, а многолюдное сборище с разветвлением по всему городу.
Гости почти все уже были в столовой. Веселый хохот государя раздавался оттуда.
Гетман взглянул в залу. В ней только один полусонный камер-лакей поправлял свечи и стулья. Инструменты лежали на местах. Гетман, как и другие, знал, что государь после ужина непременно вернется к своему пюпитру и будет снова играть, следовательно, найдет записку, вспомнит и прочтет! И гетман, меняясь в лице, с дрожью во всем теле, быстро двинулся в залу; не помня себя, с каким-то туманом перед глазами, от которого будто кружилось все и будто потухали свечи, он приблизился к пюпитру. Через мгновение скомканная записка была в его кармане.
Быстрыми шагами догнал он несколько человек, еще беседовавших в соседней горнице, и вместе с ними вступил в столовую.
И записка эта в боковом кармане камзола гетмана жгла его как уголь в продолжение всего ужина. А что, если хватится государь! Пошлют за запиской и ее не найдут! Государь такой человек, что способен полушутя приказать немедленно запереть двери, раздеть или просто обыскать всех! Записка скомканная найдется в его кармане! И он будет в Сибири!
«Нет! Съем!» – решил гетман, но, однако, не успокоился. И, будто в ожидании этого редкого блюда, он не только не ел ничего, но сидел, тяжело переводя дыхание и не смея взглянуть на Теплова. Он чувствовал, что тот не спускает с него взгляда и вопросительно впивается в него глазами, но не отвечал… даже взглядом.
Через час или полтора веселая, слегка захмелевшая компания расходилась и разъезжалась. Государь, веселый, но сильно уставший, послал Гудовича за своей скрипкой в залу.
– А то и другую мне разобьет кто-нибудь! – вымолвил он.
Гудович лениво пошел в залу, взял скрипку, вспомнил о записке взволнованной графини и, не видя ее на пюпитре, удивился. Он помнил хорошо, что государь не брал ее, уходя ужинать.
«Ну и черт с ней! – подумал он. – Маргариткины штуки! И чего она выходила, да еще, кажись, ревела? Вернулась с распухлыми глазищами».
Еще через час весь Ораниенбаумский дворец спал беспробудно!
XXXIV
Наутро Маргарита, проснувшись, вспомнила все случившееся накануне, и с первых же минут пробуждения для нее начался день такой же тревожный.
Лотхен положительно нигде не было, она скрылась. Маргарита знала ее давно, любила, верила ее честности, но тем не менее прежде всего бросилась к тому комоду, где лежали ее бриллианты и деньги. Все было цело. Затем она вспомнила о бумаге и, сделав наскоро пакет, хотела переслать его государю, но решила, что это невозможно, что надо дождаться свидания и передать лично. Несколько раз спрашивала она, поднялся ли государь и может ли она его видеть, но получала в ответ, что государь спит.
Наконец около двух часов дня графине подали письмо. Она быстро распечатала его, пробежала глазами и опустила руки.
– Что! – вымолвила она вслух сама себе. – Как! Лотхен! Что я? С ума схожу?!
И она снова пробежала письмо. Нет, это ей не чудится! Она не бредит! Это длинное немецкое письмо, красиво написанное кем-то, подписано каракулями, изображающими «Лотхен». То, что говорится в нем, было бы нелепой шуткой, бессмыслицей и поэтому должно быть правдой. Содержание письма, которое подписала Лотхен каракулями, действительно должно было изумить Маргариту.
Лотхен начинала с того, что просила у графини, которую искренне любила и любит по-прежнему, прощение. Смысл длинного письма был следующий:
«Всяк сам за себя. Вы старались для себя и достигли того величия, в котором от всей души желаю вам остаться. Я стремилась к другому и тоже достигла и тоже, надеюсь, долго удержу то, что сумела завоевать. Ваше положение настолько высоко, что вы не можете мне завидовать и не должны на меня сердиться. Покуда вы безумствовали, полюбив мальчишку, который вас мог погубить и, по счастью, не погубил, я тоже устраивала свою судьбу. Теперь я в доме графа Иоанна Иоанновича полная хозяйка над всем, а еще более над ним самим. Но этого мне мало. Я слишком самолюбива, чтобы удовольствоваться ролью простой наложницы, и надеюсь, что вскоре буду носить ту же фамилию, которую носите вы. Да, liebe Gräfin, я надеюсь, и даже скоро, быть графиней Шарлоттой Скабронской, а покуда остаюсь любящая вас Лотхен».
Маргарита так потерялась от этого письма, что не знала, что делать. Наконец она сердито расхохоталась и произнесла вслух:
– Ну, Лотхен! Этого я, признаюсь, от тебя не ожидала.
Действительно, Лотхен не лгала в письме, и в эту минуту, когда Маргарита читала его, веселая немка, «верченая», как звал ее когда-то Иоанн Иоаннович, была у него в отведенных ей горницах и властвовала в доме.
Иоанн Иоаннович после невероятного приключения на похоронах внука, выведя красивого преображенца из шкафа внучки, решил окончательно бросить мысль о «цыганке». Он собирался уже снова не бывать в ее доме, прекратить всякие сношения, но с этого же дня его стала преследовать «верченая», то есть красивая немка Лотхен. Она казалась севрской куклой около серьезной красоты Маргариты, но сама по себе была очень хорошенькая, а главное, была непрерывно и неисчерпаемо весела и смешлива. Иоанн Иоаннович перестал ездить к внучке, но Лотхен начала ездить к нему, выдумывая всякие поручения от барыни.
И вскоре старик догадался, в чем заключается игра Лотхен. Иоанн Иоаннович недолго думал и решился. Мало ли у него перебывало «вольных женок»! Одной больше, что за важность! И кончилось все побегом Лотхен и переездом в его дом.
Часа в четыре Маргарита добилась свидания с государем, и первые слова ее были:
– Я надеюсь, что вы уже распорядились?
– Насчет чего, графиня? – отозвался государь быстро, так как спешил на парад голштинского войска.
Маргарита изумилась, напомнила о вчерашней записке и была несказанно поражена, узнав, что Петр Федорович ее и не читал и не видал…
Маргарита тотчас же передала государю полученную накануне бумагу и глазам своим не верила, когда государь, пробежав ее, рассмеялся.
– Ну, знаете, графиня, только на вас разве я сердиться не стану. А следовало бы и с вами дня три не говорить!
– Я вас не понимаю! – воскликнула Маргарита.
И государь передал графине, что эти доносы действительно надоели ему. Все это вранье, клевета. Конечно, есть в Петербурге и вельможи, и гвардейские офицеры, которые не любят его за симпатии к немцам, но что от этого недовольства нескольких лиц до заговора – целая пропасть.
– Я знаю, – прибавил он, – что жена меня ненавидит и что она хитрая, лукавая, на все способная женщина. Она, конечно, готова была бы стать во главе заговора, чтобы даже убить меня. Но что же она может сделать одна? А приверженцев у нее нет. Одна семнадцатилетняя Дашкова, которая к тому же une tête fêlée!..[49]
Графиня почти насильно заставила государя отложить на время парад и вернуться в кабинет. И там в продолжение часа на все лады, чуть не умоляя его на коленях, горячо просила поверить всему и распорядиться.
– Наконец, сделайте это для меня! – воскликнула Маргарита. – Исполните мой каприз! Умоляю вас только об одном: прикажите арестовать этого офицера Пассека, и если доносчик лжет, если у Пассека не окажется этих документов, компрометирующих всех остальных заговорщиков и императрицу, то тогда я готова на все! Накажите меня, как хотите! Прогоните от себя…
Государь обещал, наконец, исполнить прихоть и каприз красавицы. Но после смотра и парада, забыв об обещании, он отправился прямо в маленький ораниенбаумский театр, где в этот вечер должно было идти представление. Государь сам осмотрел, все ли в порядке, и здесь, когда он оглядывал театр, еще под впечатлением вчерашнего концерта, ему вдруг пришла новая мысль. Музыкальный запой еще продолжался. Ему сегодня хотелось бы поиграть на скрипке, а надо ждать три дня до двадцать девятого числа. Он подумал и велел послать сказать музыкантам, что вечером он сам сядет с ними в оркестр и будет играть вторую скрипку. И, озабоченный новой затеей, государь быстро вернулся во дворец, достал ноты и стал репетировать свою часть той увертюры, которую намеревался приказать играть.
Маргарита догадалась, будто чуяла, что ничего еще не сделано. Она смело, точно так же, как еще недавно Жорж, направилась прямо к дверям кабинета.
На этот раз дверь была не заперта. Маргарита без церемонии, потому что уже имела на это право, вошла. Государь точно так же собирался рассердиться, но Маргарита вдруг стала на колени и полушутя-полусерьезно объявила, что не уйдет до тех пор, пока он не даст приказания арестовать Пассека.
Петр Федорович покачал головою, как бы говоря: «Ох, уж вы, женщины!»
Кликнув Нарцисса, он велел позвать к себе кого-нибудь из адъютантов. Тотчас же явился Перфильев.
– Ну, вот и отлично! – воскликнул Петр Федорович. – Этот самый у меня умный. Вот видишь ли, Степан Васильевич, ступай ты в Петербург исполнять дамский каприз. Прежде всего на тот Преображенский ротный двор, где теперь чаи распивает и ничего худого себе не ждет офицер Пассек. Арестуй его и приставь к нему такую стражу, как если бы он был самый страшный государственный преступник. Уж шалить так шалить! – рассмеялся государь. – Понял?
– Понял, ваше величество!
– Ну а потом, – прибавила Маргарита от себя, – не мешало бы вашему величеству приказать господину офицеру заехать и поглядеть, что делают офицеры Орловы.
– Извольте! Это Степан Васильевич сделает с особенным удовольствием. Он тоже картежник и тоже выпить любит, а у Орловых вечное пьянство и карты. Так вот, – обернулся государь к Перфильеву, – сначала сделай глупое дело, а потом ступай к Орловым и сделай умное: награди себя за поручение. Можешь оставаться у них хоть целых трое суток. Играй в карты и пей.
– Ваше величество, – отозвался Перфильев, – и то и другое я исполню с особенным удовольствием и усердием, в особенности второе поручение, так как я уже несколько дней, как имею сведения, что к Орловым стоит приставить кого-нибудь для надзора. Но, признаюсь откровенно, побоялся доложить об этом вашему величеству, так как его высочество принц Жорж…
– Ну, здравствуйте! И этот тоже в доносчики полез… Фу, господи! Ну, вот и отлично, стало быть, должен быть доволен! Ступай! – выговорил Петр Федорович, и, чтобы скорее отвязаться от Перфильева и Маргариты и вернуться к нотам и скрипке, он прибавил: – Графиня, уведите его к себе и расскажите… Объясните… Все, что хотите!
XXXV
Вечером двадцать шестого числа ораниенбаумский театр был полон приглашенными.
Государь действительно сел в оркестр, играл малозатверженную партитуру и усердно сбивал с толку всех музыкантов.
Представление разделялось на две части: на серьезную и веселую.
Публика тоже мало интересовалась пьесами, которые повторялись за последнее время часто. Многие знали их наизусть, видев сотни раз еще при Елизавете Петровне. Публику интересовало гораздо больше другое обстоятельство.
В театре в двух передних ложах направо и налево от публики, друг против друга, будто умышленно, сидели две женщины, на которых постоянно, при малейшем их движении, обращалось всеобщее внимание.
Налево в эффектном оранжевом костюме, отделанном черным бархатом и вышитом серебром по черному, как всегда красивая, но несколько неспокойная, тревожная, нервно настроенная, была графиня Скабронская. Она вовсе не смотрела на сцену и не переставая шепталась с прусским послом, которого вызвала из города и назначила свидание в театре. Гольц был тоже видимо неспокоен. Несмотря на то что публика не спускала с них глаз, они не переставали шептаться.
Предмет их беседы, очевидно, был не простой, а крайне важный. Покинуть театр и поговорить наедине они боялись, так как Петр Федорович мог бы принять их отсутствие на свой счет, приписать своей дурной игре на скрипке. Приходилось говорить в театре и при тысяче нескромных глаз.
Направо, прямо против их ложи, сидела другая красавица, которая не уступала красотою Маргарите. Одежда ее траурная, черная с головы до ног, резко бросалась в глаза среди пестрых, разноцветных костюмов всех дам. Лицо ее было не только сумрачно, но даже печально. Она тоже не смотрела на сцену, но и не шепталась ни с кем, а, опустив глаза и глубоко задумавшись, сидела неподвижно. За нею в глубине ложи сидела фрейлина и какой-то придворный. Это была императрица, которой приказали приехать из Петергофа и присутствовать на спектакле. Это было сделано ей на смех.
Накануне Петр Федорович узнал от Гудовича, что жена говорила кому-то и радовалась, что ее не приглашают на увеселения и празднества Ораниенбаума.
– Ну, так я заставлю ее приехать! – воскликнул он.
И в этот вечер государыня явилась в театр, но решилась протестовать, хотя бы своим черным траурным платьем, с которого только ради приличия сняла плерезы.
Несколько раз во время спектакля государыня и графиня обменивались странными взглядами. Маргарита, глядя на нее, думала:
«Знаешь ли ты, что не нынче завтра я буду просить арестовать тебя, сослать в монастырь и постричь. А эта просьба моя будет исполнена охотно. И тогда, знаешь ли ты, кто может вскоре занять твое место?»
И эти мысли заставили сердце Маргариты замирать как-то особенно. Ничего подобного она не чувствовала никогда за всю свою жизнь.
Императрица, со своей стороны, взглядывала спокойным взором, будто свысока мерила эту авантюристку, явившуюся в Петербург бог весть откуда, прикрываясь именем глупого полурусского вельможи.
Государыня знала отлично, что эта красавица – не Воронцова и вообще не из тех безграмотных и глупых женщин, которыми так много и часто на ее глазах увлекался государь. Государыня смотрела на Скабронскую и думала:
«Я одна, быть может, знаю, чем ты можешь быть, если судьба не захочет заступиться за меня. В этой стране, добродушной и слабодушной, с горстью просвещенных людей, с легионами темного народа, – все возможно! Как легко и просто могу я через месяц, покуда он будет там на войне, сделаться регентшей государства, а может быть, и более… Так точно и ты!.. Завтра меня могут легко и просто с помощью солдат свезти и бросить в келью дальнего монастыря на окраине громадной страны. Тогда с тобой так же легко и просто может быть то же, что было всего сорок лет тому назад на памяти многих еще живых. Ту звали Мартой, тебя звать Маргаритой. До сих пор судьба ваша почти одинакова. Он неумеренно ниже того, глупее, бесхарактернее, а ты неумеренно умнее и красивее той. Сначала из Маргариты ты сделаешься Анной или Елизаветой, как я из Софии Фредерики стала Екатериной. А затем болезненный император может преждевременно сойти в могилу, а у тебя, быть может, уже будет сын. И вот явится на глазах удивленного… даже нет… не удивленного, а боязливого или равнодушного люда… явится императрица Анна Вторая или Елизавета Вторая. Все это только кажется сказкой из „Тысячи и одной ночи”. Но я верю в возможность этих сказок на берегах Невы. Такая сказка может быть и со мной, может быть и с тобой. И теперь, в эту минуту, никто не знает, один Господь знает, про кого услышит Россия и Европа: про Екатерину Вторую или про Елизавету Вторую. Если эти слова: „Елизавета Вторая” – кажутся бессмыслицей, то слова: „Екатерина Вторая” – еще более бессмыслица! В пользу Елизаветы Второй – император, двор, голштинцы, часть гвардии, ему подвластной. Эта сказка имеет за собою законную силу! А сказка об Екатерине Второй – сказка противозаконная. За нее, если дурно и неискусно расскажут ее, – закон поснимает с плеч много умных и благородных российских голов».
И от мыслей этих государыня надолго поникла головой. Ее привел в себя вежливый голос фрейлины, говорящей, что представление кончилось.
Она очнулась и вздохнула. Все в театре были на ногах, некоторые выходили, а против нее в своей ложе уже стояла эта авантюристка… стройная, изящная, и, как-то величественно откинувши бюст свой, дерзко и гордо оглядывалась кругом на публику. И государыня, грустно улыбаясь, шепнула невольно:
– Чем не Елизавета Вторая!
И в этот же самый миг, под давлением какого-то тайного неведомого толчка или будто веянья, Маргарита, оглядев пеструю толпу, взглянула на поднявшуюся со своего места государыню и встретилась с нею не только глазами, но встретилась и помыслами.
«Ты красавица императрица! Но, – подумалось мгновенно Маргарите, – но, если бы я была на твоем месте, то… я чувствую!.. Я была бы не ниже!.. Я была бы только… на своем месте!..»
XXXVI
На рассвете государь в шлафроке прошел из одной половины дворца в другую к себе в спальню.
Нарцисс, дожидаясь возвращения государя, не смел ложиться спать и теперь, положив руки на стол, а на них свою курчавую голову, храпел на всю комнату.
Государь был в веселом настроении духа и подшутил над Нарциссом так, что негр вскочил и со сна начал орать на весь дворец.
– Тише, дурак! Это я! – крикнул Петр Федорович, боясь, что Нарцисс со сна не узнает его и полезет драться.
Государь прошел в свою спальню, сел на кровать и протянул ноги негру. Нарцис, как и всегда, бережно стал стаскивать с них узкие башмаки и длинные чулки.
– Слушай, Нарцисска! – воскликнул Петр Федорович. – Знаешь ли ты, что сегодня будет?
– Знаю! – сонным голосом отвечал Нарцисс. – Сегодня двадцать седьмое, ну, стало быть, в Гастилицу к Разумовскому графу пировать поедете.
– Эка диковина! А что я там сделаю?
– Венгерского или какого другого…
– Врешь! – прервал государь. – Это тоже не диво! Я там Алексеевну увижу и прямо оттуда ее в монастырь сошлю. Дело решенное, сейчас честное слово дал. Понимаешь, дурак? Я своему честному слову никогда не изменяю. Если монархи не будут держать своего слова, то тогда и миру конец, – весело болтал государь и, улегшись в постель, велел Нарциссу разбудить себя не ранее часу дня.
– В два Разумовские уже кушают, – заметил Нарцис.
– Не твое дело, черный черт!
В два часа дня государь уже встал и быстро собирался. Экипажи уже были поданы. Он прошел снова на половину графини и, найдя ее в утреннем пеньюаре, остановился в удивлении:
– Разве вы все-таки не едете в Гастилицу?
– Я вам сказала, что нет! – отозвалась графиня, улыбаясь и не вставая со своей кушетки.
Государь глядел на нее в удивлении и, наконец, стал упрашивать. Графиня отказалась наотрез.
– Отчего вы не хотите? Ну, пожалуйста. Для меня.
– Ни за что! – сказала Маргарита. – Во-первых, ни фельдмаршал, ни гетман меня не звали. Во-вторых, там будет, я знаю наверное, императрица. Хотя она российская государыня, а я простая придворная дама, но тем не менее я не могу позволить ей унижать мое чувство собственного достоинства.
– Что это значит? – вспыхнул слегка государь.
– Этого я не скажу… Бог с ней!..
– Нет, я требую! Скажите. Что она сделала? Когда?
– Извольте… Вчера в театре она хохотала каждый раз, как вы играли соло… Я, невольно глядя на нее, пожала плечом… Она так взглянула на меня, с таким презрением, что я хотела выйти из ложи и уйти к себе. И если я осталась, то только потому, что мне хотелось дослушать ваше соло на скрипке.
Государь-артист слегка покраснел.
Говоря это, Маргарита думала:
«Как я скоро выучилась великолепно лгать».
– Но ведь я вам обещал, слово дал и исполню его, сегодня же! При вас ее возьмут и прямо из Гастилицы повезут в Петербург. А затем или на Смольный двор, или, может быть, прямо в Шлиссельбург.
– Сделайте это, ваше величество, и тогда я поверю. И тогда и Разумовские и другие не посмеют меня не приглашать. Я знаю, что я не особенно знатного происхождения и графиня только по мужу. Но что же такое казацкие пастухи!
Государь стоял почти печальный, графиня собиралась испортить ему весь день.
– Так не поедете? – выговорил он.
– Не поеду, не поеду и не поеду… – воскликнула Маргарита горячо. – Мое положение настолько тяжело при встречах с ней, что если бы я знала наверное, что вы способны не исполнить слова, данного мне сегодня, то есть вчера… Нет, то есть сегодня…
И Маргарита улыбнулась…
– Если бы я знала наверное, что вы из Гастилицы не отдадите приказа ее арестовать, то я бы сейчас же покинула не только Ораниенбаум, а, может быть, и Россию.
– Ну, этого не будет! – воскликнул государь. – Вот увидите. Я ей задам!
Через несколько часов в пышной резиденции графа Разумовского, где было мало приглашенных, но была государыня, разыгралась тяжелая, надолго памятная сцена. Но эта сцена между мужем и женой, между императором и императрицей была последняя. С этой минуты они уже никогда в жизни не видались. Государь в припадке гнева передал все, что знал через доносы, и объявил, что, покуда они в Гастилице, правитель дел общества заговорщиков уже, вероятно, арестован, а вслед за ним и многие другие.
И Петр Федорович приказал государыне быть готовой в тот же вечер или наутро быть отвезенной в крепость или монастырь.
– Еще я место не решил! – воскликнул он.
В тот же вечер государыня, вернувшись к себе в Петергоф, заметила, что она уже почти под арестом, что число часовых вкруг дворца и в парке увеличено, а двое кирасиров поставлены у самого маленького здания Монплезира, в котором она жила. Несмотря на усталость, она не легла спать, а только переменила платье и села за письмо к Григорию Орлову, в котором писала о сцене, разыгравшейся в Гастилице. Письмо кончалось словами:
«Или все кончено, или все начинается! Подумайте, решите! Если вы отвечаете, как говорили на днях, за пятьдесят человек офицеров и за десять тысяч рядовых разных полков как за самого себя, то я бы могла сказать: все начинается! Если же вы введены в обман, то все кончено».
В это же самое время государь, вернувшись в Ораниенбаум, рассказывал графине Скабронской все случившееся в Гастилице.
– Довольны вы? – прибавил он.
– Чему же, ваше величество?
– Как чему?
– Вы ничего не сделали! Вы только побранились с ней, наделали много угроз, наговорили много неприятных вещей и горьких истин, но, в сущности, ничего не сделали! Она не арестована и не свезена никуда! Впрочем, я так и думала. Вы человек слишком добрый и поэтому неспособный сделать даже то, что есть государственная необходимость. Вы обещаете, а потом…
Маргарита не договорила, потому что государь вспыхнул и, наступая на нее, крикнул во все горло:
– Как вы смеете это говорить?
Маргарита мгновенно смутилась, это была первая вспышка гнева на нее.
– Простите меня, – залепетала она, предполагая, что государь оскорбился.
– Ну, так завтра же, ранехонько утром, мы целой компанией поедем в Петергоф и сами арестуем ее. Если желаете, вы сами прикажете офицерам посадить ее в бричку и везти на Смольный двор. А через неделю мы, пожалуй, сделаем une partie de plaisir[50] на ее пострижении. Если я этого не сделаю завтра, то даю вам право назвать меня нечестным человеком и немедленно покинуть Ораниенбаум.
Государь, уставший от переездов в Гастилицу и обратно, от целого дня волнений и вспышек гнева, ушел к себе и скоро спал крепким сном.
Графине, взволнованной до крайности, напротив, не спалось. Она села к открытому окну.
Дивная, теплая июньская ночь, синее небо, все усеянное звездами, теплый ветерок, проносившийся с моря и шумевший перед окнами темными ветвями деревьев, тишина, наступившая во всем дворце, – все это поманило Маргариту вон из горницы. Тревога на душе, но счастливая, сладкая, радостная, не позволяла ей остаться в четырех стенах маленькой горницы.
Она накинула на себя большой пунцовый платок и тихо прошла несколько горниц, где было светло, как днем, от ясного неба, глядевшего во все окна. Маргарита вышла на большую террасу, откуда сразу открылось перед ней огромное пространство, укрытое и окаймленное синим сводом неба, усеянным мириадами звезд. Вдали тихо, будто ласково, ворчало море.
Маргарита оглянулась, прислушалась и задумалась…
И бог весть почему ей вдруг вспомнилось ее детство в стране, где чаще бывают такие теплые и ароматные ночи. Ей вспомнилась ее старая няня, родом кроатка, которая всегда предсказывала дорогому дитятке великое будущее. И красоту, и честь, и славу, и деньги, и любовь! И многое уже сбылось в жизни Маргариты. Почему же не сбудется и все!
Но почему вспомнила она об этой няне теперь? Какое странное совпадение!
Она верит теперь, что завтра он решится… И в России не будет императрицы! И место будет свободно! А кто же теперь в Петербурге скорее всех может занять его?
И графиня оперлась на белую балюстраду террасы, под которой шумела сплошная чаща ветвей, облитая ночной синевой. Она склонила голову на руки и вся обмирала от собственных же мыслей.
«Да! Завтра! Через несколько часов! Даже страшно! И как это просто все совершилось!»
Месяца два тому назад, думая об этом, она считала себя глупенькой мечтательницей, сама над собой часто подсмеивалась.
«А теперь?!»
Маргарита вдруг поднялась, отошла от перил и, став среди пустой и белой террасы, изящно увитая с руками, с головой и до полу пунцовым платком, гордо оглянулась кругом себя.
В эту минуту с высокой террасы действительно и весь Ораниенбаум, и дома, и сады, и окрестность, и вдалеке ворчащее море – все это было как будто у ног этой красавицы женщины. Но на днях она будет по закону повелительницей не только над тем, что может окинуть теперь ее взгляд, но и над всем тем, что простирается далее, за видимым кругозором, на громадном пространстве, между двух частей света, между четырех морей, включая в себя почти все языцы земные.
Маргарита невольно подняла голову и окинула, будто влюбленным взором, все небо, широко и далеко разверзающееся над ней. И все сотни тысяч этих ярких звезд глянули вдруг с мягкой синевы в ее красивое лицо и отразились таинственно мерцающим светом в ее влажных, восторженных глазах. Будто все они разгадали тайну, узнали великую долю земную этого маленького изящного существа и будто приветствуют ее… И Маргарите почудилось, что она стремительно взлетает!.. Она быстро близится к этим звездам! А вся окрестность, даже вся земля и все земное, остается там, далеко внизу… и рабски ложится у ее ног!..
XXXVII
В те же минуты за полночь в квартире Григория Орлова сидело несколько человек друзей из самых близких и человека четыре посторонних, так же, как когда-то Великим постом. Теперь только особенно преобладал один элемент: измайловцы. Их тут было восемь человек: три брата Всеволожские, два брата Рославлевы, Ласунский, Похвиснев и Вырубов. Кроме них были Баскаков, Барятинский и, наконец, Федор Орлов, отлучавшийся за вечер уже четыре раза.
В числе посторонних был здесь адъютант государя Перфильев. Он почти двое суток не выходил от Орловых, пил и играл в карты.
Григорий, конечно, не сомневался, почему Перфильев почти безвыходно сидит у него. Да и сам откровенный и добродушный Степан Васильевич промолвился, что государь на время приставил его надзирателем к ним.
Григорий, сумрачный, тревожный, переходил из комнаты в комнату, от игорного стола к другому, заставленному закуской и блюдами, и на неоднократные вопросы Перфильева отвечал уже в десятый раз:
– Голова трещит, черт с ней! Да и знобит…
Но наиболее мрачный и озлобленный на всех был старик Агафон. Он чуял, что господа, перепуганные утром насмерть арестом Петра Богдановича, затевают что-то.
«Должно быть, силком освободить его! – думал старик. – Озорник Алексей Григорьевич нанял к тому же четверку дивных коней, посулил за нее шальные деньги, благо их совсем нет в доме… и поскакал куда-то в самую полночь. Уж, конечно, какое-нибудь глупство или озорничество! Федор Григорьевич тоже все бегает. А вдобавок еще младшего братишку, кадета Владимира Григорьевича, тоже впутали. Тоже среди ночи гоняют ребенка-то то туда, то сюда! Два раза тайком и задним ходом гоняли на квартиру к княгине Дашковой! И зачем? Поглядеть, у себя ли она сидит и не собирается ли в Рамбов к государю? Очень нужно!»
И Агафон злился и ворчал, вымещая злобу то на полотенце, то на тарелке, то на мухах, гудевших в кухне.
На заре в квартире игра карточная приостановилась, и компания села есть и пить. Но, против обыкновения, никто не был пьян.
Только один человек, страшно захмелев, не выдержал, повалился на диван и скоро захрапел. Это был Перфильев. Он страшно обыграл других, а это с ним случалось так редко, что на радостях он хватил через край.
Когда солнце показалось над городом и сверкнуло в окнах квартиры Орлова, офицеры тревожно переглянулись, некоторые перекрестились, и все поднялись на ноги.
Лица их были далеко не таковы, какие бывают всегда у людей, встающих из-за стола, покрытого остатками ночного ужина и бутылками.
– Ну, с богом! – вымолвил глухо Григорий. – По местам. Ну, братцы, вы, измайловцы… Вам первая, трудная доля… Вам бог помочь! А мы за вами…
Офицеры не прощаясь смущенно, молчаливо разъехались в разные стороны.
Только один Барятинский остался… и молчал, стоя у окна… Перфильев громко храпел на диване. Григорий Орлов тоже молчал и шагал по комнате.
– Что ж? Спать-то? Не надо! Полуночники!.. – буркнул Агафон, собирая посуду. Но никто не ответил…
Через часа два Григорий тихо вымолвил Барятинскому:
– Ну, пора!.. Ох, что-то будет… Мы-то… наплевать!.. Спаси бог ее!..
Еще через час оба были уже за заставой и мчались в карете по дороге на «Красный кабачок».
Отъехав пять верст, они остановились, вышли из кареты и стали, не спуская глаз с дороги.
– Ох, Алехан!.. Боюсь, загнал сгоряча коней! Пали на дороге… А мы здесь прождем!..
Было уже десять часов…
– Вот! Вот!! – вскрикнул Барятинский.
Вдали, за версту, показалась мчащаяся с каретой четверка коней, и пыль громадным серебристым облаком, сверкающим на солнце, взвивалась за ней.
Будто шел на столицу ветхозаветный столп огненный! И если не руководил, не вел мчащихся путников, то шел следом…
XXXVIII
Были те же десять часов утра, когда из Ораниенбаума многолюдное общество вельмож и дам, где были Воронцовы и Нарышкин с женами, Миних, Гудович, Корф, старик Трубецкой, Шувалов и другие, двинулось в шести экипажах по дороге в Петергоф.
В передней карете вместе с государем ехали Миних и Трубецкой, но старики сидели на переднем месте, так как рядом с государем сидела красивая, красивее, чем когда-либо, графиня Скабронская.
Все знали, какое событие совершится в Петергофе, и кто его вызвал, и кто более всех воспользуется последствиями.
Через час все были в Петергофе… Но теперь все общество, смущенное, сначала обходило все горницы Монплезира, а затем все горницы большого дворца. А вскоре все уже не обходили, а бегали за бегающим и потерявшимся императором… Государыни не было нигде.
Петр Федорович был вне себя, но не гневен, а смущен и, обшарив все комнаты, оглядев все шкафы, шаря чуть не в комодах, восклицал без конца:
– Вот вы видите, на что она способна! Вот вы видите! Я всегда говорил!..
Более всех была смущена Маргарита. Один Миних успокаивал Петра Федоровича, говоря, что найти государыню будет нетрудно.
– А если даже она бежала с целью пробраться за границу, то и пускай! Стоит ли тревожиться? – говорил Миних. – Через день-два полиция узнает, где она, и разыщет.
– Конечно, конечно, будьте спокойны! – воскликнул полицмейстер Корф, хотя на душе его кошки скребли.
«Как! – думал он в эту минуту. – Неужели то, что я знаю и о чем из боязни давно молчу, теперь начинается! А я здесь…»
Обшарив все шкафы, все углы, чуть не чердак Петергофского дворца, государь вернулся со свитой снова к маленькому Монплезиру.
Все сели около домика и сидели, не зная, что подумать и что делать…
Было уже далеко за полдень, часа три…
На дорожке парка, близ Монплезира, показалась фигура добролицего мужика с окладистой бородой. Корф сразу узнал своего спасителя.
Это был новый «Минин», Сеня. И теперь в эту трудную минуту если Сеня появлялся, то, конечно, не зря и не с пустыми руками.
Зная хорошо государя в лицо после своей беседы с ним в церкви Сампсония об иконах и идолопоклонстве, Сеня сам отличил Петра Федоровича и, подойдя к нему, протянул ему записку.
Государь узнал почерк и подпись француза Брессана, которого он сделал директором новой гобеленовой фабрики. Пробежав записку, Петр Федорович вскрикнул и онемел.
Брессан писал, что в Петербурге полная сумятица, бунт и три гвардейских полка и конная гвардия грабят и пьянствуют, а что он сам был свидетелем в Казанском соборе присяги, приносимой государыне от всех сословий…
И будто насмешкой судьбы не русский, не подданный, а чужеземец, француз первый извещал монарха о таком событии.
Слезы показались на глазах государя. Он взял себя за голову, тихо вошел в первую горницу домика и опустился на первый попавшийся стул. Все общество последовало за ним и будто помертвело от ужаса.
– Ваше величество! – выступил первым старик Никита Юрьевич Трубецкой. – Позвольте мне поехать в Петербург. Может быть, все это вздор. Я увижу все и привезу верные вести.
– Да, да! – бессознательно ответил государь.
И Трубецкой быстро исчез из Монплезира.
Не прошло десяти минут, как Шувалов обратился к государю с таким же предложением. Полагаться на хитрого Трубецкого, по его мнению, было нельзя, и он просил позволить ему съездить. После согласия он исчез. Вслед за ним тотчас же подступил сам канцлер Воронцов, и, вызываясь, если есть беда, предотвратить ее, точно так же он быстро покинул Монплезир.
Не прошло двух часов, как при государе оставались только женщины, а из мужчин не более трех-четырех человек.
Старик Миних преобразился с первой минуты, помолодел, и старые глаза его блестели ярче, быть может, так, как когда-то блестели под Очаковом.
– Ваше величество, терять время нельзя! – горячо восклицал он. – Я верю тому, что пишет Брессан. Все те доносы, которым вы не верили, теперь оправдываются. Если этой женщине, умной и дерзкой, присягают в соборе, то, конечно, не одни гвардейские солдаты. Конечно, там весь сенат, синод и вся администрация. Но сила не в них! Во всякой стране, при всех тревожных и незаконных обстоятельствах сила в кулаке, то есть в ружье, в штыке. Пошлите за войском своим в Ораниенбаум, мы окопаемся здесь, будем принимать перебежчиков из верных, которые придут к вам из Петербурга, а через два-три дня у нас будет здесь десятитысячное войско из верноподданных волонтеров. С ними я, Миних, отвечаю вам, что возьму приступом Петербург, если бунтовщики сами не явятся с повинной.
Взгляд старого полководца сверкал таким огнем над опущенной головой потерявшегося императора, что всякий бы поверил ему. Но государь качал головой и не двигался.
– Позвольте послать в Ораниенбаум за голштинским войском, – выговорил Гудович.
– Посылайте! Посылайте! – воскликнул Миних.
И Гудович вышел.
– Я говорил! Я говорил! – воскликнул Петр Федорович. – Я всегда говорил! Она на все способна! Вот видите – моя правда…
Женщины, сидевшие кругом государя, смущенные и перепуганные, начали плакать.
И только одна графиня Скабронская сидела выпрямившись, неподвижна, как статуя, да и бледна – как статуя. Широко раскрытые глаза смотрели на голову императора, опущенную на руки, и Маргарите минутами казалось, что она бредит. Минутами ей казалось, что вчера, в эту дивную ночь, эти звезды, говорившие с ней, подняли ее на неизмеримую высоту, а сегодня она упала с этой высоты, и все стремительно падает, и нет конца этому падению!.. Голова туманилась, сердце будто холодное, каменное, будто кусок льда, странно, резко и отчетливо стучало в ней и замирало после каждого удара. А тяжелые часы бездействия, слез, пустых и бессмысленных жалоб тянулись, время уходило!..
Глаза Миниха уже скоро потухли и не сверкали, как прежде. И этот полководец, и эта красавица многое могли бы сделать за это время, но не одни! Пускай скажет он хоть слово, даст право!
Но он, в котором вся сила, который облечен священным званием, он все сидит у стола, все так же кладет на него локти, опускает на руки голову! А изредка, придя в себя, снова жалким, визгливым и слезливым голосом повторяет:
– Я всегда говорил! Вот она какова!..
Вечером по настоянию Миниха и Маргариты все общество, преимущественно состоящее из женщин, село на небольшую яхту и двинулось к Кронштадту. В нем одном было еще спасение. В крепости можно было спастись и держаться.
Но Кронштадт уже оказался для них неприступной и неприятельской крепостью. На слова, что сам император приехал и выходит на берег, комендант через часовых отвечал:
– В России нет императора, а есть императрица-самодержица Екатерина Алексеевна.
Миних настаивал выйти на берег и принять начальство над крепостью. Чей-то голос среди тьмы ночи крикнул, наконец, с берега:
– Отъезжайте прочь, а то дам залп по вам из всех орудий!
Петр Федорович будто пришел в себя и быстро с палубы спустился в каюту, где перепуганные женщины, слышавшие угрозу, бросились перед ним на колени, умоляя скорей отчаливать.
Но корабль уже отчалил по приказу Гудовича. На палубе оставались одни матросы, а на корме сидел, не боясь, конечно, залпа орудий, старик Миних и думал:
«Всякий ребенок защищается, упирается, даже когда его спать посылают! Если так, то и поделом!..»
Около согнувшегося и понурившегося старика фельдмаршала стояла в ужасе Маргарита.
Она тоже не боялась теперь угрозы залпа из орудий. Было мгновение, она желала всей душой исполнения этой угрозы. Погибнуть здесь, на этой императорской яхте, вместе с императором, в обществе статс-дам и вельмож, конечно, завиднее того, что ждет ее впереди, что ждет ее не за горами, а быть может, завтра… Завтра она будет тем же, чем была когда-то… Маркетой Гинек… Даже хуже! Лотхен! Да! Горничная Лотхен завтра будет выше ее. У ее Лотхен есть деньги, а у нее, мечтавшей прошлую ночь о престоле, на завтрашнюю ночь не будет, быть может, и крова, не будет куска хлеба… И надо будет опять – как когда-то графу Кириллу – продавать себя… Да, если до тех пор «она» не сошлет ее в Сибирь!!
Яхта давно отчалила, была уже среди темных вод и слегка качалась на волнах…
Маргарита, стоя неподвижно, как истукан, свесилась через борт и глядела почти безумными глазами в темные волны. Если бы она знала наверное, что все кончено, то она видела в себе достаточно, даже более, чем нужно, мужества, чтобы броситься в эти волны. Но слабый луч надежды мерцал в ее потрясенной душе, обманывал ее и удерживал за бортом императорской яхты, удерживал на земле…
И как сожалела она потом всю жизнь, что не решилась покончить все в темных волнах русского залива…
XXXIX
А когда еще начинался этот день, двадцать восьмого июня, в те часы, когда в маленьком Монплезире Екатерина кончила свое письмо к Григорию Орлову, она от волнения и скорби не могла лечь спать.
Солнце поднялось, начинался великолепный жаркий летний день, а она грустно встречала солнечный восход, золотивший морские волны, плескавшие о гранит того домика, в котором она сидела почти под арестом.
Она задумалась и была пробуждена голосами под окном. Выглянув, она узнала статную фигуру Алексея Орлова.
Через минуту вошла к ней камер-фрейлина и доложила, что поручик Орлов, которого часовые не пропускают, желает с ней переговорить.
Государыня быстро оделась, как бы для прогулки, и вышла из домика…
Часовым было приказано накануне никого не пропускать в Монплезир, но приказа не выпускать государыню прогуливаться по парку не было, конечно, отдано.
Государыня перешагнула порог. Орлов весело подал ей руку, и они, тихо прогуливаясь, пошли по дорожке.
Орлов сказал ей тотчас несколько слов, от которых она вздрогнула, задохнулась, пошатнулась и, если бы не его помощь, то, может быть, упала бы…
– Все кончено! Надо начинать!
Повернув на другую дорожку, они пошли быстрей, и через несколько минут государыня была уже в карете. Алексей сел на козлы, подобрал вожжи, молодецки крикнул на взмыленных уже коней, и карета помчалась.
При выезде из Петергофа из чащи кустов выскакал к ним верховой, офицер Бибиков, весело раскланялся и пустился рядом около дверец кареты.
Верстах в пяти от Петербурга, когда лошади, несмотря на отчаянные удары кнута, уже выбившись из сил, готовы были пасть, Алексей Орлов завидел на дороге другую карету! То были брат Григорий и Барятинский, выехавшие навстречу.
Через час государыня была у казармы ожидавших ее измайловцев.
Ласунский, с ним несколько офицеров и три роты солдат радостными криками встретили государыню, целуя одежду…
Затем привели полкового священника, и все присягнули на верность.
Отсюда, с барабанным боем, двинулись все в Семеновский полк. Но там Федор Орлов уже сделал тревогу, и семеновцы бежали к ним навстречу. Во главе двух полков государыня двинулась в Казанский собор.
Духовенство, собранное ночью Сеченовым, было налицо. Весь синод был тоже налицо. Сенаторы, предупрежденные тоже ночью Тепловым, были почти все. Народ заливал кругом паперть собора, не понимая, что творится в нем, и вскоре узнал, что идет присяга государыне Екатерине Алексеевне, потому что государь накануне упал с лошади и убился до смерти.
Ежеминутно десятки экипажей подъезжали к собору, и сановники в блестящих мундирах выходили из них. Служба кончилась. Государыня вскоре показалась на паперти собора, окруженная свитой.
На ступенях этой паперти, в первых рядах толпы, стояли два красавца богатыря, два брата.
– Я крикну сейчас в народ. Или теперь… или никогда! – шепнул Алексей.
– Обожди! – отвечал Григорий. – Хуже бы не вышло.
– Чего ждать! Какая беда от того? А там поздно будет!
Григорий смущенно молчал.
В ту минуту, когда государыня появилась на верхней ступени паперти, Алексей Орлов поднял высоко шляпу над головой. Толпа, заливавшая кругом всю паперть, двинулась, и сотни, тысячи рук тоже поснимали шапки.
– Ура! – первые крикнули могучим голосом два богатыря. И «ура» это пронеслось по всей площади, и тысячи голосов подхватили его… Казалось, вся площадь дрогнула и колыхнулась.
– Да здравствует государыня императрица, самодержица всероссийская! – крикнул снова Алексей Орлов к народу.
Легкое, но заметное волнение сделалось в рядах блестящей свиты государыни.
– Что ты? – схватил брата за руку Григорий.
Но богатырь-поручик, уже обернувшись к блестящей свите из первых сановников государства, вымолвил громко и дерзко:
– Что ж не подхватываете, бояре?.. – И, обернувшись к народу, он выкрикнул могуче: – Братцы, ну-тко мы… Да здравствует самодержица всероссийская!
И рев тысяч голосов грянул на всю окрестность:
– Да здравствует государыня-самодержица! Наша матушка!..
Для этих голосов что «матушка», что «самодержица» было одно и то же… Хорошее, ласковое слово!..
У могучего крика этого был слабый отклик, будто эхо. Свита тоже повторила слова:
– Самодержица всероссийская!
И в этой свите был один человек, побледневший теперь как снег, Никита Иванович Панин.
Сейчас близ алтаря говорили ему и государыня, и высшие чины государства про регентство… Начавшись на словах у алтаря собора, регентство уже окончилось теперь на паперти.
Начался разъезд, сумятица, крики радости, вопли, давка. Народ ликовал, кто зная о чем, а кто и не зная, а так!.. Только сановники, с трудом находя свои экипажи и рассаживаясь, будто сговорились и все повторяли одно и то же друг дружке:
– Да как же?! Да что же?! Да кто же?! Как же самодержица?.. Говорили регентство… Совет вельмож…
XL
Через час в новом Зимнем дворце была еще большая сумятица.
Уже весь Петербург, придворные, сенат и синод, высшее общество, все резиденты иностранных держав, кроме одного, конечно, Гольца, сотни разряженных дам густой толпой наполняли залы и гостиные дворца. Немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, по замужеству герцогиня Голштейн-Готторп, принимала всенародное поздравление с восшествием на всероссийский прародительский престол…
Не будь на свете младенца наследника Павла, все бы это всякому показалось бессмыслицей!!
Ликование было общее! Не прошло получаса, как австрийский посол Мерсий узнал нечто, что заставило и его тоже ликовать, а в его лице и Европу! Бретейль узнал, что его просят взять назад грамоты и остаться послом. Гакстгаузен узнал, что о войне с Данией, конечно, и помину не будет…
Покуда во дворце толпилась и шумела блестящая толпа, на улицах столицы уже начиналась своевольная беспорядица. Кабакам приходилось плохо!..
Преображенцы, с утра волновавшиеся по своим ротным дворам, без всякого приказания офицеров собрались, наконец, на полковом дворе, и здесь Пассек, освобожденный силком Баскаковым, принял над ними начальство. Преображенцы тотчас, кое-как выстроившись в ряды, двинулись ко дворцу.
Только один рядовой запоздал вовремя присоединиться к своей роте и теперь догонял ее – Державин. Он был бледен и взволнован, но от иных причин – в это утро безурядицы и самоуправства на ротном дворе у него украли его последние деньги.
Едва преображенцы вышли на Литейную, им навстречу не шел, а почти бежал, запыхавшись, офицер их же полка… Вне себя, он выхватил шпагу, бросился на первые ряды и крикнул:
– Назад!! Крамольничать! Против законного государя! Бунтовать! Назад, мерзавцы! Перекрошу всех!!
И шпага его засверкала над головами ближайших. Это был лейб-кампанец Квасов.
Но десятки голосов заревели вдруг на ненавистного офицера:
– Бей его! Коли! В штыки!
– Зачем? Бей просто… Не пакости штыка об нашего лешего!..
И через полминуты Аким Акимович, окруженный, как волк собаками, замертво упал среди улицы от жестоких ударов прикладами. Только через час очнулся он в какой-то цирюльне, куда подобрали его из жалости прохожие.
Между тем за углом Литейной, на Симеоновской, куда завернули солдаты, другой офицер верхом наскакал на них и вломился в ряды, тоже обнажая шпагу. Это был Воейков.
– Стой! Вольница! Кто смел без моего приказу сбой ударить?.. Заворачивай назад!
И Воейков ударил ближайшего солдата плашмя по голове, но через мгновение раздалась команда Пассека:
– Ребята! Валяй его, бунтовщика…
Солдаты бросились, один удар вышиб у офицера его шпагу, другие двое ранили лошадь. Она взвилась на дыбы и, отскочив, запрыгала, хромая, но разъяренные солдаты бегом пустились по Симеоновской, преследуя обезоруженного, и скоро прижали его к берегу Фонтанки. Воейков, не видя спасения от штыков, въехал в речку по грудь лошади.
– Не мочиться же из-за него! – крикнул кто-то. – Брось! Не время!.. Опосля всех переколем, кто противничает нашей матушке…
И солдаты бросились на мост и уже на рысях пустились к Зимнему дворцу, где гудела на лугу несметная толпа, окружая измайловцев, семеновцев и отдельные отряды, прибежавшие от разных полков.
Часа через два город уже волновался весь, по всем улицам. Кое-где уже были драки, кое-где уже были разбитые кабаки, а в некоторых ненавистных домах было уже все разграблено.
И вскоре поневоле была назначена стража охранять некоторые дома, и в том числе палаты прусского посланника. Но Гольца уже не было в доме. Он при первых признаках уличной сумятицы укрылся в доме брильянтшика Позье, а через час по совету немца-лакея, не считавшего и этот дом безопасным, вместе с ним перешел в квартиру Шепелева, как офицера и знакомого.
Княжна Василек, перепуганная сама насмерть, скрыла посланника в спальне жениха.
Она была в страшном волнении, и душа ее уже изболелась в мыслях о том, кто был ей дороже всего в мире. Да и было отчего! Юноша, еще слабый, при первых кликах на улице понял, что творится здесь, и, наняв тройку, ускакал в Ораниенбаум, стать на сторону законного государя, которому он присягал… А если нужно, то и умереть, защищая его!..
На Большой Морской около полудня толпа зевак была гуще, плотней и особенно весела. Смех, шутки, прибаутки гудели кругом… Одни расходились, другие прибывали и без конца передавали добрую весточку, и на всех лицах была написана радость.
Здесь с час назад конногвардейцы заметили в карете проезжавшего Жоржа, тотчас вытащили его вон, и ненавистный принц тут же среди улицы был нещадно избит… Быть может, несчастный был бы умерщвлен, если бы генерал-полицмейстер Корф слезно не выпросил его у толпы именем государыни и не увез к себе, обещаясь и клянясь посадить его непременно на хлеб и на воду…
– Он нас с мужьями всех развести хотел! – особенно вопили две бабы с Преображенского ротного двора.
– Поучили-таки Жоржушку!.. – радовались все обыватели.
Это было самое веселое событие действа петербургского за весь этот беззаконный, дикий, пьяный, но некровопролитный день… если не считать в кровь разбитый Жоржин нос.
Зато конногвардейцы, выпустившие неохотно из рук свою жертву, тотчас бросились во дворец принца, и через два часа в нем было все разорено или разграблено, а перепуганная челядь спаслась врассыпную по соседним улицам. Только одной маленькой комнаты не могли тронуть солдаты. В ней ничего не было дорогого! Но в ней сидели принцессы почти без чувств от страха, а у дверей их стоял добровольным стражем от расходившихся янычар офицер Голицын. Не явись он случайно сюда, то, вероятно, и обе принцессы пострадали бы так же, как Жорж, если не хуже…
Во всех домах столицы было то же движение, что и на улице.
Господа и челядь выезжали, выбегали, ворочались и суетились. Только в двух домах на весь город было спокойно. В доме Воронцова, отца ненавистной питерцам «Романовны», было тихо. Радоваться домохозяевам было нечему, суетиться от сборов во дворец с поздравлением или в гости, побеседовать на радостях – не приходилось, а народу и солдатам шуметь в горницах и грабить было тоже нельзя. С утра многочисленный караул занимал двор, подъезд и все двери по приказанию государыни, вовремя вспомнившей о возможности здесь народной мести и расправы.
Был и еще другой дом, где было не только тихо, но мертво, хотя караула тут ставить было незачем. Ворота на двор были затворены, двери главного подъезда заперты, ставни нижнего этажа закрыты. Хозяин дома хворал!.. И хворал он уже седьмой раз за свою жизнь. Он хворал при всех как законных переменах правительства, так равно и при всех переворотах за все XVIII столетие. Теперь, как и всегда, при всякой повторяющейся болезни, он хворал еще тяжелей, то есть боялся и трусил более, чем когда-либо… Да и было отчего! Ни одно еще питерское действо не заставало его до такой степени врасплох, так внезапно и непостижимо!..
Разумеется, это был граф Иоанн Иоаннович Скабронский. Старик сидел в своем кабинете, прислушивался к шуму на улице, вздыхал, качал головой и думал про себя или же шептал тихонько:
– Господи! Да когда же этому конец будет? Что ж у нас, веки веков так и будет комедь да скоморошество разыгрываться, чудеса в решете представляться!
И умный старик, конечно, искренне и глубоко верил, как и многие, что теперешний переворот самый беззаконный и отчаянный из всех, а новое правительство самое ненадежное и самое недолговечное. Он помнил хорошо, как если бы то случилось вчера, переворот в пользу российской цесаревны. Но тогда свергался младенец император и ненавистное иноземное регентство. А здесь свергается прямой внук Петров и законный монарх, а провозглашается – и не правительницей, а самодержицей – чужая женщина, иноземка, немецкая принцесса. А покуда подрастет наследник, Павел Петрович, который теперь младенец, что еще придется увидеть, что еще будет! Действо за действом!.. Смута, крамола, безурядица!..
И Иоанн Иоаннович в отчаянии прибавлял:
– Умирать пора! Хоть и не хочется, а пора! А то хуже – в Сибири умрешь!
Лотхен была в доме, и, несмотря на сумятицу в городе, несмотря на те удивительные вести, которые приносились тайком отлучавшимися дворовыми, немка была все-таки весела. Она не отходила от окна, глядела на толпы народу и улыбалась. Но если бы теперь кто-нибудь увидел ее, то, пожалуй бы, не узнал.
На Лотхен было великолепное, сплошь вышитое серебром, голубое бархатное платье, а в ушах, на груди, на руках сияли бриллианты и разноцветные камни, в серьгах, браслетах, кольцах…
Немка была уже три дня на седьмом небе от счастья. И не знала бедная хохотунья, что в людских дома графа Скабронского холопы, испуганные внезапным появлением и властью новой «вольной женки» старого графа, опасаясь за недолговечность барина, опасались за завещание, которое он сделал в их пользу. Холопы призадумались! И тотчас нашлись двое, самые отчаянные, пообещавшие всем остальным не нынче завтра отделаться от новой барыньки коли не просто дубинкой, так ножом, коли не во время ее прогулок по городу, так ночью, в самих горницах, ей отведенных…
А бедная хохотунья не чуяла, что обречена на смерть!
XLI
Василек промучилась часа четыре и не выдержала… она решилась ехать, быть около милого и разделить его судьбу. В городе уже говорили, что к вечеру назначен поход гвардии на Ораниенбаум и что, вероятно, там и произойдет сражение между голштинским и русским войском.
– Он не пожалеет себя… а если ему умирать – так и мне с ним… – решила Василек.
И княжна спокойно все взвесила, обдумала… Она нашла в шкафу сержантский мундир жениха и надела его… Он оказался как раз по ней… Через час преображенский сержант сел в бричку и тихо, спокойно приказал кучеру не жалеть лошадей.
– Иван, довезут ли они нас не кормя до Рамбова?
Кучер поручился, что к вечеру они будут на месте.
На полдороге к «Красному кабачку», верст за пять от столицы, оказался пикет и караул.
Не приказано было никого пропускать из города по дороге на Петергоф и Ораниенбаум… Офицер конной гвардии сначала хотел было дозволить преображенцу вернуться обратно, но затем догадался, что имеет дело с ряженой женщиной. Ему показалось это в такое смутное время крайне подозрительным… Через несколько минут княжна была арестована при пикете в ожидании начальства.
За час времени на глазах княжны, смущенной и печальной от неудачи, тот же пикет вернул обратно в город трех офицеров и с десяток солдат разных полков, а одного сопротивлявшегося офицера тоже арестовал… В этот день только два человека проскользнули в Ораниенбаум, покуда еще только шла присяга в соборе, – Шепелев и Пушкин, а в полдень все дороги в сторону Петергофа были заняты и сообщение прекращено.
Поздно вечером явился гусарский отряд авангардом уже выступившего из столицы войска.
Командир отряда и Василек узнали друг друга. Последний раз, что они виделись, покойная Гарина дала ему большие деньги при племяннице. Это был Алексей Орлов…
Разумеется, Василек была тотчас по его приказу освобождена и обещала ему вернуться в город. Но едва только гусары, захватив с собой и пикет, скрылись вдали, княжна перекрестилась и двинулась за ними… пешком, дав себе слово быть хитрее и, укрываясь в лесу от всех, тропинками достигнуть Ораниенбаума хотя бы через сутки!
Прошло уже часа два, что ряженый сержант бодро, хотя задумчивый, двигался по пустынному лесу, то чащей, то полянами, и вдруг увидел, понял, взглянув на звездное небо, что сбился с дороги. Василек с отчаянием догадалась, что она заплуталась в лесу и помимо усталости и голода ей грозит еще потерять целую ночь даром! А завтра бог весть что уже будет там… Сражение, убитые.
Храбро двинулась княжна обратно и после быстрой часовой ходьбы ахнула от радости. Перед ней, освещенная луной, мелькнула за чащей белая полоса большой дороги. Она решилась отдохнуть немного и снова двинуться лесом, не теряя дороги из виду.
Опустившись на траву, уже покрытую росой, Василек почувствовала, что голод начинает мучительно сказываться в ней, зато тихая ароматная ночь, сменившая знойный и душный день, возбудительно действовала на грудь, вызывала ее силы на борьбу и достижение цели. Не прошло нескольких мгновений, как Васильку вдруг, среди тишины всей окрестности, почудился странный гул вдали… Он доносился со стороны Петербурга, очевидно по дороге…
«Войско!.. Да! Это войско идет!» – догадалась Василек. Она собиралась уже снова укрыться в чащу, когда вдруг сквозь дальний гул отчетливо раздался лошадиный топот в нескольких шагах от нее.
На белой дороге, обрамленной с двух сторон темной и высокой чащей и ярко, как днем, облитой лунным светом, показалась небольшая кучка всадников… Все они подвигались молча ровным шагом… Впереди всех на белом коне Василек увидела преображенского офицера, стройного, красивого… Но на боку его лошади, падая из-под мундира, вьется и блестит белая атласная юбка… Длинные женские косы рассыпались по плечам из-под шляпы, увитой зеленым венком…
– Это она! – ахнула Василек. – Она сама предводительствует, ведет войска!.. На бой, на смерть!..
И преображенский сержант, укрываясь за кустом орешника, шагах в двадцати от дороги, устремил свой кроткий взор, теперь грустный и влажный от слез, на этого преображенского офицера, задумчивого, но непечального…
И Васильку всем сердцем хотелось остановить государыню, смущенной невесте хотелось крикнуть мстящей жене:
«Остановись!.. Поднявший меч – мечом погибнет!»
А между тем как чудно тиха и полна любви была эта ночь! Какой мир и покой царил кругом, и на земле, и в небе! Теперь ли зачинать междоусобие и поднимать меч брату на брата… Спокойный белый свет луны разливался с необозримой синевы небес и окутывал все в серебристое мерцание: и лохматый, недвижный лес, и светлую дорогу, и мерно, в безмолвии двигающихся по ней всадников, и белого коня впереди всех, на котором, тревожно глядя вперед… в неведомое, таинственное будущее… задумчиво покачивается в седле красавица преображенец…
XLII
В пять часов утра Алексей Орлов отрядом своих гусар занял Петергоф, а вслед за ним прибывали один за другим гвардейские полки.
Ровно сутки назад он здесь в волнении бежал по дороге парка к Монплезиру и думал:
«Что-то будет! Быть может, через сутки она будет в крепости… Мы все под судом или даже осуждены на казнь?..»
Прошло ровно двадцать четыре часа, и он, хотя и поручик, а на деле – командир целого войска, расставляет его, занимая караулы по всему Петергофу и по дороге на Ораниенбаум.
Через несколько часов явилась со свитой и государыня, переночевав кое-как в «Красном кабачке», в той самой горнице, где когда-то богатыри-буяны нарядили в миску фехтмейстера.
А если бы эти два брата уехали тогда в ссылку, что было бы? Совершилось ли бы то, что совершается теперь? Один Бог знает!..
Три гонца вскоре, один за другим, явились сюда от имени государя.
Первый гонец государя принес приказ и угрозу тотчас явиться к нему скорее с повинной за прощением, или же он наставит виселиц сплошь по всей дороге от Ораниенбаума до Петербурга и перевешает всех бунтовщиков без различия пола, звания и состояния!..
Второй гонец привез известие, или, лучше, предложение, разделить власть пополам, разделив империю Российскую на две совершенно равные части.
Государыня рассмеялась и спросила: как разделить? Вдоль или поперек? И какую часть ей дадут? Северную, южную, восточную или западную?.. Посол, конечно, этого не знал…
Третий гонец, Измайлов, привез согласие Петра Федоровича отречься от престола с условием отпустить его в Голштинию.
– Отпустить в Голштинию я не могу! – отвечала государыня. – И обманывать не стану обещаниями. Он может обратиться за помощью к другу своему Фридриху и явиться во главе его войска в России…
В четыре часа пополудни карета ехала из Петергофа в Ораниенбаум. В ней сидели только Григорий Орлов и офицер Измайлов.
На улицах местечка Орлов увидел смущенно толпящихся солдат и офицеров голштинского войска, которые, против обыкновения, все были трезвы. Во дворце же были мертвая тишина и пустота. Все пировавшие здесь еще недавно или укрылись в Петербург, или пировали и ликовали в Петергофе, в свите новой императрицы. Остались верны вполне императору только Миних, Нарцисс и Мопса… А кроме них еще, поневоле, из приличия, – его генерал-адъютант Гудович, а по доброй воле – два офицера, Шепелев и Пушкин, оба прискакавшие из столицы.
Только одна личность из всего придворного круга, блестящая Маргарита, еще накануне находившаяся на неизмеримой высоте надежд и мечтаний, не могла бежать ни домой в Петербург, ни в свиту императрицы. Теперь от ужаса и отчаяния потерявшая разум, она укрылась в маленьком домишке на краю Ораниенбаума, где приютил ее тоже смущенный и оробевший фехтмейстер Котцау. И Маргарита в маленькой бедной горнице этого домика то недвижно сидела, близкая к умопомешательству, то, ломая руки над головой, металась из угла в угол, не находя себе места. Мысль о самоубийстве не покидала ее… Но силы воли покуда еще не было!
Миновав улицы и подъехав ко дворцу, Григорий Орлов и Измайлов вышли из кареты и поднялись по лестнице дворца среди полной тишины, только два камер-лакея попались им навстречу. Пройдя несколько горниц, они увидели у дверей двух офицеров, стоявших будто на часах. Орлов по мундирам догадался, в чем дело. Приблизясь, он узнал обоих. Шепелев был у него однажды и объяснил первый, кого они с братом нарядили в миску. Пушкин пристал было к их кружку, а в последнее время снова исчез.
– Петр Федорович здесь? – спросил Орлов Пушкина, насмешливо глядя ему в лицо.
– Государь император? Здесь, в кабинете! – отвечал Пушкин, меняясь в лице от дерзкой улыбки Орлова.
– Ну а вы двое как тут очутились? Почему не при своих полках?.. Скоморохи!..
Шепелев двинулся, схватился за шпагу и вымолвил, вне себя:
– Вы скоморохи и клятвопреступники!
– Смирно! Именем государыни императрицы, самодержицы всероссийской, – выговорил строго Орлов, – я арестую вас обоих. Ступайте в Петергоф и сдайте себя сами под караул.
– Никакой самодержицы нет с тех пор, что скончалась Елизавета Петровна, – ответил Пушкин. – А есть законный государь…
– Государыня Екатерина Алексеевна… – начал Орлов, уже горячась.
– Бунтовщица! – воскликнул Шепелев. – Которую бы следовало…
Орлов поднял уже на юношу могучую руку, свивавшую кочерги в кольцо…
В это мгновение дверь отворилась, и Гудович с удивленным лицом появился на пороге. Но, увидя Орлова, он иронически улыбнулся и, не сказав ни слова, оставив дверь отворенной, вернулся в кабинет.
Орлов и Измайлов вошли вслед за ним.
Государь сидел на окне в шлафроке и, задумавшись, глядел в пол. Недалеко от него стоял старик Миних и что-то горячо объяснял.
При появлении Орлова Петр Федорович поднял голову, и лицо его слегка изменилось. Миних презрительно и гордо смерил Орлова с головы до пят и, повернувшись спиной, отошел к Гудовичу, который сел на диван.
– Вы от нее… – вымолвил государь.
– Государыня императрица и всея России самодержица прислала меня… – начал было Орлов.
Но государь улыбнулся и прервал его:
– Самодержица? Еще не совсем! Но скажите мне, зачем вас послала она? Именно вас! Разве я могу в качестве императора – ведь я все-таки еще император! – вести переговоры через артиллерийского цалмейстера и трактирного героя… неужели приличнее-то вас не нашлось?
Орлов, будто и не слыхав слов государя, повторил спокойно:
– Государыня императрица изволила прислать меня, дабы просить вас добровольно, не доводя дела до междоусобия и напрасного кровопролития, отречься от российского престола и подписать отречение, которое я привез! Вот оно!..
Орлов вынул бумагу из кармана и прибавил:
– Без этого я не только не уеду, но и не выйду отсюда!
– О-о!.. – воскликнул с негодованием Миних.
Гудович рассмеялся презрительно…
– Ваше величество! – вступился жалостливо Измайлов. – Вы изволили меня послать… Вы было решились… А теперь вот опять… Стоит ли?..
– Зачем она мне прислала этого… этого…
– Ваше величество! – подступил Миних и заговорил по-немецки, гордо закинув голову, а старые глаза его снова сверкали отвагой, как когда-то в павильоне Монплезира. – Решайтесь!.. Или подписывайте отречение, невзирая на то, кого прислали за этим, или… Лошади уже два часа оседланы… Я готов за вами хоть на край света!.. Наконец, вот здесь двое благородных юношей, добровольно прискакавшие умереть за вас… Решайтесь… Мы арестуем этого неблаговоспитанного гонца и к вечеру будем за сто верст отсюда. Повторяю вам – только до первого порта достигнуть!.. А там на корабль – и в Данциг, а затем через Кенигсберг, Берлин и Митаву в Петербург и Москву… для коронования!.. Миних говорит вам это! Миних слово дает, что все это совершится… и легко! Миних не особенно любит и уважает русских, но всегда преклонялся с удивлением перед их слепым повиновением закону, их любовью к законности, к законному…
Государь молчал и опустил голову.
Гудович вдруг встал и, подойдя к ним, вымолвил желчно и презрительно насмешливым голосом:
– Лошади уже давно расседланы; арестовать господина Орлова мало двоих юношей, а надо кликнуть роту голштинцев, да и то силы будут едва равны!.. Скакать к порту, какому!.. В Ригу? Близко!! Да там нас губернатор Броун арестует и вернет восвояси… Но если бы даже мы и проскочили за границу к Фридриху, то он теперь на просьбу о помощи и войске, чтобы завоевать престол, ответит только государю: «Trinken sie Bier und lieben sie mir…»[51] Полноте, государь! Поздно… Вчера надо было… Да и не вчера… Шесть месяцев тому назад надо было… Ну, да ведь мы все, россияне, задним умом богаты… Одевайтесь, подписывайте и… и поедем!.. Отпустят вас в Голштинию, и слава тебе господи!! И вам будет хорошо, да и России не худо!..
Гудович перед тем молчал уже сутки, как немой, и только глядел и слушал… И теперь слова его магически подействовали на государя…
– Я сейчас… Только… – обратился он к Орлову. – Отпустит она меня в Голштинию?.. Она ведь отказала и в этом.
– Он этого сказать не может! – вымолвил Гудович. – Да и не его это дело. Одевайтесь!
Через полчаса государь переписал отречение от престола, под диктовку Григория Орлова и подписал его, а еще через час был уже перевезен в Петергоф.
Здесь государя провели прямо в отдельные комнаты. Императрица не пожелала видеть его. Вечером три офицера, Алексей Орлов, Пассек и Баскаков, отвезли Петра Федоровича в Ропшу, и Баскаков остался при нем в качестве начальника караула, приставленного к нему… И тут только вечером государь вспомнил странную случайность, странную насмешку судьбы!..
Нынешний роковой и смутный день был – двадцать девятое! Петров день! День его именин! При жизни тетки, за все ее царствование, этот день именин наследника престола праздновался по ее приказанию с большим торжеством, нежели пятое сентября[52]. А за свое собственное царствование он еще ни разу не праздновал свое тезоименитство, и в первый раз – вот как пришлось провести этот день!..
XLIII
Наутро в Петербурге стоял ясный ветреный день.
По голубому небу быстро мчались округлые белые облака, по временам застилая яркое солнце.
Город снова ликовал, и снова густые толпы народу заливали со всех сторон Казанский собор. В нем шел молебен… Государыня стояла перед царскими вратами одна, а за ней теснились вся знать, весь двор, сенат и синод и все наличное дворянство. Никто не посмел отсутствовать, хотя уже были недовольные, одумавшиеся, спохватившиеся или просто смущенные, робеющие за темное будущее…
Даже Иоанн Иоаннович был здесь в числе господ сенаторов и уже передал некоторым свое намерение предложить в первое же присутствие воздвигнуть императрице, как спасительнице отечества, золотую статую!.. В третий раз!!
Достойный представитель не дворянства, а столичной знати!..
В нечиновной толпе, в заднем углу собора, тоже был здесь и задумчиво, отчасти с недоумением глядел на все и на всех юноша Шепелев, а около него усердно молилась Василек… За все!.. За все, что с трудом, будто нехотя, но все-таки дала ей судьба, что отвоевала она себе, уступая все всем!..
Шепелев был уже вчера арестован в Ораниенбауме по приказу Григория Орлова и к вечеру освобожден Алексеем по просьбе Василька, но с условием выйти в отставку и выехать из столицы навсегда. Юноша не горевал. Ему и след жить в захолустье! Он представитель векового исконного дворянства, а не безродной скороспелой знати! А прав ли он был? Не в том дело! Он «ему» присягал!.. Одно было горько ему – дядя Квасов лежал теперь при смерти, избитый прикладами ружей своих же солдат.
После молебна паперть собора гулливо залили блестящие волны сановников, выливаясь из главных дверей… Государыня, при громких кликах, шагом двинулась в открытой коляске среди серого моря людского, бушевавшего на площади…
В этом море людском, затертый густой кучкой обывателей, стоял, дивился на все и охал, как от боли, приезжий мужичонка-костромич… И вдруг он не стерпел и спросил соседа:
– Кто ж энто такая будет?..
– Государыня императрица!
– А как же сказывали… – воскликнул он укоризненно, – что императрица померла! А она вон, матушка, в тележке золотой едет…
– Дурень! То другая… Ты, знать, из трущобы какой…
– Другая! Ври ты… другая? Сама наша матушка российская, жива и здорова! А баяли, помре!..
– Да то была Лизавета Петровна, оголтелый, и померла. А это Катерина Алексеевна, тоже императрица, новая.
– Д-да, новая?.. Так бы и говорил. То ино дело! Да! Вон оно что! Новая?! Ну, что ж, ничего. Пущай ее!..
Лесной
1880
Краткий пояснительный словарь
Вотчина – недвижимое имущество, земельное владение (первоначально наследственное, родовое, в отличие от поместья).
Герберг – от нем. Herberge, постоялый двор, трактир.
Гофмаршал – главный смотритель над всем придворным штатом, управляющий хозяйством двора (придворный чин третьего класса по Табели о рангах).
Гренадер – первоначально – гренадир, солдат, назначенный для бросания ручных гранат.
Иллюминаты – члены тайных ралигиозно-политических обществ в Европе, главным образом в Баварии, во второй половине XVIII в. Боролись с влиянием иезуитов.
Инженерный кондуктор – старший унтер-офицерский чин в инженерных войсках дореволюционной России.
Камергер – придворное звание, соответствовало третьему классу по Табели о рангах, символизировалось золотым ключом на голубой ленте.
Камер-фрейлина – придворный чин для девицы, равный по значению статс-даме, с почетным званием высокопревосходительство и портретом императрицы.
Кармелитка – монахиня католического нищенствующего ордена, основанного в Палестине в 1156 г. на горе Кармель во время Крестовых походов.
Кирасиры – тяжелая конница, одетая в кирасы – металлические панцирь и шлем.
Кригскомиссар (нем.) – интендант.
Лейб-кампания, лейб-кампанцы – рота гренадер, с помощью которых Елизавета Петровна вступила на престол. Нижние чины получили офицерские звания и дворянство.
Паж – воспитанник закрытого военного учебного учреждения для детей дворянской аристократии – Пажеского корпуса, основанного в 1759 г. Воспитанники старших классов назначались на дежурство во дворец.
Паса – фехтовальная фигура: выпад в виде дорожки шагов и ударов.
Погребец – дорожный ларец с чайным или столовым прибором и с напитками.
Рейтары – вид тяжелой кавалерии – в России с XVIII в., преимущественно из наемников-немцев.
Ривьера (фр.) – широкое ожерелье, переносное значение от «река».
Ротмейстер – ротмистр, капитанский чин в легкой коннице, начальник эскадрона.
Салоп – верхняя, как правило утепленная ватой или мехом, женская одежда с длинной пелериной, с широкими рукавами или без них – в виде накидки.
Секунд-майор – офицерский чин в русской армии 1716–1797 гг.
Статс-дама – старшая придворная дама в свите императрицы или великой княгини.
Стрекулист – просторечное название мелкого чиновника-канцеляриста, синоним ловкача и проныры.
Тавлинка – табакерка.
Фехтмейстер – преподаватель фехтования.
Флигельман – звание флангового солдата в русской армии XVIII в., который выступал перед шеренгой для показа приемов, артикулов.
Французская водка – полученная из перегонки виноградных выжимок.
Цалмейстер – казначей, здесь: казначей офицерской общественной кассы, каковым был Г. Г. Орлов.
Штатгальтер (нем. Statthalter) – наместник главы государства в Австрии и Пруссии.
Шлафрок – халат, в XVIII в. мог служить неофициальной, но достаточно нарядной домашней одеждой.
Экзерциция – упражнение, учение.
Эспадрон – сабля.
Эспантон – тупой палаш для учебной рубки.
Сноски
1
А это наш господин Нихт-михт! (нем.)
(обратно)2
Они оба слова не скажут даже под пушкой (фр.).
(обратно)3
На кого нам рассчитывать (фр.).
(обратно)4
Заговор (фр.).
(обратно)5
Выпить снадобье (фр.).
(обратно)6
Это та, что не станет изобретать порох (фр.).
(обратно)7
Пускает пыль в глаза… (фр.) (Игра слов: «la poudre» по-французски и порох и пыль.)
(обратно)8
«Служанку из кабака» (фр.).
(обратно)9
«Молчит даже под пушкой» (фр.).
(обратно)10
Один библейский персонаж променял право первородства за тарелку чечевичной похлебки!.. (фр.)
(обратно)11
Пороховой заговор (фр.). (Имеется в виду Пороховой заговор 1606 года в Англии.)
(обратно)12
Заставить быть желанной! (фр.)
(обратно)13
Не имеет значения (фр.).
(обратно)14
В обмен на дорогу в ад (фр.).
(обратно)15
Дорога в ад вымощена добрыми намерениями (фр.).
(обратно)16
Поразмыслить (фр.).
(обратно)17
Валуа, царствовавшие во Франции! (фр.)
(обратно)18
Та-ак! (нем.)
(обратно)19
Монархи зря не трубят (фр.).
(обратно)20
«Вы, господин герцог» (фр.).
(обратно)21
«Благодарю вас за милость, ваше величество» (фр.).
(обратно)22
«Монарх зря не трубит!» (фр.)
(обратно)23
«Подберите герцога… сударь!» (фр.)
(обратно)24
Герцог господин (фр.).
(обратно)25
Подберите! (фр.)
(обратно)26
Дьявол посещает отшельника! (фр.)
(обратно)27
Не страной русских, а страной зверей (нем.).
(обратно)28
А ваша пышность? Она уже как полнолуние? О, если бы это была медовая луна (т. е. медовый месяц), которую бы вы мне подарили! (фр.)
(обратно)29
За здоровье короля, моего учителя! (фр.)
(обратно)30
Противоречил (фр.).
(обратно)31
Живо! Живо! К черту! (нем.)
(обратно)32
Боже правый! (нем.)
(обратно)33
Госпожа! Госпожа! Откройте!.. (фр.)
(обратно)34
Господина графа больше нет! (фр.)
(обратно)35
Действительно! Это прекрасно! Там покойник, здесь любовник!.. (фр.)
(обратно)36
Пустяк, госпожа графиня! Пустяк! (фр.)
(обратно)37
Я хотел бы отомстить за моего благодетеля! (фр.)
(обратно)38
Любовника госпожи графини! (фр.)
(обратно)39
Мой господин (нем.).
(обратно)40
Дядюшка (нем.).
(обратно)41
Это наш господин Нихт-михт! (нем.)
(обратно)42
Напротив (фр.).
(обратно)43
«Служанка из кабака» (фр.).
(обратно)44
«Контрастом» (фр.).
(обратно)45
«Чудовищно! Чудовищно!» (нем.)
(обратно)46
Дурак!.. (нем.)
(обратно)47
Что вам угодно?! (нем.)
(обратно)48
Какой неспособный человек!.. (фр.)
(обратно)49
Дословно: голова с трещиной, то есть с ветром в голове! (фр.)
(обратно)50
Поразвлечься (фр.).
(обратно)51
«Пили вы пиво – были мне любы…» (нем.)
(обратно)52
День Захария и Елизаветы, родителей Иоанна Крестителя, – именины Елизаветы Петровны.
(обратно)
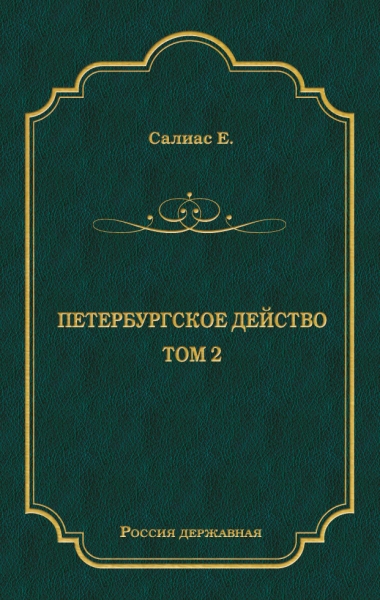




Комментарии к книге «Петербургское действо. Том 2», Евгений Андреевич Салиас
Всего 0 комментариев