Петр Николаевич Петров Царский суд
© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 201
* * *
I Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Недалеко от Невы-реки, где подходил к ней проселок от Ямы-города, за Мгою, в Водской пятине, в половине XVI века стояло усадище Раково, принадлежавшее зажиточному, по слухам, дворянину Нечаю Коптеву по прозванию Горихвост-Щука. Усадище это, выглядывавшее из-за леска, казалось чуть не городом со стороны дороги. Оно обставлено было целым лабиринтом изб, связей, клетей, клетушек, чуланов, амбаров, напогребиц, мыленок и приспешен. Издали казалось все сооружено на славу, а вблизи представлялась странная смесь ветхого, сгнившего, чуть державшегося строеньишка рядом с небольшим количеством построек из новых чистеньких бревен. Совмещение почти несовместимого обдало бы новое лицо любопытного созерцателя – если б такой нашелся – на первый взгляд тяжелым ощущением, бросая ум в море загадок: как тут разобрать, по этому сброду, каков хозяин – скряга или самохвал ни с чем, загребала чужого или расточитель? Вопросы эти так и оставались бы открытыми, даже для знавших хорошо владельца усадища. Да, вероятно, и сам Коптев не ответил бы самому себе: что он за человек? Вечно, бедняжка, в заботах, по горло в хлопотах, суется разом в двадцать мест: здесь перевозку срочную примет в немецкую сторону, там подряд перехватит у заправского торговца, сам же затянет, не зная, как оборудовать новое дело; в другом месте лес сторгует, да тянет-тянет продавца и потом сведет его с третьим либо с четвертым покупателем, сумея и задаток воротить свой, и стянуть еще что-нибудь с торговца да отступного, на свой пай, с покупателя. Усадище же его на торной дороге к Ореховцу, где со свейскими людьми торг идет отменный и нажива есть для местных помещиков – кулаков заведомых, разыгрывавших роли заправских биржевых маклеров нашего времени. Нечай был между ними из первых вожаков и, по словам его, успевал на обухе рожь смолотить как пить дать. Но, слушая такие его рассказы, приятели переглядывались друг с другом да хихикали в рукавицу. Знали они, что Нечаю все его затейки только наполовину удавались из-за излишней спешки, причем вечно что-нибудь не клеилось и лопалось. Тем не менее ловкость и изворотливость, как мы заметили, помогали торопкому дельцу каждый раз выпутываться из затруднений в момент самого положительного запутыванья их в петлю сердечному. Беда на носу призывала в дело все средства почти гениальных способностей этого хлопотуна, и он ускользал из западни, к явной досаде соперников, делам которых чинил неудобства своим мгновенным подвертываньем и захватом, казалось, уже слаженного торга.
Жалобниц и исковых на Нечая подавалось новгородским воеводам видимо-невидимо, хотя большая часть претензий оканчивалась ничем или мировою. В глазах дьяков воеводских Горихвост не казался сутягою, а малоразумным якобы и неосторожным ради своей пользы. Прикидываться же он умел угнетенной невинностью и точить слезы из глаз был мастер; при случае, для вящей силы красноречия, чаще других раскошеливаясь и умасливая «великих благодетелей», дельцов приказных светленькими новгородками. Дни рождений и тезоименитств нужных людей он, при всей кажущейся безалаберности, крепко помнил, являясь первым к заднему крыльцу с памяткою в виде связки или узелка какого-нибудь лакомства либо с более ценными приносами, смотря по человечку и по случаю предстоящей в этом человечке нужды в содействии. Такая манера заручаться помощью властей в XVI веке показывала в Нечае верный взгляд и нюх. Власти ведь – все для простых людей, особенно в пятинах. Тогда как личность человека неизвестного в новгородском приказе для орудовавших делами за воеводу в отчине Святой Софии ничего не стоила; попасть в кандалы аль в кутузку при первой жалобе, задолго до разбирательства, было явлением здесь обыденным. Недаром Горихвост прозывался и Щукой, оправдывая буквальным применением к своей личности реченье пословицы: «Затем в море щука, чтоб карась не дремал». Дремлющими карасями для Нечая были крестьяне да своеземцы мелкопоместные, шедшие на удочку его вкрадчивой медоточивой речи, благодаря которой устраивал он сделку с новым человеком в несколько минут. Успевал расспросить на дороге при встрече: что везет, куда и много ли; да тут же, засыпав целыми потоками самых обольстительных обещаний, сговорит встреченного везти к себе на двор товар и подождать малую толику. Со двора же Нечая Севастьяныча бедняку никак не приходилось выбраться иначе как порожняком, а расплаты ждать, если таковая когда-нибудь наступала… так долго, как можно было только оттягивать, бессовестно смеясь в глаза простаку. Все в околотке хорошо знали широкие ворота усадища и не ездили даже мимо, боясь встретиться с ласковым владельцем на дороге с поклажей. Мужички даже простосердечно признавались: «Ведь Нечай Севастьянович славно обойдет тебя, коли навстречь попадешься… хоша всех святых причитай… жмурься как от нечистой силы, а уж не видать тебе своего возика как ушей своих, а в мошне алтынов».
Но вот пожаловали гости к Щуке-Горихвосту – и гости нельзя сказать, чтобы обычные. Гости эти почтенные, нарядные, которым подают даже угощенье. Говорится, гости нарядные, принимая в соображение местные порядки Лужской половины помещиков Водской пятины, где попросту в разъездах у себя по деревням дворяне езжали зимой – не как теперь, а в белой сермяге, в кафтанах эстских, опушенных крашениной, да в бараньих высоких шапках с затыльниками. А теперь подъехавшие с бубенцами на четырех тройках гости были в новых хребтовых лисьих шубах, в лазоревых однорядках лундского сукна да в кафтанах, отливавших черленью; кони и сани были праздничные, шлея передней тройки – с серебряной насечкой на новых ремешках. Под дугами, испестренными золотом и яркими красками, болтались, издавая приятный серебристый звон, торжковские колокольчики. На первой тройке ехали двое мужчин: пожилой и молодой – рослый молодец, пригожий и румяный как маков цвет. На нем был охабень, заморским сукном крытый, а из-под охабня выглядывал кафтан, тоже тонкого сукна, с пуговицами серебряными, гладкими. На шелковых кудрях ухарски надвинута была шапочка на душках лисьих. Подпоясан молодец был красным платком сверх опояски, за которою кроме мошны заткнут был угорский нож. Пожилой мужчина, худощавый, рябоватый и с виду суровый, носил темно-зеленый кафтан под шубою, а в правом ухе, наискось просеченном, у него вдета серьга с рубином. Этому признаку достатка и любви к роскоши соответствовало и обилие золотых перстней на руках; перстни у приезжего гостя почти все были с жуковинами[1], которые заменяли печати. Это давало право заключать о владельце их опять как о деловом человеке, ведшем, скорее всего, значительные торги в разных местах. Действуя через сидельцев, разумеется, торговые люди по возможности часто осведомлялись о количестве прихода в денежных ящиках своих лавок – и каждый раз, проверив и пересчитав казну, печатали выручку своей печатью, всегда возя ее в виде жуковины на пальце. Такой несомненный признак торговых людей, как обилие жуковин, действительно разом открывал делового откупщика, каким подлинно и оказывался Захар Амплеевич Осорьин, за постоянно выгодное ведение своих торговых дел прозванный Удачею. Молодой человек, ехавший с ним в одних санях, был сын его Гаврила, по дню рожденья названный Субботой; теперь завидный жених. Два лета уже отбыл он на службе великому государю на Низовье. Женщина, с ними вместе сидевшая, была сваха. А на других парадных санях ехали родные дяди Субботы, братья да шурья Захара Удачи. Приехали они к Горихвосту свататься.
Весь дом Коптевых уж с ночи на ногах; всего наготовлено вдоволь, как и следует, к рукобитью дочери, уже засватанной.
С Удачею Нечай живут не один десяток годков в любви и согласии. Удаче поверяет Нечай свои подчас и крепко затруднительные обстоятельства, находя посильное содействие и помощь не одними советами, а если требовалось, и казною царской. Удача держал на откупе винные торжки да выставки во всем Спасском присуде, внося в казну великого государя восемьдесят четыре рубля двадцать алтын полтретья деньги новгородским счетом. Отвагой своих операций умный Удача бесконечно превосходил кулака Нечая, хотя ради барышка и сам пускался во все тяжкие, действуя сперва одной уловкой с другом своим в вопросе о привлечении властей. Но кого не ослепляет мзда? Неудивительно, что с развитием оборотов и Удача возмечтал о себе больше, чем ему, мелкой сошке, полагалось. Из прежнего угодника Удача – в тех случаях, когда вины за собою не чуял, – стал огрызком со счетчиками. Да засылать начал грамотки к воеводе с благовременным донесением о количестве вымогаемого дьяками с него, Удачи, собственно на свой пай, а не в мошну воеводскую. Мог ли подобный образ действий двоедушника нравиться, до кого касался он, в приказной либо в счетной избе? Как не понять, что из такого благовременного извета произойти должно со стороны воеводы? Позовет к себе его милость дьяка Истомку либо Казарина – кому перепало не в очередь – да потребует с походцем непринадлежащий кус: знай, значит, сверчок свой шесток!.. Точат, бывало, сердечные, зубы на мошенника Удачу. Клятву дают подстеречь его, душесмутника, сосуд дьявольский, Искариота… а ничего не поделаешь: увертлив ворог! Не насчитаешь на него ни алтына – сам горазд костями брякать: за год знает, когда и где вносить. Целый десяток дьяков и подьячих сам плутням выучит! Да и зубаст к тому же… совсем не в пример щедрому Нечаю, правда, блудливому, как кошка, да зато не больше зайца и храброму. Прикрикни на него подьячий, он уж и лезет за голенище. Не то чтобы дьяку, его милости перечить! Недаром говорит пословица: ласково телятко две матки сосет. Дела приветливого Нечая Севастьяныча ползут теперь без сучка без задоринки, и его усадьбе суждено вскорости совсем преобразиться. Труха, почитай, последнюю зиму торчит. Лес возить новый станут на тесовый терем да на три повалуши с сенями; на мыленку новую сруб куплен, и тын уж обточен, никак, с осени. Челядь вся принаряжена, а уж о хозяйке да об дочерях и молвить нечего. Глашенька, меньшуха, в невесты Субботе Осорьину тогда еще посулена, как Удача был единственной подпорой шестодела Горихвостова. Может, тысячу раз заговаривал Нечай с Осорьиным об этом самом деле, покуда он наконец дал себя уломать на породненье с коптевским родом. И то сказать, семья Осорьиных богата была людьми видными, столбовыми, не вдруг способными и глянуть приветливо на колоброда Нечая, мужика негорделивого, похожего к тому же на суму переметную, в которой, словно как и в голове у этого Щуки, семь пятниц на неделе. Трудно было Нечаю Севастьянычу уломать упрямого медведя Удачу, тогда ему нужного человека; но после того утекло много воды. А детки, Глашенька да Суббота, растут вместе, величаются женихом да невестой. Жена Удачина, Прасковья Пантелевна, – не к ночи, ко дню будь помянута, – не могла надохнуться на эту пару ребяток: все Глашеньку дочкой называла. Да вот скончалась преждевременно – сердечную по весне кони в полынью завезли; хоша и вытащили спешно живую, да захирела баба с того дня и Богу душеньку отдала в то же лето. Как умирала, так все одно мужу наказывала: окрутить Глашеньку поскорее с Субботой, чтобы меньше убивался сынишка по матери. Удача дал слово жене – и сдержал его. Теперь заявил он Нечаю за неделю, что приедет в понедельник дело доброе совершить – по рукам ударить с ним.
Вот этот понедельник и наступил сегодня. Удача с сыном и родными заехали попировать к старому другу, приготовившемуся как следует и стол нарядившему совсем в порядке. Только сам-то друг и сват с чего-то оказывается словно не в себе, так что трудно узнать Нечая в этом озабоченном думце, то и дело почесывающем жирный загривок, поводя из стороны в сторону длинным усом, начинающим седеть. Обычно благообразная фигура сытенького и чистенького Нечая Севастьяныча на этот раз была на себя не похожа, уже потому одному, что он потерял обычную словоохотливость и стал не в меру сдержанным, к удивлению даже жены – Февроньи Минаевны, знавшей супруга, надо полагать, лучше всех.
И к чему бы, казалось, не в себе быть теперь Нечаю Севастьянычу, как дошло до исполненья одного из самых задушевных его желаний: видеть в лице дочери соединение его семьи с единственным сыном его друга и пособника, Удачи Амплеевича Осорьина?
Да и у хозяюшки Нечая Севастьяныча все как-то не клеилось в этот день. Перепечу сготовила сама – мастерица первая по этой части, как всем было известно, Февронья Минаевна, – посадила в печь, да дура Хаврошка, видно, жару напустила разом, раскололась перепеча, стыдно людям показать: скажут – невеста краденая! Курей верченых обжарила преотменно – с вертела снимать стали, обземь грохнули, в песок… Романею принялись разливать – кран из рук у ключника выпал, вино пролилось. Поторопилась сама хозяйка обрядиться, только хвать за сорочку – колокольцы залились на дворе… приехали гости – значит, выходить нужно навстречу хозяйке. Она, сердечная, ну хватать на себя сарафан да душегрею… Бежит, подергивает ее по лестнице, а навстречу мамка – глянула, крикнула не в себе: «Матушка государыня, у тебя душегрея наволочена наизнанку…»
И все-то выходило так несуразно да неладно.
Пооправилась хозяйка. Выступила на крыльцо. Глядь – хозяин куда-то запропастился: нашел, вишь, время часом скатать на Назью, на починок. Другого часу не нашел?.. И должна, бедняжка, как вдовица, одна Февронья Минаевна гостей-мужчин в светлицу вести да речь заводить: как спали-ночевали? Бабье ли дело это у мужиков спрашивать? Ладно, что свашка подоспела. Вдова на все руки, еще из молодых, а уж бой-баба!
Помощь Меланьи Тимофеевны оказалась вполне подпорой для хозяйки, не привыкшей объясняться при всем мире – при народе; а тут были люди, в первый раз ею виденные. Удача же с сыном хоть и свои почти – да с некоторого времени Нечай хозяйке своей запрещал со своим старинным другом без себя видеться: должно быть, взбалмошному примерещилась какая ни есть беспорядочность и нелепость. Вот Февронья Минаевна махнула рукой и решилась помалкивать да приглядывать: не выйдет ли чего наружу от сурового Удачи? Вдовец еще в поре, да зверем глядит, и как тут разобрать: заправду хмурится али гнев скрывает, что не удается так повернуть дело, как хочется ему? Февронья Минаевна сама знала между тем, что ей не бог весть какая старость: тридцать четыре только стукнуло на Владимирскую летнюю, а слыла она между знакомыми за красавицу. Дочка-то Глашенька совсем в мать уродилась: лицо круглое, белое, с ярким румянцем; грудь высокая, стан самый обольстительный, глаза искры мечут из-под длинных ресниц; руки наливные, а коса… коса до полу, что твой шелк шемаханский, гвоздичного цвета.
Как, с такой красотой, растя да видясь каждый день, не заразить было сердца навечно такому горячему парню, как Суббота Осорьин? Немало было слез и у Февроньи Минаевны (любившей Субботу как своего уже), когда его в новики поставили да справили с доезжачим, с Архипом Ястребом, на Коломну по третье лето. Глашенька разнемоглась, сердечная, да и сама Февронья выла голосом. Удачи дома не было, а потому Суббота отъезжал на службу царскую от Коптевых. Зато уж как воротился после Покрова, так целую неделю из Ракова домой и глаз не показывал: все названая мать да нареченная не могли наглядеться на красавчика. За ним один только порок: вывести его можно из себя очень скоро – стоит только поперек говорить начать. Тут тебе Суббота, неукротимый как аргамак степной, не только зубы покажет, но готов в гневе растерзать человека, успевшего довести его до такого состояния. Отец его – другого склада: отомстит, пожалуй, сторицей, но сумеет сдержать пыл, когда нужно, и ласково еще обойтись с ворогом, пока не успел ему петлю затянуть. «И тогда еще успею натешиться», – решал он, готовясь к верному мщению целые годы! Может, и Суббота, когда поживет подольше, дойдет до батькиного сдерживанья, а теперь так и самому Нечаю Севастьянычу готов ус поокоротить, если бы вздумал тот – хоть бы и у себя в терему – насмеяться или не путно чем упрекнуть пылкого нареченного зятя.
Вот хоть и нонеча: и отец и сын Осорьины, стоя с хозяйкой на лестнице перед теремом, готовы бы были, чего доброго, осведомиться: своя, родная, али накладная бородка у Нечая Севастьяныча? Ведь по его милости они в такой важный день словно с левой ноги встали и не вовремя пожаловали положить конец сочетанью, давно решенному.
Маланья Тимофевна, зорким взглядом свашьим подметив затруднительность хозяйки в обычной роли при приеме дорогих гостей, разом положила предел затрудненьям, грозившим только усложняться с каждой минутой.
– Милостивые бояре, нас, баб, не корите, что перед теремом стоите. Хозяйка, видите, молодая, без мужа словно чужая… рот открыть не смеет али за скобку взяться робеет, затем что к доброму делу все рано наряжено, да она, вишь, сожителем не приважена вас, мужи честные, привечать и перед порогом встречать. Я так, бояре, баба бывалая и смолоду не бывала такая вялая: не обессудьте же, в избу ступайте да хозяйку не осуждайте. Я за нее все по чину отправлю и то-то вас, родных, позабавлю! Спросить было тебя, дорогой мой боярин Удача, спал ты ладно ли, встал, верно, не плача? У хозяюшки пальчиков не целовал, затем что, понятно, и во сне ее не видал. Давно, друже, вдовствуешь да постишься. Погоди малость… исправно здесь угостишься! А как домой поедем с тобой парочкой, чего доброго, не быть бы нам бараном да ярочкой…
Раздался общий смех на балагурство находчивой свахи, успевшей незаметно растворить дверь в повалушу и бегом переступить через порог.
– Теперь, честные бояре, я уже совсем в ударе… Хозяйке место не уступлю, а с Нечая Севастьяныча за верную службу с лихвой слуплю… Прошу на богов креститься да по чинам садиться.
И, подхватив под руку Удачу с сыном, скороговорка Меланья так ловко их поставила, что они невольно стали креститься, а, покуда крестились, сваха схватила подносик со стола, покрытый ширинкою как следует, всунула его в руки хозяйке и на ухо ей проговорила:
– Держи да кланяйся, за мной иди… Я наливать буду.
Так и поправилось дело.
Повалуша была в три окна, по времени нарядно убрана: лавки покрыты новым суконным полавочником, стены завешаны коврами да новинами, вперемежку. В большом углу стол ломился под тяжестью наваренного и нажаренного. Посередке стояла покрытая ширинкой перепеча да солонка перед ней. Только садись за стол да угощайся! Гости разместились по лавкам, и поправившаяся хозяйка, подходя к каждому, спрашивала о здоровье и просила откушать романеи, ловко наливаемой свахой… У Февроньи отлегло от сердца.
Вот подъехал и хозяин. Извинился как-то непутно. Никак еще сквозь зубы процедил: «Что рано пожаловали?» Вот какой грех!
За стол сели. Едят да пьют, а речь не клеится что-то. Удача не раз взглядывал на друга сердечного. Подали курники. Удача и говорит хозяину:
– Выводи-ка свою цыплятницу, пора нашему куру и погоготать с невестой… Суббота почитай что все глаза проглядел: куда ухоронили вы Глашеньку?
– Убирается еще… – процедил нехотя Нечай, не взглянув на будущего зятя и как-то боязливо.
Этого Удача не приметил, а Суббота невольно кинул глаза на запертую дверь из светлицы в повалушу и далее, на жилую половину дома Коптевых, где еще накануне, прощаясь с Глашенькой, он уговорил ее выйти на беседу до обеда и сесть с ним рядом.
Слова будущего тестя отозвались на сердце у горячего Субботы каким-то нехорошим предчувствием.
Он старался не поддаваться этому навязчивому, томительному ощущению, но какая-то сила неприятно теснила грудь, все плотнее и больнее сжимая как бы в тисках молодое сердце жениха. Влюблен он был в свою суженую давно уже. Только не давали они оба себе отчета во взаимных чувствах. Желание быть вместе, так естественное в людях, вместе выросших, и объясняемое привычкой, было на самом деле пламенной любовью, всю силу которой понял теперь Суббота, в первый раз в жизни вынужденный не видеть Глашеньку. Уже не один час сидит он в терему и путается в догадках: для чего так долго тянуть эту канитель обычной чинности?
«Сколько, однако, ни тяни, а все же невесту должны в рукобитье ввести, даже незнакомого жениха потчевать, как ударят по рукам. Надо хоть батьку поторопить, коли здешние мешкают».
И он стал шептать отцу на ухо, должно быть, горячую отповедь за медлительность.
Удача встал и, покрыв полою кафтана правую руку, обратился к хозяину с односложным предложением: «Пора!»
– К чему спешить!.. – отрезал Нечай, озадачив уже вконец следивших за его сегодняшним поведением всех Осорьиных, переглянувшихся довольно недвусмысленно друг с другом.
Медленно и как-то неохотно все поднялись с мест своих, кроме хозяина, как будто ни в чем не бывало кушавшего курник.
Удача раскрыл рот, начиная приходить уже в гнев на выходящие из ряда шуток, как он думал, обидные странности хозяина, не заподозревая его, впрочем, ни в каком особенном умысле, как в терем вбежал испуганный приказчик Осорьиных и на ухо сказал несколько слов мгновенно побледневшему своему старому господину.
– Я должен домой ехать сейчас, – сказал Удача громко Нечаю. – Управлюсь – приеду… – прибавил он как-то неуверенно.
С невозмутимым хладнокровием Нечай ответил:
– Как знаешь!
Гости медленно опустились на скамьи, когда, ни с кем не простясь, вышел Удача из терема.
Хозяин посидел несколько времени помалкивая, да потом, вдруг обратясь к жениху, молвил ему с каким-то особенным выражением в голосе – не то дурно скрываемого злорадства, не то язвительной, далеко и болезненно хватающей насмешки:
– А тебе, Суббота Удачич, что, бишь, я смолол… Захарыч, батька не наказывал себя догонять?
– Ты слышал сам, Нечай Севастьяныч, что отец просил и наших дорогих гостей обождать здесь… затем что и сам воротиться хотел…
– Это, голубчик, не в его теперь воле… Смекаю я, чево для его милость потребовали. Коли хошь, я тебе на ушко поворожу…
Субботу передернуло словно. Неуверенно и с такой робостью, какой ни разу еще за жизнь свою не испытывал, он подсел к Нечаю. Сердце его сильно забилось при первых же зловещих словах хитрого кулака, старавшегося произносить так, что все от слова до слова могли слышать в комнате:
– Батюшку твоего потребовал недельщик[2], чтобы отобрать у вас усадьбу и поместье на великого государя за неявку на срок к походу с князем Мстиславским да… за умедленье взносов… на вторую треть сего семь тысяч шестьдесят шестого лета, оброчного, корчемного и прочиих…
– Это самое, батюшка, кто те сбрендил так непорядочно? – вспылил Суббота, взбешенный слухами, как он думал, неосновательными, пущенными ворогами.
– Чего брендить… самая истина! – возвысив голос, отозвался Нечай обиженным тоном. – Для нас все едино, хоша и тебя горяченького скрутят, тверди зады на досуге да знай, паря, только поворачивайся на правеже… А ни батьке, ни твоей милости этой дорожки, паря, не отбыть… как пить дать.
Два брата жены Удачиной, Молчановы, приехавшие в сватах, молча вышли из терема, вскочили на коней и помчались к усадьбе Осорьина.
– Чтобы этому Нечайке ни дна ни покрышки не было! – произнес старший из братьев, выезжая за широкие ворота раковской усадьбы. – Смекаю я, что он это со своими клевретами приготовил, за добро да за хлеб-соль, нашему Удаче. Говорил ему не раз: не выводи из петли змею такую, как Горихвост проклятый… Вот и сбылись, на беду, мои искренние слова. Затеял еще в род наш вводить эту язву? Жаль Субботу да Глашу… Нечаишко, говорю тебе, всю каверзу эту устроил, вот те бог, он, чтобы отпятиться от Удачи.
– Да я все не понимаю, братец, больно ты хитер-мудрен стал… Кому, скажи на милость, больше надобности: Удаче ли в Нечае или Нечаю – в нашем зяте?
– Оно так-то так… да черт влезет в бессовестного кулака!.. Может, у него расчет-то переменился… разбогател сам, может… так и пятиться пора. А что его рук дело вся эта заминка сегодняшняя, так рассуди да припомни все по порядку… как и что с нами проделали Нечай с хозяйкой?..
Ездоки, уже своротив с большой дороги, пересекали наискось лужайку, занесенную неглубоко снегом, свеваемым на дно овражка. Лепясь к нему, за изгибом, в ложбине, приютилось Дятлово, где жил своею оседлостью Удача Осорьин как вдовец, не прибавлявший к своему дому покуда никаких пристроек, живя на другом конце поселка дворов в двадцать, не больше. Обыватели были народ смышленый: больше – возчики. Дома не бывали по целым летам, оттого избенки у них и не отличались исправностью.
Переезд был отсюда недолог, и спустя минут двадцать Молчановы доехали до околицы, где совершенно неожиданно для них ворота оказались притворенными. Уже на стук их выскочили из-за ворот двое поставленных на сторожку понятых и спросили, чего им нужно.
– Мы к хозяину едем, к Удаче Амплеичу Осорьину.
– Таперя-ста ему хозяйствовать здесь не придется, затемотка, что его милость губной староста, Емельян Архипыч Змеев, с недельщиком Данилой Микуличем отставили Удачу Осорьина ото всякого добра да корысти, со отписки, слышь, с новгородского приказу… Собрали, вишь, мир и читают теперя отказ от послушанья Удаче мирских хозяев… Вы недельщиковы, што ль?
– Недельщиковы… коли на то пошло; пустите же, братцы…
Околицу отворили – и они въехали в поселок, где перед помещиковым домом толпилось в полном сборе мужское население.
Недельщик речисто, в третий раз, читал воеводский приказ во исполнение наказа из Москвы, с Новгородской чети.
Удача Осорьин стоял на крылечке, совершенно убитый горем, и боязливым взглядом обводил толпу, сперва безучастную, а теперь уже начинавшую волноваться, не обращая большого внимания на губного старосту и недельщика. Для хозяев поселка строгий Удача был помещиком не из снисходительных – и разрешение от повиновения ему в первую же минуту дало простор вспышкам неудовольствия, накопившегося на сердце.
– Экой вор! А еще как важничал… А великому государю оброку вносить так нетути!.. – крикнул ни с того ни с сего один парень с покрасневшими веками, одутловатым, медно-желтым лицом и редкою рыжею бородкою.
– Молчи, Оська, тебя не прощают горланить! – останавливал его седенький старичок, дед по матери молодого озорника. – Може, новый помещик и тяжель еще гнуть станет… К этому притерпелися… Отходчив и толковит, правду бают, Удача Амплеич… Дай бог ему здоровья!..
– Вам, мироедам, вороги наши не вороги, видно! – отозвались два-три неодобрительных голоса на слова старичка, только махнувшего на них рукою безгневно.
– Эка мразь, прости господи согрешение, заворошились… Всяких мы порядков навидалися и знаем, что бражникам, как вы, озорники, нигде спуску не дают… – покрыл старичок внушительно, указав на губного и на недельщика, окончившего чтение.
Хозяева сняли шапки и поклонились этим представителям власти, вступающим непосредственно в управление поселком.
– Клади теперя, Данилушка, печати, да засветло и доберемся на ночлег к Нечаю Севастьяновичу, – скомандовал губной бравому недельщику.
Эта личность будет играть видную роль в нашем рассказе, потому мы и остановим на ней внимание читателей.
Данила прослужил десять лет в нарядах дворянских и два раза бывал окладчиком при верстании государевым жалованьем по Деревской и Водской пятинам. Сам он владел тридцатью четьми (четвертями) в поле и был покуда холост, содержа мать-старушку и заботясь о выдаче замуж четырех сестер-подростков. За прямоту и уменье устраивать дела к общему удовольствию и ни для кого не обидно дворяне и земцы Лужской половины выбрали его с весеннего Юрьева дня на трехлетний срок в недельщики с круговою порукой за него всеми своими животами. Сделали же они это далеко не обычное дело затем, что иначе не утвердили бы Данилу. В Новагороде уже наметили было для управы недель своего человечка, племянничка губного старосты Змеева, – да невыборной малограмотным оказался и не представлял достаточного ручательства, что будет лучше дяди – меньше служившего миру, чем приказным, за то его и поддерживавшим. Определение Бортенева в недельщики именно к Змееву было в Новагороде тоже сделано не без расчета. Змеев мог по злобе скорее и надежнее изловить упущение земского выборного. Но они не знали, каков этот человек, Данила Микулыч.
Полагали в нем необычность в обращении с письменным делом да с Судебником, а он озадачил с первого же раза своего ловителя Змеева, заставив его самого поправлять невольный недосмотр такой мелкой формальности, которая и в голову не могла прийти даже хорошему дельцу. Данила оказался начетчиком, лучше Псалтыря знавшим буквальный смысл всех статей Судебника, да к тому же, при здравом уме, разрешавшим верно, по существу неясности в тексте лучше любого приказного, зубы съевшего на наказах и отписках. Вышло, стало быть, с выбором Данилы, что не ему опасен был губной, а он был бельмом на глазу у губного старосты, начинавшего питать к недельщику одно невольное уважение, как к человеку опытному и даже опасному в случае разлада. Поэтому Змеев принял за правило лучше уступать Даниле, чем перечить: упрям он, и уж если что задумает сделать, то и сделает. А сделать всякому готов он был всевозможное, допускавшееся уставом. Для прибегавших к его заступе – а на нее всякий мог рассчитывать, кто имел нужду в содействии недельщика, – Данила Микулыч был самый приветливый и покладный человек, никогда не запугивавший напускною важностью. Выражение лица его, обыкновенно бледного, положим, было серьезно, только он умел умерять ее выражением искреннего расположения, сообщавшего правильным чертам недельщика особенную приятность, составляя полную противоположность с гневным лицом губного старосты, кропотливого, придирчивого, сребролюбивого и плутоватого. Даже в одежде эти два соперника, стоявшие на одной дороге, представляли разницу не меньшую, чем в наружности и привычках. Прижимистый Змеев одевался бедно и даже грязно, как скупец. Не особенно богатый и совсем не падкий на посулы Данила по костюму представлялся чуть не воеводой.
Подошел Удача и стал просить оставить без печатанья избу его до возвращенья из Новагорода. Туда собрался отвезти деньги устраненный сборщик. Губной замотал головой и топнул ногой на остановившегося, прислушивавшегося недельщика.
Ясно было, что губной староста понимал, как со взносом денег должна измениться сущность дела, приготовленного ворогами назло Удаче, из желанья сделать ему неприятности, которым подвергал он приказный люд в случае вымогательств, ничего не давая больше условленного и положенного. Не будь этой подготовки, близкой и самому ему к сердцу, губной староста не встретил бы препятствия к выполнению просьбы Осорьина, но теперь на все его разумные предложения он отвечал односложно и сухо:
– Наше дело выполнять, что писано!
Данила Микулыч Бортенев, недельщик, хотя и не старший в порядке служебной постепенности, казалось, нисколько не разделял упорства губного старосты. Он счел нужным возразить на придирки, удручавшие участь человека, подвергшегося каре взыскания. Сам же тихо, но решительно сказал Осорьину:
– Два дня даю тебе, Удача Амплеич… не воротишься в третий – не прогневись… Поезжай, Емельян Архипыч, к Нечаю… Я здесь покуль пересчитаю… дня два на поверку хватит и… с лишечком.
– Да ты попрежь печатай знай… Поверка после… Удачу выпускать с добром не след… пропадет… с кого взыск? С кого?! – мгновенно вспыхнув и уже не владея собой, крикнул губной на недельщика. – Я отвечаю… не ты!
– Ответчик я в своем деле… не серчай напрасно, – отвечал спокойно сдержанный Данила. – С поселка не съеду до приложенья печатей… не заботься… в петлю не полезу, в угодность кому бы ни было… И государевой казне ущербу не будет, окромя прибытка…
Злой старик губной побагровел от бешенства, но понял, что возражать на это нечего: хозяин – недельщик, а он сам только, теша свою ненависть, поехал в поселок… Стало быть, пришлось покориться.
Злоба, однако, требовала для себя пищи, и он крикнул:
– Осорьина подайте!
– Он уже выехал, – сказал один из понятых. – Вишь, как гонит, за околицей… не поймаешь уж, пожалуй.
– Ну, Данилушка, и ворога упустил! Опять твоя же милость… Сочтемся при случае.
– Для чего уж, – спокойно ответил недельщик. – Семь уж бед – видно, один ответ!
Змеев что-то буркнул и крикнул еще раз, торкнув пальцем перед собой в ту сторону, где стояли, понурив голову, недавние сваты:
– Это что за мужики… прости господи, олухи! Начальству шапок не ломают.
– Нездешние… Шурья это Удачи Амплеевича, Молчановы, – робко отозвался приказчик Осорьина.
– А где Суббота Осорьин, не с вами? – крикнул тут на сватов Змеев.
– Остался у нареченного тестя, у Нечая Севастьяныча.
– У Севастьяныча коли он, не уйдет ворог от нас, – прошептал Змеев, садясь в свою кибитку.
За ним издали последовали Молчановы, видевшие, как впереди повозки пустился вскачь и скрылся мгновенно за заворотом овражка конный слуга Коптева, тот самый, что отворял им утром ворота при подъезде к дому помещика.
Не будем повторять проделанных Нечаем при встрече с губным нежностей и вежливостей; не остановимся и на заботливости, с которой собственноручно вынул злого старика Коптев из повозки, поставив его довольно ловко на нижней ступени лестницы. Эти особенности улещания нужных людей проходимцами вроде Нечая случались во все времена и представляют, пожалуй, даже в наши дни сходство со стариной. Переваливаясь, словно князь родовитый владетельный, Змеев залез на первое место за стол, очутясь подле Субботы Осорьина.
Губной, садясь, толкнул крепко озадаченного Субботу, вскинувшего глаза тут только на вновь прибывшего.
– Побить бы те челом не мешало, Суббота Захарыч, его милости Емельяну Архипычу, на добре да на приятстве, штобы тебя чем ни на есть оборонил да на ум наставил, в недостатках ваших… коли такая беда стряслась с родителем, – голосом, заискивающим у Змеева и как бы указывающим ему на молодца – это, мол, тот и есть, кого тебе надо, сказал Нечай.
– Благодарим, мы и сами себя обороним, коли потребуется… сдается, не хуже его милости, – сухо ответил Суббота, даже не привстав.
– Щенок – весь в отца-бездельника! – презрительно выговорил надменный Змеев, уже весь пылая и не думая сдерживаться.
– Нечай Севастьяныч, зажми рот твоему гостю, что бесчестит не к делу меня и отца!.. – крикнул тут Суббота, уже вспылив и невольно схватившись за нож у пояса.
Змеев также вскочил и, дрожа от бешенства, прохрипел:
– Выбрось этого щенка, Нечай… выбрось, сей миг… а не то…
Он не успел договорить, как Суббота сильной рукой уже сгреб его за верхнюю одежду и поднял над столом, готовясь бросить об пол.
Нечай, жена его и дядья Субботы разом подскочили и удержали пылкого молодца от беды, приготовляемой им себе этой нерасчетливою вспышкою.
Наступила минута молчания – зловещего, рокового, решавшего будущее счастливой пары.
Змеев едва пришел в себя от страха, но и косневшим языком повторял, чуть слышно:
– Вяжите его, душегубца, разбойника… руку поднял на власть предержащую…
Нечай Севастьяныч первый нашелся. Он махнул рукой стоявшему все еще в грозной позе Субботе, и тот безотчетно вышел из-за стола и скрылся за дверями на жилую половину дома Коптевых.
Бессознательно перешагнул он через порог девичьей и очутился перед плачущей Глашей. Глаза у нее совсем заплыли от слез. Очевидно, она не осушала их с самого утра, если еще не с ночи.
Следом за Субботой вошла расстроенная мать невесты и, положив руки на плечи молодому человеку, тоже плача, повторяла:
– Что ты сделал?.. Что это будет?..
– То будет, что Нечай Севастьяныч пусть мне не попадается после этого… Заступник за негодяев, опозорив свой дом допущеньем ложных друзей своих, он не стоит, чтобы я…
– Называл меня своим тестем?.. – без желчи и горести досказал подошедший Нечай. – Я сам только шел просить тебя об этом. Ступай и… не приходи…
Жена и дочь бросились умолять хитреца, чтобы он не выгонял беднягу бесприютного.
– Неужели ты думаешь, что я бы выгнал его, коли б у него аль у отца что еще было напереду! – внушительно на ухо выговорил вполголоса жене забывшийся Коптев. – Ступай-ступай!
– Пойду… только мы с тобой еще свидимся…
– Не трудись. Отворот дадут и не такому, как ты, голь несчастная!
И бессовестный нагло засмеялся вслед недавнему жениху своей дочери.
Глаша не помня себя бросилась за Субботой и догнала его на заднем крылечке.
– Воротись, милый!.. Не отойду от ног отцовских, покуда он не простит тебя… Что ты там наделал такое?
– Я? Ничего! Спроси отца, достойная его молительница, как он душу продал дьяволу, должно быть… Это ведь дьявол с кладом был, что хотел я грянуть об пол с молитвой… Ха-ха-ха! Серебром бы рассыпался, поверь… да жаль стало твоему родителю, что в дележ пойдем. Вот и накинулись на меня.
– Суббота… ты ли это? О каком кладе ты баешь?.. Какой дьявол?.. Ты не в себе – огневица тебя схватила…
– Прочь от меня!
– Я-то? Твоя Глаша…
– Не моя… и не будешь моей. Понял наконец… Одному погибать.
– Суббота… погоди… постой!
Но он не слыхал последних слов отчаявшейся Глаши и уже вскочил на чьего-то иноходца, отвязав его у кольца на дворе, когда с главного крыльца раздались голоса: «Лови!» – а на задней лестнице раздался стон, обдавший холодным потом Субботу. Затрепетал он, бедный, схватился за голову – и, не видя и не слыша ничего, проскочил в ворота…
С заднего крылечка внесли в повалушку бесчувственную Глашу.
II Как ни кинь, все клин
– Никак, придется, отче, панихиду петь по найденышу нашему? Все не добудимся… только уже и хрипеть перестал, – стараясь смягчить звонко-грубый голос свой, сообщал цветущий здоровьем мужчина средних лет, в понитной ряске, как видно, нáбольшему.
Этот вестник, судя по ширине плеч и мышцам на руках, должен был силачом быть. И кто знал отца Панкратия в Корнильевой захолустной пустыньке, заброшенной в лесную глушь Деревской пятины, тот мог смело утверждать, что, сообразно силе своей, здоровяк этот работал за десятерых, никогда не бывая без дела. Он был в полном смысле помощник строителя, обладавшего, может быть, и большею мощью, но в другом роде. Для выполнения решений воли своей имел он готовый, на все пригодный рычаг – отца Панкратия, доклад которого мы привели теперь.
Доклад этот делался тщедушному, маленькому и, казалось, очень слабому старичку в жарко истопленной уютно келейке, сидевшему в теплом зипунчике и волчьих сапогах да в скуфейке. Надвинутая почти над самыми бровями, она скрывала обнаженный спереди череп старца, только на висках прикрытый уцелевшими еще жиденькими космочками отливавших золотом совсем белых кудрей. Одни глаза еще сохраняли живость, искрясь по временам фосфорическим блеском, который составлял резкую противоположность с неподвижными, словно застывшими в морщинах, бледными губами. Редко открывались эти губы и никогда почти не смягчали несколько сурового выражения своей мгновенной улыбкой. Между тем суровости и следа не было в обращении с младшими у отца Герасима, как звали строителя, выросшего в монастырском уединении Тверской отрочей обители. Не успел он обогатить ум особенным разнообразием сведений, но усвоил самую сущность учения Спасителя, уясненного его возлюбленным учеником в немногих словах: «Любы николи же оскудевает». А под оскудением любви понимал Герасим все, что может как-либо и чем-либо угрожать покою и благосостоянию ближнего. Поэтому первая забота наставника была прекращать миром и забвением всякие обиды, какую бы они ни представляли великость понесенных при этом вреда и ущерба. «Да не зайдет солнце во гневе вашем – вот правило, нам предписанное», – твердо повторял, бывало, Герасим заявлявшим ему, что источники распри не скоро могут изгладиться из памяти. И от двух высказанных нами основ житейской мудрости строителя-миротворца мудрено было склонить его на какую бы ни было уступку слабости человеческой.
«Немощи нашея ради и не длите гнева!» – был вечный и неотразимый довод его перекорщикам.
В век же Грозного, когда кровь так легко лилась за безделицу, требования старца Герасима, если бы слушали его, были бы самым теплым и единственным предохранительным средством от бед, угрожавших человечеству. Действительно, и разразились они над большей половиной его (мы разумеем здесь русское общество), как известно, всеми видами жесточайших истязаний. По слухам зная следствия неукротимости гнева, Герасим, уже стоя одной ногой в гробу, больше всего и прежде всего привык настаивать на своем требовании, разрывая всякую связь с людьми, не уступавшими его проповеди о любви и мире. «Хуже язычника и мытаря немирящийся», – решал он и, махая рукой, запрещал говорить себе, как он выражался, «о немилостивом».
Доклад отца Панкратия погрузил в тяжелое раздумье строителя, сидевшего в страшном горе у столика своего в келейке, то и дело перебирая по зерну четки при повторении, не открывая уст, сотни раз: «Господи помилуй!» Да и как не погрузиться в раздумье заботливому строителю, получившему отказ в ходатайстве у владыки обратить в церковь, вместо сгоревшей, единственную некелейную постройку – часовню над прахом основателя, – покуда по грошам соберется сумма на сооружение особого храма. Владыка Серапион, видимо, был не в духе и находил, что и всей-то часовни недостаточно для одного алтаря, по крохотности ее размеров. Как же обращать ее в церковь? Строитель просил благословить придвинуть к часовенке одно из жилых помещений, предлагая употребить в дело даже свою собственную келью. О жилой же избе для обращения ее в церковь не хотел уже и слышать владыка. Богомольцы, вишь, летом зайти могут… Что скажут на такую нищету?.. Слывет пустынь за безбедную… Иначе надо изворотиться.
А чем и как?..
Так ни с чем и воротился отец Герасим, рассчитывавший, отправляясь, утешить братию устройством храма. А вышло на первый же раз неисполнение его гаданий. Прибыв же с горем в пустыньку, узнал Герасим новость, тоже способную заставить подумать, да и подумать. Без него брат-привратник, выйдя отворять врата ранним утром, после страшной вьюги в мороз, услыхал поблизости конское ржанье. Смотря по сторонам, приметил: что-то темнеется в овраге; позвал других двух братьев – и втроем досмотрели они в овраге коня, чуть видного из-под снежной полости. Вытаскивая же коня, нашли еще бесчувственного молодого человека, вот уж который день не только не приходившего в память, но и не открывавшего глаз во все время. О нем-то теперь повторял, чуть не десятый раз, одно и то же строителю отец Панкратий, по доброте взявший к себе найденного и неусыпно принявшийся за ним ухаживать, покуда безуспешно. Такое положение дела, без сомнения, повергало заботливого Герасима в бездну тяжелого раздумья. Прервало его новое известие Панкратия, казалось наводившее на возможность раскрытия, кто такой был найденыш.
– Да вот что, отче, – говорил Панкратий, – по вечеру прибегал ярыга земский опрашивать воротного брата: не видывал ли на коне молодца пригожего, без шапки, в кафтане одном… Вопрос, вишь, поступил из Спасской губы, от губного… Пропал, грит, бесследно… а губному требуется… должно, што ни есть учинил… Я и подумал… нам-то как быть?
– Что же воротной брат ярыге отвечал?
– Затмение, грит, нашло… молвил: не видывали, а потом вспомнил – да ко мне… так и так.
– Неладно, да уж не поправишь!.. А может… все к лучшему… коли впрямь плох: меньше хлопот, коли преставится… погребем – и молчок… Спасской губной… Змеев… лютой человек!.. И правый у него виноватым ставится… Да минует нас чаша гнева Божия – волоченья к Змееву… при нашем убожестве!.. Храни Господи от лютого человека!.. Все Господь на спасение устроит… може, полезнее даже забытье воротного брата… Ужо сам посмотрю, что с нашим бедняжкой… От вчерашнего-то, что дал я тебе, брате Панкратие, снадобья в склянице, коли давал ты ему… нет ли перемены?..
– Говорю, отче, хрипеть перестал…
– А сам-то, холоден али согревается?..
– Словно теплей становиться начал и не так хил, сердечный…
– Н-ну, так, даст бог… в сон ударит… да сном, может, и отойдет все.
– Да чудно таково, отче… С ознобу николи мне не пришлося видать, чтобы так долго не очунялися люди…
– А тут, друже, не озноб… другое, должно полагать… я сам ума не приложу. Снадобье мое, брате Панкратие, душевную болезнь врачует… в забвение приводит… в сон… да силу сбирает, сонным успокоением. Трав разных, в сборе варения того, много всяких: и зверобою нечто, и проскурняк, корень преотменный, и белены чуточку, и иных некиих. К исступлению приводят они, а легчат: сон наводят да дрему спасительную.
– Я так и подумал, отче. Как влил ему в рот почитай глотков десять питья… пена показалася, и он словно сомлел, голубчик… Да, мало-маля, и в пот ударило… И заснул снова, крепко-прекрепко.
– И должен он спать так долго!.. – с оживлением высказал Герасим.
Действительно, ведал он много верных средств ко врачеванию человеческих недугов, слывя в околотке за святого, успешно подавая помощь в страданиях, не поддававшихся заведомым знахарям. И от укуса змеиного пластырь давал отец Герасим, все распаление яда тотчас прекращавший. От порубки оружием отравленным, и от скверных язвин, и от корчи. Словом сказать, не было для его искусства ни одного недуга, которому бы он не помог ослабнуть, коли по грехам послан в казнь человеку на долгие сроки. Будь он корыстлив, пустынька бы игрушечкой у него глядела, а то прост уж очень разумный старец, и нищелюбив, и жалостлив – ничего не требовал за врачеванье свое… только бы во славу Божию совершить на пользу кому… Братия на это немало роптала, да ничего не приходилось говорить против набольшего, с Панкратием только и советовавшегося на четыре глаза…
А Панкратий не перечил ни в чем ни строителю, ни братии. Пошли его работать или перенести какую тяжесть, хоть бы Евлогий отрок-послушник, он и того послушает. А в диаконы ведь поставлен и первым по строителе считается работником, конечно.
Коня братия решила взять в пустыню, заключая, что Бог послал на их нужды рабочий скот. Замерзший или бесчувственный человек занял только душу Панкратия, которому долго пришлось просиживать у изголовья медленно возвращавшегося к житью на белом свете.
Был, никак, четырнадцатый день, когда Суббота – это был он – впервые открыл тусклые глаза и тут же смежил их, не доверяя себе, что он подлинно видит совсем неизвестное место да человека в черном вроде сторожа. Не мог также вдруг очнувшийся обознать за людское жилище и бедную низменную полуземлянку, где царствовал чуть не мрак и где вокруг не находил глаз ни одного предмета, сколько-нибудь знакомого бедняку. Мало-помалу, однако, с возвращением памяти, в Субботе пробудилось сперва смутное, потом ясное сознание неотвратимого и непоправимого, как он думал, несчастья. Разрыв с Нечаем и потеря Глаши, представившись теперь ясно в памяти молодого человека, вырвали у него невольный продолжительный стон и скрежет зубов, напугавшие обычно бестрепетного Панкратия.
– Видно, последний кончик пришел сердечному… – прошептал инок, сотворив молитву и крестя страждущего.
Он же через минуту опять смежил веки. Разлучение с жизнью, однако ж, долго не наступало, и находчивый отец Панкратий поспешил привести кроткого Герасима: посмотреть, что творится с врачуемым.
Вид старичка с добрым располагающим взглядом и словами участия, казалось, успокоил Субботу, с которым строитель не решался, однако ж, заговорить, а только глядел на грустный лик, начинавший загораться зловещим пламенем горячки. Зорко следя за переменой в лице больного и заметив лихорадочное оживление глаз, быстро начинавших бегать, переносясь мгновенно с одного места на другое, Герасим вышел и, воротясь, влил в рот больному какого-то снадобья, должно быть горького, но успокоительного. Судорожное напряжение через минуту исчезло с лица страдальца – и он впал в тихое забытье. Мысли его получили какую-то лень, не дававшую им правильно течь из-за боли. Едва ли в том положении, в которое бросила Субботу прихотливая судьба, лекарство отца Герасима не было единственно способным сохранить потрясенную ударом умственную деятельность.
Отец Герасим проявил в себе дивное искусство. Какое дать соответствующее лекарство больному, отгадал он одним ясновидением сердца, не зная еще всей глубины душевного потрясения страждущего. Суббота хранил, однако, упорное молчание и начинал поправляться. Какой заботливости ухода требовало это улучшение со стороны вечно улыбавшегося Панкратия – на это мог бы дать ответ только он один, если бы он любил хвалиться своими подвигами. Это уже выходило из круга понимания своих обязанностей приветливым здоровяком, а он начинал хмуриться только благодаря угрюмому лику выздоравливавшего.
Вот наконец Суббота уже может и подняться с жесткого ложа, которое владелец кельи уступил своему случайному гостю, а он только два раза за все время своего здесь пребывания и поговорил с добряком Панкратием. В первый раз он попросил рассказать, как сюда попал, а сам не ответил на вопрос рассказчика о его имени и прозвании, не вызвав, впрочем, и этим недоверием неудовольствия на лице кроткого инока. В другой раз – это было на Страстной – Суббота изъявил Панкратию желание облегчить совесть исповедью – и единственный иерей в пустыньке, строитель Герасим, не замедлил явиться в роли примирителя души с Небом.
На этот раз Суббота не думал ничего таить в повести своей недолгой еще жизни, которой в будущем не предстояло, по его собственному мнению, видеть еще раз приманку счастья. Кроткий отец Герасим молчал, слушая и давая полную волю высказываться поверяющему ему свой сердечный недуг. Только когда замолк кающийся, пустынник, сам смолоду изведавший немало злоключений в жизни, спросил его кротко:
– Что ж ты… прощаешь зло содеявшему тебе?..
– Простить… не под силу…
– Зачем же ты, человече, поведал мне начало своего падения? Без прощения врагам Христос не отпущает нам грехи наши… Зла желая нанесшим тебе хотя и кровную обиду, ты можешь уподобиться началу зла всяческого, диаволу и пособникам его.
– Пусть и с ними часть моя – только бы отомстить удалось… губителю моей чести и участи. Пропадать мне так пропадать!
Герасим с ужасом посмотрел на упорного и, как бы не веря себе, переспросил его:
– И это, человече, твое последнее слово? И этого от тебя, думаешь ты, ждал Искупитель, спасший тебя от верной смерти?..
– Инако не могу думать… пока жив…
Кроткий старец отшатнулся от излеченного им и голосом, полным грусти, проговорил:
– Так Господь же с тобою, иди куда знаешь из нашей мирной сени… Мы, иноки, никого не научаем на зло и никому не помогаем во вреде ближнему, хотя бы и тяжко согрешившему… Тебя поднял Господь с одра… твори же мимо нас, что внушит тебе на благо ум да разум твой. Памятуй только, что отомститель неправды один у нас – Бог! Мы все – только ничтожные слуги велений Всемогущего… а веления Его дает нам знать слово Его, изреченное чрез пророка: «Милости хощу, а не жертвы». Нет в тебе побуждения миловать – ты не раб Господа своего, а раб страстей твоих, изрывающих тебе пропасть до дна адова… Вот путь немилостивых!
Суббота развел руками, как человек, который не может принять предлагаемое ему, и только слеза, улика тяжелой борьбы в душе его в эту минуту, медленно заискрилась в потухшем взгляде отчаявшегося. Налившись в полную каплю, она упала на эпитрахиль сосредоточенного Герасима. Старец отдернул руку, державшую крест, чтобы не дать его облобызать не раскаявшемуся в злом намерении.
Тихо удалился затем грустный иерей Герасим от решительного Субботы, ни словом, ни взглядом не давая понять ожидавшему в сенцах конца исповеди Панкратию, какую тяжесть нес он теперь на своей совести, не успев пролить ни капли света благодати в омраченную душу. Упрямец настаивал на своем с такой силой, какую исповедник видел в первый раз в жизни, не встречая ничего подобного и у пожилых людей, не только в молодом еще, распускающемся побеге страстной природы.
Весь вечер оставался Герасим погруженным в неотвратимую думу. После звона к вечерни он не вдруг стал на правило. Отходя же ко сну, сделал теперь лишние три поклона сверх положенного, прошептав: «Преврати, Господи, ярость львову в незлобие голубицы!»
Но прежде чем тушить свечу у налоя, сосредоточенный строитель-молельщик раскрыл служебник и загадал: получится ли просимое? Глаза его упали в книге на слова: «Смерть грешников люта!» Содрогаясь, перекрестился он и, опустясь на колени, долго стоял, воздев очи горе.
Суббота не выходил из кельи Панкратия. Разговелся один – пасхальным яйцом, принесенным ему от общего разговенья братий, и не искал ни встречи, ни новой беседы с Герасимом.
В день Радуницы, совершив поминовение усопших и выходя из часовни, строитель сказал брату Панкратию:
– Передай своему гостю, что ему у нас делать нечего… Теперь совсем поправился – может идти куды знает…
– Я, отче, попрежь ему говаривал не одиножды о сожитии с нами… по восприятии иноческа образа… и он не прочь был.
– Ему нельзя… отречься от мира, – выговорил неохотно Герасим и замолчал.
Словно перевернулось что, произведя глухую, но довольно ощутимую, мгновенную боль в сердце Панкратия при вести об изгнании Субботы строителем. Панкратий передал своему молчаливому сожителю по келье решение главы пустыни и услышал односложное: «Завтра!»
Наступило утро. Панкратий увидел Субботу уже сидевшим на постели своей и одетым в его кафтан, до того бережно висевший рядом с убогой рясой владельца кельи.
Испив воды, Суббота поблагодарил за гостеприимство брата Панкратия и просил его, если не в труд, указать выход из пустыньки проселком на большую дорогу.
Панкратий не выдержал. Бросившись лобызать уходившего, он сунул ему в карман хлеба вместе с алтыном – единственной монетой, составлявшей все наличное богатство нелюбостяжательного брата. Замахав рукой, когда Суббота отказывался брать дар чистейшей дружбы, он едва выговорил:
– Коня тебе выведу твоего!..
– Оставь на братию – конь этот не мой. Не коня, а шапку бы нужно.
Вместо ответа Панкратий снял с полки шапочку свою, надевавшуюся только в праздники, и подал ее человеку, видимо чуждавшемуся его до сих пор, хотя, правду сказать, обязанному бы выказать со своей стороны, если ничем другим, то вниманием, признательностью за уход и гостеприимство. Субботе между тем и в голову не приходила эта обязанность за обуявшим его ум сознанием потери всяких надежд на счастье.
Сознание это приводило в ярость его молодое сердце, изведавшее разом гибель всего, что составляло его жизнь и счастье. Понятно при этом и упорство в отказе отцу духовному на требование его примиренья и забвения. Словом, молодой человек страдал, а мучения его старому монаху и представиться не могли во всей глубине и боли их, хотя бы и имел он возможность подумать поглубже над содержанием исповеди Субботы.
Из нее понял отец Герасим лишь кровность обиды и злорадство Нечая, нарушившего обещание свое, прибавив еще глумление и оскорбление. Но силы любви Субботы к Глаше никак и не представлял Герасим себе, не испытав других бед, кроме гонения и унижений. Да и сам Суббота не думал признаваться на духу в своих ощущениях, считая их вовсе не подлежащими пересказу кому-нибудь. Он был натурой сдержанной и нелегко поддававшейся чужому влиянию, без чего от подобных ему людей трудно ожидать полного откровения. С Панкратием Суббота опять составлял во всем полную противоположность, а больше всего разность выступала у них в складе понятий. Мало жил Суббота еще на свете, но видел, как живут люди; знал и по себе судил о семейном приволье и свободе. Панкратий же сиротой рос в монастыре, вынес с годами из прожитого одну необходимость полного подчинения, у него не было побуждений подчинить себе волю другого изучением его слабых сторон. А только искусно действуя на них, мы заставляем человека самого высказываться.
Так Панкратий и Суббота при теперешних обстоятельствах не дошли до сближения. Оно между тем было так близко. Даже в ту минуту, когда Панкратий вывел Субботу на дорогу и махнул рукой в ту сторону, куда идти по ней пешеходу, он не мог говорить, задушаемый подступом слез. Почему текли они у него, он и сам не понимал, быстро отвернулся и пошел назад, дав волю сдерживаемому потоку. Суббота бросился было за ним, но какая-то сила приковала ноги его к земле. Оборотись Панкратий случайно, может быть, не так бы скоро воротился он в свою пустыньку, зато утешен бы был излиянием дружбы в такой полноте, какой никто еще не оказывал в жизни. И Суббота, вероятно, стал бы не тем после переворота и душевного отдыха. Душа молодого человека искала теперь предмета для сочувствия, готовая ни на что не обращать внимания, кроме вызова теплоты чувства, даже самой ничтожной и ненадежной; не хватало одной искры огня, чтобы разлиться пожаром.
Голова его была подавлена наплывом дум – в совокупности тяжелых, но поодиночке не заключавших ни колючести болезненной, ни приманки обольстительной, а какую-то торопкость исканья чего-то неизвестного, неведомого. В этом исканье прежде всего пробивалась жажда новизны ощущений. Неприглядный лесистый путь, по тропке, между рядами похожих одна на другую сосен, не только не притуплял этого ощущения, но, говоря точнее, пожалуй, изощрял его, доводя напряжение это до высшей степени по мере телесной усталости от скорой ходьбы. Быстроты ее Суббота не мог заметить сам, побуждаемый надеждой отыскать жилье и десять раз обманутый в своих ожиданиях. Издали ему казались похожими на избу то песчаный холмик между соснами, на повороте дороги, то кем-то заготовленные весной и просушиваемые на солнце пластины, приставленные к какой-то загороди, то избушка в самом деле, но необитаемая, без окон, дверей и потолка, у края дороги.
Вот уж начал спускаться и беловатый сырой туман, набрасывая дымчатый полог на лесную глушь. Стало приметно темнеть. Хотя время от времени то тут, то там между соснами прорывались трещины света, указывая на близость поля. Вот и лес перемежился перед пологим скатом, из-за которого потянул в сторонке дымок. Еще немного – и открылась усадьба: изба с двором и всякими хозяйственными пристройками. Яркими точками блестели волоковые окна избы, где огонь уже был подан.
Подходя к крылечку, Суббота услышал говор нескольких голосов, но, не подумав ни о чем, взялся за скобку двери и, растворив ее со скрипом, вступил в избу.
Изба была чистая, обширная, и обилие всякой домашней утвари, размещенной по настенным полкам да на голбце печи, указывало достаток хозяев. При редкости жилья в здешней стороне – смежной с литовским рубежом – доходно было пускать на ночлег, и плата за него давалась охотно застигаемыми темной ночью, совсем уже сгустившейся теперь. Изба, в которую случай завел Субботу, совсем приноровлена была для получения возможно большей выгоды от ночлежников. Кроме широких лавок вокруг стен, предлагались для спанья и полати, занимавшие больше половины всей внутренности чертога, где, как в ковчеге, всякой твари было по паре, и все сборище могло предаваться любому занятию. На этот раз только исключительное внимание всех обращал на себя глава ватаги веселых. Правда, из угла два тоненьких голоска затягивали, стараясь наладить на веселый мотив, «Как во городе было во Казани», но, никем не поддерживаемые, затихали, чтобы опять возобновляться, не рассчитывая на большую удачу.
У печки сидел цыган с волынкой; двое татар в тюбетейках чинили обувь; латышей, никак, двое, в белых малахаях, распоясывались, готовясь лезть на полати; оттуда же торчали, смотря вниз, пять либо шесть ребячьих голов. В большом углу перед столом, накрытым скатертью, – только без хлеба-соли покуда – лежали гудок да балалайка. На лавках, около стены и на особой, отдельно приставленной к столу, расположились человек семь веселых; а набольший у них, здоровый мужичок средних лет, в пестрядинной рубахе и суконных шароварах, величаемый Тарасом-Чистоговором, или иначе Угаром, держал в руках странный инструмент и складно, несколько нараспев, высчитывал его достоинства в виде бесконечных прибауток: «Нашего бубна всласть заслушивались князья да бояре да купецкие люди постаре, а молодшим мы его не покажем, не токма что не расскажем. А коли ково, примерно, захотим уважить, должон тот самой нашу ватагу поотважить: меду крепкого поставить, чтоб щедродателя позабавить. А бубен наш не какой ни на есть, а заветной, величеством взаправду приметной…»
И действительно, в руках краснобая был чудовищной величины двойной бубен, с тремя днами из пузыря и с двойным рядом прорезов для бубенчиков. Поясняя устройство этого орудия своего изготовления, повествователь время от времени ловко ударял тылом ручной пясти то по одной, то по другой стороне натянутого пузыря – и при этом раздавался звук очень своеобразный, хотя далеко не приятный. Скорее всего, гул от него можно бы было приравнять к тявканью шавок, покрываемому сиплым лаем породистого старого пса, прикованного на дворе на цепь и на холоду несколько осипшего.
«А бубен наш красу составит всякие беседы, про его сласть вели не раз споры ближные соседы. Лука с Данилой друг другу в бороду вцеплялись и сами потом удивлялись, што про што их до воительства довело, на сущее зло. Не одна ли словно друг другу поперечка. Не хотели друг другу уступить ни словечка. Один по сущей истине бубен величал, а другой супротив ему кричал: бубен твой хваленой ни к черту годится, как же ты, дурень, смеешь им хвалиться. А Данила – эдак, брат, не годится. Коли не мастероват изловчиться сей музыке сласть придать, так не тебе ее и в руки брать. Кто же тебя слушать захочет, коли пускаешься морочить, будто игра на бубне не отменная, не звучная и не мерная и твой дух не увеселяет?.. С лавки сидячи в пляс подмывает, коли умник на нем заиграет. А дурень, коли за что ни на есть возьмется, вестимо, пути не добьется».
Удовольствие от острот Чистоговора отразилось на лицах слушателей, и в уме их не могла уже возникнуть, конечно, мысль о малой мелодичности великана бубна – по объему своему действительно имевшего право старшинства между обыкновенными инструментами этого вида. Подхваливая же Тарасову игру, где дело расходилось со словом, слушатели положительно подтверждали замечательную у них дебелость ушей сравнительно с любыми нервами людей нашего времени, жалующихся на малейшую резкость звука или возвышение несколькими нотами голоса. Под шумок продолжаемых в том же роде россказней Тараса Суббота не возбудил ни в ком ни крошки внимания своим появлением. Наоборот, его внимание было поражено, особенно при том положении напряженности и жажды ощущений, прежде всего общностью сборища, а там каждою особью в свою очередь. Он имел полную свободу делать свои наблюдения, потому что глава ватаги, подкреплявший свою оживленную речь частыми глотками браги из кружки, был, что называется, неистощим и неподражаем в уменье протянуть нить рассказа о бубне в самую вечность. Двенадцать же глаз, на него обращенных, и столько же ушей, его слушавших, находились в состоянии полного очарования, ничем не способного нарушиться. Не принимала участия в знакомом ей, вероятно, очень хорошо рассказе о бубне только молодая особа в красном шушуне, в таких же черевиках да в желтой исподнице, сидевшая против рассказчика на приставленной к столу скамье, боком к вошедшему Субботе. Она словно обернула к нему голову, когда еще раздался скрип отворившейся двери, но потом отчего-то не один раз потуплялась, начиная разбирать узорную прошву своего вышитого цацами передника. Черты ее были больше чем привлекательны, но круглое лицо поражало бледностью и чем-то похожим на припухлость, а отнюдь не на простую полноту. Могла, впрочем, примирить и с этим недостатком ее лица улыбка, располагающая к себе всякого, на кого она бывала направлена. Улыбка эта, добрая и сочувственная, в минуту прихода Субботы как-то блуждала на лице, потерявшем большую часть своего оживления благодаря выпитой браге. Глаза ее, уже туманные, почти погружались в дремоту, видимо одолевшую эту особу, хотя она еще сопротивлялась приступам сонливости.
Молодцеватый вид Субботы или, может быть, неожиданность его прихода и своеобразность, приданная наряду его монашеской шапочкой, плохо вяжущейся с нарядным кафтаном, по всей вероятности, не скрылись от молодой особы. Хотя она и силилась противостоять нашествию дремоты, но мгновенное оживление сообщило игру бархатному взгляду красавицы. Длинные волосы ее картинно разбросались по красному шушуну и широким складкам еще более яркой исподницы.
Приятность взгляда, чуть не в упор устремленного ею, невольно поразила Субботу при первой встрече очей его с нею. Смятение, овладевшее молодым человеком, должно было усилиться и от прихода в незнакомое ему многолюдство. Это ощущение скоро достигло в нем крайней неловкости, когда, остановясь на одном месте, он стал переминаться, а незамечанье его упорно выдерживалось всем сборищем с одинаковой безразличностью. Он хотел заговорить первый, но растерялся до того, что чувствовал недостаток силы разжать рот, словно привешены были к губам его свинцовые гири. Неловкое положение неожиданно рассеялось подскоком собачки, обнюхавшей новоприбывшего и, должно быть, ошибившейся на этот раз. Она бережно взяла в зубы шапочку, которую держал в опущенной руке Суббота, и, махая хвостиком, отошла с ней к столу и опустила свою добычу на лавочку подле осовевшей женщины с блуждающей улыбкой.
Суббота, не давая себе отчета, последовал за унесенной шапочкой и хотел только, подойдя к лавке, взять ее, когда красотка дружески подвинулась, указав нашему молодцу свободное место подле себя. Суббота опустился на лавку. Это случилось так быстро, что он не мог не только рассудить, но даже и сообразить, для чего он это делает.
Послышались разные возгласы:
– Гляди, какой гусь залетел!
– Нашей, значит, ватаги прибыло, братцы: Танька знакомого нашла…
– Ха-ха-ха-ха! – покрыли слова эти раскаты веселого смеха всех присутствующих.
Миловидная соседка Субботы, величаемая главой ватаги по простоте Танькой, при словах его вышла из державшего ее столбняка и, подавая свою кружку с брагой Субботе, как бы знала его уже давно, промолвила ему: «Испить, может, хочешь, красавчик?» – а сама закинула ему руку за спину с особенной заботливостью.
Субботе действительно с устатка пить хотелось, и от приглашения, такого искреннего и неожиданного, он не нашел в себе силы отговариваться: взял и выпил кружку и взглянул на подносившую с немой благодарностью. Ей показалось это прямым ответом на взаимность – и звучный поцелуй в щеку молодцу для заседавших в притоне стал явным знаком Танькой новоприбывшему.
– И взаправду, девке-то малый сродни! – гаркнули мужчины, повставали с мест своих и приступили к новому товарищу с приветом и здорованьем, как будто жили с ним век.
Послышались поцелуи со словами: «Будь здоров!» Прием в новое общество опять совершился, прежде чем приготовился отвечать Суббота, под впечатлением происходящего не думавший отталкивать здоровающихся. Он находился словно в чаду, а когда туман и наплыв навеянных впечатлений несколько рассеялся, решил: быть делу так, коли пришлось! «Люди, кажись, душевные: не приказным кровопийцам чета!.. Да и святости монашеской не встретишь здесь, где спознала тебя эта самая Танька. Открытая душа… Чего же мне-то теперь отталкивать ее?.. Избрала – ее дело; коли ошиблась – пусть пеняет на себя».
И эта философия, добытая со дна выпитых кружек браги, в это мгновение имела для охмелевшего Субботы положительное значение с устатку и с голода.
Наутро сборище оказалось еще более разношерстной ватагой, где среди странствующих скоморохов находили удобное прикрытие всякого рода художества, в том числе и гаданья, и другие людские обманы. Запевалой был обладатель уродливого бубна, а закраскою – легко поддававшаяся минуте Танька. Она привязалась со всем доступным ей пылом страсти к юному Субботе, упавшему словно с неба. Никто не спрашивал, кто он. Все удовлетворились одним прозванием Субботы, скоро захотевшего принять и всю скоморошескую выучку, чтобы ничем не отличаться от других членов ватаги.
Наука далась: песни, разучиваемые при дружеском участии звонкоголосой Таньки, затверживал памятливый Суббота так легко, что недели через две он знал и в точности мог петь весь изборник веселого братства. Кривлянья и ломанья да залихватские пляски и в игре коршуна с горлицей, и вприсядку возбуждали при выполнении Субботой общее удовольствие сотоварищей и одобренье дяди Тараса – запевалы. Жизнь пошла было припеваючи… Но восторги сперва горячо разделяемой любви, оставаясь у Тани и через два месяца столько же пылкими и способными доводить до забвения, – в Субботе уже возбуждали к ней холодность. Мало-помалу охлажденье росло – и не заметить его не могла даже сама, на все смотревшая сквозь пальцы, нежная Таня. Она стала вздыхать и задумываться. Обстоятельства, в другое время способные расположить ее к беззаботному ожиданию последствий, теперь, при охлаждении Субботы, заставили глядеть на будущее неприязненно и искать выхода из круга, где надежда на посильное счастье тускнела с каждым новым днем. Она решилась наконец сама бросить охладевшего и передала свое решение Тарасу, первому предмету ее сочувствия, которое давно угасло, не породив между старыми любовниками – что редко случается – ни малейшей вражды. Тарас уже рассчитывал на барыши от ловкости Субботы. Но решительное требование бросить его со стороны Таньки перемогло, однако же, на этот раз. «Быть по-твоему! – согласился запевала. – Только случая подождем».
– За этим дело не станет! – отвечала Танька с улыбкой, хотя кошки заскребли у нее на сердце при этих словах сильнее, чем когда теряла она первый предмет своих увлечений.
Пришла в воскресный день ватага в большое селение – и вечером же, остановясь в кабаке, учинила большую попойку. Суббота нахлестался до бесчувствия. А наутро, когда его не хотели или впрямь не могли добудиться, ватага неожиданно скрылась, оставив спящего кабатчику…
Лето было уже на исходе.
В людном селении, случись годовой праздник, как теперь и во вторник, народ гуляет нараспашку. Перед закатом солнца заходили хороводы. В сторонке от дороги, при самом въезде за околицу, подле корчмы, расположились коробейники, разложив на траву самые яркие и блестящие приманки для женского пола: расписные выбойки, платки, перстеньки, сережки, гребешки, медные запонки дутые. Стоит взглянуть ненароком – и глаза разбегались: не знаешь, что выбирать…
Эта выставка редкостей, на удивленье деревенским покупщицам, мешала им как должно вести хороводы и петь песни – и собрала такую толпу, что трудно было со стороны разобрать, что тут делается. Торг у коробейников пошел на славу. Меньше продавалось, как водится, на алтыны, а больше на менок, но наличного товара скоро оказалось недостаточно для удовлетворения сильного спроса, и коробейникам понадобилось обратиться к запасу своему – складу товара на дворе. А покуда неудовлетворенные приобретательницы ждали открытия там распродажи с воза – раздался чуть не над ухом звук рожка и показались поводыри с медведями.
Ватага вступила в селение немаленькая: кроме двух стариков, из которых один прикидывался слепцом и выдавал себя за деда четырех молодцов разных лет и склада, были еще налицо два подростка, не меньше старших плутоватые. Медведей вели они целый пяток (в том числе две медведицы). Такое количество зверей разом у одних хозяев привлекло кучу любопытных мужиков. Скоро, впрочем, присоединились и молодицы, особенно приводимые в восторг представлением медвежьей пары, – как заигрывает парень с девкой. Косматые скоморохи по желанию зевак повторили уже раз с десяток этот образчик своего посильного искусства, когда из корчмы вышел, шатаясь, молодец – весь изорванный и замаранный кровью… Поглядел-поглядел на медвежью пляску да вдруг и сам понемножку начал поводить плечами и руками, словно норовя вступить самолично в состязание со зверями. Пуще да пуще стало его разбирать, и вдруг пустился он вприсядку под нехитрую музыку поводырей.
Наградой удальцу разгульному были общие рукоплескания всех присутствующих, не исключая, кроме приятелей, и самих поводырей медвежьих, подозрительно цедивших сквозь зубы:
– Ай да молодчик! Ай да ухарь!
А величаемый молодчиком и ухарем от этих ли поощрительных слов или просто под накатом безотчетной и непроизвольной жажды развернуться да показать свою удивительную ловкость, входя мало-помалу в задор, все ближе и ближе подвертывался к медвежьим парам.
Вот он начал задирать мишуков и медведиц в голову никому не приходившими заигрываниями: то хлестнет по морде свирепого зверя, скалящего зубы, то подхватит да повернет дикую Марью Ивановну, словно признавая в ней обыкновенную плясунью; то, изгибаясь сам, как червь на три перегиба, норовит ножку подставить мерно подскакивающей чете Михайлов Ивановичей – и те, сердечные, кувыркнутся, не ожидая этой проделки.
Зрители чувствовали уже боль в животе от беспрерывного, неудержимого смеха, а сами, точа слезы из очей, продолжали смотреть да закатываться, как вдруг мастерство плясуна было грубо остановлено выбежавшим целовальником. Он успел схватить удальца и дернуть к себе так отчаянно, что молодец, потеряв равновесие, пал навзничь почти под самым медведем, наиболее скалившим зубы и рычавшим вследствие заигрываний расплясавшегося ухаря. Ему грозила верная опасность – и единогласный крик ужаса вырвался из всех за мгновение хохотавших глоток, но плясун, в один миг успевший вскочить на ноги, вспрыгнул верхом на грозного своего неприятеля, с ревом шедшего на поверженного врага понурив голову.
Трудно описать то впечатление, которое сменило при этом общий ужас принимавших участие в разудалом плясуне-гуляке.
Зверя сдержали поводыри, бросившись все к нему. Витязя сняли с торжеством и повели угощать в кабак в сопровождении ворчащего целовальника.
За угощением дело разъяснилось: ухарь оказался задолжавшим кабатчику за выпитое зелено вино, уже третий день им то и дело требуемое, без уплаты денег. Разъяснение дало делу такой оборот, какого прежде всего не мог ожидать сам отчаянный плясун: поводыри выкупили из кабацкого плена парня, обещавшего хороший барыш, если только предоставят ему возможность плясать с медведем.
Решив дело и напоив еще пенником предмет своей выгодной сделки, поводыри, люди опытные, тотчас подыскали человечка, мигом настрочившего кабалу, с пробелом только имени кабального, так как оказалось, что кабатчик не знал его, а бесцеремонно обращаемый как вещь в собственность вожаков медвежьей ватаги хранил упорное молчание. Это дало сперва повод мнимому слепцу разрешить трудный вопрос об имени самым легчайшим способом: он разрубил гордиев узел написанием первого пришедшего на ум имени и прозванья, окрестив немым дешево уступленного кабатчиком в кабалу. Так почти и решено было, как мнимый немой гаркнул очень речисто кабатчику:
– Давай еще меду крепкого, ирод… было бы уж за что пропадать!
– Какая те пропасть мерещится, милый ты человек?.. – ласково обратился к гуляке разудалому хитрый плут, разыгрывавший слепца и дедушку. – Нам не жаль, паря, угостить твою милость… И сами-ста хватить не прочь за твое здоровие; как величать только, не знаем?..
– Субботой батька с маткой прозвали, Гаврилой поп нарек, а род наш, бают, Осорьины будто… коли я это на белом свете мыкаюсь, а не леший в моей шкуре.
– О, так милость твоя хорошего роду… прощенья просим по приятстве, как, бишь, по родителю-то?
– Много захотел! Еще и родителя тебе выдать ответчиком за мое безобразье… я один в деле – один и в ответе… – проговорил охмелевший Суббота, залившись горькими слезами при мгновенном просветлении сознанья.
– Малый, видно, и впрямь бывал из порядочных да закрутился… А жаль… видный молодец… Хоша и на службу царскую выставить.
– А ты думаешь, олух, что мы не служивали?.. Вр-решь!.. Бывали на Коломне, на смотру два лета да и отбывали все как надлежит, с нарядом, в полном сборе… Ты что знаешь? Ась? Мишуков цукать?.. Так куда же со мной?.. Не замай!..
– Да я не прогневлять твою милость, а с доброго сердца хотел поздравствовать… по отечеству взвеличать.
– То-то! По отечеству величать? Изволь: батько Захар-Удача мой… Меду! Пьем! – И, осушив тяжелую стопу, скатился совсем обессиленный удалец под лавку и захрапел, вздрагивая по временам в тяжелом сне.
В кабалу, с пересказа мнимого слепца, вошло полное имя закрепощенного ватагой – и отпереться ему от дачи кабалы нельзя, за вставкою трех послухов[3], якобы упрошенных самим отдавшимся своей охотой.
III Где правды искать?
В ватаге ладил Суббота с медведями одними. Косматые скоморохи полюбили не на шутку своего плясуна. А иной раз, как расходится наш угар-молодец, он забывал и свою ненавистную долю, носясь в бешеной пляске между подпрыгивающими мишуками. Случись в Ржеве-Пустой быть на представленье вдове молодой, боярыне. Понравились ей ради новости и оживленные медвежьи прыжки, и разные кривлянья, искажавшие человеческие ощущения, по звериному уменью. Но когда выпрыгнул Суббота и начал с судорожной дрожью похлопывать и подергивать Марью Ивановну, нисколько и не гневавшуюся за эти любезности, – боярыня глаз не спускала с ловкого и осанистого Субботы и, сама не зная как, заразилась тоской по красавцу. Всего один раз встретились глаза зрительницы и плясуна. Как же не назвать после этого такого молодца выходцем с того света? Ни хожденья по монастырям, ни обильные милостыни, ни отчитыванья опытных в духовном врачестве старцев и стариц – ничто не помогало бедняжке. Говорят, и теперь она еще все тоскует да хиреет, места не находя себе от тоски. Бесстрашный глава ватаги один только руки себе потирает, глядя, как после каждого представления с Субботою, при обходе с бубном рядов распотешенных слушателей, обильные сборы денежек с лихвою уже усотеряют его взнос за удалого плясуна кабатчику. Сам плясун был между тем постоянно мрачен и озлоблен. Никому он ничего не говорит да и не слушает, что ему говорят. Выходит к публике нечасто, на своей полной воле: не захочет – ничем не принудишь и не уговоришь. На уговоры и умасливания упрямец начнет только бросать озлобленные взгляды да затрясется иной раз от бешенства. Приносят ему и склянку с одуряющею влагою, но не всегда схватится за нее этот изверг не изверг, а дикарь. Заведомо с черным делом, должно быть, на душе, если еще не хуже что – могли с некоторою даже вероятностью, пожалуй, думать сторонние люди, кому выпадал случай видеть Субботу озлобленного и мрачного. Когда же хватить удастся всепримиряющей хмельной браги или горячего вина – делается он сам не свой и, отуманив, разумеется, ум, развертывает удаль свою до полного очарования дивовавшегося зрителя. Быстрота бешеных перевертов и дерзость прискоков выходят уже из всяких пределов. Что тогда делает он из медведей – мудрено пересказать: звери повинуются ему рабски, мгновенно очарованные пламенем устремленного на них взгляда, истинно адского. Тут уже в кружащейся голове зрителей сливаются в одно и пляски медвежьи, и сверхчеловечья удаль, с мельканьем еще каких-то будто образин, высовывающих языки словно под гул высвистыванья сквозь зубы плясуна. И пока продолжаются эти бесовское крученье, с гиканьем под звуки бубна, и писк дудки вожака – у зрителей только сердце замирает от какого-то дикого непередаваемого ощущения. Жилки все трепещут у самого бесстрашного человека, а оторваться от потехи и разрушить чары нет ни силы, ни воли.
Между тем с плясуном самим после каждого представления стали делаться обмороки, и довольно продолжительные. Он стал реже поддаваться искушению осушить стопу. Отталкивая же от себя ее, он стал дольше упорствовать в отказе выхода на пляску, когда собирались толпы зрителей. А уж между зрителями много наезжать стало хорошего народа, особенно людей торговых, ничего не жалеющих на потеху. Вожак ватажный, выведенный раз из терпения, посулил железный прут упорствующему кабальному.
– Коли не слушаешь упросов, ужо мы те вот чем научим послушанью!.. – да и замахнулся на угрюмого плясуна старик. Не владел он уже собою, как увидел, что народ начал расходиться, прождав напрасно пляски с утра до полдня.
Только и видел свой прут глава ватаги. Поняв сущность угрозы, силач Суббота свил прут этот, чуть не в палец толщиною, в шнурочек меньше четверти да и бросил его в испуганного угрожателя.
– Есть не дадим – смиришься поневоле!.. – решил мнимый слепец, запирая на замок каюту упрямца, который при этом только больше побледнел.
Прошло два дня. Замок не отпирался, да и узник не давал знака, чтобы в чем нуждался или чего желал. Проезжал на ту пору дьяк приказный из Великого Новагорода и стал просить главу ватаги потешить его – показать пляски человечьи с медведями.
– Ваша честь, хоша и прискорбно нам, а должны мы донести твоему степенству, что всей бы душой рады показать это самое… да боюся, с упрямцем ничего не поделать… хуже, чем дерево…
– Какой упрямец?
– Да этот самый проходимец, плясун-от наш, обозлился сам не знает про што и с голоду мрет, а не покоряется.
– Да какой он такой человек есть?
– Попросту сказать, кабальный мой… пошел к нам в кабалу за одиннадцать рублев, в прожиток, да от рук отбился… И вином спаиваем, кажись, вволю, да норовит вельми, и норову самово проклятого: не захочет – ни в жисть не принудишь…
– А коли кабальный – чего же с ним и толковать: в кандалах под плеть! Она, друг сердечный, хоша какую дурь выгонит неотменно. Пробрать бы его только…
– Коли бы милость твоя сам его в чувствие привел?
– Почему не так. Приведите…
Стали стучаться в закуту Субботину, отомкнули замок. Не откликается. Отворили дверь – лежит он ничком, а не спит.
– Его милость дьяк с Новагорода зовет тебя.
– Что ему надо?
– Хочет просить тебя досужество показать.
– Дьяк… из Новагорода? Слаб я от нееды.
– Подкрепись. Вольно же тебе упрямиться да на все серчать, на еду даже.
– Я на еду не серчал, а тебе покориться – ни в жисть.
Явилась закуска и брага и водка. Мнимый слепец, кланяясь, повторял:
– Голубчик, Субботушка, не губи ты моей головушки, не круши себя, кушай, что душеньке угодно. Потешь его милость только. Машенька стосковалась по тебе. От еды, сердешная, отстала. Ей-богу, право!
Суббота принялся за еду, язвительно усмехаясь. Насытился и, отпихнув поставец, встал и спросил: где там дьяк-то?
Набольший поспешил уведомить его милость, что одно упоминанье про его честь возымело надлежащую силу на упрямца, нет сомнения, готового показать свою удаль. Дьяк с самыми приятными ожиданиями встретил рослого молодца, подошедшего довольно развязно и спросившего: зачем звали его?
– Говорят, молодчик, ты горазд с медведями плясать, на удивленье миру крещеному, людям на потеху…
– Тешить черный народ – мужицкое дело; а я сам себе господин!.. – вдруг недолго думая ответил надменно вошедший. – Пока хочу – пляшу!
– Кабальному, как ты, советовал бы я господином не величать себя и старшему повиноваться.
– Кабальному, баешь?.. Не мне, значит. Я сын боярский, и я кабалу не принимал.
– И то лжешь, сударик! – поспешил возразить ласково вожак ватажный…
– Ни в жисть не лгал и тебе не советую.
– Как же не лжешь, коли отрекаешься кабалы, а она у меня за пазухой.
– Может, и есть у тебя, добрый человек, кабала чья ни есть, не оспариваю.
– На тебя кабала у меня, а не чья другая.
– На меня никто кабалы тебе дать не может.
– Ты сам, голубчик, никто другой… за выкуп от кабатчика…
– Я кабалы на себя не давал, и ты не просил…
– За долг, милый человек, кабала дана… за долг.
– Кем дана?
– Тобой.
– Покажи… Не во сне ли я?..
– Изволь… вот она сама; поглянь, твоя милость… – развернув лоскут бумаги вершка в три, положил мнимый слепец перед дьяком.
– Эта кабала как следует! – осмотрев подписи послухов и пробежав глазами, молвил дьяк.
– Имя твое как, молодец?
– Гаврила Суббота.
– И тут так.
Суббота пожал плечами, припоминая, что он никогда себя не называл по имени. Что во хмелю проболтался, он того не помнил и в голову ему не приходило.
– Батьку как величают?
– Незачем батьку знать в моей дурости, – с неудовольствием молвил Суббота, кивком головы выразив полный отказ от ответа на подобный вопрос.
– Милость твоя, государь дьяк, изволишь усмотреть, есть в кабале и отчество… хоша и упрямится малой… теперь некаться зачал.
– Истинно стоит в кабале: Удачин сын Осорьин… – подтвердил дьяк, глядя в листок.
Еще большее удивление изобразилось в чертах Субботы, уничтоженного последними словами.
Дьяк и вожак ватажный переглянулись. Вступая в роль вершителя судьбы ближнего, дьяк, возвысив голос, уже продолжал:
– Видишь, упрямство не помогает… Говори же истину, чей ты такой, подлинно… за каким господином семья ваша записана была?
– Я уж молвил: за великим государем царем нашим Иваном Васильевичем. И отец мой, и я служили в полках по Спасскому присуду Водской пятины; запрошлое лето я до Покрова за Окой стоял… Нам не рука от своей челяди в челядинцы к мужику идти. Вишь, измыслил супостат кабалу какую на меня настрочить!.. Заведомо лжива она… неподобная…
Ватажника передернуло при этих словах, но он рассчитывал улестить дьяка и не терял надежды запутать неопытного хитрыми подходами со стороны приказного дьяка, как он рассчитывал, скорее склоняющегося на ту сторону, где посулы даются. Субботины руки ведь пусты были теперь, у слепца всего вдоволь оказалось бы, коли б потребовала беда неминучая. И, зная это, однако с меньшею, чем прежде, уверенностью мнимый слепец вполголоса возразил:
– Неправо порочит кабалу мой кабальный! То его как есть воровство. Кабала писана по его веленью, на то есть и послухи. Пусть он посмотрит, господин дьяк, у тебя в руках кабалу.
– Пусть… – подтвердил дьяк, оборотив к Субботе лоскут бумаги с письмом.
Суббота в смущении молча устремил глаза – и, читая про себя все значащееся в кабале, вдруг оживился, дочитав до имен послухов.
Перед именем кабального вставлена была оговорка, что за неуменьем им грамоты поставлены три креста.
– Заведомая ложь! – вскрикнул радостно Суббота. – Грамоте разумею я, может, почище того, кто строчил кабалу эту. Сам ты, господин дьяк, коли дашь мне перо, увидишь, как я разводить им стану.
Дьяк задумался. Выяснилось обстоятельство, которого он сперва не принимал в соображение. Стала казаться вероятной подложность кабалы, и при этом, разумеется, возвысилась положительность заявлений Субботы. Невольный вздох вырвался из груди дьяка. Во вздохе этом отзывалось обманутое ожидание потехи. Принужденьем на мнимого кабального мудрено было подействовать, когда как паутина прорывались сети хитреца хозяина, залучившего молодца во власть свою подделкой кабалы. Хитрость внушила, впрочем, дьяку мысль: уговорить молодца потешить его пляской с медведями, хоша в последний раз. За такое удовольствие дьяк вздумал обещать Субботе свое содействие – выпутаться из-под власти ватажника. Способ повести это щекотливое дело сложился в уме дьяка мгновенно с приходом мысли, и он движением руки дал знать мнимому слепцу, чтобы тот оставил его один на один с Субботой в избе. Старик нехотя повиновался, а удаляясь, не раз оглянулся, желая отгадать по движениям остающихся, чего можно было ему ожидать от беседы их.
Дьяк подозвал Субботу и на ухо ему стал шептать:
– Дело, братец, твое такого свойства, что вести его тебе со старым псом нужно озираючись. Потешь, друг, меня пляской-от с мишуками; право слово, помогу. Благодари Бога, что на меня напал… я те ослобоню неотменно… только уважь теперя-тко…
– И вправду, дядюшка, не обманешь? – схватив за руку предлагавшего содействие, с живостью вполголоса отозвался Суббота. – Изволь, потешу в последний раз… Верь Богу, прискучили мне эти проклятые кобенянья. Да еще кабалу выдумал на меня… боярского сына!..
– И взаправду, дружок, ты из боярских детей… из Водской?.. – пытливо уставив маленькие глазки на вопрошаемого, чуть слышно заговорил, еще ближе к нему прислоняясь, дьяк. Он уже не сомневался в том, что потеха удовлетворит горячему ожиданию.
– Взаправду… Отец мой Осорьин Захар, в присуде Спасском на Дятлове живет… выставки корчемные держит.
– Вот оно что! Понимаю, какая ты птица… – отозвался дьяк не без волнения, и при этом в глазах его загорелось что-то зловещее, неприятное.
Этого, впрочем, Суббота не мог заметить, смотря в пол и не подозревая, кому он открывается: другу или врагу. По несчастью, горячо ожидавший медвежьей пляски был один из дельцов, подстроивших отказ Удаче от сбора корчемного, заведомый друг Нечая и губного Змеева. Возвращался дьяк из Москвы, по подаче описных и счетных книг, в приказ Новагородской чети.
При словах Субботы дьяку пришли на память и Нечай, и обида губного, и начатая Удачею борьба с ними, приказными, неизвестно чем могшая кончиться, – и пробудилось желанье насолить ворогу, усудобив сынка в доброе место. За решением же опять не замедлило, под видом дружеского участия, внушение Субботе явиться самолично к ним, дьякам, в приказ в Новагороде. «А как придешь, – думал дьяк, – уж сумеем тебя, за нахожденье в бегах да в прогуле, лет на шесть, на семь бессменно на низовую службу… Там и узнаешь кузькину мать… в чем она ходит… Кабала заведомо воровская… нече говорить… А со старика ватажника опять же не сорвать щетинки нельзя… обидно будет…» – рассчитывал в мыслях своих делец и затем обратился к Субботе, ожидавшему обещанного дружеского совета:
– Я велю старику явить кабалу безотменно в Новагороде и к нам… ты не перечь. – Тут, наклонив к себе голову Субботы, советчик и в ухо ему шепнул: – Там мы старого черта скрутим, а тебя высвободим… как есть. А ты по те места не упрямься. А ватажнику накажу я в город идти и стать у нас в приказе в неделю, на крайний срок… А теперя ты, дружок, попомни просьбу нашу и уважь…
Движением пальцев он докончил смысл услуги, ожидаемой от Субботы за благодарность, и махнул ему рукою, чтобы вышел, когда из двери просунулась в избу голова старого ватажника.
Старик внес на широкой доске, покрытой полотенцами, обильную закуску, где фляги с настойками занимали не последнее место между блюдцами с рыбкой, грибками, блинцами, икоркой и хворостом.
– Ужо, милость твоя, как подкрепишься, мы те удальство Субботино покажем. А Михайлы Иванычи и Марьи Ивановны сослужат служебку на отличку: я им пенничку волью в питьецо.
– А насчет малого не сумневайся, старина. Я его в чувствие привел и все… как есть, наказал из послушанья твоего не выходить. А кабалу ты непременно яви нам в городе, в приказе, неделю с днем проминувши, не больше. Там мы тебе его прикрепим надежно… А как нам привезешь – смотри, чтобы чего самому на ся не всклепать, коли упрется, что рука не приложена да что он… сын боярский!
Умиротворив по наружности обе стороны, находчивый дьяк получил желаемое удовольствие – и, схватившись за бока, не переставал заливаться самым заразительным смехом во все время представления. Удаль двуногого соперника косматых обитателей леса вырывала не раз крики одобренья дьяка, но раз принятое решение осталось во всей своей силе. С приездом в Новагород опытного кривителя весов правосудия сделаны надлежащие приготовления и приняты надежные меры, чтобы ни старик ватажник, ни плясун Суббота не избежали расставленных для них дьячьими руками силков.
В отчине Святой Софии перед тем только получен был указ о наборе на царскую службу к дальним тамбовским засекам не меньше сотен двух детей боярских, бывавших в нарядах и смышленых, чтобы проведывать ожидаемого наезда крымцев.
– Государь, княже милостивый, – докладывая наместнику государеву исполнение по этому наказу, поспешил ввернуть словцо находчивый делец, – теперя-ко ждем мы явки воровской кабалы на одного сынишку боярского… Повели, как явится, приудержать того самого парня у нас в колодничьей… верь Господу, угар такой и проходимец, что лучшего на низовую службу, почитай, и в Москве не найти… А человек, вестимо, заворовался, коли спроворил на себя, на дворянску кровь, кабалу настрочить за одиннадцать рублев московских… мужику.
– Это беззаконье!.. Как Господь грехи только терпит?! – крестя рот, проговорил простоватый наместник. – За одно за это самое художество достоин бити батоги и послать не в очередь в дикие поля… пусть исправится непутный…
– Я тоже бы думал, что поучить не мешало… да не смел милости твоей докладывать: как показаться мог мой совет холопий.
– Чего показаться тут?.. Вестимо, батоги и батоги… Штобы честь не порочил родительскую и холопство выбил из башки непутной.
– Так изволишь и приговор писать?
– Почему бы нет?.. Я художеству не потатчик.
– Слушаю и выполню… Да и того мужлана не поучить нельзя же… Тако явен воровской его умысел… брать в кабалу человека не по рылу дурацкому. Судебник гласит, что сын боярской теряти вольности не должон, окромя воли великого государя… и кабала на вольного человека, кольми паче на сына боярского, в кабалу не вменится… Значит, яко противнику государевых уставов, кнут мужику-явителю кабалы заведомо воровской…
– Говорить нече!.. – молвил, зевнув, наместник. – Его, мошенника, бита и обивки вбити… да доправить за утружденье наше воеводское и приказное толикое же количество рублев, сколько поставил воровски…
– И вдвое бы не мешало, государь князь… понеже вор-грабитель людей обирает бездельной потешкой… медвежьими плясками…
– А?! – зевнув во весь рот, изрек наместник. – И медведи у него… важные? Я, братец ты мой, до мишуков охотник, надо тебе сказать.
– Так не изволишь ли, государь, медведей у мужика отобрать всех сполна?.. Почем знать… может, у такого вора и звери краденые… Не душегубец ли еще… чего доброго? Копни только его… может, откроется и невесть еще што…
– Да отправь, друг, в наш поселок, на Шелонь. А мужика посадить до выправки, как следует.
– А не то вдвое кабальной цены доправить тоже не мешает, ваша честь, княже милостивый…
– Своим чередом, – изрек наместник, отсылая дельца и растягиваясь на лавке.
Дьяк Суета не опускал воеводских повторений – и как только, не смея ослушаться, прибыли истец-ватажник, разыгрывавший слепого, и ответчик Суббота, он приступил к решению дела их по существу.
Гневно взглянул на подносившего поминок ватажника распалившийся Суета Дементьевич и, словно не узнавая своего недавнего угощателя, величественно спросил его:
– Кто ты такой, человек?
Ватажник смутился и, вытаскивая из-за пазухи кабалу, положил ее на поминок; потом, поминок подняв, сунул под него кабалу, а дьяк все смотрит и примечает. Да как крикнет на опешившего старика:
– Што ж не отвечаешь, мошенник? Что суешь!.. Давай сюда. Что там такое?
Дьяк взял поминок; вынул кабалу, прочел ее, будто в первый раз видит, да брюзгливо спросил:
– Послухи где?
– Запамятовал, хоть ты што хошь, запамятовал их привести…
– А! А это кто? – указал его милость дьяк на Субботу.
– Кабальный…
– Врешь! – резко отозвался Суббота, обнадеженный обещаниями дьяческими.
– Кто же ты такой? – спрашивал Суета.
– Сын боярский, Суббота Осорьин.
– Подьячий! – крикнул Суета. – Пиши, братец, что приведен в приказ неизвестный детина, называет себя сыном боярским Субботой Осорьиным. Где помещен… коли подлинно из боярских детей?..
– Батюшка мой, Удача Осорьин, в выставке Дятлово живет, в Спасском присуде.
– Подьячий! Запросить губного Змеева, есть ли в его губе по десятням Осорьин, где? Послать сейчас по Змеева.
– Чево посылать, он и сам налицо… – входя случайно в приказ, отозвался Змеев и, увидя Субботу, чуть не остолбенел от неожиданной радости: возможности насытить злобу над человеком, навлекшим на себя его ненависть.
– А я по тебя посылал… Вот неизвестного звания молодец приведен, якобы кабальный, этим старым плутом, а про себя говорит, будто из детей дворянских твоей губы.
– Это правда… Осорьиным, кажись, прозывается… Да спросить надо только его, где пропадал он по сей день.
– Это уже наше дело.
– А чего не мое?
– Воевода нам велел!
– Да ему какое дело?..
– Опять же не тебе знать, коли не спрашивают. Отвечай, коли спросят.
– Не мое дело это – нече и спрашивать.
– Окромя того, что требуется. Так ты вправду Осорьин! Губной признал, – обратился Суета к Субботе, а от него к ватажнику и крикнул: – Стало, ты, старый вор, кабалу явил облыжную… А в Судебнике стоит… за облыжное показание…
– Помилуй! – крикнул, грохнувшись на колени, ватажник.
– Не перечь… и то еще бить не велел… Это после будет… говори: за сколько рублев долгу писана кабала?..
– За одиннадцать… кажется.
– Вишь, мошенник… со счету даже сбиваешься, ясно, своровать хотел… Вынимай дважды одиннадцать рублев, коли в колодку не хочешь… за облыжное воровство… Подьячий, пиши. С вора доправить следует по боярскому веленью, чтобы воровать было неповадно, пени за воровскую кабалу вдвое – сиречь двадцать рублев и два рубля, бездоимочно… Каким промыслом живешь?
– Мы медведей водим.
– Много ли их?
– Пять медведей: три мишука, две медведицы.
– Изрядно. Где стоишь?
– На улице на Рогатице, у Климки у Онуфрева на дворе.
– Ярыга! Эй, кто здесь дневальный?
– Чего изволишь, я – Митюк Абросимов.
– Бери, Митюк, трех человек стрельцов да шестерых понятых, веди на Рогатицу, на двор к Климке Онуфреву. Там остановились вредные люди, поводыри, бездельные мужичонки, да с ними пять голов мишуков, самцов с самками. Всю эту самую ватагу забери и веди на воеводский двор сего часу… всех, никого не упустя, ни единого, затем што оные воры, забывши крестное целованье и диавольскую лесть излюбя, народ честной прельщают, у чернова люда деньги за посмех обирают. Слышь… все исполнишь, как повелено.
– Слышу.
– Иди же! А старого вора до взноса двадцати двух рублев на правеж поставити… и колодки наложить теперя.
– Господин честной, не тронь медведушек, трижды внесу.
– Давай.
Старик стал распоясываться и из-под пояса добыл кожаную мошну с серебром и принялся считать. Отсчитав же, положил на прилавок к казначею.
Тот стал считать и, пересчитав, взглянул на дьяка.
– Сколько внес?
– Двадцать два рубли, семь алтын, восемь денег новгородскими.
– Не трижды, как хотел…
– Видит Господь, в мошне осталось всего пять алтын…
– Ну… Бог с тобой. Подручный у ярыги дневального есть?
– Есть, – отозвался тот из-за перегородки.
– Ступай сюда! Бери старого вора теперь и сведи его в город, в колодничью избу… да скрути понадежнее, штобы не утек…
– Не боишься ты Бога, господин дьяк, коли обижаешь так бедных людей! – взвыл ватажник, которому подручный принялся руки крутить за спину.
– Не боялся бы Бога, злых людей, тебе подобных, на волю бы выпускал, а то врешь… шутишь… не уйти от нас… Веди скорее! – крикнул затем на подручного, и тот поволок старика вон из приказной избы. – Ну, брат, теперь твоя очередь, беглец!.. – кивнул Суета Субботе.
– Я не бегал никуда.
– Где же пропадал? Не слыхал, што ль, што баял губной? Отвечай же по чистой совести, не потая ничего, как на духу попу…
– Я не думал пропадать. После обиды, что нам нанес Нечай Коптев, я поехал с его двора и чуть не замерз… в этом самом кафтане и без шапки… Нашли меня монахи Корнильевой пустыни… выпользовали от немощи… А потом я к веселым попал… и от их… к ватажнику…
– Чего же перечишь, что не бегал?.. Это самое твое странствие за што же счесть, коли не за беганье от царской службы в явочную пору?
– На службу явиться мне было не про што и не с чем… без коня я, без оружия и без брони…
– И это все пропил… в непотребстве… Так ведь? Коли медвежьим вожаком стал, мужика смутил… в кабалу к ему пошел…
– Не шел я в кабалу… то чистая ложь…
– Ну, ладно… все ложь, а ты чище света солнечного… А великий государь воеводам гневное слово пишет, за ваши бездельные огурства да отлыниванья от службы, да от десятни… И то чините непригоже. И за такое воровство, указом князя, его милости наместника Новагорода Великого и Пскова и прочиих городов со пригороды, подлежишь ты, Суббота, опале государевой всемерно и кажненью тяжкому; но князь-государь наместник, вняв сродственному ему милосердию, повелением указал тебя, прогульника и вора, ради твоего исправления, отослать к полковым воеводам в Переяславль Рязанской и вписать в десятню бессрочных высылок, и быти тебе там до новой посылки.
– Да с чем мне ехать?.. Домой нужно быть и отца отыскать да срядиться к сроку…
– Отец твой в Москве теперя-тко; а пускать тебя в Белокаменную – опять сбежишь… – отозвался злой старик Змеев, нахально подсмеиваясь.
– Не в Москву, а домой, к нам.
– Да куда к вам, коли все описано на великого государя? Как Бортенев ни ершился, да пришлось уступить нам, – прихвастнул, заведомо пускаясь лгать, Змеев, обращаясь к дьяку Суете.
– Что же, у его своего и нетути теперя ничего, што ль? – спросил губного дьяк.
– Ни синя пороха… все Божье да государево.
– Ну, ин и из государева… отписного коня выдать, да пику, да саадак, да шапку железную… а сухарями сами оделим…
– Благодарствую твоей милости, – высказался тронутый Суббота, принимая за чистую монету дьячью мнимую заботливость, – куда же идти мне теперь прикажешь?
– В колодничью, известно, сведут… Сиди там до отправки.
– Да за что же сидеть-то мне там с извергами, что ожидать должны наказанья…
– И ты жди… воевода велел бить тебя батогами… до отправленья… за прогул и непотребства.
– Увидим, кто осмелится бить слугу государева!
– А хочешь?
– Не смеешь ты!.. Не удастся свинье на небо взглянуть.
– А взглянет свинья, как пить дать взглянет, – язвительно прошипел взбешенный Суета. – Эй, ярыги дневальные… батогов! Бери его… растягивай!.. – крикнул дьяк и указал на изумленного Субботу.
Тот, безоружный, приготовился к обороне, но десять человек одного, хотя и силача, осилили, повалили, сорвали кафтан и избили батогами до того, что поднять нужно было с пола надменного Осорьина, пылавшего бессильным бешенством.
– Помни же, приказная змея, по твоей милости мои побои… отплачу с лихвой.
– Пожалуй, попомним… в другой раз побольше всыплем. Сведите в колодничью поостыть горячее сердце!.. – нахально засмеялся дьяк, когда уводили избитого.
IV Горькому – все горько
Русь при первых царях славилась уже обширностью, но сравнительно с этим и бедностью населения – скученного более только вокруг столицы, где земля была вся на счету и пашня врывалась в леса дремучие некогда. Теперь они уже начинали приметно редеть и в Московском уезде. Тяжелая нужда заставляла распахивать новины и смотреть на подмосковные усадьбы служилых людей как на главные источники прокорма для самих владельцев и многочисленной дворовой челяди их, за неимением хороших путей для подвоза. Зато в Заокской стороне, бывшем Рязанском уделе, земля почти ни во что не ценилась еще и в XVI веке. Что же было за Рязанью – о том в Москве имели самое поверхностное (чтобы не сказать, сбивчивое) понятие, считая там уже граничную черту со станищами кочевников, никогда точно не проводимую по пустыни-степи.
Во дни еще Грозного, за лесами рязанской и тульской окраин, к юго-востоку, начинались в полном смысле тамбовские степи – «дикие поля», куда долго еще соха не заходила и плуг не касался девственной почвы. По этим беспредельным луговым морям, с самой ранней весны покрывавшимся ярким ковром зелени, лишь изредка пролегали бесконечной лентой, терявшейся в дымке дали, пробитые тропки или шляхи – пути вторжения на Русь полудиких тюркских племен для грабежа и истребления. Едва справившись с ослабевшей от внутренних междоусобий кипчакской ордою, Русь уже стала высылать конные разъезды к концам этих шляхов, в степь, чтобы не быть захваченной врасплох набегом хищников. Местами высылок степных разъездов были немногие городки, срубленные по черте лесной полосы, откуда московские государи повелели, ввиду охраны своих пределов, засекать известные пути проникновения в Русь из южной степной полосы. Начав вести эти оборонительные линии засек от самой Оки-реки до болот и быстрых рек с крутыми берегами, время от времени отодвигали южнее эти заставы, останавливавшие конных ордынцев. В это время со стороны необозримых степей засечная черта обводилась рвом и валом, а в разрыве их ставились остроги с крепкими воротами, всегда оберегаемыми бессменной стражей. В засечных острогах постоянно годовала привыкшая к лишениям воинская дружина, иногда и подолгу оставляемая на месте без смены. Редкость же смен происходила от недостатка в людях, от того-то обыкновенно и назначавшихся на борьбу с трудностями всякого рода – не в очередь, а за провинность.
В одном из таких острожков за Шатью, где сидевших в бессменном бдении часто забывали даже благовременно снабжать толокном, горохом и сухарями – единственными средствами прокормления, – выпала очередь годовать и Субботе.
Жизнь кучки воинских людей на этой службе полна была не одних только лишений. К нужде человек легче привыкает в неволе. С невзгодами так же человек сживается, невысоко начиная ценить свою жизнь и обращаясь в рыцаря без страха, если не без упрека, разумея другие добродетели, а не одну личную храбрость, в которой недостатка не было и у предков, как у потомков. Острожная служба грозила участью хуже смерти: пленом и продажей в рабство в неведомой стороне – доведись только прорваться значительной толпе кочевников. Разумеется, осиливали они, когда по одному храбрецу приходилось на два, на три десятка голов басурманских. Тут уже не жди пощады и не ожидай выручки!
Явка Субботы к воеводе состоялась в обычном на эти случаи походном порядке, а назначение рода отбывания службы и места нахождения до отзыва устроилось по ходу обстоятельств. На этот же раз обстоятельства сложились для преследуемого новгородскими дельцами так невыгодно, что вполне оправдывали смысл пословицы: «На кого конь с копытом, на того и рак с клешней!» Воеводой правой руки оказался придворный белоручка, сваливший распорядок на товарищей. Попался воевода яртаульный – собака и невежда по части оценки людей, меримых им на один локоть; заеводчик[4] – еще злее и нелюдимее большака, а голов[5] понаделали они из-за посул. И вышло все дело – дрянь! Завели сперва отряды в остроги. Потом спохватились – выгнали всех в степь. О том же, что им всем делать в степи, никто не подумал.
Порыскал яртаул недели с три, в самый зной, бездельно, получил окрик от главного воеводы – и опять по щелям. Да кто где попал, там и оставайся. С Москвы перемены не шлют. Покров – на носу; припасы боевые изошли; хлеба – только корки догладывают; а на требования присылки не отвечают, не зная, как оборудовать. А тут зима ранняя нагрянула. Подножный корм прекратился – падеж на коней с голоду; и люди голодают. К Введенью прислали из Москвы наказ о роспуске. Остаток хлеба роздали по острожкам и посадили зимовать там всех бесконных. В список оставленных в самом далеком остроге включен Суббота. На всю зиму еда – один хлеб, да и того коли бы хватало. Одна путная связь жилая – на всех: грейся, как знаешь, по очереди и спи также в морозы, чередуясь, – вот его участь! И за что такая каторга, сам он не мог ответить, отличаясь все лето отвагой и исполнительностью. Почти не сходил с коня за посылками, то взад, то вперед, и все – спешно! И вот награда за усердье? Горька такая участь сама по себе; еще горше должна она была казаться в связи с бедствиями, вдруг разразившимися над головой бедняка. Но, кроме того, бедняку этому пришлось еще ни за что ни про что попасть под начало к злому олуху, проглатывать столько унижений и выпить до дна чашу ядовитых издевок, когда, видя неумение завести порядок, он этому нáбольшому высказал, что следует сделать на пользу службы государевой.
– Не меня тебе учить, молокосос!.. В пору – слушаться, коли бог убил: прислали сюда на исправление!..
Прошло три дня; нужда поступить, как предлагал Суббота, подтвердилась в присланном наказе, но голова и еще больше возненавидел его. Смешная трусость, проявленная набольшим при случайной тревоге, когда Суббота выполнил долг честно и разумно, без позволения спрятавшегося головы пустившись в разъезд, вызвала взрыв. Голова посадил подчиненного в цепи за самовольство. В яртаульной избе, взвесив по донесению мнимую тяжесть вины посаженного на цепь, велели цепи с Субботы снять, но оставили его по-прежнему в подчинении еще более обозленному голове. И дела пошли по-прежнему до нового случая придраться с его стороны. Голова, обеспеченный всем необходимым, нашел возможным колоть еще Субботу требованием приличной одежды. Знал он, что тому взять неоткуда на смену кафтана, обратившегося в лохмотья. Слово «оборванец» – как величать стал перед всеми голова Субботу – было горькой обидой при его гордости, только росшей под бременем оскорблений.
Все это должно было невольно ожесточить человека с характером, неспособного подчиняться чьей бы то ни было воле или падать духом, даже ввиду безвыходного положения и неотвратимости незаслуженного зла. Слабые характеры бывают сломлены, уничтожены и решительно втоптаны в грязь действиями верно рассчитанного преследования. Бывали поэтому чаще случаи, что жертва униженно просила наконец пощады у палачей своих, доведенная до скотского состояния ощущений одной телесной боли, с помрачением ума. Но, хотя реже, бывали, однако, явления и полного торжества жертвы, не склоняющейся до просьбы о пощаде, не желавшей ее получать униженьем и не думавшей вступать в какие бы то ни было сделки со своими преследователями.
Ничем не сокрушимую веру в достижение рано ли поздно ли возмездия врагам своим стал питать по мере ожесточения, с каждым новым месяцем тяжелой жизни в Зашатском острожке наш знакомец Суббота. Прежних порывов его и следа не было. Нужно ли прибавлять, что вместе с тем изменялись совсем и наружность и ухватки, а еще больше самый характер. В нем теперь замечали, пожалуй, презрение жизни в опасностях, хладнокровие, доходящее до бесчувствия, и ненависть к людям. Впрочем, ее, эту свою ненависть, сдерживал еще Суббота сознанием необходимости подождать, чтобы вернее нанести удар. Назовем точнее это чувство неутолимой мстительностью и прибавим, что из соединенья всех названных качеств в Зашатском острожке выковался железный характер молодого Осорьина. Черты лица его, все еще прекрасного, теперь постоянно подернуты были непроглядным мраком злобы. Когда же молния изредка просвечивала в его впалых глазах, они начинали искриться каким-то зловещим светом. Тогда облик бывшего жениха Глаши делался мрачно-прекрасен, но только прелесть эта отзывалась чем-то нечеловеческим, благодаря чуть приметной ледяной улыбке на крепко сжатых устах. Осклабленное же молодое лицо его получало выражение горькой насмешки презрения, способного уничтожать все, во что заставляют верить человечество, все, что может смягчать горечь людских утрат надеждою на лучшее, и все, ради чего забывается людьми застарелая злоба, когда слова любви оканчивают ее своею всепокрывающей теплотой.
Весна сменила зиму, не разогрев сердца Субботы. Служебные труды не заглушили ни на минуту дозревавшую жажду мщения, а новая зимовка с другим головою, в другом месте, была только повторением урока – и без того хорошо затверженного.
Так прокатилось шесть зим; бедняка совсем вывели из терпения.
И вдруг судьба его переменилась.
Ненастный день уже склонялся к вечеру, сырая изморозь вбиралась незаметно в некошное полукафтаньишко стоявшего на углу стены острожка Субботы, дневального. В одежде, мало-помалу намокавшей, начинал он чувствовать сильную дрожь по телу при каждом порыве небойкого ветерка, не разгонявшего туч. Субботе дневанья своего отбывать уж немного оставалось – всего до отданья первых ночных часов; а там с устатку можно было сладко поспать в сторожке целую ночь, без тревоги. Мысль о тепле и отдыхе – единственных наслаждениях угрюмого быта такой трущобы, как здешняя, – получала самые привлекательные краски в картине ожидания. Есть люди, конечно, неспособные развлекаться мечтами, их и не посещающими; но сколько молодых живых существ сродняется с мечтою в неприглядном житье-бытье, из которого рвутся они на простор сердцем? Суббота был из числа таких жаждущих какой бы ни было перемены положения, сделавшегося ему невыносимым. И вдруг, раньше ожидаемого, поднимается на стену сменный дневальный. Передавать ему нужно было только саадак, сбросив из-за плеч.
– Ступай к голове…
– Это зачем?
– Велено.
Ходить недалеко; закýта нáбольшего была в одной же связи с общей сторожкой. Отворил дверь с другого конца сеней – и у головы.
– Вези сего часу отписку, какому-то лешему требуется список, сколько нас здесь… В Переяслав!
– Да я со вчерашнего дня дневал на сторожке… не очередь мне посылка без роздыху.
– А за ослушанье… цепей не хочешь?
Суббота взял столб (рукопись) в досканце, зацепил крючок его за пояс, оседлал коня, оделся по-дорожному, захватил пику и выехал за острожные ворота, проклиная лихого человека.
Бойкая рысь застоявшегося коня скоро прогнала накипь неудовольствия, и когда наутро на повороте проселка блеснули на ярком солнышке главы переяславских храмов – Суббота был здоров и весел.
Стоял декабрь в половине 1564 года от создания мира. В Рязанской украйне все было тихо – и внезапный приезд царского стольника Яковлева в Переяславль был совершенной загадкой для воеводы, которому прислано повеление исполнять требования приезжего от двора. Яковлев потребовал доставки себе именной росписи наличных служивых в этой украйне, по острогам, наскоро. Этот приказ вызвал спешную доставку сообщений отовсюду. Посылка именно Субботы была, положим, допеканьем его головой, но он бы этого не сделал, если бы мог предвидеть последствия.
В воеводском доме в Переяславле с самого раннего утра из-за съезда гонцов идет необычная суета. У ворот спрашивают откуда и не задерживая пропускают. Суббота недолго ждал очереди. Впустили его в небольшую светлицу – и здесь лицом к лицу сошелся он с наводившим страх воеводой. Стольник сидел за столом, напоминавшим обилием яств и наливок пированье, а не дело государево, кольми паче спешное. Одет был царский доверенный слуга тоже щеголеватее, чем следовало бы мужчине, даже не ратному уж – и дворской белоручке.
Сверх шелковой красной сорочки надета была на Яковлеве серебряная кольчуга из такой тонкой проволоки, что сгибалась в складки. Кольчуга эта на взгляд могла бы разлететься вдребезги от удара боевого меча, для которого была уже плохой задержкой. По кольчуге пояс шел пестрый, из шемаханского шелка, и за ним, за поясом, заткнут был нож в мудреной оправе, горевшей что жар. Руки этого щеголя были как женские и на пальцах множество перстней, словно на веселье (свадьбу) собрался. Да и сапожки на ногах немецкой кожи, с золочеными подковками обличали скорее плясуна, чем делового важного сановника. Лицо его, еще молодое, не проявляло ничего замечательного, дальше врожденной хитрости. Присутствие же ее ясно выказывалось в живых, вечно бегающих, но постоянно прищуренных глазах, которые не глядели на человека прямо, а искоса чего-то в нем подозрительно присматривали. Нельзя сказать, однако, чтобы в лице Яковлева было что-нибудь злое или отталкивающее, но при первом же взгляде на него открытому нраву умного человека что-то претило до неловкости. Между тем несколько надменный говор его отличался замечательной слащавостью и видимым желаньем расположить в свою пользу того, в ком он почему-нибудь искал сочувствия.
Когда вошел Суббота, вельможный царский слуга, дочитывая какую-то смету, разводил пальцами правой руки, как будто что-то считал, левую руку заложив в мягкие кудри каштановых волос своих, то приглаживая, то поднимая их. Дочитав до конца и отложив в сторону ту смету, Яковлев протянул руку за подаваемой Субботой отпиской и, принимая ее у него, медленно смерил его глазами. Еще дольше остановил свой взгляд на привлекательном и вместе с тем злом выражении лица его.
– Откуда это?
– Из Зашатского.
– Много ли вас там?
– С сотню, кажись, а точно не знаю.
– Из годовалых ты там?
– Седьмой год уж, как меня там держат.
– Как, без смены?
– Бессменно!
– Может ли быть?
– Истину говорю.
– За что же тебя забыли?
– Говорят, за вину… а смекаю я, по клевете дьяков воеводских… с Новагорода.
– Вечно эти дьяки проклятые из-за корысти своей народу зло творят… а на государя нелюбье людское.
– До государя далеко… куда ему знать всякое людское притесненье!.. И воеводы ничего не смыслят… хоть бы и тот боярчонок, что меня усудобил.
– Видно, адашевец…
– Курлятев-князь, кажись, звали его.
– Заведомо адашевец… Да им всем карачун скоро дадут – подожди маленько.
– Уж и я бы… попадись только… что князю-воеводе нашему, новгородскому лентяю, что дьякам его, ворам заведомым… Согнул бы я их в бараний рог, бездельников… за надруганье над правдой человеческой… за слезы…
У увлекшегося Субботы на побагровевшем лице, в глазах действительно заискрилась влага. На губах доброжелательного Яковлева промелькнуло что-то похожее на растроганность – и он еще ласковее, чем сначала, выговорил:
– Подойди поближе, молодчик! Я надеюсь, ты будешь из наших. У кого накипело на ретивом от неправды земских вожаков, тот не может не желать, чтобы великий государь наш скорее дал расчет всяческим кровопийцам.
– На разделку с извергами пусть меня употребят: посмотрю я, как дьячьи рожи ухмыляться станут на битье безвинных!.. Боярин, веришь ли Господу?.. Мне одно пропадать!.. Но до пропасти довели меня злодеи-грабители. Покаюсь тебе, в чем не каялся на исповеди!
– Говори, дружок, говори… по словам твоим видно, как ты страждешь… Сам готов побожиться, что безвинно… И, стало быть, не подкупят тебя ничем… обидчики изверги… ни посулой, ни взяткой, ни ласковым словом… не склонят на пощаду… когда гнев Божий грянет на беззаконников.
– Верь Богу, боярин, никому я зла не думал делать… А мне все счастье мое помутили, душу из меня вынули, нищету нам с отцом подстроили – как я узнал из грамотки отцовой – приказные люди скопом, буесловием, лжою… Теперь отец выкоропался… Правда наша чище солнца стала… Пусть же великий государь даст мне поле с моими обидчиками! Первого назову Нечайку Коптева… другого – губнова старосту Змеева… да еще воеводу новгородского, вора и грабителя, князя Ивашку Шуйского, что мучит народ, слушая клеврета своего, дьячишку Суету… Выдаст мне государь головой этих недругов, решителей моего счастья, – я последнюю каплю крови отдам за его милость. Зло мне делал ватажник; князь Курлятев отягчил мою участь; голова Яхонтов безвинно ругался надо мной – черт с ними!.. Мне только с троими дайте, с первыми, разделаться сполна… Дьячишку – зверям кину на потраву… пусть ребрушки у его милости посчитают!.. Остальное зло забуду охотно – не ведали, что творили, окаянные! А эти трое… да дьяк Суета, мерзавец… ведали, что зло делают… и творили пакость не сумняся… совести темной не зазираючи… Вот где зло искоренить!..
– Спасибо тебе, друг Суббота, что правильно ты рассуждаешь… Проклятая прибыль доводит земских вожаков до общего притесненья людей Московского царства. Но, знаешь, друг, вся их ватага – земские-то кровопийцы – друг за друга стоят как один человек… Мирским негодяям сердобольные власти помогают… Государь возложить коли вздумает опалу на ворогов – просьбы да поруки, чуть не в тысячу голов за одного подают. Не сильна жалобница мирских – духовные приступят, и грозя и умоляя да на душу свою с государевой грех снимая. Со всем этим собором не сладить батюшке Ивану Васильевичу… хоша он, под иной час, и яр у нас – да отходчив: распустят нюни перед им, он и смилуется, чего доброго. Да теперь, вишь, беззакония грешников превзошли главу их и близок час гнева… Государь из столицы съехал… в слободу одну… Нас разослал набирать по городам верных людей, к нему в защиту. И не воротится в Москву без того, чтобы земцы не поступились ему своими обычными моленьями за опальных. Я знаю наших: трусливы как зайцы! Припугнет он их оставленьем своим, они и ото всего отступятся… Тогда все мы, ближние слуги государевы, опричь его, никому шапки ломать не будем… Выделит он нам медвежьи жеребьи из земель и угодьев своих ворогов… всем им башки поснимаем, начиная с приспешников до повелителей… Ни один адашевец не убежит, разве как голова их – сам Алешка… отравиться поторопится со страху…
– А вороги-то мои… как знать, адашевцы ли?
– Да говоришь ты, семь лет тебя здесь продержали. В ту-то пору Алешки Адашева да попа Селиверстки на всех воеводствах и во всех приказах слуги верные сидели и заодно воровали… то-то хваленое управленье было, умирать не надо… што в рот, то спасибо!
– Так… всей ватагой и кутили и мутили?..
– А то што ж… Надоели, наконец, государю их воровства – и нашлись добрые люди: намотали ему на ус… что попу простому править, выше архиреев стоя, грех великий. Преподобной Левкий прямо доказал, как вредно попа-проходима слушаться… Тут покончили, забывшись совсем, вороги царицу Настасью: опоили, вишь, утроба чуть не лопнула, а худощава была в последние годы… Отчего же раздуть, коли не от лихого зелья? Царь и прозрел в печали великой… Мы, разумеется, тешили его, как могли… чтобы забыл потерю. Отец Мисайло у черкешен выспросил, что бабы у их больно приглядные. И затребовали княжну черкесскую… подлинно, не покойнице чета, всем взяла. Да и погневливее будет, чем царица Настасья: ту не скоро, бывало, раздражишь, а эта – что зелье (порох)!.. Разом взорвет! Ей все нипочем. И царь таков же теперь… Полно ему неволить себя!..
– И доступен государь жалобщикам?
– На ворогов-то своих? Как же!.. Все выслушает – и рассудит. Ступай к нам… Я уж с десяток подобрал: молодец к молодцу… все обиженные, как ты же… Хочешь, впишу сейчас же тебя?
– Погоди, милостивец… дай в толк взять!.. Я не прочь… послужить государю.
– Не неволю!.. – проговорил Яковлев, берясь за столб, в котором вписаны были навербованные в новую службу царскую служилые люди. – Подумай, пожалуй… Я бы советовал и не думавши идти. Поверь, честь велика, и житье будет привольное, меньше ответственное, больше и справедливей ценимое… Десять сотен ведь всего набирать велено… Сотни с две уж на примете есть. Я готов тебя в свою десятню занести. Не какие-нибудь тут оборвыши вписаны… На прощанье попросился сам дворской Афанасий Иваныч, князь Вяземский. За ним есть, как и я же, два стольника, шестеро стряпчих, голова пятисотенной, князь Токмаков… Тебя за ним впишу… Из каких ты?
– Боярский сын, Суббота Осорьин… коли милость будет…
– Изволь… Потом у всех государь имена сам переменит либо прозванья свои даст.
– Только вот что, государь милостивой… прежде решенья моего пусти ты меня хоть на неделю к отцу съездить… Письмо его позапрошлое лето только получил – и сам не знаю: как он и что теперь…
– Изволь, настрочим тебе пропуск по третий день Рождества… явишься в Александровскую слободу, что за лаврой Троицкой…
– И ничего мне не будет от головы да от воеводы?..
– Как смеют… коли я пущу?! Хочешь, припишу «нигде не задерживать»?
– Будь милостив.
– Почему не исполнить твоей просьбы… изволь! Будь же к сроку готов… туда. Куда ехать-то тебе?
– В Новгородскую четь, в Водскую пятину, в Ореховский уезд…
– О! Да как далеко отсель!.. не успеешь… на Крещенье пусть срок! Буду в Москве в ту пору. Явись ко мне… в Китай, по стороне Знаменского монастыря двор мой… помни же!.. На, возьми на дорогу это…
Он подал кошелек Субботе.
Пропуск вручен, и, освобожденный в первый раз после семи лет ссылки, Суббота поехал из Переяславля-Рязанского новой дорогой, не чуя под собой земли. Конь был здоровый и прежде вечера домчал до Рязани… Перед Москвой пришлось день потерять, пока впустили в столицу, оцепленную словно от какого нашествия. С отъездом царя Москва загрустила. Народ толпился в храмах, служил молебны. Везде уныние.
– Что такое у вас поделалось? – примеряя новый охабень и сторговав чуть не за бесценок пышный, яркоцветный кафтан, спросил Суббота у купца.
– Ты приезжий, должно быть, и не ведаешь, что царь-государь нас оставил. Посольство нарядили мы к ему… принять-то принял, да наговорил про такие новшества. А сам все грозил да сулил гнев свой. Так что у всех голова кругом идет. Что-то будет?!
– Я сам слуга царский… государь хочет только земских волостелей унять, а народу обид меньше доведется.
– Дай-то бог! Да не верится… по делу-то не то!.. Страхи великие отовсюду, завести, говорят, хочет свою стражу – самых лютых людей набирают…
Суббота крепко задумался – и в ум его запало подозрение: «Не мне ли быть в числе этих лютых-то? Кому они люты-то будут?.. Ну, как да народу… а не притеснителям?..»
Всю остальную дорогу безотвязная мысль эта не выходила из ума у Субботы.
Через Новагород Великий промчался путник – не смотря на воеводский двор, не заглянув в их храм Святой Софии, чтобы хоть на свечку подать. Вот и Ладога уже за борзым ездоком нашим. Вот и выставка, где отец жил. Открылся и дом, где пестовала мать своего Гаврюшу ненаглядного.
Вошел он на двор; привязал коня к кольцу. Из сеней выходят, разговаривая, дядя Молчанов да слуга, Ястреб, с которым он, Суббота, совершил два первых похода на Оку.
Оба остолбенели, начиная узнавать в приехавшем Субботу, давно уже записанного в помянник.
– Никак, это впрямь Суббота Захарыч? – окликнул первый слуга-соратник.
– Я… самый!
– Где пропадал, племянничек? Голубчик ты мой!
– Отец писал ко мне с Москвы… стало, узнал, где держали меня на службе.
– Да сам-то он где? Другой год о самом ни слуху ни духу.
– Все наши что?
– Ступай в избу, много пересказывать.
Гость за столом подкрепляется и засыпает вопросами дядю, начинавшего приметно стареть.
– Губного ворога твоего в живых уж нет, заели волки на озере… Нечай в тюрьме сидел, теперь выпустили на поруки.
– А семья его что?
– Ничего… Здоровы все.
– И Глаша? – не без надежды и страха выговорил Суббота.
– В Новегороде она ведь… замужем за дьяком земским…
Суббота больше ничего уже не слушал. Он только побледнел немного и крепче стиснул зубы.
Через час он выехал из отцовского дома обратно, той же дорогой.
Яковлев, приехав в Москву, нашел завербованного в опричники уже у себя в доме.
– Я ваш совсем… дайте только с ворогами рассчитаться! – бросаясь в ноги Яковлеву, вымолвил Суббота.
V Видно, так на роду написано…
Глаша с тех самых пор, как ее привели в чувство после разлуки с нареченным, не слыхала больше имени Субботы. Не раз пыталась она заговорить с матерью, но та отвечала слезами, не произнося ни слова.
«Что же такое сделал им всем Суббота в этот несчастный день? Что мог он сделать перед самым обрученьем, когда простились мы с ним, желая одного, чтобы ночь прошла скорее? Не воротился ли он не в себе к отцу в ночь эту да не обидел ли его, не ведая сам, что говорит? Как бы отцу не догадаться, что с малым творится неподобное? С чего же так осерчать на него, чтобы вместо обрученья запереть меня с утра в светлицу и запретить выходить без приказу? Что бы все это значило?» – ломала напрасно голову Глаша, силясь разгадать несообразности несчастья, разразившегося над ней так нежданно-негаданно.
Иначе не могла она и думать, не представляя себе бури, унесшей разом все золотые надежды, с которыми сжилось и сроднилось молодое горячее сердце Глаши. Она и хотела бы перестать думать о Субботе, но это не удавалось, несмотря на желание наказать его за жестокие слова, произнесенные при расставании.
«Он тогда заведомо не в себе был, коли толковал несообразное и непонятное, о каком-то кладе, о продаже отцом души дьяволу… А главное, мог ли Суббота, ведая и сознавая смысл своих слов, отсылать от себя так жестоко свою Глашу? Ну кто разъяснит эту загадку, всем нам такую прекрушительную? Вот хоть бы и отца взять: когда бывал он таким зверем? Когда ходил он по неделям да по месяцам понурив голову, как обваренный? Что-нибудь да кроется тут неладное. Он так любит свою Глашу и так часто сам учил меня Субботу звать моим богоданным суженым, – да ни с того ни с сего сам же нарушил свое слово… Недаром все это! От того, словно Касьян взглянул на наш дом, все и опустили руки, что грех вышел непоправимый».
И Глаша ясновидением сердца разгадала, как и где завязывался узел неприглядной проделки с сердцем родителя, Нечая Севастьяныча. Действительно, со дня разрыва с домом Удачи словно потерял он голову.
«Эко помраченье нашло, прости Господи!.. – рассуждал Нечай, признаваясь только самому себе в непоправимом зле из-за спешки. – Попутал меня Бог с этими приказными кровопивцами… Поверил им и…» – Он не смел докончить, признать самому себе черное дело, им учиненное во вред испытанному другу. Успехи ходатайств в Москве не были тайной. При каждом получении вести, что хитрость дьяческая должна разорваться паутиной с дальнейшим разбором дела Удачи, Нечай больше и больше хмурился. А тут подоспел учет казначея Софийской стороны… Стал нырять делец, зная недохватку, довольно существенную, в наличном сборе по книгам оброчным. Недохватка эта была общим грехом казначея с Нечаем, получившим на время ссуду казенную на одно дельце, сулившее хороший барышок, обещанный в раздел пополам с казначеем. Дела такие делались не один раз и сходили с рук с обоюдной выгодой для ссужателя и ссужаемого. Как же было не прибегнуть в десятый, может, раз к казенной мошне, где даром лежали новогородки да ефимчики[6]? Оборот ожидался всего в две недели, да затянулась верная уплата из-за самого плевого дела – за болезнью расходчика в отъезде. Без него кто печать сорвет именную, хоть бы и с общественной казны? Сомненья никакого не остается, будет она, наутро же с приездом расходчика, ожидаемого с часу на час… да беда беду родит. Больной с усадьбы не двигается, а в Новагороде считать казначея велят. Просто хоть петлю надевай! Удача, вишь, выходил себе все желаемое, и протори и убытки. Никак, воротить принимается вдесятеро перед прошлым. И в деньгах недочета нет, и выручка в корчмах хорошая… да как к нему приступить? Не такой парень, чтобы дался на упросы да на раскаянье! Мимо Ракова чаще стал ездить и на Назее выставку снял, встречается на дороге… да не замечает словно поклонов приветливого Нечая. Подослал Коптев самого казначея софийского, с ворогом злопамятным ничего не имевшего. Выслушал, кажись, приветливо просьбу казначея Удача, даже вопросил: «Сколько надо?» Шло все как по маслу, да вдруг запинка, от себя же, вышла у казначея с ним.
– Надолго ли требуется? – спросил Удача.
– Да всего по приезду, голубчик, немца нашего колыванского – братского расходчика… Заболел, вишь, у себя, в чухонщине. Сегодня приедет – назавтра получим и с благодарностью принесу… сам готов десять раз услужить.
– Ладно, ладно… почему тебе не дать?.. Охотно!.. Скажи только, как колыванский немец с тобой в дело-то вошел?.. Ведь в подряды тебе вступать нельзя же…
– Да, чудак, тут не я своей рожей, а есть юркий молодчик на все руки… Он сорудовал… Клементью не дал и у Гришухи из-под лап вырвал верный барыш… Да барыш-то какой?! Как не поддаться искушенью!..
– А! Понимаю теперь и без слов! – вдруг сделавшись из расположенного чуть не зверем, рыкнул Удача. И захлопнул ящик с деньгами, начав уже отсчитывать просимую ссуду.
– Захар Амплеич, да что с тобой сталось? – робко спросил озадаченный казначей.
– То, что не дам тебе ни полушки… Тут Нечайка замешался… пропадай же и ты с мошенником, коли водишь с им шашни!.. Мне не след на свою голову… за посмех… из петли вынимать змея… Довольно подурачился!.. Пора подумать об отливанье мышкиных слез блудливой кошке…
Встал. Ушел и не показался больше приведенному в отчаянье казначею.
Вон он какой гусь – Удача-то! Стало, все кончено с ним. И на глаза не примет…
– С Субботой, будь он дома, может, и удалось бы повернуть дело по-старому!.. – видя тоску мужа, вздумала ночью раз посоветовать Февронья Минаевна.
За запретом она хотя и долго не смела упоминать имя прежнего жениха дочери, но теперь, выслушав от сожителя затруднительные обстоятельства казначея софийского, грозившие бедой и им, разумная советница считала и себя обязанной высказаться.
– Пролитое полно не бывает… Руками не сложишь этой свадьбы, коли парня нет, а отец знать нас не хочет!.. – отозвался чуть не в бешенстве Нечай. Перед ним воскресли вдруг теперь все низости, проделанные им, чтобы сделать разрыв полным.
– А как бы ладно было!.. И Глаша бы перестала таять…
– Девичье сердце что погода: глянет солнышко – и повеселеет. Найдем другого жениха – первого забудет со вторым… А наше дело непоправимо…
– Ну, как тебе сказать?.. Не чаю, чтоб забыла… да чтобы сдалась на улещанья какого жениха… Не та девка.
– Тем ей же хуже!.. Мужья такую дурь упрямства выколачивают… покорность одна от жены требуется.
– Только не в Глашке найдешь ты эту покорность… Хоть режь ее – она будет тебе отмалчиваться… а на уме все свое…
– Ишь какое зелье!.. Под пару Субботке, видно.
– Да, с ней добром только сделаешь!
– А какое у девки другое добро, коли неприглядность: приглянется молодец – и сдастся упрямица.
– Да был бы еще кто на примете… кому приглянуться-то?
– Увидим…
– А Субботу бы легче…
– Да коли нет его… и… нельзя…
– Я бы попыталась сама… съездить к Удаче.
Нечай задумался… Эта лазейка из явной петли ему не представлялась, а, казалось, она имела некоторую вероятность успеха; поэтому муж разрешил хозяйке-матери ехать к старому другу… еще ее куму.
Но и Февронья Минаевна брала на себя много, отваживаясь пускаться в послах для умилостивленья сурового Удачи. Боялась она сперва, что он ее не примет; но после въезда в ворота и доклада встречена была на крыльце кумом, как бы ничего не происходило между их домами. Ввел сам в светлицу. Усадил как самую дорогую, ожидаемую гостью. Спросил о здоровье детей – первой Глашеньки.
– Не больно, чай, тоскует она?
– Нельзя сказать.
– Жаль!..
– Я не могу на ее сама смотреть… Уйду и проплачу… Тает.
Удача глубоко вздохнул и погрузился в думу о Субботе: где он, сердечный? Мало-помалу пришел в себя Осорьин; пришли ему на память упросы жены – и лицо получило выражение сочувственно-трогательное. Февронья воспользовалась добрым расположением хозяина, за которым ее взор следил с удвоенною внимательностью, и поспешила вступить в речь, идя прямо к делу:
– А я, Захар Амплеич, помня твое к себе всегдашнее расположение, хочу милости просить…
– Ты, Февронья Минаевна… у меня?
– Да, голубчик, опричь тебя у меня нет человека, которому открыла бы я, кум, свою печаль да горе непоправимое.
– Печаль и горе непоправимое у тебя, Февронья Минаевна?.. Я, голубушка, ума не приложу… в чем бы я-то тут причинен оказался?
– Не ты причинен, куманек… а в беде моей ты один можешь пособить… Ты, а не кто…
– Признаться сказать, удивляешь ты, матушка, меня немало… Не знаю, что и отвечать тебе… Я, истинно говорю, не догадываюсь никак, потому что сам пальцем не двинул и не заикнулся во вред ни тебе… ни кому из ваших… Верь Господу Богу!
– Готова верить, коли говоришь и потому что не желаешь ты мне лиха – не можешь и деток моих, и бедную мою Глашеньку по миру пустить… оставить без крова…
– Разумеется, нет, да чем же я показал намерение повредить-то тебе, кума?.. Уж изволишь, за приязнь мою, клевету изводить… Тебе я совсем не хочу и не позволю нанести малейшего неудовольствия, а не только лишить крова. А вольно твоему Нечаю беспутному так спешно сунуться в шайку врагов моих да думать, что Удачу вот сейчас и связали по рукам по ногам да по миру пустили! Ведь не так же вышло… Было мне немало горя-притесненья, да правда взяла верх… Ущербу понес я малую толику, а выкрутился и ворочу помаленьку потери свои… А вот с поворотом на пользу мне дьячьих затеев да лжей, как на их поворотились да глядеть стали в оба, потребовалось перечесть софийского казначея… Человек хороший он, а из-за смутников да по милости твоего сожителя в петле словно затянут… Так это пахнет истинно правежем ему, да и Нечаю твоему… А я тут ни при чем, могу на Бога взглянуть не зазираючи совести. – И он перекрестился, взглянув на икону.
Февронья вздрогнула – и ужас невольно выразился на ее открытом лице, когда речь Удачи прямо доказала ей, что ему все известно, что бесполезны будут дальнейшие окольные рассуждения.
От проницательного Удачи не укрылось действие слов его на Февронью; но, как ей показалось, лицо кума было еще более расположено на добро и нисколько не проявляло холодности, скорее всего ожидавшейся ей при обращении к нему, тем более после неудачи подхода, ясного ему как день. Жена Нечая Севастьяныча, одаренная здоровым, прямым смыслом, в понятиях о добре и зле расходилась с мужем вполне, оставаясь доброй женой и нежной матерью. Не думая приукрашивать черноту Нечая относительно поступка с Удачей, она тем не менее захотела испытать все средства для спасения семьи от неминуемой нищеты и, собрав все свои нравственные и умственные силы, едва могла выговорить Удаче, опускаясь невольно на колени:
– Пощади меня и семью… не доводи до гибели…
Вся кровь бросилась в лицо бледному обычно Удаче. Он тяжело дышал и отдувался, словно в груди его не было места для выхода из легких воздуха. Холодный пот выступил на побледневшем лице старого Осорьина, но он молчал, выдерживая, должно быть, страшную борьбу с собой. Наконец эта борьба, должно быть, кончилась с явлением новой мысли, озарившей благодатным светом ум Удачи. В глазах его блеснула искра удовольствия, мгновенно смягчившая суровые черты сосредоточенного дельца. Он дохнул свободной грудью. Поднял Февронью и, ближе к ней придвинувшись, словно не желая, чтобы кто слышал, что будет он ей дальше говорить, спросил шепотом:
– Сколько же нужно, чтобы покрыть недочет казначея?
– Шестьдесят рублев, никак, да три рубля еще, да сколько-то алтын…
– Казначей софийский не дурной человек, рука руку моет… У меня есть свободные деньги одного приятеля, дьяка софийского теперь, Данилы Микулича Бортенева. Их я могу ссудить, кума, казначею софийскому на выручку… Только пусть эти рубли запишутся не за Нечаев счет, а за твой, Февронья Минаевна… Якобы ты дала эти деньги в рост с наддачею, на часть дочери твоей Глафиры Нечаевны, из твоего материнского наследства… Слышишь?.. Так вот, а не иначе!.. И не перечь…
– Господь да благословит тебя, кум!.. В тебе одном вижу я Божеское милосердие к себе бесталанной… Да наградит Он тебя сторицей, что воздал нам добром за зло!
Она тихо заплакала, не владея собой, от радости.
Удача ходил по светлице, давая время куме прийти в себя.
Вот она успокоилась – и он продолжал наказ:
– Только чтобы этого не знал Нечай… Сделаю я для тебя – что любила моего Субботу, как мать, да для Глаши… Не дал Бог мне видеть счастья сына. Жив ли он, не ведаю. – Удача вздохнул тяжело и прослезился. – Ни для кого другого… Пусть заяц потрусит, пока расчухает, как и что… Ты – молчок! Я уж все обделаю, повидаюсь с казначеем и возьму от него расписку на твое имя… как я тебе сказал.
И суровый делец улыбался в эту минуту, как казалось Февронье, детской проделке либо потешке своей: хоть страхом наказать низость Нечая. «Не совсем, значит, он ему противен… а, разумеется, прямо простить не след… опять непутный забудется!» – решила она.
Добрая жена в этом случае жестоко ошибалась – и если бы знала она самую суть дела, может быть, удивляясь величию доброты в Удаче, помнившем вечно оказанное ему благодеяние, нашла бы она естественным допустить в человеке с такими правилами возможность и вечного памятованья зла. Для Удачи Нечай не существовал; но зла ему желать или делать не думал отец Субботы, тосковавший о сыне и простиравший почти родственную нежность на бывшую невесту его, Глашу. Во имя Глаши и для Февроньи Минаевны сделал Осорьин это последнее одолжение, вечно помня добро, оказанное ему Данилой Микуличем, в первый раз тогда с ним сошедшимся и сделавшим все, чего просил Осорьин, уверенный в своей правоте. Не допустить разорить его ворогам было самым важным одолженьем для Удачи со стороны недельщика, – и, обделав дела свои, признательный Удача принес Бортеневу поминок. Тот не принял, отозвавшись, что ему не за что брать, что это взятка, – и ее поставит злодей Змеев в укор ему, Даниле, ища всякого случая придраться. Между тем Бортенев, оставаясь человеком небогатым, разумеется, не терял случая иметь барыш через торговые обороты, участием паями в торговых предприятиях, если бы были средства – как исстари в Новгороде делали все служилые люди по заведенному порядку, еще при вечевом укладе. Перечет софийского казначея озадачил всех новгородских дельцов, потому что к ссудам из его сундука прибегали все они в крайнем случае, не встречая отказа и посильно делясь выгодами, к обоюдной пользе. Откройся недочет – за ним сделается гласным и это нескудное выдаванье ссуд на короткие сроки. А затем как поручиться, не разъяснится ли вполне вся обходимая, окольная стезя доходов служилого класса путем торговли на счет замедляемых в пересылке денег великого государя? Наказанье уличенных тут будет меньшей долей зла, а истинным, общим наказаньем станет прекращенье этим путем всякой наживы. Вот отчего все в Новагороде повесили нос, когда прослышали о вероятности недочета у софийского казначея. Удача, как делец, не имел рассчета в прекращении из софийского сундука займов. Сам прямо вызваться на услугу для местных дельцов служилых тоже не хотел он, хотя казначея, как человека, явно погибавшего за других, и человека сговорчивого и доброго, ему не могло не быть жалко. Просьба Февроньи, заставшей врасплох Удачу, дала ему возможность разом сделать два дела: выручить казначея и выполнить долг благодарности Бортеневу. Да так еще, что ему не было возможности и отказываться за неизвестностью руки дававшего.
Угощенная и обласканная кума воротилась только вечером, даже провоженная Удачей до Ракова. На спрос супруга она, вздыхая как можно искуснее, разыграла потерпевшую неудачу. Правда, Нечаем себе уже давно представляемую. Поэтому он два раза не переспрашивал о приеме, по-своему оценя Удачу и ни на минуту не сомневаясь, что со временем Удача сдастся, а теперь упрямствует только.
Решение это если не утешило, зато дало ему случай пуститься на новые поиски денег, при спросе которых уже беззастенчиво Нечай заявлял, что размолвка с другом у него не продолжится долго. «Тогда Удача заплатит все, а он теперь богаче, сами знаете, чем был». Но и эта уловка на этот раз не залучила в мошну искателей займа ни одного алтына. Гоняясь безуспешно целую неделю, Нечай в отчаянии заехал в Новагород. Сам идти к казначею не имел он духа, а осведомиться о положении дела мог на постоялом дворе без больших затруднений.
– Ну что, приступили к счету казны-то софийской? – спросил хитрец в разговоре будто ненароком, остановив выходившего из ворот знакомого служку владычного дома, подметавшего и казенный приказ иногда.
– Как же, начали, да, надо полагать, и покончили. Владыка вчера звал московских счетчиков к себе. Казначея за обедом целовал святитель, и целовались братски счетчики на радостях, что все исправно, вишь, да в порядке нашли. Все власти были, и приказные… И мировую заключили с Удачей приказные люди… Весело таково было… Носили мы, носили жбаны с медом… нализались все исправно… Власти черноту-то сволокли, так что от бельцев не отличишь… инда лысинка лоснится… Вот тебя, Савастьяныч, не было… а уважил бы твою честь! Сколько хошь пей. Право, так.
Нечай зажмурил свои маленькие глазки, слушая этот рассказ и все еще ушам не веря: как могло сойти все благополучно? Находчивость кулака, впрочем, недолго давала ему ломать голову, и он отгадал по присутствию Удачи, откуда могла прийти благовременная помощь, – на свой пай, значит, пошел… А все же меня выручил! Исполать тебе, Нечай, обойти умеешь… Удача – наш, значит; насчет же ломанья… пусть потешится!..
Обрадованный, поспешил Нечай к софийскому казначею. Нашел его, разумеется, очень ласковым, то и дело жавшим руку ему, величая милостивцем. Хитрец, довольный оборотом дела, позволял себе принимать изъявления дружбы казначея как обычную дань своей изворотливости, полагая, что участие Удачи освободившийся от беды чиновник и не может не относить к его, Нечаеву, примиренью и забвенью прошлого с Осорьиным. Хотелось ему выспросить, положим, подробности; но прямо сделать это было неловко, не поставив себя в положение незнающего. А на окольные вопросы ссужатель не отвечал, уже подготовленный Удачей. Так ни с чем и уехал успокоенный в душе Коптев в свое Раково. Жене наврал целую кучу Нечай о свиданье и разговоре своем, будто и с Удачей в городе. Она было и поверила сперва, да, разовравшись, отважный изобретатель рассказа начал распространяться о самой сущности помощи друга не в том виде, в каком она была оказана. Февронья Минаевна захихикала, поняв, что муж все врет, потому что ей уже передана была возвратившимся после обеда в городе Удачей расписка казначея на имя Бортенева. «Ври же, дружок, сколько хочешь! – сказала себе жена. – Коли так, то я ничего тебе не открою, как сперва хотела!»
И поставила на своем.
Прошло полгода и больше. С немецкой артелью у софийского казначея счеты покончились с наживой за задержку на рубль по пяти алтын. Надобно было отдать с благодарностью Даниле его мнимую ссуду. По милости ее мог ссужатель, в памятный обед у владыки, весело опоражнивать кубки да лобызаться со своими учитывателями, смеясь в душе простоте их. Видя, что софийский дьяк не спрашивает своего пая, казначей подумал, что он желает и дальше пускать в оборот и ссуду, и рост на нее.
Еще две недели дал оборотиться его семидесяти трем рублям, двум алтынам, четырем деньгам, нажив на них по три деньги на гривну. Горячая пора была, общее безденежье, и набежал на кости еще десяток рублей. «Пора, – думает, – дать знать милостивцу, как он – дальше ли велит в рост пускать или часть барыша возьмет теперь же, на нужды свои». Выяснилось, что дьяк Бортенев просил у владыки шесть рублей на выдачу сестры в замужество. «Чудак он у нас, своих не спрашивает, а владыку беспокоит, указ дан мне: взыскать по полуденьге за рост из окладу. Ну чем платить их… пусть разрешит не брать казенного».
Подумал-подумал и пришел к дьяку.
– Здорово, Данила Микулич, как живется да можется?
– Вашими молитвами, друг сердечный… Не об указе ли владычном скажешь нам?
– Да и об нем поговорим, а главное о ваших-то… К чему же, батюшка, окладные забирать, коли твои у нас растут да прибавляются?
– Какие там мои, голубчик?
– Да те самые, благодетель, что под землишку Февроньи Минаевной, жены Нечая Коптева, дати нам изволил, напереверт, когда в петлю ровно приходило лезть при недохватке пущенных в оборот, с наездом счетчиков из Москвы… Даны тобой, благодетель, нам в те поры шестьдесят рублев и три рубля да восемнадцать алтын, четыре деньги! По расчету с немецким двором, что в Колывани… проклятые затянули шесть недель сверх трех месяцев уплату! Я, вишь, поседел как в ту пору при расплате!.. По пяти алтын на рубль накинули нехристям – охотно внесли. Ты не спрашивал, благодетель, я еще оборотец сделал, тоже по пяти алтын в две недели, а теперь на счету твоем оказывается восемьдесят рублей и четыре рубля да алтын с полуденьгою. Изволь получить.
Данила Микулич стоял как громом пораженный, не перебивая казначея. Окончив речь и подавая деньги, казначей прибавил:
– Пересчитай же, благодетель, деньги счет любят…
Бортенев вздохнул и, легонько оттолкнув кучу денег, отозвался:
– И считать нечего, деньги эти не мои… Я вам не давал… по той простой причине… что дать мне было не из чего… За душой – землишка материна да оклад софийского дьяка. Спрашивал тебя насчет ссуды из оклада…
– Слышал я и указ получил… Да что же мне прикажешь с деньгами твоими… этими-то делать?
– Говорят же тебе, Софрон Архипыч, не мои они… Кто вам давал – не знаю… Только не я.
– Да голубчик ты мой, – сказал казначей, поняв теперь, почему Удача наказывал не говорить ни под каким видом Нечаю об этой ссуде, – коли за твоим счетом состоят, тебе отрицать своего неча, коли потребность есть. Лучше эти взять, чем с окладными возиться… Да нас, говорю… нас ты пощади, милый человек, владыку, наконец. Наушники везде, что про владычни раздачи толкуют…
В душе честного Бортенева происходила борьба. Подвести владыку он не хотел, и деньги нужны были – нужны до зарезу. Почему не взять у казначея?
– Понимаю, друг… Ты так или иначе хочешь мне всучить свои деньги?.. Ну, ин быть по-твоему… коли не велик рост.
– Какой тут рост?.. Ты еще сам получишь приращенье. Сколько теперь-то возьмешь?
– А сколько можно?
– Сколько прикажешь!
– И десять рубликов можно… и с походцем?
– Да возьми хоть все восемьдесят и четыре. А я бы советовал шестьдесят оставить для переду… так двадцать в год бы наверстали – и опять бы сполна все…
– И ты не шутишь?
– Чудной ты человек, Данила Микулич, от своих денег при надобности отказываешься!
– Да видишь, я бы и занял… да у Нечая не хотелось бы… претит мне этот человек с того самого, как со Змеевым, да с Суетой вашим, да с Казариным… не тем будь помянут покойный!.. Удаче Осорьину они зло учинили. Отец, положим, выкарабкался, а сына-то потерял… Нигде ведь ни следа, ни весточки… Пропал – что сгинул… Так с таким черным человеком я сходиться не хочу.
– И не сходись с Нечаем – с женой у тебя дело; просила она… как, бишь, ее (казначей поперхнулся, вспомнив наказ благодетеля Удачи и соображая: не будет ли это нарушением его воли)… Она другого поля ягода…
– Чудное дело!.. – вскрикнул Данила. – Деньги нужны мне до зарезу… взять предлагаешь чьи-то, называя моими, вводя меня в соблазн. Я теперь так слаб, признаюсь, что, увидя деньги, два десятка рубликов беру!.. Не могу устоять… Тайна тут какая-то!.. Ничего не смыслю в ней, и в бабьих делах вообще понять я никогда ничего не мог… С матушкой посоветуюсь. Пошлю ее к этой Нечаихе… Держись только, Софрон Архипыч, ты сам, коли, греховным делом, да дал ты мне чужие деньги!..
– Ну, на этот счет спокоен будь… От века еще не было таких олухов между старыми казначеями, чтобы Фому приняли за Ерему, деньги выдавая… А я, брат, двадцать лет казначеем – и, коли придешь, в книге покажу твой счет, от которого ты, скромности ради, отрекаешься… Напрасно только осторожность напустил излишнюю!..
– Какая тут осторожность, коли чужое беру без зазрения совести, да и не спрашиваю, сколько росту платить!
– Ничего… ни росту, ни… – Он не договорил, так как голоса подходивших посторонних людей заставили Данилу Микулича поскорее опустить в карман два десятка рублей, а казначея – с поклоном уйти с остальными.
Вечером Данила рассказал матери про необычно предложенные ему деньги – и умная старушка взялась сама разузнать все, что в этом случае было особенно непонятно. По отцу своему мать Данилы Бортенева была в дальнем родстве с родительницею Февроньи Минаевны и, под благовидным предлогом приглашенья на свадьбу дочушки дальней родственницы, какой оказалась жена Нечая Коптева, поехала с ней вместе в Раково.
В путешествии ничего не могло случиться; ехали с верным человеком, да и сто верст не такая даль. Хозяина дома не было, когда повозка ввалилась на двор усадьбы Нечая Севастьяныча. Сбегалась дворня с приездом неожиданной гостьи, назвавшей хозяйку.
– Не дочушка ли Миная Филиппыча ваша милость?.. – обратилась приезжая к супруге Нечая Севастьяныча. – Я тетка родная сожительницы его, матушки вашей, Аграфены Лукинишны… была за Микулой Бортеневым… за Демоном тотчас наша землица. Сынок, Данилушка, в софийских дьяках у владыки; дочушку Серафимушку замуж отдаю. Прослышали мы: родня, никак… в Ракове. Дай, думаю, поеду, на свадьбу позвать, свои.
– Бабушка! Счастье какое!.. Матушка-покойница поминала, должно быть, и про твою честь… начинаю признавать… точно так… За честь благодарствуем!.. Пожалуйте, не обессудьте. У самой четыре дочки, прошу любить да жаловать.
И начались бесконечные припоминанья родных да свойственников. Девушек отослали в повалушу, девок выпустили из-за пялец. Остались одни родственницы, новые знакомые.
– Я до чести вашей дельце имею, – заговорила мать Данилы Микулича.
– Охотно к вам на свадьбу буду и сыночку вашему вручу расписочку, – отвечала Февронья Минаевна.
– Да сынок-от мой хотел бы не расписочку получить, а узнать, как это так должок-от ему отдают. А он ни сном ни духом не знает, за что про что получает.
– Не сомневайтесь на наш счет… Мы, бабушка, коли теперь родня будем, подавно не вороги вам, а вы нам.
– Знаю, сердце мое, смекаю. А все бы вам открыться не мешало… да лучше с сынком сами объяснитесь, как там и что. Я, чего доброго, и спутаюся… Так беспременно ждать будем… на веселье наше.
– Муженек ужо подъедет, ночуйте, бабушка, у нас и с тетушкой – коли изволите так нам приходиться…
Нечай приехал. Узнал, в чем дело: родня нашлась дальняя с дьяком софийским, с самым опасным и неподкупным изо всех дельцов новгородских. Сообразил делец, что опять Божья милость – дорога устраивается открытая и к Бортеневу, с которым случиться может столкнуться, как знать, напередки, и не один раз и не два. Пригодиться делец должен непременно, надо обойтись умненько с матерью – верное прибежище, коли беда неминучая либо что… И ну рассыпаться перед старушкой Бортеневой да величать себя ее внучком по жене, хотя Февронья сама затруднилась, как раздумалась, – да бабушкой ли, полно, звать Бортениху?
При отъезде старушка возобновила приглашенье на свадьбу.
– Приедут, приедут!.. – поспешил за жену и за дочку отвечать скороспел Нечай. – Сам привезу и сынку вашему, милостивцу, наинижайше челом побью на любви да на родственном обереганье от недругов.
Жена не перечила из расчета, нам хорошо известного. Только одного она боялась, чтобы Нечаю не брякнула новая родня про долг раньше объясненья с ней. Глашенька, приглашенная невестой, собиралась тоже и горячо хотела ехать в Новгород: авось удастся через нового родственника узнать что-нибудь про Субботу, не выходившего у нее из памяти. Мысль о возможности получить этим путем весть о милом, о котором никто ей не мог сообщить ничего дома, заставила быстрее обращаться кровь в жилах и возбудила надежды, к несчастью не исполнившиеся. Не ожидая такого исхода, Глаша повеселела и расцвела как маков цвет. Мать с отцом отнесли эту перемену к желанью Глаши развлечься на свадьбе и не думали ее удерживать дома, с другими сестрами, не выказывавшими особенной охоты ехать с матерью в город.
Нечай поспешил раньше срока отправить жену и дочь. А сам денек спустя скатал налегке к свадебке к самой.
– И, вестимо, Нечай Севастьяныч, лучше тебе… попосле нас. Этак будет на первый случай сходнее.
А сама думает: «Этим деньком я успею предупредить, чтобы Нечаю не разболтали насчет расписки».
Приехали гостьи. Вечер наступил, и Данила Микулич пришел. Февронья Минаевна взглянула на него и нашла очень приглядным, степенным таким.
После первых приветствий невеста и Глаша к девушкам ушли; Данила подсел к жене Нечая и только думал заговорить с ней, как она, вручая ему расписку, низко поклонившись, завела нескончаемое ублажанье его, великого благодетеля, выведшего мужа чуть не из петли…
Чем больше слушал россказни Февроньи жаждущий откровений Данила, тем больше сбивался с толка, теряясь в догадках. От хвалительницы, разыгрывавшей роль свою исправно, ничего он не допытался, кроме одного, что просила она не искать земли, которой у нее в наследство ни от кого не поступало, – залог так только записан. Кто же даст деньги, не справившись, под несуществующую землю? Это подлог ясный! Однако деньги внесены – и этот взнос, как говорил казначей, вывел его из неминуемой беды. Ясно, что Февронья Минаевна тут, должно быть, вправду ни при чем… Есть другое лицо, скрывающее благодеяние свое, но ясно желавшее дать известную выгоду ему, Даниле… За что и кто бы это был, ломал он напрасно голову. Забыл совершенно или, лучше сказать, упустил из виду Удачин поминок.
Улучила минуту Глаша в свою очередь и обратилась к Даниле с просьбой, помочь ей узнать, что сталось с Субботой.
Перед горячей мольбой красавицы не устоял скромный Данила – обещал исполнить.
VI Шаг без возврата
Когда Глаша просила Данилу Микулича разузнать, где, что и как поделалось с Субботою, Бортенев, давая слово, испытывал странное волнение, до того еще ему незнакомое. Волнение это было так сладко и заставляло спокойное сердце Данилы биться учащенными порывами с первого же слова Глаши, когда она, положив дружески руку на плечо Бортенева, вполголоса произнесла:
– Прости меня, Данила Микулич, что хочу беспокоить. Долго думала… и верю, что можешь ты, голубчик, Данила Микулич, не откажи прошенью моему! Я, бесталанная, крушусь и маюсь, не знаю, что сталось с Субботой с Осорьиным. Жив ли еще он? Ты можешь узнать… у вас, может, и известно это самое? Коли нет его… я бы, может, меньше мучилась – один конец. Узнай, голубчик, заставь за себя вечно Бога молить!
И Глаша, не замечая, что делает, хватала за руки степенного Данилу, порывистыми движениями дополняя горячую просьбу.
Данила Микулич вздохнул, отвечая просительнице:
– Извольте, голубушка, с полным нашим усердием готов служить.
А самому сделалось словно тошно, что не может он теперь же дать ответа, который заставил бы Глашу меньше печалиться. Он и сам не знал, почему Глашина забота с этого времени стала близка его сердцу, как собственная. Просьба ли миловидной дочери Нечая Коптева сама по себе была так заманчива, голос ли, которым произносилась она, так западал в душу, или смятение, невольно овладевавшее просительницей с каждым новым словом, передавалось Даниле вместе с содержанием просьбы, – только делец Данила Микулич с этого дня стал задумчивым. В бытность у них гостей он как будто избегал Глаши, а когда слышался ее голос, весь превращался во внимание. Уехали гостьи, и с чего-то стал грустить софийский дьяк. Иногда среди чтения деловой отписки, начиная вдумываться в смысл сколько-нибудь затруднявшей его просьбы, делец вдруг переносился мыслью к молодой Коптевой и начинал думать, как она примет его сообщение. Действительно ли меньше станет крушиться девушка, когда узнает, что тот, кого в просьбе своей называла она ненаглядным, уже не существовал? По смыслу горячей речи и по смятению, с которым высказывала Глаша, как томит ее неизвестность, Данила заключал, что эта весть, если прямо ей передать, могла возбудить еще большее страдание. Нужно как бы то ни было послабить тяжелый удар. Над этим придумываньем ломал голову честный Данила; лгать он бы ни за что не решился, да и правда во всей наготе своей, сдавалось ему, хуже неизвестности. Поэтому, прочитав на другой же день в списке спасской службы десятьни короткую отметку перед именем Субботы Осорьина «выбыл», – это слово тогда значило на служебном языке умер, – Данила медлил ответом Глаше. Вдохновение не приходило, а время катилось своим чередом, унося недели и месяцы.
Решение открыть горькую истину Глаше ускорил приезд бессовестного Нечая, прямо обратившегося как к старому другу к Бортеневу с просьбой отсрочить какой-то взнос на месяц или на два, когда срок уплаты наступал на следующей неделе.
– Прямо не могу сказать, Нечай Севастьяныч, как владыка решит… Попросить и в веселый час доложить можно, только не сегодня, не завтра – владыка обители объезжает, нет его в городе, будет денька через три… Извольте, попрошу тогда, да как вам весть подать?
– Дорогой милостивец, – заговорил тут ласковый Нечай, сообразивший новую штуку, – не изволишь ли к нам погостить? Лошадок в субботу вышлем пораньше, воскресный день надо вам и отдохнуть… Не осчастливил еще нас, а родня, голубчик, недальняя! Баба моя все вспоминает про твою доброту да ласку, и Глаша звать приказала… Время отличное, у нас на усадище, прямо сказать, рай!
Делец стал соображать, не вдруг ответив.
«Коли поедет, – думал Нечай, – мой совсем будет! Обойдем и сделаем все по-нашему… Февронья – баба не промах, коли улестила Удачу, вдвоем примем друга сердечного и заполоним!..»
А сам он глядел пристально за Данилой, погрузившимся в раздумье.
– Так присылать лошадок-то? – брякнул вдруг, словно спеша куда-то, Нечай. – По рукам! Жена и Глаша стосковались по тебе… – развязно лгал Нечай, заметив нерешимость в дьяке и по своей привычке действуя напролом.
Данила как-то странно усмехнулся и с беглой, чуть заметною улыбкою отвечал нехотя:
– Пожалуй… Коли так вам угодно!
– Верно?! Лошадки будут на дворе с утра!.. – ударив по рукам, ответил Нечай, уходя торопливо, пока не передумал этот мямля – про себя решил шестодел.
Данилу занимала другая мысль. Имя Глаши почему-то приятно щекотало теперь его сердце – и ехать к ней было верхом блаженства для дьяка, смущаемого только необходимостью ответа: что сталось с Субботой? «Да что, – наконец раздумывал он, – семь бед – один ответ! Скажу „выбыл” написано; значит, не знают у нас, что с ним, в приказе теперь его не значится, может, перечислили совсем на московскую службу, а здесь похерить нужно было, чтобы на счету не стоял, не наш, значит, он. Может, и не поймет, когда „выбыл” пишут?.. Где девушке понимать наши порядки приказные?!»
Осторожный Данила, впрочем, сам вполне верил, что за силой поставленного слова «выбыл» в живых считать Субботу было бы безумием. Но как это высказать Глаше? Коли «ненаглядный» Суббота – смерть его тяжело отзовется на сердце девушки. Решилась же она просить его – чужого ей мужчину, в первый раз виденного, – вызнать… Нелегко ей было переломить себя: высказать просьбу. Наболело, значит… Каково же узнать, что нет его?
Суббота между тем, как мы знаем, жил и страдал, по воле гонителей оставаясь в глуши. А гонители эти, когда наступил срок смены и пришлось очищать дела, чтобы самих не притянули, преспокойно прекратили всякие справки, черкнув «выбыл»! Никому и в голову не пришло за этой отметкой подозревать бессовестный подлог. Все меньше Даниле да новому дьяку, сменившему Суету. И без распутыванья узлов своего дела пропасть.
Перенесемся прямо в усадище Раково, куда привезли Нечаевы лошади смущенного Данилу Микулича. В дороге на дельца напало тяжелое раздумье – и он сотни раз перебрал всевозможные обороты речи, под которыми бы, не искажая смысла, можно было скрыть значение отметки «выбыл». Все придуманное разлетелось прахом, когда, после обычных приветствий и спросов о здоровье со стороны хозяев, наконец оставивших гостя на минуту, подбежала горячая Глаша со словами: «Что же?»
– В списке стоит перед именем Субботы вашего «выбыл»! Значит, в приказе воеводском нет теперь его, а, должно быть, на московской чети он значится… Вот что я могу сказать… – едва дотянув до конца речь свою, заключил, побледнев больше обыкновенного, умный Бортенев. В голосе его слышались слезы – и этот голос дал понять сердцу Глаши, что «не значится в Новагороде» совсем не то, чтобы был где-нибудь.
Она похолодела и, крепко сжав руку вестника, еще имела силы доспросить его:
– Скажи прямо – нет?!
– Не могу… – невольно попятившись, лепетал коснеющим языком Бортенев, с которым тоже делалось что-то необычное.
Глаша закрыла лицо руками и убежала, дав волю слезам.
Напрасно искала ее мать по приказу отца звать к обеду, как уже видевшую гостя и, стало быть, могшую ему показываться. Хотя в качестве такой дальней родни можно было Бортеневу и жениться на любой дочери Коптева, но гостя величали своим и обращались с ним как с близким человеком. Как знать, не решил ли уже Нечай отдать за него Глашу, когда в приглашение к себе вставлял умышленно ее имя, наблюдая за Данилой, что с ним последует при произнесении имени бывшей невесты Субботы? У Нечая все делалось с маху, а сделать Бортенева своим входило, несомненно, в расчеты Коптева, искавшего опоры. Хотя Нечай и не все пронюхал в истории покрытия софийского недочета, но находил, что Данила неспроста велел вписать в обеспечение ссуды наследство матери на часть Глаши. В глазах Нечая Удача теперь был только подставным лицом Данилы, оттого и обратившего на себя всю нежность ухаживаний Коптева.
Уход Глаши – когда хозяин и хозяйка оставили гостя нарочно одного – объяснял умный родитель внезапным объяснением с нею Данилы, поразившим на первых порах девушку. Она еще, может быть, и не забыла Субботку-то? Все легко разрешалось в соображениях Нечая, строившего на песке, как и всегда, прямо и смело. Мать могла бы кое-что возразить против этой спешки, подметив, как дочь искала случая остаться наедине с гостем, и поспешила уйти в другую сторону, услышав шорох со стороны девичьей. Февронья Минаевна, если бы порылась в своей памяти, могла бы представить себе и порыв Глаши говорить с Бортеневым, когда на свадьбу они ездили; но она это обстоятельство, не придавая ему значения, как-то забыла совсем. Родители Коптевы, объясняя себе поведение гостя каждый по-своему, находили, однако, все в порядке вещей. Подметив рассеянность или грусть сосредоточенного гостя за обедом, старались они его развлекать, не давая ему тоже повода думать, что за ним наблюдают и больше даже знают, чем ему представиться могло. Так и сглаживались сами собою неловкости в обращении гостя, непривычного выезжать без дела из дома, а теперь к тому же испытавшего новое чувство. Что касается Глаши, то дума о Субботе приводила ей на память кроткий образ лица, взявшегося разведать о нем. Весть, убившая золотые надежды Глаши, передана с таким нежным соучастием, которого не заметить она не могла, и эта доброта и сочувствие еще более должны приходить на память девушке при каждом обращении к несуществующему. Оплакивание его заняло целую ночь. К утру лихорадочный сон, заканчивающий каждый первый сильный припадок душевного страдания, принес успокоение, перешедшее наутро в тихую грусть. Мучаясь пока бессознательной, но все усиливающейся страстью, Данила не искал свидания с Глашей, скорбя ее скорбью. Вдруг совсем для него неожиданно, перед прощаньем, когда Нечай вышел приказать подавать лошадей, а хозяйка пустилась увязывать гостинцы бабушке своей, явилась Глаша.
Лицо ее было бледновато, глаза носили следы проведенной в слезах ночи, но уста выражали трогательную благодарность. Такой обаятельной теплотой обдала она вдруг стоявшего перед окном Данилу, взяв его за руку. Оборотила к себе и прошептала:
– Вечно тебя не забуду.
Произнося эти слова, она выражала гостю только благодарность за сочувствие ее беде. Ему же показалось тут другое что-то. Вне себя от прилива к сердцу могучего волнения, овладевшего всем существом этого строгого к себе человека, он осмелился пожать руку девушки, ответив:
– Я тоже…
Что затем последовало в душе Данилы, он не мог бы сам дать отчета себе: только образ Глаши стал являться перед ним невольно всякий раз, как он задумывался.
С ней, если правду сказать, происходило не то. Она не желала и не могла забыть оплакиваемого Субботу. Он не выходил у нее из памяти, но только рядом с ним стал выступать и другой образ – друга, существующего, понимавшего горечь утраты и способного усладить ее боль своим теплым соучастием. Другом этим Глаше стал представляться Данила Микулич. С этой мыслью мало-помалу сжилась она, ничего не находя тут такого, что бы показало ей перемену, происшедшую в чувствах или во взгляде на вещи. Явись теперь Суббота самолично – Глаша бросилась бы к нему по-старому и, может быть, образ другого друга испарился бы у нее из памяти. Тогда бы высказанное соучастие осталось не больше как принадлежностью тяжелого сна во время мучительной болезни, потерявшего силу при переломе и выздоровлении, хотя облегчившего страдания. Но Суббота не мог прийти или дать о себе весть – и, не считая его живым, Глаша сильнее привязывалась к Даниле…
Тут стряслась новая беда. Нечай Севастьяныч, взявшись провести к свейским приятелям заповедные товары тайком, самолично был схвачен объездными татарами на самом льду, на взморье, за Невою, у рубежа нашего, заведомо поспешая на Котлин. Прикинулся хитрец сначала немым. Пошлепали бы шелепами да, может, и отпустили бы, как и прочих мужиков. Да не выдержал он, увидав, как объездной староста на глазах его стал с десятником делить возики, назначая выкуп в свою пользу со свейских людей и заслав к ним с известием. Делали, кажется, довольно знаков мужички хозяину – одет был он, как и они же, в понитку; такой же и треух на голове. Признать бы трудно, коли сказали: нет хозяина у них, сами мужики своровали, – так не послушал. Как гаркнет:
– Так-от вы воровать?.. Мое добро делить?.. Продавать – так вместе.
– Ишь, прыткий какой!.. – покатившись со смеху, ответил голова. – Коли хозяин сам сказался, вяжи его, ребята, да в присуд… А возики на дно пустим… как приказано!
Понял Нечай, что беду сам себе подготовил, а магарычи бездельники все же разделят и усом не поведут. Себя только погубил за посмех, а делать нечего. Колодки надели, привязали к коню, да двое по сторонам поехали. Только и видел Нечай свои возики. В Спасском погосте, под Ореховцем, сдали в таможенную тюрьму в остроге. Через месяц с допросами понятых в Новгород переправили, в колодничью избу; и – повели суд по делу. Встряски две выдержал Нечай, стоя на своем, что ведать не ведает, как и за что схватили его неведомые люди ночью, должно, по ошибке… Ничего знать не знает… Да третью встряску не мог перенести… Грошей не хватило заплечному дать, чтобы полегче тянул, – и обмолвился: «Моя тут вина. Так и так!»
Домашние Нечая сперва ждали его. Потом горевать перестали, отчаявшись видеть в живых. Уж записали в поминанье, когда вдруг вечером пригнал Бортенев на выставку Раково с грустною вестью, что почитаемый погибшим Нечай Севастьяныч представлен в воеводский приказ как тяжкий преступник.
Много было слез пролито Февроньей Минаевной в эту ночь. К утру снарядилась она ехать в город. Дьяк обещал похлопотать увидеть заключенного, хотя и посаженного за тремя замками.
Три тяжелых дня прожила у Бортеневых Коптева. Передумала она невесть что, прежде чем усиленные просьбы Данилы у дьяков, да у воеводы даже вымолили дозволение пустить хозяйку к Нечаю.
Делец, лишенный всей своей живости, искалеченный муками пытки, был, однако же, бодр духом и, узнав от жены, каким путем добилась она свиданья с ним, дал решительный приказ: ни в чем не отступать и выполнить как можно скорее. Приказ же Нечая заключался вот в чем от слова до слова:
– Слушай и помни, Февронья. Теперя коли Данила Микулич, дай ему Бог силы да здравия, принимает в нас такое участие, нужно ковать железо, покуда горячо! Сама ему посули – он промямлет невесть сколько и все же не соберется, хоть страшно бы желал, выдать за него Глафиру. Да и скорей крути свадьбу… В приданое отказать ему всю движимость и недвижимость – что к ему не попадет, даром пропадет ужо, как описывать придут на великого государя наши все пожитки. С Данилой неча считаться, коли такой он горячий защитник и поборник наш… За им не пропадет ни синя пороха, коли мы выкрутимся, по милости Божией…
– Ну а Глашу-то как уломать?..
– И ломать не нужно, не чаю, чтоб сильно заупрямилась… А на всякий случай помяни, что отца погубит упрямством и семью всю… А Данила сам души в ей не слышит, истинно говорю, сама убедишься. Скрытничает он только, а сам давно бы на шее у нее повис, только бы дали… Так развяжи ему руки сама… Авось и поправятся дела наши.
Нечай повеселел, словно в самом деле ему пришло известие о благополучном исходе и оправдании.
Февронья Минаевна исполнила все буквально, что приказывал супруг, погрузив своим предложением в глубокую думу приветливого софийского дьяка. Долго он молчал, то краснея, то бледнея от возникавших сомнений и преобладанья над ними страстных грез о счастье. Февронья наблюдала за переменами в лице боровшегося с собою и, воспользовавшись одним из оживлений, вызвавших краску на бледном лице Данилы, решительно поставила его в положение, не допускавшее колебаний и медленья, спросив:
– Так ты отказываешься?
– Не во мне вся сила… я душу готов положить за Глашу… Как она… – Он не смел договорить речь, решавшую общую их участь.
– Так едем к нам, и я спрошу ее при тебе, увидишь сам, что поперечки не будет…
Данила не возражая собрался мигом.
Мать вышедшей навстречу Глаше прямо сказала:
– Данила Микулич хочет быть наш совсем, ты не захочешь ему и нам перечить?.. Дай руку!
Данила был не в себе, слыша эти слова. Вся кровь прилила ему к сердцу в миг ожидания, казалось ему, длившийся целые века. Он все слышать желал что-то, но за звоном в ушах пропустил произнесенное Глашей, может быть и тихо, односложное «да!», когда подавала она свою руку. Рука Глаши давно уже держала его руку, успевшую совсем согреться, когда пришел он в себя…
Ни с чьей стороны не возникало затруднений и замедления свадьбы. Решение Нечая было приведено в исполнение не дальше как через неделю.
Глаша оставила Раково свое, выронив, впрочем, несколько слез на прощанье, но с новым, незнакомым ей до того тяжелым волнением вступила в новгородский дом Бортеневых. Странная ей пришла в это время мысль, неотвязчивое сомнение: подлинно ли нет в живых Субботы? Мысль эта оставила Глашу только после трех панихид, отслуженных за упокой души раба Божия Гавриила. При произнесении на панихиде этого имени каждый раз струились из глаз Глаши обильные потоки слез – последняя дань первой ее горячей привязанности. Она оплакала ее с тем, чтобы ничем уже не будить о ней воспоминаний.
VII Почин опричнины
Суббота, поспешно оставляя родительский дом, узнав, что Глаша уже принадлежит другому, всю дорогу тяжко страдал; но эти страдания, усиливавшиеся думой о ней, казалось, лелеял он, не думая выбрасывать из головы милый образ. Решимость молодого человека идти в опричнину, сделаться одним из заранее величаемых «лютыми» робким народом, была не произвольная, а вызванная отчаянием. Он желал теперь своей гибели, чтобы заглушить томленья пробудившегося желания сочувствия, отвечать которому не мог никто, кроме Глаши, а она была потеряна. Ее потери, думал он, верно, не последовало бы без нахождения в далекой службе по воле ворогов, месть которым осталась теперь единственною утехою все потерявшего. Как ни вожделенна была, однако, для Субботы жажда мести, он невольно затрепетал, когда, благообразием похожий на ангела, а выражением злобы на прелестника, юный любимец царский, Федор Алексеевич Басманов, приводя к присяге его с другими, читал, отделяя умышленно и произнося с ужасающей торжественностью слова:
– «Не имети ми, имя реку, ни коегожде общенья с земскими и с земщиною, ни норовити ни в чем родства ради либо свойства, ни ради приязни, похлебства, дружества и любви; корысти, женския прелести уловления и прочих, их же изрещи невозможно. Паче же исполняти ми не сумняся и не мотчав всякое царское веление, не на лица зря, ни отца, ни матери, ни брата, ни искренния подружия…»
Голос Субботы, впрочем, не дрожал, как у других, повторяя за чтецом:
– «Во всем еже повелено и доверено ми будет, имя реку, яз клятвой тяжкою связываю душу мою, от нея же ни в сей век, ни в будущий разрешити мя может кто, клятвопреступника буде ся учиню – и сий самый нож, еже при бедру мою ношу, пройдет внутренняя моя, руками сих братий моих, пиющих от единыя со мною чаши».
Врученье ножа царем и питье вина, поднесенного красивым подростком-мальчиком Борисом, при лобзанье всех присутствовавших между собой и с присоединенными к опричнине, заключили страшную присягу безвозвратного закабаленья на кровавую службу.
Иоанн уже решил смерть ближайших свойственников некогда ему милого Алексея. Впрочем, с большим трудом Левкий, Мисаил Сукин и Алексей Басманов вырвали эту уступку на хмельном пиру у царя. Он по ночам, как слышно, плакал не раз, произнося во сне имя первой жены своей и реже вспоминаемого им друга. Память о нем была страшна – и из-за страха ненавистна новым любимцам. Вырвав неполное хотя соизволение царя зажать рот боярыне Магдалыне, предсказательнице непродолжительного господства настоящего порядка вещей, – Малюта, Басмановы, Яковлев, Сукин и Василий Грязной собрали наскоро в эту же ночь совещание. Все согласны были в главном. О подробностях тоже не спорили, поспешая разом кончить до отъезда царя из города в слободу. А отъезд назначен послезавтра.
– Если случай опустить теперь – не вырваться из слободы: нужно докладывать. А как он да опять отменит или ничего не скажет?
Призваны три десятка первоприсягавших. Суббота в перный десяток внесен, к Малюте. Басманов Алексей Данилыч второй взял; а с третьим, расставленным по улице вокруг дома ненавистой начальным опричным людям богомолки, – чтобы никого не выпустить, – назначено быть Яковлеву.
Была глухая ночь и такая темь, хоть глаз выколи, когда густая толпа конных опричников доехала до двора обреченной жертвы, туда, где ничто не нарушало мирного сна обывателей. Ворота на ключе не задержали ни на минуту прибывших. Поднятая с петель на копьях, масса створов только глухо грохнулась в глубокий снег – и как по мосту проскакали по разбитым полотнищам десятки царских слуг к дому боярыни-иноземки. Это была полька, давно поселившаяся в Москве и принявшая православие. Чуждая москвитянам по происхождению и воспитанию в католичестве, она сроднилась с новой землей и людьми – благодеяниями. Имя боярыни Магдалыни было известно в Москве всем нищим, не имевшим крова, и всем странникам.
Любому прохожему на вопрос, где бы укрыться от холода и темной ночи, всякий москвич первым называл дом благодетельницы, обращенный задворком на Москву-реку, близ Вшивой горки, при завороте берега.
Все нашедшие приют в обширных повалушах Магдалыни спали давно. Не спала одна она с двумя-тремя женщинами, сильно привязавшимися к «праведнице» (как называли боярыню все от мала до велика). Влекло этих женщин к милостивой благодетельнице не корысть, не желанье получить большую благостыню, а то мгновенно и ярко заблиставшее и охватывающее сердце наше чувство, для названия которого одним словом не придумало еще человечество особого термина, кроме душевного увлеченья. Увлеченье это заполонило сердца присных «праведнице» при первом обращенье их к ней, с ветра, еще не зная, кто она и что ждет их по входе, вслед за другими, в ее дом. Горячее расположение сделать все, что потребуется, обращающимся к ее человеколюбию вылилось в первых словах приветствия к ним боярыни, у которой каждая из тяжких грешниц, после всевозможных треволнений, могла найти приют и больше чем родственную любовь. Один взгляд Магдалыни, проникая в сердце того, на кого обращался он, давал «праведнице» неложное указание: стоит ли личность эта приближения к ней или нет? От себя она никого не прогоняла, но приближала к себе немногих, следуя этому указанию.
В число присных Магдалыни попала добрая душа в основе, нежная Таня, краса ватаги веселых, бывшая утешительницей Субботы вслед за оставленьем им Корнильевой пустыни. Как попала она к Магдалыне – долго рассказывать. Пришла она к ней босая, с ребенком на руках, голодная, истомленная и ожидавшая смерти дитяти, для питания которого не было молока. Ребенок скоро умер, и Таня была оставлена боярынею и приближена ей ближе всех присных. Чему следовали тут сердца этих женщин, настолько различных по уму и понятиям? По крайней мере, что влияло на доверие боярыни Магдалыни простой девушке Тане? Ум и разгадка светлой души, выбранной на дело, ей порученное.
Голос свыше, сказали бы мы, если бы следовали логике людей, присваивающих каждому из своих ничтожных жизненных отправлений непосредственное действие Промысла. Веря в его высшее руководство, мелкие случаи жизненной практики относим мы к неизменному следствию причин и последствий наших собственных дел и особенностей характера. Разгадку людских правил и способа действий по наружности, на которой остается отпечаток господствующих ощущений, нельзя поэтому приписывать ничему иному, а только навыку в наблюдениях. В темной толпе – зрительнице подобных разгадок – они поддерживают суеверный страх и веру в сверхъестественное. Для людей, вдумывающихся в жизнь, явления ее получают иной смысл, не допускающий толкований вне общих законов мышления и независимо большего или меньшего развития органов чувств. Дальновидный политик, несмотря на молодые годы свои, наперсник Грозного царя в самые блистательные годы его полувекового царствования, Алексей Федорович Адашев, добрый по наклонностям, думавший исподволь привести грубых соотечественников к сознанию превосходства добра и чистоты над злым и порочным, разгадал боярыню Магдалыню лучше всех. Сам любя скрываться в тени, творя добро, он доверял ей выполнение самого сладкого долга власти – благодеяния. Делал он это так, что сами родные наперсника царского не догадывались, чья рука водит ее действиями, вызывая общие благословения умной иностранке. И вот она являлась благотворительницей, в руках которой созревали при посредстве как бы особенной благодати и дружно множились всевозможные меры на пользу меньших братий.
Магдалыня была только простое орудие, приводимое в действие Адашевым. Чтобы уничтожить всякую тень сомнения в естественности стремлений чужестранки, Алексей уговорил ее принять православие. Сама живя на его счет, Магдалыня умела с толком орудовать делами милосердия. Поощряя труд, делая выгодные, никому не известные обороты изделиями, к ней приносимыми, и обращая доходы на пользу приютов своих, она никогда не доводила источников до оскудения. Этим она внушила о себе высокое мнение и успела распространить убеждение в несуществовавших богатствах, якобы привезенных ею в Московское государство.
Падение Адашева и его партии, уничтожившее дальнейшую возможность получать невидимые субсидии и заставлявшее далее плыть против ветра, с помощью одного своего изворотливого ума, не могло не вызывать бури в душе Магдалыни. Буря эта, не видная ни для кого, облекалась ею в новые велеречивые беседы о бедных и страждущих. Умная иностранка отличалась, кроме ума практического, силой слова – и эта сила покоряла кроткие сердца, склонные к добру. Все, расположенное к нему, но робкое и неспособное к отпору в московском обществе, сожалело о временах Адашева. Магдалыня в беседы свои о путях Промысла – неведомых для мира и мирских угодников – вставляла (постоянно, разнообразя только подробности) положение: что за грех миру посылается печаль. Печалью очищается душа, получая новые силы для дальнейшего служения добру.
– Все мы услаждались царствием мирным, когда государь доверялся Алексею, по грехам нашим нашло теперь испытание. Но Бог милостив и щедр, не вечно карает заблудших: придут люди в чувствие, и эта буря мрака развеется одним дуновением!
Эти слова умной Магдалыни, невольно вылетавшие, многие считали не одним красивым словоизлитием без содержания, а, напротив, пророчеством праведницы.
– Мошна, известно, толста у бабы. Убавить бы серебрецо – перестала бы дурить со своими пророченьями на нас, что недолго нам быти?! – толковали желавшие скорого обогащения, покуда нуждаясь еще.
– Свернуть голову скорей проклятой кукушке, пока не навела впрямь напасти!.. – толковали первые изобретатели опричнины, работавшие с хорошо обдуманной целью: быть единственными советниками царя. Ватага их, пока небольшая, не с тем напускала страхи на Грозного, чтобы могучий ум его скоро освободился от навеянной притчи. В подспорье нашептыванью мнимых угроз заставить работать царское живое воображение казалось им лучшим средством запугиванья. Стоило вмешать в донесенье о непорядочных пророчествах Магдалыни что-нибудь об исполнении ее слов, бросаемых не без предвиденья, – а предвиденье дается-де не без участия темной силы, – и робкое воображение само способно создавать ужасы.
В памятный вечер решенья царя заставить молчать пророчицу Басманов, переглянувшись с архимандритом Левкием, вдруг спросил его в половине ужина:
– Правда ли, преподобный отче, бывают сонные видения и гласы страшные человеку внушаемы? Неспроста ли они являются?
– Какие видения, какие гласы, друг? Буде, к примеру сказать, видится тебе: подносят да кушать просят да слышится: пей да не лей! Какое же тут внушенье?.. А увидишь ты, как ангел с демоном за душу твою брань ведут… «Сей человек мой давно, – кричит черный. – Не замай! Он еще в Алексееву пору, за честь да за власть, продал мне душу на вечную страсть». – «Теперя же верною службой своему земному владыке он достоин включиться в наши ангельские лики», – отвечает дух благ… Такое виденье, друже, не ума уловленье, а от гибели остановленье… Или, баяли мне, как к москворецкой праведнице-пророчице взаправду летают мехоноши в трубу – с того, говорят, у ее честности, не в пример нашей суетности, все закрома полны и с краями равны.
– Равняются и пополняются руками благодетелей ее, усердных прихлебателей: начнет каркать про грядущее горе, все уши распустят да в мошну серебреца чистого нечто и опустят, на дела, вишь, благая, чай, вскоре злая… – подтвердил Сукин.
– Она не берет! – ответил, ни к кому прямо не обращаясь, сам Грозный, знавший Магдалыню и не раз ей предлагавший земли и угодья.
– От кого как… перед царским величеством поначалу можно и починиться, – авось при случае больше перепадет, – резко отозвался румяный монах Мисаил Сукин, открыто не признававший в людях, кроме корысти, иных побуждений для дел злых и добрых.
– Грешишь, Мисаиле, покайся!.. – отозвался как бы в сомнении, вполголоса Грозный, погружаясь в думу. При подвижности его страстной натуры редко не приводила эта дума ум его к решению, противному недавним убеждениям.
Это хорошо знали собутыльники – и погружение в думу давало им теперь большую смелость говорить что угодно, влияя на зреющее уже царское решение.
– Не только берет, да еще нахально ворует, обирая на деле, самом скверном и черном, – на гаданье! Держит при себе баб-ворожеек, и кладут им под стаканы с бобами чистое золото… и золота этого потом не оказывается… Духи, вишь, берут за труд!..
– Какая же то подлинно праведница, если ворожей при себе терпит заведомых? У нее живут, и люди к ним ходят ворожиться, бабье слепое, известно!.. – с горечью выговорил Левкий. Глаза его засверкали диким огнем ярости, нисколько не похожим на вспышку святой ревности.
– Бесчинниц таких бы изловить надо, чтобы зло отнять, – отозвался в качестве законника Никита Романович Юрьев.
– Да, так и отдаст тебе боярыня своих странниц?! Попробуй сунуться – и останешься в дураках. Где все заодно с хозяйкой, там не найдешь подчиненных. Магдалыня не так проста, чтобы себя выдать через этих баб; примись-ка за них, они тебе и откроют, какого цвету дух шепчет на ухо прорицательнице бед на царя православного… Для нас государь теперя сам начинает во все вглядываться, а для нее – после Алешки совсем ослепло царственное око.
– Мне наскучили вы своими бреднями негожими, – уже бледнея, отрывисто сказал Иоанн.
Над высоким челом государя, медленно приподнимаясь, слегка пришли в движение пряди жестких кудрей – признак ярости. Грозный вдруг взглянул на чашника – и ловкий придворный подал чашу. Из нее государь глотнул как-то глубоко и стремительно возвратил сосуд, отирая усы.
Левкий не унялся, но еще язвительнее продолжал внушение:
– Пора перестать… Явится неравно напущенный дух Алешки и испужает державного жалобой, что мы его тревожим.
Говоря это, он глядел на Грозного, кивком головы еще потребовавшего чашу. Когда пил державный, Левкий скороговоркою, вполголоса (только так, что государь все слышал) передал Мисаилу:
– Вечор один брат странный слышал в доме рекомой праведницы, что люди есть, напускающие по ветру, кому хочешь, страхи, виденья сонные и тоску, и немощь душевную, и глаз отведенье от своих шашней; напустят – и веры ни за что не дает, под чарами…
Договорить ему не дал вставший царь.
– Слышите?.. – загремел Грозный. – Чтобы про Магдалыню эту я больше не слыхал!.. Чтобы гнезда ее никогда не видел!..
А сам, нетвердо ступая от наката судорожного припадка, поднявшего дыбом кудри над челом, вышел из столовой избы.
– Сегодня так сегодня – починок! – металлическим каким-то голосом заговорил среди общего безмолвия Басманов – и все стали готовиться в наезд.
Мы оставили наехавших на дворе Магдалыниных палат.
С входной дверью с крыльца не так легко было сладить, как с воротами. Пришлось рубить дверь эту, не поддававшуюся от напора двадцати упертых каблуков. Пока рубили – за дверью поднялся робкий люд, ничего не понимая, что происходит. Весь этот люд безотчетно столпился перед теремом боярыни, где ей читали Псалтырь очередные любимицы при свете тонкой восковой свечи, оставлявшей чуть не во мраке обширную горницу.
Переполох был повсеместный, но встревоженная боярыня, думая, что пришли грабить понаслышке недобрые люди, и зная, как мало найдется у нее поживы для корыстолюбия, не принимала никаких мер. Да и что бы могли предпринять большей частью женщины против толпы вооруженных? Появление в тереме предводителей, в которых Магдалыня признала любимцев царских, навело панику на несчастную жертву… Однако указание Малюты и приказ Басманова: «Бери ее!» – не так-то легко было мгновенно исполнить. Женщины составляли хотя и слабую преграду между жертвой и палачами, но образовали бóльшую, чем можно было рассчитывать, задержку для стремившихся с ножами к обреченной. Безотчетно жертвуя собой для благодетельницы, десяток безоружных героинь не давали доступа убийцам. Самого Басманова неожиданно схватили за руки.
– Руби! – крикнул своим Басманов, остервенясь.
– Чего стал! – подстрекнул свирепый Малюта Субботу, ринувшегося вперед с мечом. – Не зевать пришли!..
Железо блеснуло и осталось на полпути. Сильная рука женщины схватила за рукоять.
От тяжести ли, налегшей на руку, медленно опустился меч, или это сделалось от звука знакомого голоса, мгновенно поразившего опричника?
– Суббота, ты это? – произнес женский голос. – С душегубцами?! Рази меня, неправедницу!
Осорьин вгляделся в лицо говорящей и узнал Таню, бледную, исхудавшую, постаревшую, но ставшую более привлекательной, чем была она в дни разгула.
– Оставь меня! Я ничего не слышу и не должен слышать, кроме приказа царского, – ответил, рванувшись, Суббота.
– Будь же проклят, душегубец!.. – проговорила Таня и сделала сверхчеловеческое усилие. Обеими руками направила она склоненный меч в себя, рванулась вперед и, падая, увлекла с мечом Субботу. В падении задели они подсвечник, свеча погасла, погрузив в полный мрак позорище убийства.
Неожиданность эта привела всех в невольный трепет, пригвоздив к месту.
Когда прибежали со светцами – Магдалыни не оказалось в тереме, и только хрипенье зарезанных женщин да лужи крови являлись свидетельством борьбы за исчезнувшую жертву.
Товарищи подняли Субботу, залитого кровью Тани. Он не вдруг пришел в себя.
– Ничего, привыкнешь! – молвил Малюта, благосклонно дав знак увести его. Загнувшийся меч не могли вытащить, так и оставили в сердце убитой.
Видя, что жертву трудно отыскать впотьмах в обширной усадьбе с бесчисленными тайниками, вожди опричные отдали приказ привезти с казенного двора скорее пять бочонков пороху. Обыскав предварительно и найдя совсем пустыми чуланы и закрома, отверстия наскоро забили досками. Разведя в верхних ярусах огонь, подложили они порох подо все четыре угла главного терема. При блеске зарева кучка губителей, забив ворота, остановилась издали наблюдать, но недолго ждала довершенья своего подвига. Сверкнуло мгновенное, как молния, полымя, раздался гул взрыва, треск, и терем «праведницы» рухнул безобразной грудой обгорелого дерева.
Иоанн проснулся от сотрясения и послал узнать, что такое.
– Гнев Божий поразил чародейку-предсказательницу!.. – донес, воротясь с наезда, Малюта Скуратов.
– Что же произошло? – спросил нетерпеливо государь.
– Огонь, говорят, сперва показался из терема Магдалыни, и зельем чародейским подняло вдруг всю усадьбу. Так что трудно разобрать теперь, где она и что с людьми сталось…
– Жаль боярыню, неосторожно, видно, с огнем обращалась!… – отозвался, погрузясь в раздумье, Грозный. – Может, и злой умысел чей? Ехать отсюда немедля в слободу: не то и нас сожгут, изменники!.. – прибавил государь с тоскливым чувством бесприютности.
VIII Медвежья травля
Грозная пора опричнины висела непроглядной тучей над Московской Русью, заставляя каждого бояться за себя: если не по вине, то по ошибке люди гибли от усердия богатевших временщиков. Ездоки с метлой за спиной да с собачьей головой над околышем шапки были только исполнителями велений чужой, кровожадной руки, рыская то там, то здесь и являясь в земских усадьбах как молния, не разбирающая жертв. Издали заслышав топот коней и залихватскую песню, в поле на большой дороге либо даже на базаре городском в торговый день, мгновенно все бросались куда глаза глядят и входили в незнакомые дома, прося приюта. Стоять на пути проскока ватаги опричников либо заглядываться на их гарцеванье никому, ребятам даже малым, не приходило в голову – до того сильна была боязнь ожидания верной беды, одолевавшая мгновенно самых бесстрашных.
За Старицей, по дороге в Волоколамск из Осташкова, на реке Шоше стоит богатое село Ярильцево – недавно еще место подвигов ватаги, знакомой нам по неудачному закабаленью Субботы мужиком, выдававшим себя за слепца. Он сам был уроженцем деревни Шиловки, здешнего прихода. Испытав крушение надежд на поправку дел после отнятия медведей воеводой, прибрел мужик на родину, нищенствуя. Как русский человек, с горя запил, разумеется, на последние крохи; и теперь был в таком положении, что жалобная песня «Милостинку Христа ради!» была у него искренним признанием в полном отсутствии всего, что только могло быть пущено в оборот. Взывая к человеческой щедрости, пропившийся хитрец не думал делать никаких различий и крикнул: «Милостинку Христа ради!», завидя даже кучку всадников с метлами за спиной и собачьими головами на шапках. Вожак-философ не боялся и этих представителей урагана, не оставляющих ни кола ни двора там, где гостили. Да бедняку, как он думал, нечего бояться их. Все свое носил он с собой, и это все могло разве вызвать плевок разодетых боярами опричников.
Жалобный крик «Христа ради!» в устах пьяницы, еле державшегося на ногах, был так наивно смешон и составлял такую противоположность с наружностью просящего, что всадники залились звонким смехом. Скача мимо, ездоки приставляли к лицу ладони и показывали длинный нос мужику, сами продолжая хохотать.
– Прямые кромешники! – крикнул хохотунам пьяница. – Выдают себя за царских слуг, а сами смеются безвременью людей, ограбленных воеводами!.. – резал, не успокаиваясь, пьяница.
– Какими воеводами? Кто ограблен? – благосклонно стал спрашивать, должно быть, нáбольший ватаги насмешников, ехавший поодаль.
– Кого грабили, гришь? А хочь бы меня! Вор-воевода, князец Ванько Шуйской в Новагороде… Медведей отнял – себе взял!.. Чтобы подавиться ему, собаке, моим куском… последним.
– Суббота! – крикнул набольший. – Поспрошай-ко этого мужичка… Медвежья охота тебе доверена…
Один из крайних всадников с неохотой поворотил коня и не торопясь подъехал к ругавшемуся, бывшему вожаку, держа наготове здоровый арапник.
Допрос заявителя претензии на князя Шуйского продолжал Суббота недолго. Спросы бывшего хозяина его, после того как допросчик и ответчик друг друга признали, были напрасны.
– Я знаю его, все вправду было так, как пересказывает он… – отозвался Суббота нáбольшему. – Нужно время выбрать да государю донесть, каких важных мишуков про себя таит воевода, забрав на царя-государя.
– А мишуки важные впрямь?.. – счел за нужное высказать набольший, добавив – Можно бы и усердие показать тебе – надежу государя потешить.
– Такие звери были, государь, у нас, – отозвался вслушавшийся вожак, – што, право слово, люди не всяки таковы разумливы бывают. И што с ими Суббота откалывал!.. Коли пересказывать стать – веры не дадут!
– Вправду, Суббота, так было?
– Бывало-таки!.. Плясывали и мы с мишуками да с марьюшками, хошь бы и с людьми пришлось – так не обсмеяли бы…
«Вот и новую потеху державному предоставим!» – про себя проговорил набольший повечеру, как въезжали в Тверь опричники.
В Твери был на ту пору Иван Васильевич, подбираясь под братца, князя Владимира, да все побаиваясь, чтобы самого ворог попрежде не подкосил каким ни на есть угощеньем, через бояр ласковых, на чествованье да на радостях.
Переходя от робости к гневу, и наоборот, сменяя пыл злобы внезапным наплывом неотвратимого ужаса, Иван Грозный в Твери то запирался один, бросаясь перед налоем на колени и горячо принимаясь молиться, то садился после молитвы, задумывался и, мало-помалу представляя себя жертвой мрачных козней, приходил в ярость, а выходя в переднюю палату, отдавал какое-либо строгое приказание. Ярость гневливого усиливалась, когда не находил он на своем бессменном посту внутреннюю стражу.
Часто выходил государь из спальни своей в этот вечер, но особенно не выказывал гнева, видя всех на местах своих, в полной готовности на посылку либо в разъезд. В бытность государя в слободе заведен был порядок, чтобы воротившиеся ко двору тотчас являлись налицо и без повеления не уходили из передней палаты или с крыльца. Докладывать о приехавших никто не смел, а коли государь заприметит – сам спросит. Яковлев, сойдя с коня, вошел в переднюю палату и сел подле дневальных спальников, а Суббота, как заурядный опричник, остановился у дверей со стражниками.
В палате было тихо. Так тихо, что слышно жужжанье шальной какой-то мухи, неведомо как спозаранку ожившей, хотя весна еще не начиналась. Уныло горели сальники, только наполовину выделяя из мрака фигуры сидевших и стоявших на дневанье. Скрипнула дверь на переходе из царской спальни – и на пороге палаты показался Иван Васильевич, побледневший и, как видно, не владевший собой от душевной тревоги.
– Ну-тка, молодцы, кто горазд из вас теперь прогнать от нас тоску-безвременье?
– Сказку изволишь повелеть… аль иным чем ни на есть потешить? – отозвался, встав с лавки, Яковлев.
– Вместо сказки потешной рассказывай свою, нонеш-ную, приезжий!.. – велел государь, как бы обрадованный появлением нового лица. – Ступай ко мне.
И любимец, оглядев не без самодовольства присутствующих, скрылся вслед за державным на переходе в спальню.
Что происходило там за стеною – никто не смел подслушивать. Донесение Яковлева длилось, однако, долго. Оно, должно быть, вызвало полное удовольствие владыки, более не выходившего, стало быть, не ощущавшего гнева и не поддававшегося более страху. Уже перед утром вышел Яковлев. Отпустил на покой приехавших с ним, послал к государю стольников и мигнул Субботе остаться.
– Государю пожелалось видеть твои потехи с медведями. Потому повелено тебе – со стариком этим, что к нам привязался, – порадеть, поискать ученых медведей, где их отыщете. Сколько найдете – всех берите и ведите в слободу! Прихватите и веселых, разбитных малых на все руки… Сроку воротиться вам заране государь не полагает, а надеется, что ты сам не задержишься напрасно.
– Да, коли препятствия не учинят в городах воеводы.
– А указы на что? Заставят слушать, наистрожайше…
– А коли ворог попадется, можно его будет постращать маленько?.. – с невольным трепетом горячего желания мести вдруг спросил, оживившись внезапно, Суббота.
– Вдруг не советую круто прижимать, а глядя по человеку, по силе, и при случае почему не прижать, можно…
– Мне бы дьячишку мерзкого одного.
– Смотри, эти пакостники – кляузники! Осторожнее с крапивным семенем!.. Обнесут. Раскричатся.
– Не придется много раз крикнуть под медведем! – мрачно вполголоса крикнул Суббота, выходя на крыльцо. – Наша берет! – крикнул он, хлопая по плечу старого вожака, крепко заснувшего на крыльце под теплой попоной.
– Што гришь? – отвечал, не вдруг приходя в себя, проснувшийся.
– Ехать велено нам с утра, странствовать, твоих медведей выручать да у всех отбирать лучших зверей на потеху царскую.
– На нашей, значит, улице праздник теперь! – злорадно засмеялся отрезвевший уже ватажник.
Думал он тоже об отместке ворогам, и первому из них – дьяку Суете.
Общее чувство оживляло и распаляло одинаково жаждущих мщения, уполномоченных на сбор медведей, и старика, и молодого опричника. Только у каждого из них были разные побуждения к мщению, разные планы выполнить его, в груди у каждого ворочались черные думы, неспособные угомониться с утолением жажды мести разгромом ненавистников.
Старый ватажник конечную цель стремлений и достижение желаний своих видел в возврате своих медведей да в сборе правдою и неправдою как можно больше московок и новогородок. Благо есть случай и можно приступить к вымогательству, опираясь на царское поручение и полномочие. Самого дьяка-обидчика ватажник, за откуп покрупнее, готов был, пожалуй, оставить в покое. Но обобрать все, где что можно, казалось случайному исполнителю лестного поручения самым главным и необходимым в настоящем случае. Словом, он хотел себя вознаградить за чужой счет вполне и за один раз.
В мыслях Субботы горела одна жажда мщения лишившим его счастья в жизни. Никакие другие побуждения не имели места и значения прежде выполнения кары над ворогами.
С мыслями о мщении проснулся Суббота, разбуженный присланным за ним – для явки к государю перед отправлением.
В той же передней палате, теперь наполненной находившимися в Твери окольничими, думными и боярами, пришлось и нашему Субботе ждать милостивого слова державного посылателя. Никакого следа истомы или бессонницы не было на лице самодержца, когда он, уже в дорожном платье, готовясь садиться на коня, вышел в переднюю среди путевых неизменных спутников-любимцев.
При появлении государя шедший впереди него Яковлев выдвинул Субботу из ряда и со словами: «Вот он!» – указал на посылаемого.
– Ты, молодец, как узнали мы, вызываешься показать нам свою удаль да досужество? Поезжай выищи нам самых лучших медведей… Даю тебе полную мочь брать, где найдешь… Привези, покажи свое молодечество, а насчет милости нашей будь надежен… Не оставляем мы усердных слуг без возмездия… Так ведь, присные мои? – обратился Иоанн к окружающим, и вдруг лицо его стало важно и сурово. Как будто, дав час потехе, он снова вернулся к делу. – Малюта нам доносил, что готов ты для нашего царского покоя живот положить не задумываясь… Ино тебе, паря, отличие наше дадим неотменно.
Малюта, скрывавшийся в тени, теперь выступил и на ухо что-то шепнул Иоанну. Царь вдруг нахмурился и резким движением поворотил на Субботу беспокойный уже лик свой, вперив подозрительно взгляд в спокойные, но теперь вдруг загоревшиеся глаза опричника. Зашевелив губами, он хотел сказать что-то, когда Иоанн предупредил его новым обращением, с дрожью уже в голосе, получившем приметную жесткость:
– А проездом, молодец, поразведывай: не говорят ли про какие ни есть затейки наших ворогов внутренних – душегубцев заведомых… Не прослышишь ли про прием какой, с подвохом вредным обереганью нашего государского здравия от кого ни на есть?.. Родня наша как, веселится али думу думает, как бы изжить нас… – Государь с выражением вскипавшего гнева перевел дух и хриплым шепотом продолжал – Не засылают ли кого на наш путь-дорогу?.. Зелья не варят ли где про что?.. Бояре земские как у себя живут-поживают да перед нами как сбираются лицедействовать?.. Слугами усердными прикидываются, а сами…
– Грабят народ бедный, мучат своих приспешников!.. – не владея собой от прилившей к сердцу горечи памятованья прошлого, вставил стремительно Суббота, мгновенно покраснев и затем бледнея от ярости.
– Ого, какой он у нас?! Молодец! – одобрительно ответил державный, приходя в расположение.
– Ерш как есть!.. – вставил, по-своему оценя вспышку Субботы, Малюта.
– Нет, не ершом смотрит… Выше поднимай!.. – произнес государь, придвигаясь к ответившему Субботе, и прибавил – Гляди мне прямо в очи!
Устремленный взгляд Иоанна Суббота не только вынес, не опустив ресниц, но еще грознее сам глядел в глаза Грозному царю.
– Не мигнет даже! – отозвался государь, довольный этим обычным своим испытанием. – Ни искры трепета!.. Не ершом мы назовем, братец, тебя. Слыть тебе Осетром у нас в опричнине!.. Это не мелкая рыбка, в плесу ей не след болтаться, надо руки пошире развязать… С головой малый… и стоек!.. Первого вижу, чтобы взгляд наш выносил не сопривычки… Как зовут?
– Субботой.
– Ты, Суббота, впервой с нами говоришь?
– Впервой, государь, довелось…
– Знай же, я тебя не забуду… Такой взгляд – что стрела!..
Глубокое раздумье осенило теперь прикованного к месту Иоанна. Он потупился и концом острого посоха стал царапать теснину половой настилки. Потом медленно поднял еще раз глаза на Субботу, стоявшего в том же положении, с непотухшим пламенем в очах, от которого молодое лицо получило ужасную прелесть: смесь злобы и язвительности, хватающей за живое. Чувства эти теперь кипели в груди дождавшегося часа мщения – и разгар их не думал тухнуть, одобренный царской похвалой.
– Зверь крупный! – вырвалось у Иоанна невольно при взгляде на хваленого им опричника. – Верю, что ты сам ничего не упустишь, что следует… Не ротозей и не мямля. Ученого учить что мертвого лечить – поздно!.. Наказа поэтому давать не нужно тебе, сам смекнешь, что и как!..
– Только бы исполняли наши спешные требования… – еще раз отозвался Суббота, пользуясь остановкою в речи царской.
– Написать, это само собой! – отдал приказ комнатному дьяку Грозный и тут же прибавил, обратившись к Субботе: – Только ты сам смотри востро, не забывайся!.. Развязываю руки тебе на дело наше, царское, для опыта. Если похлебствовать станешь другим ради корысти, ответа спрошу у тебя – я!.. И не спасут тебя никакие заступы. Ступай! Делай и возвращайся, памятуя, что царское око изощряет Бог… По силе – даем силу. Воровства не терплю. Сделаешь что противное нашему веленью – сам себе судья и кара!
Субботу затрясла лихорадка при этих словах полномочия и угрозы царской. Он чуть слышно произнес, но так, что долетело до слуха чуткого юноши спальника Годунова, стоявшего с ширинкой подле Грозного: «Погибнуть – только бы отомстить!»
Грозный милостивым кивком державной головы отпустил нового любимца – как решили приближенные к царю по словам, обращенным к Субботе, и по данному прозванью, имевшему важный смысл для честолюбцев.
– Остер больно, как раз шею сломит!.. – по уходе царском решил Алексей Басманов, вздохнув как-то неловко.
Яковлев только посмотрел в сторону уходившего с верховным дьяком Субботы, подумав: «Чего доброго, в товарищи к нам затешется бывший батрак!..» Малюта Скуратов при словах Басманова изобразил князю Афанасию Вяземскому очень наглядно сдавленье руками чьей-то шеи. Ответом пригожего князя было пожатие руки кровожадному Малюте, без сомнения раньше сообщавшему ему, чья шея на очереди.
Через час с письменными полномочиями к воеводам, с достаточной суммой денег на расходы в голове десятка опричников выезжал из Твери по дороге на Ржеву-Пустую наш знакомец Суббота. На него теперь смотрели недавние товарищи как на восходящее светило и новую силу при царском дворе.
Ездоки двигались мелкой рысью, а за ними немилосердно погонял только что купленную лошадку мужичок навеселе, исправно и тепло уже одетый, напевая себе под нос и путая слова песен. Трудно было бы в этом певуне узнать отчаянного горемыку, корчившего когда-то слепца, еще не знавшего накануне, куда преклонить голову.
Десяток опричников, предводимых Субботой – пожалованным царской волей в Осетры, – много раз возвращался в Александрову слободу и дня через три-четыре снова пускался в новые разъезды, прежде чем очутился к осени в Новагороде. Говорили в слободе Неволе, что Субботу всю весну и лето отвлекали от прямого выполнения первого поручения беспрестанными ничтожными исполнениями боявшиеся нового соперника нáбольшие опричные. Вот и следили они ревниво за всяким шагом этой «крупной рыбы», как выражался царь, дававший теперь уже третий раз лично поручения, удачно ему приходимые на ум. Но всему же бывает конец, как и всевозможным отвлеченьям. Получая благодарность державного за рассеянье правдивым донесеньем душевного страха, навеваемого ворогами, в последний раз, по счастливой случайности, целых два часа беседовал с державным ночью и успел испросить неотложное повеление: доставить мишуков к Покрову. Так что он лишил ворогов своих всякой возможности засылать себя за чем другим до привоза медведей.
По дороге к Новагороду, – в прежние поездки давно уже разведав, где найти зверей, – забрал Осетр обильный улов косматых плясунов. Удалось прихватить десятка три и разгульных скоморохов. Нáбольшим над этой ватагой он поставил старика, бывшего своего хозяина, не выпускаемого из виду и довольного только наполовину своим положением. Забирать все, что хотелось, умный Осетр не давал старому загуле – и не думая, не гадая в лице его нажил тайного ворога, которому завистники-нáбольшие поручили в свою очередь разузнавать про действия Субботы. Передавать им все исправно, незаметно и потому без всякой опаски для себя взялся ватажник тем охотнее, что считал себя обиженным даже и царской милостью. В глазах завистника только перехватил будто он принадлежащее ватажнику право сорвать высочайшую улыбку приводом медведей – для него делом обычным. Умственного превосходства в своем начальнике-сопернике ватажник ни за что допустить не хотел. Так что когда вступала в грязные, немощеные новгородские слободы медвежья ватага с обозом потешных принадлежностей и тремя десятками скоморохов, непосредственный распорядитель ими уже питал к своему нáбольшему Осетру полнейшую ненависть. Выискивал он всякий случай, какой бы только представился да годился, чтобы погубить его. Суббота же – теперь более мрачный и несообщительнее, чем когда-нибудь, – с приближением так долго ожидаемого часа мести ворогам находился в тревожном состоянии. Боялся он, как бы не сделать ложного шага и не дать жертвам возможности избегнуть уготованной участи.
Въезжая в людный город, Суббота, давно не говоривший со своим ближайшим помощником, вдруг попросил его разведать тщательнее: где воевода теперь и где найти дьяка в приказе? Чтобы, прибавил многозначительно, весь отдавшийся страсти отмстить, можно было без шума дать знать себя дружкам сердечным!
– Ладно… Узнаем-ста! – с особым, дурно скрываемым оттенком злобы ответил ватажник.
Вмиг решил он сделать именно противное: если нужно – обмануть, но не допустить скрыть то, что хотелось бы мстителю покончить, как он говорил, «без шума». Так и принялся работать изворотливый старичишка, почуяв возможность втянуть в петлю неосторожного.
Узнать, где воевода, было так легко знавшему приказные порядки ватажнику. Знал он, что Субботе нужен воевода не для выполнения царского наказа, а чтобы проделать с ним какую-нибудь пакость. И как бы чувствительна ни была она для высокопоставленного лица, но, вероятно, последуй она наедине, господин воевода не посмеет жаловаться даже. А что Суббота способен был проделать прехитрую штуку, ватажник знал по собственному опыту соглашенья с дьяком о кабале. Нужно было, главное, сделать свиданье Осетра с воеводой отнюдь ни для кого не тайным. Мысль эта, однако, в ту же минуту заменила другую: нужно совсем не допустить до воеводы горячего Осетра, прежде чем сделает он какое ни есть крупное безобразие со злости. А злость эта у нетерпеливого пса, рассуждал достойный ватажник, невольно придет, когда воевода скроется на время и он, не найдя его, пустится на поиски, чего доброго, очертя голову, в бешенстве. Попытаемся так! Хлестнув сердито своего гнедка на повороте к мосту через Плотницкий ручей, старик свернул в переулок и исчез в извилинах узких улиц, сообщающихся с ним, образуя частую сеть перекрестков и проездов задворками. Пустившийся смело в эту путаницу загородей, тесовых ворот, пустырей и лачужек, приземистых, покривившихся или склонявшихся дружески к соседу, словно с ним беседуя, – ватажник знал, где чаще всего пребывает государь воевода. Из палат своих бесследно исчезал он, хотя с утра до вечера осаждали их неотвязные просители. Была одна купчиха вдова, нестарая и пригожая. В хоромах ее, близ Знаменья на бережку, дневал и ночевал теперешний воевода, все управленье предоставив, как человек военный, своим дьякам-дельцам да усердным подьячим. Несмотря на личную храбрость, беспечный воевода был трус во всех тех случаях, где приходилось ему действовать против представителей двора либо любимцев сильных земли. Вне рамок указанных нами воеводских отличий князь воевода был человеком надменным, перед слабым любившим показывать свое значение. Был он способен, если подзадорят его только, учинить и крупное бесчинство, надеясь, что легко с рук сойдет. Купчиха-любимица была заведомая взяточница, и жалоб на нее отовсюду подавалось видимо-невидимо. Только воеводская власть челобитья клала всегда под сукно. Уничтожались жалобы тотчас же, а сетования слышались не на правосудие, а только на подьяческую одну волокиту. Знала любимица, что и ввысь достигали иногда гласы вопиющих в пустыне, поэтому чутко ловила всякую весть, долетавшую от средоточия силы и людской охраны от обидчиков. О посылке опричных долетали уже слухи по въезде их в город, когда, вступив на заднее крыльцо хором, где воевода отдыхал от тяжких трудов, постучался не очень громко ватажник, хозяйку дома назвав по имени.
– Уехали по обителям, – ответила сама хозяйка из-за плеча отворившей сенной девки. – Может, и скоро будут… Зачем нужно-то?
– Князю воеводе нужно бы дать знать, что теперь наехал сюды озорной один опричник, придира и прощелыга такая… А язва, и невесть Господь подобной. Все ставит в строку. Особливо коли один на один с кем бывает – и не вздумать что всклепнет, не расчерпаешь… Так князю воеводе следует поостеречься, не показываться без товарыщей… А паче на очи не примать того безобразника да и наказать приказным людям, коли учинит какую ни на есть пакость, – не молчали бы, а постаралися бы «Разбой!» крикнуть: звать мир крещеный на помощь, а не то и в набат грохнуть… Чтобы свидетелей больше набралось да не отвертелся бы ворог, забожиться бы не мог… Меня вот с опричнины же послали надсматривать: что чинить будет непутный!.. А больно уж грозен, покуль не проучен, и царь, вишь, милостью помянул… Да недолго буйствовать, глаза откроют державному!.. А покаместа не бурлит малый, не худо бы князю воеводе схорониться куда ни на есть… Пусть скажут, выехал, а будет он ужо…
– Да князя и подлинно нет, и не у нас, и не в городе он… Взаправду на ловы съехал, позавчера еще. Ждем с часу на час… А тебя, почтенный, как звать-то будет? – продолжал голос из-за плеча сенной девки.
– Нас-то?.. Да все едино, как ни зовите… Наше дело маленькое… Мы, только обороняючи княжескую честь, надумали предостеречь от лиха… И все тут… А мы тоже с опричными едем: мишуков едем выискивать на потеху великому государю.
– Только будто за этим одним?
– Истинно так, мы едем про мишуков, а набольшему-то в десятне опричной и другое, может, что велено запримечать – про то он знает… А предъявит прямо указы о мишуках да об веселых людях, чтобы нам их забирать да с собою везть в слободу к царю.
– Спасибо, голубчик, за раченье да за труд князя от лиха отвесть… Потом придешь – государь князь тебя пожалует, доведем до сведения… А теперя нет их никого, подлинно…
Дверь захлопнулась – и на половину, довольный внушением своим, ловкий политик переехал на гнедке своем по мосту в Софийский детинец. Заехав за собор Софийский, ватажник легко отыскал выход из приказной избы и юркнул в сенцы, где двое подьячих перебранивались из-за неровного будто бы выделенья одному из них части поминка, оставленного на всю братию.
– Подавиться бы тебе, Евсей, да и Андрюхе-разбойнику моими тремя алтынами… На саван вам троим с Семеном Брыластым мои денежки!.. Может, как околевать станете, недостача будет, думалось вам, так по алтыну на рыло и прихватили… Давитесь, черти!
– Уймешься ли ты, пропасть ненасытная?.. – утешал Евсей, более сдержанный подьячий с приписью[7] расходившегося сребролюбца. – Коли бы счет ведал, смекнул бы, что больше тебе не полагается… А не умеешь считать – и лаешься не к месту… Туда же – обочли! Ну, черт ли тебя нищего, лешего станет обсчитывать алтынами?.. И рубли Андрею Игнатьичу не невидальщина, не токмо алтыны…
– Полно вам лаяться!.. – крикнул, перебивая речь, подходивший ватажник. – Со слободы от царя гроза на вашу приказную братью наслана… Десятня опричная сюда нагрянула ваши счеты проверять… Лучше помиритесь да стой как один человек… Знай не кайтесь – что ни спросит; а заушит кого – скакните все в окошко да кричите: «Разбой!» Самое лучшее будет, коли так сделаете… Будет добиваться, где дьяка найти, опять же не показывай да помалчивай… А проговорится кто – первому попадет кнут, а потом – петля за благодарность… А на нет – суда нет! Смотрите же – учу вас, как лихо избыть… Слушайте да всем передайте, и дьяку его милости то ж…
– Да ты-то кто? – спросил вышедший в сени под конец уже речи третий подьячий, заправлявший по воеводской избе.
– Я-то, слышь, сам же с опричными приехал… Послали меня с опричнины же нáбольшие, князя воеводы вашего приятели да приказного люда оберегатели… Чтобы поунять безобразия нашего теперешнего нáбольшего, что с нами сюда приехал.
– И правда это самое? – полуубежденный уже, спросил подьячий. – Опричные приехали и лютый подлинно, нáбольшой-от?..
– Да все истина, сам, милый ты человек, узнаешь теперя же… Гляньте на Софийский мост – увидите: едет десятня целая с помелами да с собачьими мордами…
Подьячие пустились к собору и, минут через десять воротясь, подтвердили, что подлинно сами своими глазами видели опричников и народу – народу бежит видимо-невидимо по мосту.
– Спасибо же тебе, дружок, за предупрежденье на благо нас, грешных!.. Не забудем услуги твоей… А поступать коли так надо – оно, пожалуй что, и лучше молчать, а бить коли примется – бежать да кричать… Истинно премудро… Исполать тебе!.. Побежим, и крику на целый город хватит…
У ватажника отлегло от сердца. Он теперь надеялся, что последует все точно так, как ему казалось надежнее, чтобы окружить Субботу сетью улик и вывести его в то же время из себя не на одном, так на другом, а не попасться нельзя!
И сам, как правый, поехал навстречу продолжавшим путь опричникам.
– Все разузнал? – спросил его поспешно вполголоса Суббота, выдвинувшись несколько вперед.
– Все. Только, должно быть, ухо держит востро: молчок… В одно слово либо немыми и глухими прикинутся либо булькают: «Знать не знаем!»
– Где же воевода живет?
– У себя, да только нет его ноне в городе… Отъехал на ловище звериное… Да тебе вольготнее еще будет, Суббота Амплеич, без него с ворогами приказными разделаться. Сам господин… Своя рука – владыка!
На челе Субботы легла тяжелая дума. Глаза его горели, в горле сохло, в ушах звенело, и в глазах красные круги заходили. В груди тяжелый гнев вставал как буря, медленно накопляясь, но все растя и застилая мраком страсти последние проблески света самосознания. Возможность мщения опьянила уже совсем рассудок, когда, съехав с Софийского моста и въезжая в детинец, Суббота, тяжело дыша, весь пламенный, едва владея собой, спросил отрывисто ватажника:
– Где же дьяки живут?.. Веди меня к дьяку-ворогу.
– Вот изба дьячья – налево крылечко. Пройдешь палату, где подьячие сидят, дьяк – дальше. Один…
– Держи медведей наготове! – сходя с коня, уже бледный, жестко приказал Суббота ватажнику. – Крикну: «Сюда!» – и веди самого злющего, отпустив намордник… Понимаешь?
– Еще бы… Тотчас!
И вожак пошел к своему приотставшему обозу; опричники спешились и стали перед входом в дьячыо, а сам Суббота вошел в избу.
Отворив дверь и видя незнакомое лицо моложавого дельца, Суббота остановился на пороге, меряя глазами софийского дьяка, погруженного в свое занятие.
Звук отворившейся двери, впрочем, хотя и не вдруг, заставил Данилу Микулича поднять глаза от бумаги. На ней же, настрочив отписку, вывел он кудрявую подпись: «Микулин сын Бортенев». Глаза дельца встретились с гневными взглядами опричника, на которого незнакомые черты и спокойствие уже навели охлаждающее пыл смятение. Слова дельца: «Кого требуется, меня, што ли?» – окончательно обезоружили Субботу, и он уже нерешительно спросил:
– Дьяк тут, говорили, был, как его звали-то, бишь… Суетой, никак?..
– Суета был дьяком у воеводы, да раньше меня еще… А я софийский дьяк… Данилой прозываюсь, Бортенева сын, Микулой батьку звали… Коли я требуюсь, готов ответ давать.
– Так Суета, говоришь, башку, што ль, сломил аль еще где ни на есть здесь, в городе?
– Не могу сказать, жив ли и где теперя… У меня, братец ты мой, свое дело.
– Уж будто не знаешь, коли в городе ворог?.. Своя братья приказные ведь вы… Чай, и хлеб-соль водите, хоша бы Суету и отставили? – продолжал, упорно стараясь узнать, опричник.
– Верь Господу Богу, не знаю… Знал бы – почему не сказать?.. Не отвалился бы язык, коли лишний раз поворотишь… Да в том дело, что сказать не знаю что… Раньше меня, говорю, был тот самый Суета во дьяках… Видывал и его, не хочу лгать, из себя тучный человек, жиденькая бороденка, плут заведомый…
– Он, подлинно он… Таков был, – повторял, оживляясь, снова Суббота. – Да мне верно баяли, что дьяк-от женился: еще у мого ворога, у Нечая Коптева, дочушку взял… Глашу…
– На Глафире Коптевой женат я, а не Суета, – спокойно ответил, снова принявшись писать, Данила.
Не думал он да, не глядя на допросчика, и не мог подметить особого оживления в лице опричника, допытавшегося про женитьбу дьячью. Оживление это при словах Данилы мгновенно сменилось мертвенной бледностью на лице Субботы, не вдруг получившего дар слова при неожиданном открытии. Страсть забушевала в груди молодого человека при виде похитителя, как он думал, его счастья в жизни.
– А, – произнес Осорьин таким голосом, в котором слышались и мука, и гнев, доведенный до бешенства, и бессилие воли, сознающей непоправимость зла и нескончаемость страданий.
Нервная дрожь забила теперь яростного Субботу, глаза налились кровью. Не владея собой, подскочил он к столу, за которым помещался Данила, при странном звуке возгласа уже невольно попятившийся, глядя на пришельца, мгновенно преобразовавшегося во врага его.
– Так это ты? – почти рычал опричник. – А подумал ли ты, молодец, что за себя и я могу постоять, не даром погибая?
– Да ты кто таков? – робко спросил Данила исступленного.
– Я?! Суббота, Осорьиным прозывался, покуда не украл ты у меня невесты, Глаши Коптевой, а теперь я Осетром слыву в опричниках… А в опричнину пошел я, чтобы душу отвести, отомстить за свою муку, тебе первому, воровски отнявшему мое счастье.
– Мстить мне не довелось бы тебе, молодец, коли ты способен рассудить, что я тут ни при чем, кажись!.. – грустно и медленно, словно раздумывая, отвечал спокойный Данила.
– Кому же доведется, по-твоему, мстить за мое несчастье, коли не мне? И на ком же сорвать боль сердечную, как не на вороге? Ведь ты, не кто другой, стал поперек дороги мне…
– Не становился я поперек дороги ни тебе, ни кому, а тебя в первый раз вижу… Знал я верно, что Суббота «выбыл», – про себя припоминая прошлые обстоятельства, говорил Данила. – Не я, другого бы сосватал Нечай; за кого бы выдал дочь, тот бы и зять ему был, как я же… Она не перечила, полюбила меня… я счастлив и не боюсь угроз.
– Счастлив ты, говоришь… Этого еще недоставало! Да ты лжешь! Глаша не могла меня променять… Ты обманом да силком похитил мое счастье… Как же не мстить мне тебе, вору заведомому? Кто тебе сказал, что я «выбыл», как ты сам признаешься?
– «Выбыл», точно. Так написано в десятном списке. Просила меня Глафира справиться. Я и ответил, что нашел в списке… Не отпираюсь.
– Спасибо, хоть вор, да честный человек!.. Перед смертью хоть раскаянье приносишь… Я тебя и заставлю самого взаправду «выбыть» да и женюсь на Глаше… И больше зла на тебя на сердце не подержу… Молись же в последний раз! – закончил яростно Суббота, хлопнув дверью и оставив Данилу протирать глаза ото всего им внезапно услышанного.
«Что такое все это?.. Ужели впрямь мертвецы днем стали являться? Грежу я аль совсем сплю?» – про себя говорил, хватаясь за голову, Бортенев, с исчезновением Субботы окончательно поставленный в невозможность убедиться, что угрозы, допрос и объяснение подлинно были. Незастывшие чернила и правильность написанного во время этого «видения» оставались для дельца доказательствами бодрствования с его стороны при посещении загробного жильца, каким представлял себе честный Бортенев Субботу.
Вдруг крики подьячих, раздавшиеся в передней избе, и чьи-то тяжелые шаги поразили слух не пришедшего еще в себя дьяка. Дверь стремительно распахнулась из подьяческой, и на пороге показался Суббота, таща на цепи медведя. Косматый гость был без намордника. По крику бледного опричника зверь встал на дыбы и с ревом подступил к оторопелому Даниле.
– Ну-тко, храбрый лгун, ловец чужих невест, отведай, каково обняться с Михайлом Иванычем… Я не хочу об тебя и рук своих марать!.. – язвительно смеясь, кричал яростный Суббота, подталкивая медведя, добравшегося до жертвы.
Данила, стоя у стола своего, только протянул бессознательно руки, как будто эта слабая преграда значила что-нибудь против когтей сильного зверя.
Вот он облапил дьяка, сгреб его и повалил, принимаясь ломать.
– Господи, прости мои прегрешения!.. – задыхаясь от приступа крови к сердцу, шептал страдалец, падая.
Суббота затрепетал при падении жертвы. Вне себя выскочил он из дьячьей и, толкнув ватажника, скороговоркой произнес:
– Оттащи медведя, довольно, попугали!
Старик, в расчеты которого входило спасение дьяка, – чтобы иметь налицо свидетеля, – цыкнул на мишука, но не мог оттащить его от жертвы, всадил в сердце зверю нож, проткнув насквозь бок медведя. Зверь тяжко осел, не дохнув. При помощи двух поводырей убитого стащили с бесчувственного Данилы, истекавшего кровью и бывшего уже в беспамятстве.
Пока хлопотал над перевязками ватажник, подошел дворецкий, посланный владыкой осведомиться о случившемся со строителем Деревяницкого монастыря.
– Отцы мои, ухороните от изверга опричнова господина дьяка где ни на есть, а там, даст бог, выпользуем… Кажись, зверь косточек не сломал… Лопатку левую сдвинул с места, да я вправил… Рудою[8] только истек, сердешный… Ваше дело главное – ухоронить подальше да никого не пускать… Ворог авось и не пронюхает…
– Ко мне можно на Деревяницу будет спровадить, сенца побольше заложим на телегу, довезем надежно, – отозвался на слова ватажника строитель этой обители. – У нас же теперя живет на покое дивный старец Герасим, истый чудодей, врач.
– Возьми, отче Аполлинарие, возьми, ухорони нашего мученика, – стал просить дворецкий, – за грехи наши, знать, пострадал… Христолюбец был на деле своем раб Божий Даниил, да подаст ему Господь Бог исцеление, им же сподобляше мученик своих! Правды ради и сей пострадал не заслужив, ниже наветов не слышавше злыих человек… Яко ангел Божий живяше… Таковым испытания даются, да просветится свет Христов яве… Владыка во одолжение примет труд ваш, отче Аполлинарие… Поспешу успокоить нашего любвеобильного пастыря, – заключил он, удаляясь.
Пока привели лошадей, да уложили в телегу на соломку, прикрыв ее сенцом, бесчувственного страдальца, да навалили немного сена на болящего, для тепла и утайки в случае встречи с опричными, – наступили сумерки. Два молодых сильных послушника пошли подле телеги, придерживая ее при крутых поворотах, чтобы меньше встряхивать болящего. Благодаря такой бережной возке перевязки все оказались на местах своих, когда глубокой ночью разбудили старца Герасима и привели осмотреть страдальца.
Забыв усталость и немощи, целитель Герасим (при котором находился и его верный брат-помощник) пришел и, долго осматривая раны, одобрительным кивком разумной головы заверил, что «исцелятся язвины Божией милостью».
IX Поддержка и отвержение
Увоз и все предшествовавшие действия ватажника покрыты были тайной от мстителя Субботы, с падением жертвы между тем переменившего мысли о мщении. Удовлетворив жажду отплаты пролитием крови врага, он почувствовал в душе вовсе не мир и не забвение минутное своей боли, неразлучное с достижением горячо желаемого. Напротив, уверение Данилы, что в союзе с Глашей нашел он счастье, в мыслях Субботы получало другой, еще более ненавистный смысл и заставляло мучиться сердце, настроенное было к уверенности в возможности для него счастья с удалением от милой навязанного ей супруга.
«Нашла с ним счастье, значит, я не нужен. Напрасно проливал кровь человека, лично мне неизвестного, может быть, и хорошего? – являлась мысль, уничтожавшая все надежды, недавно еще радовавшие сердце. – Стоя или не стоя смерти теперь, если, однако, умер или умрет он, она – свободная, вдова, может забыть мужа, признав меня и вспомнив нашу любовь взаимную? – вставал еще вопрос, не лишенный прелести в верующем Субботе. Но рядом с этим являлась новая тяжелая мысль: – Я опричник!.. Мне может быть она только любовницей – не женой». Ответ на вопрос: согласится ли? – бросал в холодный пот начинавшего воскресать духом.
В день расправы Субботы с Данилой Нечай был в городе. Поразило его больше всего явление Субботы. Но кто бы мог подумать: сожаление о зяте – под напором мгновенно представившихся расчетов – совсем не оказалось у кулака. С той же спешкой, с которой он разрушил счастье Субботы и Глаши, ему пришло теперь на ум поправить непоправимый промах свой. И, недолго думая, он помчался искать Субботу. Найти же опричника было так легко благодаря возбужденному ужасу и толку в городе.
Насытив месть свою, Суббота, как мы уже знаем, чувствовал себя не только не удовлетворенным, но даже страшно мучился при мысли о зле, им содеянном, когда цель если не дальше, то и не делалась ближе по совершении спороспешной расправы. Спокойствие Данилы при угрозах и искреннее признание Субботе казались теперь подлинными. Они усиливали беспокойство духа. Сомнение, в первую минуту сильно окрепшее было, что любовью Глаши муж хвалился только после признания его оправданий, постепенно исчезло. Напротив, стала представляться естественной привязанность Глаши к мужу. И по мере того как росло и развивалось это предположение, Суббота понимал собственную ничтожность для чувства Глаши, впадая в большое отчаяние. Перед мыслями страждущего сердцем проносились теперь все грустные эпизоды прошлого: связь с Таней, ее развязка, горечь перенесенного в далекой ссылке и та минута, когда весть, что Глаша замужем, поразила его сердце самой мучительной болью – от потери надежды на счастье. В ту самую минуту, когда эта мысль заставляла невольно трепетать Субботу, не проявлявшего нисколько боязни при виде смерти, видит он входящего к себе так рязвязно Нечая Коптева – первую причину всех своих бед. Суббота было вскочил, но волнение лишило его на минуту дара слова. Один только взгляд, способный возбудить трепет в самом отважном, должен был дать знать Нечаю, как приятен теперешний его приход. Шестодел не мог не заметить силы и значения этого взгляда, но, не слыша грома упреков, к которым он приготовился, Нечай бесстыдно улыбался, подходя к Субботе.
– Здравствуй, Гаврила Захарыч, ты такой крутой, как и был, – начал он как ни в чем не бывало. – Да добро, не мне с тебя взыскивать, что Данилу уходил… Глаша вдовой твоя же будет, я поперечки не сделаю. Мой норов такой, суженого конем не объедешь. Коли нашелся да сердце не охолодело, – смекаем, братец, при охлаждении не отдал бы мужика медведю ломать, – люба, значит… Ну и владей ей, у меня уж на тебя давно гнев остыл… Вольно ж тебе было пропадать!
Как громом поражало каждое слово Нечая впечатлительного Субботу. Попадись он ему при въезде в Новагород вместо Данилы, сломал бы медведь Нечая Севастьяныча. А теперь, когда пыл прошел да льстивый язык кулака точил настолько заманчивые лясы, Суббота легко поддался искушению. Он готов был даже поверить, что все может состояться так, как расписывает Нечай. Поэтому, разумеется, бессовестный лгун мгновенно представился чуть не благодетелем, выражение гнева во взоре Субботы сменилось приязнью к вестнику радости. Да и каким же другим вестником мог представиться убаюкиватель сладкими обещаниями, сулившими возвратить все, чего уже Суббота не мог считать своим? Этот блеск радости, к несчастью, мелькнул только на минуту.
– Что ты говоришь, Нечай Савастьяныч? – с сомнением в голосе проговорил Суббота. – Если бы я и подумал, что все это сбудется, то как на это посмотрят другие? Глаша, например? Дьяк, муж ее, вывел меня из терпения тем, что начал хвалиться еще ее любовью к себе.
– Всякая жена говорит, что души не чает в муже, а помри он, только бы просватался, выйдет за другого не раздумывая. И опять станет уверять, что нового мужа любит больше старого, а не только ваши дела с Глашей. Поперечку сделать разве вздумает отец твой, а не мы с Февроньей.
– Да где отец? Ты бы спросил прежде.
– Я не знаю, в Москве, известно, коли по делам на ярмарки куда не уехал.
– Скажи, однако, пожалуйста, Нечай Савастьяныч, как же так случилось, что Глаша за дьяка-то вышла, принудили вы ее?
– Нисколько не принуждали, она к этому самому Даниле привязалась с того, как он ей выправился, что тебя в живых нет. Теперь, как вижу, покривил совестью, должно быть, коли так говорил, известно – дьяк! Какая у них совесть? – молвил Нечай заискивающим голосом.
– Ну нет, этот, кажись, из честных был. Он прямо мне сказал, не потаил, что так в списке нашел будто. Занесено, вишь, «выбыл» перед именем моим. И не трусил и не упрашивал, когда я зверя на него вел… Не стань он поперек дороги из-за Глаши, за такого прямого человека душу бы отдал…
Признание Субботой и во враге прекрасных качеств души на Нечая подействовало далеко не приятно, и злое сердчишко его, уязвленное похвалой, казалось бы, близкого ему человека, возбуждало в кулаке желание очернить светлую личность Данилы. Затронутый за живое, Коптев вдруг озадачил Субботу:
– А знаешь, коли правду-то матку молвить: хваленый-от Данила нас с женой словно обошел льстивым языком своим!.. Да и дочушку нашу… Мастер он золотые горы сулить, только не спрашивай про выполнение. Такая ли она у нас была, как за Данилой-то живучи. Может, Господь Бог сам руку твою направил его покарать за неправду да за притеснения.
– Что ты говоришь, Нечай Савастьяныч, про чье притеснение и кому? – выговорил, ушам своим не веря, Суббота.
– Про Данилино, известно, про зятюшки нахваленного моего – жене.
– Так, по-твоему, Глаша не слишком станет убиваться о потере? – задал вопрос Суббота.
– При тебе-то? Что ей старое поминать, коли прослышит, что жив, и не о такой потере горевать нече. Да вот я побегу все разузнаю и тебе по порядку передам.
Расцеловался и исчез, бросив Субботу в море мечтаний, без сомнения усиливших в нем уверенность всего лучшего.
Приход воеводы, по внушению ватажника, на время разорвал сети противоречивых мыслей, возникавших в уме Субботы. Теперь прикрытие действий самоуправства меньше всего занимало мысль расходившегося опричника.
– Что ты, озорник, разбойничать явился в нашем городе?.. – вдруг грянул голос воеводы, думавшего произвести выгодное впечатление и склонить на заключение сделки царского посланца.
– Ты-то кто такой? – очень спокойно в свою очередь спросил допросчика опричник.
– Я? Наместник государев здесь и пришел узнать, что ты творишь на моем воеводстве… – с меньшей запальчивостью попробовал отвечать, прикрывшись напускным величием, воевода.
– Напрасно трудился теперь прийти… Я уж отписал, что тебя нет и сыскать не могли, говорят, твою милость, когда нужда нам была в тебе по государеву указу!.. – не моргнув глазом и не поднимая головы дал ответ Суббота.
– Не к чему было спешно писать. Я на то сам отпишу да прибавлю, как ты травлю затеял в Софийском приказе.
– Пиши, пожалуй, што знаешь… Я тебе не сказываю, что сам буду делать… Прощай же, боярин, увидимся, когда ответ тебе передам на свое донесенье.
– Так ты и впрямь враждовать хочешь? – теряя самоуверенность, но не уходя, вдруг ласково обратился воевода. – Мы совсем не такие люди, чтобы вам, опричным, с нами, государевыми же слугами, перекоры затевать… Я только тебе дружески пришел посоветовать, как дело повернуть. Штобы и помину не было про травлю… – окончил заискивающим уже голосом наместник.
– Друзьям я – друг, ворогам – враг! Коли правду знать хочешь, я маху дал: вместо одного виноватого другому бесчестье нанес…
– На невиноватого?! Люблю за правду! – залившись дружеским смехом, сказал развеселенный воевода. – Да нам, государевым людям, из-за дьяка, да еще архиерейского, не след и язык чесать напрасно. Велико дело – зло сорвал на смерде, хоть и впрямь невинном?! Ну, зачем ему теперешний ущерб за будущие просчеты да проступки… И вся недолга! Едем ко мне, как к хозяину, испить одну-другую стопку медку стоялого. Коли друг, я такой человек – стою горой за своего… не выдаю чужим. Так аль нет?
И он протянул руку Субботе. Тот хотя медленно, но вполне дружески опустил десницу свою в воеводскую.
Ватажник с недовольной вытянутой рожей проводил глазами выходившего воеводу, относившегося к предмету его дурно скрываемой ненависти совсем не так, как он, казалось, и верно рассчитывал.
Воевода, объяснившийся с виновником травли, был теперь, что называется, в ударе и, считая Субботу уже для себя неопасным, а, напротив, по закону справедливого возмездия сознающим выгоду жить с ним, воеводой, в дружбе, – привез нового знакомого к купчихе – в обыкновенное свое местопребывание. Покуда же воевода ездил, подруга его досугов уже успела получить верные сведения о всем происходившем: о перепуге подьячих, выбросившихся из окна от медведя, и о состоянии затравленного зверем Бортенева. Слова ватажника, не находившего смертельных ран на теле истерзанного зверем, тоже получили полную убедительность в устах, передававших их. Так что угощенный на славу хозяином и хозяйкой гостеприимных хором близ Знаменья Суббота за ужином узнал, что дьяк увезен на Деревяницу и владыка не велел никого лишних людей пускать в монастырь до выздоровления страдальца.
– Я завтра сам туда поеду, – отозвался на это сообщение Суббота.
– Едем вместе, – порешил воевода.
– Едем, – согласился гость, прибавив сокровенную мысль, со дна выпитых стоп поднявшуюся в разогретом мозгу его: «Коли безнадежен – не воротишь!.. А живым живое думается, навестить было Глашу».
Купчиха прочитала в глазах гостя причину этого посещения и нашла, что, устроив свидание опричника с ожидаемой вдовой, может еще более укрепить путы, в которых будет держать воевода нового знакомого, создав в лице его поддержку себе в опричнине.
Несчастной Глаше купчиха рассказала ночью, хотя и не вполне, о горе, разразившемся над ней и семьей. Из сообщенных известий поняла бедняжка, однако, что больной Данила находится в Деревяницкой обители, и ранним утром уже была там. У самой цели встретилось непредвиденное препятствие. Как ни умоляла она, называя себя женой Данилы Бортенева, ее ни за что не хотели впустить в монастырь, отказывая в свидании с мужем.
В слезах, почти теряя силы под тяжестью горя и боли сердца, Глаша со свекровью сидели, упорно добиваясь открытия запертых для них ворот обители, не думая уходить или примириться с мыслью не видеть предмета своей печали и душевного страдания.
На минуту польстила несчастным надежда, когда ворота отворились, чтобы впустить воеводу с кем-то, должно быть, из важных, судя по роскошной одежде и общему почету.
Чета скорбных женщин уже проскользнула было в отворенные ворота, когда, несмотря на подходящего воеводу, привратник схватил смелых нарушительниц и стал их тянуть назад, вполголоса повторяя:
– Нельзя, нельзя!
– Жены и матери никто не вправе остановить… Мы только посмотрим на Данилушку одним глазком, – всхлипывая, голосила мать.
Воевода с Субботою молча переглянулись.
– Пустите прежде старуху, потом ее!.. – приказал воевода, и Глаша невольно остановилась, пропуская вперед себя свекровь, исчезнувшую за углом.
К плачущей подошел спутник воеводы и знакомым голосом назвал ее по имени.
– Суббота так говорил, да мертвые не встают! – отозвалась Глаша, в глазах которой блестели слезы, а в груди возникло трудно передаваемое ощущение испуга, смешанного с ожиданием скорее радости, чем печали.
– Я точно Суббота Осорьин и не умирал еще, поэтому не считаю себя чужим Глаше… Муж твой безнадежен, говорят… Что ты сделаешь, овдовевши?..
– Не знаю, как понять эти слова… Если ты Суббота подлинно, пусти ты меня к Даниле моему, к свету моему ясному… Что с ним? Скажи мне всю правду.
– Он за обман, что назвал меня мертвецом и склонил тебя выйти за себя замуж, отдан мной медведю… Умрет с чистым покаянием – и я не помяну тебе измены…
– Так это твое злодейство сгубило Данилу? – вскрикнула Глаша, засверкав глазами на бледном, без кровинки, лице. – Чего же ты от меня хочешь, изверг? Как ты можешь брать меня за руки? На тебе кровь моего друга, отца моих детей! Будь ты проклят!..
И, как подкошенная серпом трава, Глаша упала без чувств.
В Ракове Февронье Минаевне забот и хлопот счету нет: увезена к ней Глаша и с детьми. На беду, прибавился еще новорожденный. Вот уже не на радость показался на свет божий! Доля сироты, скорее всего, будет уделом этого младенца, а как знать, теряя отца, не потерять бы и матери. Больно худа уж и больше в беспамятстве остается Глаша. Об отце получают известия тоже неутешительные, на выздоровление его никто и не рассчитывает. Она другое дело, хотя переломило ее сердечное горе, ставя вверх дном предположение родителя. А он было порешил при гибели зятя выгоднейшим образом извернуться: и дела свои поправить, и, чего доброго, выше полезть при зяте, отличенном царской милостию. После разговора с Субботой Нечай прилетел к жене такой радостный, каким его не видали с золотых дней дружбы с Удачей.
– Говори слава богу, Февронья, все воротил!
– Да что такое случилось?
– Суббота нашелся и зять нам будет опять! Я уж все обделал. Про прошлое молчок!
– Да ты, видно, Нечай с ума сбрендил совсем? – выпялив на супруга свои умные глаза и считая его рехнувшимся, отозвалась Февронья Минаевна. – Как будет зятем Суббота, когда зять есть у нас Данила Микулич?
– Данилу медведь задрал, почитай, совсем, дышит ли еще; а Суббота от Глаши не прочь!..
– Ну, так и есть рехнулся, вишь, несет околесицу. – И засмеялась Февронья горьким смехом, проявляющим боль сердечную. – Давно ли с тобой сделалось?
– Что сделалось? Я всю правду говорю! Как я рехнулся? С чего ты это надумала? Говорю истинно. Данилу медведь задрал, а Суббота вправду нашелся – в Новагороде теперь. У царя в почете он; Осетром прозывается. Я сам с ним говорил. Не злится нисколько.
Февронья Минаевна посматривает с удивлением и покачивает головой, повторяя:
– Вижу, вижу, знаю, знаю, ах ты сердечный, давно ли ты так?
– Да что? Рехнулась-то, видно, ты, а не я!
– Коли ты не рехнулся, что ж врешь, что Данилу нашего медведь задрал? Медведи в лесу, а он из города не выходит, из приказа своего! Откуда медведь-то взялся в приказе?
– Суббота привел да пустил, зачем на Глаше женился, понимаешь?
Февронья Минаевна едва удержалась на ногах при этой вести. Ее прошибли слезы.
– Бессовестный ты человек! Чего тут слава богу говорить при дочернем несчастье!
– Да как же не слава богу? Суббота будет не Даниле чета, и с Удачей, бог даст, помиримся! А Дятлово-то теперь ну какое славное, не Ракову нашему чета!
– Я не ожидала, что ты, Нечай, такой! Что для тебя счастье дочери плевка не стоит. Одни деньги копить только тебе и кажется самым нужным делом. Не забудь, что у Глаши сердце есть!
– Было и раньше, да забыла же Субботу, вышла за Данилу. А теперь легче будет: только старое вспомянуть.
Мать вздохнула. Ей совсем не настолько легкой для души Глаши казалась новая замена Данилы – Субботой.
– Да, говоришь, Данила еще не умер, а ты уж венчаешь с другим дочь? – вдруг спросила Февронья Минаевна мужа.
– Не умер. А коли умрет, все едино! – отозвался он с полнейшим хладнокровием и невозмутимым спокойствием, так что привел в трепет Февронью, еще не представлявшую в супруге своем настолько отталкивающего бесчувствия. Она была не в него. Судьба дочери трогала ее больше, чем собственное горе. Не рассуждая более с Нечаем, она поехала в город разузнать, как и что там делается с Глашей.
А приехав в город, нашла дочь в бреду при смерти. И увезла к себе ее с детьми.
То состояние, когда бедная Глаша находилась не то в забытьи, не то в бесчувствии, было, однако, не так тяжело, как положение начавшей выздоравливать.
Мысли бесцеремонного Нечая, сперва не одобряемые женой, при получении редких известий о безнадежном состоянии Данилы Микулича стали в уме Февроньи Минаевны получать вес больше и больше. А потом она и сама примирилась с мыслью, что, когда Данилы не будет, образ Субботы получит все свое обаяние для Глаши. Веря сама в непреложность своего гадания, Февронья Минаевна заговорила раз и с Глашей об этом, но была испугана внезапной переменой в больной, начинавшей выздоравливать. Она слушала сперва как будто неохотно. Но мало-помалу, не прерывая мать, начала рыдать. Рыдания постепенно усиливались и обратились в припадок. При этом рыдающая, казалось, ничего не понимала, но тем не менее испытывала тяжкие страдания, кончившиеся обмороком.
На другой раз упоминать о Субботе мать после этого не решилась и осталась убежденной, что если бы, по несчастью, судьба сулила Даниле Микуличу не поправиться – для Глаши и вдовы первый предмет ее увлечения не мог бы не только получить прежней цены, но даже и заставить ее не возбуждать к себе невольного ужаса. Так сильно восприняла она сердцем черное дело Субботы. Что месть пала на совершенно невинную жертву, она горячо верила и сама почувствовала к Субботе если не ненависть, то меньше прощаемое ощущение – презрение. Оно и инстинктивно внушается нам низостью души, коварно придумывающей злобное истязание, чтобы удовлетворить мелкому побуждению показать свою силу над беззащитным. Мы знаем, как ошибочно было такое заключение о Субботе. Не он ли, мгновенно очнувшись от ослепления жаждой мести, был причиной все же сохранения своей жертвы? Не пошли он ватажника вовремя, медведь бы убил дьяка, сделав жену его вдовой.
И как знать, если бы ведала Глаша, как мучится за вспышку своей мести Суббота и что он вынес раньше, пока созрела жажда мщения, – она, может, переменила бы свое одностороннее решение. Не должна ли бы была она сознаться, что не презрения, а сожаления достоин был страдалец, не знающий покоя с того времени, когда приказные устроили отцу его, казалось, верное разорение?
Всеисцеляющее время изменило бы, может быть, суждение Глаши о поступке Субботы, но последовавшая скоро страшная трагедия, как увидим мы потом, чуть не погубившая ее самую, заставила своей страшной действительностью забыть боль сердца.
Между тем Данила Микулич, после трех месяцев нахождения между жизнью и смертью, поднялся с одра, при выздоровлении испытав новое горе. Воротясь домой из Деревяниц, он не нашел жены и не знал, где искать ее среди картин общего ужаса, царившего в Новагороде в дни недуманного-негаданного разгрома, подготовленного двумя мошенниками.
X Пожар от искры
Ватажник был не в себе, увидав, как легко соскользнули все путы его с окрученного Субботы. Злость свою на неудачу он срывал на земских мужиках. Эти даровые работники никак не могли угодить на взыскательного указчика, ругавшегося самым язвительным образом и щипками да пинками награждавшего направо и налево, привязываясь ни к чему. Покорные не заявляли жалоб, не гонясь за лишним толчком и зная, что жалоба не примется или не получит хода, а злость обидчика зато может еще пуще разразиться. Ставили теперь на телеги покрышки, мазали или красили кузова и колеса да пригоняли сбрую на тройки. Весь обширный деловой двор государев в Калымажниках кипел народом, все отборными молодцами. Не таким бы деловым людям указывать дурню ватажнику да мудровать! Да что поделаешь с начальством: палку поставят – и ту слушайся! Качали кудрявыми головами на приказы самодура управителя, а делали, что велит он. А он еще ехиднее издевался над трудом да над потом людским, грозя, величаясь да отвешивая удары кнутовищем по спине и по плечам без разбору. А сам только покрякивал себе да чаще заливал глотку горячим вином, приносимым в ковше с кабака по наказу воеводскому без задержки.
И долго бы, может быть, еще, пожалуй, продолжал буйствовать ватажник, представляясь важным господином, если бы не привлек внимание его какой-то пришлый, который, стоя у ворот, принялся бить ему чуть не земные поклоны. Смотрел-смотрел ватажник на эти поклоны да встал и сам подошел к поклоннику. Видимо, польщенный униженным к себе обращеньем, поднял его и спросил ласково:
– Ко мне, что ли?
– К милости твоей, коли изволишь выслушать один на один.
– А здеся нельзя, что ль, высказывать тебе до меня нужду?
– Не приходится. Людно, да и помеху могут чинить.
– А до меня нужда? – еще переспросил ватажник в раздумье.
– До тебя, государь милостивый, до одного, ни до кого прочего, воистину.
– Ин быть по-твоему: коли ко мне – пойдем!
И, к полному удовольствию рабочих, ватажник исчез с пришлецом.
– Никак, с Петрухой, с Волынцем, окаянной-от наш провалился?.. – выговорил один рослый кузнец, заприметивший поклоны низкопоклонника еще раньше, чем ватажник обратил на него внимание.
– Какой такой Петруха еще выискался? – спрашивать стали другие колымажники. Они были очень довольны, что случай дает возможность расправить спины, согнутые с утра над спешной работой.
– Петруха-то кто?
– Ну да!
– Проходим один, премерзкий самый человечишка, воришка и ябедник… Его в ту седмицу шелепами били посадские старосты: с овцой словили…
– Вор вора и знает!.. – решили недовольные ватажником, услышав, кто такой Петруха.
Ватажник же составлял в это время очень лестное мнение о своем низкопоклонном просителе. Прежде всего, ум его, настроенный видеть все в черном свете, встрепенулся и пустился работать усиленно, найдя подспорье для кляузы. Называемый кузнецом Петрухой был человек на все руки, имевший сотни других прозваний. В каждом новом месте он иначе назывался – и только в Новагороде выдавал себя за Волынца. Под этим именем проделки его не сошли, однако, так легко, как в других местах. И то сказать, неудача здесь была следствием самых скверных обстоятельств: не было у него по приходе сюда ни шелега в мошне. Крайность эта заставила действовать очертя голову и не разбирая средств. Он и принялся воровать плохо лежащее, на первых порах наполнять кошель свой. Это ему удалось. Первые посещения слободок отдаленных дали ловкому Петрухе поживу, по тому времени немалую. Легко сказать, сорок алтын чистой выручки на базаре за некупленный товар! На сорок алтын приобрел изворотливый малый воз баранок с тележкой – и пустился в торговлю. Опять было повезло. К баранкам в качестве закуски стал возить Петруха винцо горячее – и уже считал рублишки чистоганом; да грех попутал: отказал ярыге в даровом угощенье. А тот бросился на воз да и ущупал вино. Крикнул: «Вор!» Народ сбежался. Воз отняли и самого повели в корчмную избу. Подьячий наедине попросил срывку на усмирение смуты людской. Петруха посулил овцу. Он видел у попа дня за два, в слободке одной на погосте овец пар десять, и больно ему полюбились эти самые овечки. Подьячий верное слово дал, что все успокоит за овечку.
– Робяткам, – говорит, – занятна будет ярочка!..
Петруху отпустил на свой страх. Молодец и шасть на погост. Овцы там, видит. Подобрался было к одной. Хвать – да как взвизгнет не своим голосом. Черт подсунул собаку, злющую-презлющую. Подметила она, должно быть, ворога да и насторожилась. Он за овцу, она – за мягкие места вцепилась, рвет да идти не дает. На крик народ сбежался: погост с селом вместе. Схватили и представили. Все плутни открыли, да и за корчемство тут же прикинули: отваляли шелепами на славу, так что неделю-другую валяться пришлось Петрухе. Обмогся, однако, крепок был ворог; пошел именем Христовым просить. Прогнали из Антоньева монастыря – тать, говорят, заведомый. Разобрала злость человека: дай, думает, какую ни на есть пакость учиню духовному чину! Стал ходить в ряды: плясать да песни играть смехотворные, ругательные на чернецов да на власти. Сперва алтын шесть дали купцы; зубоскалы попались, видно. Наутро попадись Петруха к старым мироедам. Те слушали-слушали да велели молодцам проводить в шею. Привязался Петруха к озорникам, ярыгу подхватил: за увечье стал просить в новагородском приказе. Вызвали со старостами обвиняемых. А те в оправданье брякнули, за что прогоняли. Тут уж старосты сами полезли к воеводе – просить озорника поучить почувствительнее. Воевода сдался: купчиха велела. Схватили доброго молодца да повели в колодничью. Он подобру-поздорову тягу дал от понятых да и попал на ватажника. Ему былую сказку рассказал про новгородское воровство. Все скопом, вишь, хотят крестное целование нарушить, передаться Жигимонту, польскому крулю, отбегая от милостивой царской десницы Богом венчанного государя и великого князя Ивана Васильевича. Ватажник понял, что его особу доносчик принимает за опричника Осетра, и не счел нужным указывать на ошибку, да сам, поддерживая еще уверенность в этом, охотно соизволил спрятать у себя открывателя важной тайны.
– Ужо все вы, вороги, запляшете у меня под плетью: и воевода, и скупяги купецкие люди, и ты, верхогляд-озорник мой самозваный, господин начальный! Как эту вяху державному поднесем: изменяет тебе, великому государю, весь Новагород, со воеводами, и со властями, и с посадскими людьми, и с торговыми… Все заодно, мол, стоять взялись и зарок положили – друг друга ни за что не выдавать. С умыслом молчать будут али в один голос кричать: «Знать не знаем!» И твой опричник Осетр с воеводой в согласии. Молчать обещал, чтоб покрыли его воровство, как он дьяка медведем задрал.
И весело стало так на душе у ватажника. Горящие глаза его издалека зарились на щедроты царские за донос. Да, чего доброго, перепадает немало и из животов казненных?.. Только бы поверили доносу-то нашему!
Внезапная мысль вдруг бросила в холод начавшего погружаться в самоуслаждение грядущими благами.
– А чем докажешь ты, что не выдумал этой измены всего города? – вдруг спросил ватажник доносчика.
И тот в свою очередь тоже почувствовал удар с такой стороны, откуда он всего меньше ожидал. А потому, не приготовившись, отвечал первое, что на ум пришло:
– Я первый в пытку пойду, что все подслушал и твердо запомнил.
– Да еще до пытки далеко! Не она утвердит решимость тебе поверить, а очевидные доказательства измены, на письме, к примеру…
– И так можно! На грамоте напишем и подадим.
– Мы подадим – все испортим! Нужно указать, что у них приговор спрятан, – и вынуть его при свидетелях, чтобы отпираться не могли.
– И так можно! Заложить здесь в потаенное место, какое ни на есть. Пришлют доследовать – и вынем перед всеми.
– Место выбрать тоже нужно умеючи. Чтобы святость да малое удобство всякому доступить были явной уликой на участников в деле.
– Знаешь, государь милостивый, мы напишем, и я руки приложу за всяких здешних набольших. Приговоры достать можно всякие разные от подьячих, на время, за поминок покрупнее. С подлинника противень[9] я мастак снять так, что не отличить самому свое письмо от подделки. Грамоту свою мы разукрасим всяческими руками да и заложим за ризу иконы Знаменья, в соборе.
Ватажник привскочил, услышав о возможности подобного дела. Разумеется, в глазах московских сановников, людей новых, жадных до корысти и малоразборчивых на средства, это представляло всю внешнюю подлинность и вероятность, нелегко разбиваемую сомнениями рассудка, незнакомого с приемом и целью выдумки. Раз уже, давно, впрочем, чуть не за сто лет, клеветники новгородские перед Иваном III употребляли в дело подобное же доказательство мнимой измены ему отчины Святой Софии. Проходимец Петруха, всего зная понемножку, в летописце нашел подтверждение такого случая. Гнев государя тогда разразился больше над духовенством, в руках которого было заведование храмами, и, следовательно, нахождение в церкви грамоты, подтверждающей донос, могло быть только при участии духовных властей в общем воровском деле. Отомстить духовным, к которым принадлежали чернецы, было приятно одинаково и ватажнику, терпевшему в своем промысле в былые времена неудачи и привязки от светской власти по жалобам духовной. Адский план Петрухи ему самому, без сомнения, нравился еще более и во всех частях. Заметив полное удовольствие на лице ватажника, он в душе считал за собой победу. О средствах привести в исполнение придуманное он меньше всего заботился, привыкнув из хода обстоятельств почерпать источники, ниболее пригодные и всего ближе ведущие к цели. В ожидании верного возврата с лихвой ватажник выделял алтыны на подкуп нужных людей, подьячих, за чарку нанесших Петрухе из разных мест приговоры с рукоприкладствами всех значительных лиц. Противни, сквозь масленую бумагу, посредством припорошки сажицей, проходим Волынец выполнил безукоризненно. Грамоту в черняке читали и выправляли писец и ватажник много раз и обделали дельце, что называется, чисто, так что комар носу не подточит: не возникало сомнения в подлинности приговора о предании Новагорода в польские руки. Написав, проходимец забегал с десяток раз в собор Софийский, где на ту пору золотили и красили средние тябла иконостаса.
Было близко к полудню, когда, прокравшись незаметно за леса и свешенные с них рогожи, Петруха дождался благоприятного случая запрятать, куда решено было, приготовленную им улику мнимого сговора не чаявших грозы горожан-новогородцев.
Последний десятник, соскочив с лесов, отправляясь обедать, долго прислушивался к шороху, производимому краем рогожи, при качанье от сквозного ветра задевавшей за лапоть Петрухи, стоявшего на перекладине. Полумрак, царствовавший в соборе, давал возможность усмотреть движение рогожи, но никак не отличить за нею порыжелый грязный лапоть. Причины шороха успокоили десятника – и он наконец ушел, щелкнув дверным замком и унося с собой ключ. В мертвой тиши, наедине, до возвращения с обеда рабочих, Волынец ловко вывернул целый ряд шпилек, придерживавших ризу на иконе Успенья Пречистые Богоматери, отогнул толстый лист золотой басмы и, вложив произведение своего пера, опять не торопясь заколотил тщательно все шпильки. Дело покончено – и он, сойдя с перекладины, улегся в притворе между двумя княжескими гробницами. Выждав до вечерни, он незаметно проскользнул к стенке, когда отправлялись службы, в сумерки, при полном мраке в соборе. Выйдя вместе с другими от вечерни, Волынец явился к ватажнику – и дружеская попойка покончила все хлопоты придуманного черного дела. Недаром на неделю, всеми неправдами, оттянул свое пребывание в Новагороде хитрый ватажник. Ему от Субботы каждый день доставалось за неизготовление обоза, когда из слободы слали отписки за отписками, наказы за наказами: везти не мешкая потеху великому государю.
Понимая сам необходимость наверстать потраченное время в городе, с выездом из волховской столицы ватажник пустил медвежью охоту на телегах рысью, и на третий день к вечеру золотые маковицы слободы Неволи, блеснув из чащи леса, переполнили радостью сердца изобретателей нового сговора. Суббота не оставлял обычной хмурости своей с памятного утра свидания с Глашей. Сердце его щемило. Во впалых глазах изредка только загорался зловещий огонек ярости; и необщительность его дошла до крайних пределов. Ехал он в постоянном забытьи – и на оклик сторожевого при въезде в слободу только махнул рукой, ничего не ответив. Если бы не собачья морда на шапке да не метла в тороках, не обошлась бы рассеянному даром эта его забывчивость порядка. К счастью, привоза мишуков ожидали с нетерпением, и перед отправлением ко сну Малюта уже донес державному, что «звери прибыли, надо думать, благополучно. Хворых и некошных не оказалось, а скоморохи прибраны умненько, и парни все на подбор. Сам-от набольшой, доносил мне подручный его, только в исступленьи якобы обретается».
– С чего бы? – в раздумье и сочувственно отозвался про себя Грозный. – Аль у нас, кого отличу я, тому и невзгода бывает?.. – сделал вдруг странный вопрос государь, устремив на докладчика свой ярый взгляд, от неожиданности которого словно смешался верный слуга, пробурчав сквозь зубы:
– Бывает!
– А мы хотим, чтобы исступленья малому не напускали ничем. На Покров хотим зрети сами его досужество… А коли в чем помешку усмотрим, доищемся виноватого – и горе ему и вам!!!
Обидность предположения, зная своего повелителя, у которого всякое объяснение только укореняло подозрение, Малюта не попытался дать заметить, и ни одна морщинка на его мясистом лице не дрогнула. Хотя силу удара и намеренность нанести его докладчик очень хорошо понял с первого же слова.
Наутро началась спешная работа очищения места перед царским теремом для невиданной потехи: пляски человеческой с мишуками. Крыльцо в палаты было двускатное, широкое, с обширной площадкой от спусков. К стенке его приделали наскоро место для кресла государева. Прямо перед ним на земле обведен был надолбами широкий круг для медвежьих плясок. Под крыльцом и местом царским набили стоек да яслей. Думали, потребоваться могут для справки и крюковые книги, по которым обучал певчий дьяк гудошников и накрачеев лады брать отменные. Все эти художники, подученные довольно, должны были отличиться на потехе и показать свое уменье великому государю, давно уже желавшему слышать мусикийское согласие, окромя столпового пения в храме. Всему звериному причту раздали на руки из кладовой новые кафтаны турские, обшитые золотыми нашивками так часто, что кармазинное сукно просвечивало узенькими полосами меж галунов, на руках и на груди; на спине же находились серебряные орлы с Георгием Победоносцем. Мишуки были тоже принаряжены: поперек под брюхо шли на красных ремнях нашитые бубенчики, ошейники с кольцами, сквозь которые продеты были ремни наборной серебряной сбруи, а на тяжелых лапах у зверей болтались серебряные колокольчики самого нежного звука.
Праздник Покрова удался на славу. Лето и осень в этом году были замечательно теплы – и легкая прохлада в воздухе к полудню стала меньше заметной при наступлении полного затишья. Обычный полуденный сон прервали в слободе на этот раз в два часа звоном колокола. Государь не замедлил выйти из палат и сесть на свое место. Зурны и накры грянули в лад – и звери, спущенные вожаками, пустились в пляс. Мгновение – и, махая шелковой золотошвейной ширинкой, выскочил в красном кафтане бледный Суббота, под усиленный гул зурн и гудков принявшись вертеться и заигрывать со зверьми. Вот он, оживляясь и приходя в дикое исступление, начинает крутить и повертывать зверей, рык которых, казалось, на него производил подстрекательное действие, умножая беззаветную отвагу. Движения в поднятой пыли зверей и подскоки человека, кружащихся в общей пляске, обратились затем в какое-то одуряющее наваждение, удерживая глаза зрителей прикованными к кругу, откуда раздавались дикие звуки и виднелось мельканье то красного, то бурых пятен. Зурны и накры дуют вперемежку, а из круга зверей раздается бросающий в дрожь свист – не то змеи ядовитой, не то соловья далекого, то усиливаясь, то дробясь и исчезая, как бы заглушаемый в пространстве или замирающий при биении сердца.
Время как бы остановилось. Оно казалось одной минутой и вместе целой вечностью от полноты ощущения, не пересказываемого словами. Удар колокола к вечерне был как бы громовым ударом, рассеявшим чары. Царь встал – и всё встрепенулось. Люди схватили зверей за поводья, и мановением державной десницы Грозный подозвал к себе Осетра.
– Исполать тебе, детинушка!.. Показал ты нам этакую хитрость-досужество, каких сроду люди не видывали, опричь твоего дела. Осетром прозвали мы тебя ради мощи да смелости, а теперь эту удаль к чему приравнять, недоумеваем. Признайся по совести, не знаешь ли ты какого слова заповедного, которому звери повинуются?.. Нет ли за душой твоей такого греха смертного, заклятья али наговора? Сдается нам, по бледности твоей, что недоброе что-нибудь да таишь ты на сердце? Ввиду настоящего твоего подвига мы тебе отпустим вину твою, коли чистосердечно исповедуешь нам зло, содеянное нам волею аль неволею…
Суббота, мрачный и сосредоточенный, стоял перед вопрошавшим царем не двигаясь, но и не шевеля губами, глазом не моргнув, глядя в очи державному спокойно и холодно.
– Так нет за тобой вины чародейской и никакой подобной ему? – еще раз менее торжественно повторил вопрос свой Грозный.
– Чар я не ведал и с чародейцами не важивался, а со зверями, надежа государь, плясывал… За воров лишен был когда счастья, обиду смертную не снеся, в пьянство ударился. И за ту мою вину, за пляски звериные, много годов без очереди служил тебе, великому государю, в острогах заокских, откуда меня ослобонил твой стольник государев, господин Яковлев. И вписал он меня в опричные, досмотрев во мне злость и вражду к людям, надо полагать. И, обиду свою желая выместить, искал я ворога…
– Я ни о чем другом не спрашиваю, а только насчет связи с нечистой силой, – спокойнее и приветливее перервал признание Субботы Грозный, ударив по плечу бравого плясуна и поздравив его своим стремянным, велел напенить ему чашу мальвазии. – Пей же за наше здоровье!.. Благодарю за потеху неслыханную… – Последнее слово произнес государь, окинув взглядом всех его окружавших, давая им понять, что досужество нового стремянного он, государь, ценить сумеет по достоинству.
Ватажник, с призывом Субботы, выдвинулся вперед звериной челяди, ожидая очереди после Осетра предстать пред царские очи; но, отпуская движением руки награжденного чашей и званием Осетра, Грозный стремительно оборотился и пошел в палаты, не взглянув больше в круг и на зверей с прислугой.
– Взаправду чародей, на себя одного око царское наводит, а черен аки ефиоп! – проговорил, не сдерживаясь, озлобленный ватажник.
– Чем же черен, мужичок, плясун-от ваш? – ласково и вкрадчиво спросил говорившего младший Басманов. – Ум хорошо, а два лучше. Ты, как я же, не возлюбляешь особенно выскочку?.. Приходи ко мне, потолкуем.
С медвежьих плясок прошли к вечерне. Служил ее обыкновенно духовник царский, протопоп Евстафий, с наружной чинностью, но довольно скоро.
Пока ватажник распоряжался отводом и установкой медведей по стойлам и клеткам, давая косматым скоморохам по ковшу горячего вина за труды, служба церковная была уже близка к концу. Управившись, опрометью прибежал ватажник на крыльцо к притвору перед церковью, из которой раздавались последние слова молитвы Василия Великого. Читал звучным голосом чередной брат-кромешник Алексей Данилыч Басманов: «…настоящий вечер, с приходящею нощию совершен, свят, мирен, безгрешен, безблазнен, безмечтанен и вси дни живота нашего…» Хор кромешников, перебивая чтеца, спешно отхватал «Честнейшую херувим», чуть слышно проговорил отпуст отец Евстафий, и шарканье многих ног по плитам невольно заставило ватажника втесниться в узкое пространство между краем распахнутой двери и уголком внешнего столба в притворе.
Чинно проходили парами кромешники, сверх кафтанов напялив на широкие плечи монашеские мантии.
Басманов приметил стоящего ватажника и кивком головы, проходя мимо, дал ему знак следовать сзади.
– Не прогневись, дружок, коли сегодня с тобой мне недолго придется калякать, – усаживая ватажника и придвигая к нему братину с романеей, вкрадчиво сказал приветливый Алексей Данилыч. Сам сел подле и, уставив свои слегка прищуренные глазки на плутовскую, осклабившуюся рожу ватажника, промолвил, не обращаясь к нему прямо: – После службы государь не больше часа внимает чтению от старчества, трапезует – и постельник будет уже в опочивальне, да держи ухо востро, чтобы одр был уготован совсем по нраву. Комья бы какие не беспокоили государский бочок, и в сголовье бы головка державного не тонула, да и зною бы, не токмо угару, бы не ощутить. Стало, нужно исподволь все распорядить. А как разоблачишь – растянешься на полавочник, жмурь бельмы, будто дремлешь, а сам смекай, неравно что потребуется… Глянул государь – а ты и подаешь… Так, дружок, как, бишь, звать-то тебя, не по мысли тебе ваш проходим-нáбольшой, как и мне, грешному?..
– Истинно, государь боярин, изверг этот самый, доложу твоей милости, все очи успевает отводить, с царя начиная…
– Наши не отведет… Насквозь видим, что за птица – сыч… Прости Господи согрешение! – Басманов набожно перекрестился, не обманув, впрочем, доку ватажника своим смирением. – Черное дело на душе у него, голову готов на плаху положить!
– Воистину, милостивец… Коли б ты знал да ведал, какое злодействие он учинил, проклятый, в Новагороде… Дьяка, слышь, софийского, медведем изломал и к воеводе подбился – сущий дьявол какой… Тот было напустился попервоначалу, а потом лучшие друзья стали. А воевода-то, доложу, сам вор отменный.
– Что?.. Как? Воевода? Князь-то Курлятев Митрий? Да ты с ума сбрел, никак… Мы с им хлеб-соль водим да поминки получаем почасту… Коли его так ценишь, так надо поглядеть, может, Осетр-от, коли Митьке в приятели пришелся, и не таков вовсе, чтобы ему вредить. Ты-то сам кто?
И Басманов, уже не владея собой, почти гневно мерил глазами ошеломленного клеветника.
Тот молчал, внутренне злясь на себя, что начал прямо, не испытав почвы, свои наветы на Субботу. Виноват тот был на самом деле в том только, что стоял поперек дороги грабителю, отданному ему в подчиненье. Басманов погрузился в глубокую думу. Углубление в нее мало-помалу разглаживало морщины на лбу над сдвинутыми бровями рассерженного царского любимца.
– Во имя Отца и Сына и Святого Духа… – раздался сиплый голос за дверьми.
– Аминь, – произнес неохотно Басманов, мгновенно скрыв остатки недавней бури, еще не улегшейся в душе его.
Вошел Малюта Скуратов и не церемонясь прямо повел допрос:
– Да у тебя свой же!.. – Одного взгляда ему достаточно было, чтобы понять, что ватажник чем-нибудь досадил Басманову. – Боярин, видно, лаской да почетом старается взыскать бедного, обойденного государской милостью? – вдруг молвил искусный допросчик, глядя разом на гостя и на хозяина.
– Я за делом было пришел к боярину, да его милость не любит правды-матки, коли коснется речь о присных ему, – нахально отрезал ватажник, желая насолить Басманову.
– Боярину не по душе, так мне говори про твое дело; я все готов выслушать: любо ли, не любо, а наша невестка все трескает… – проговорил, осклабясь и от того являясь еще более непривлекательным, Малюта.
– Мне не любы не слова о деле подлинно, а обношенья подчиненных людей, воевод царских, смердами неродовитыми, я принимаю за личную обиду и себе, и государевому правосудию…
– До Бога высоко, до царя далеко, боярин, а правосудие царское ведется теми же людьми, что и мы с тобой: воры заведомые; стало, чего обижаться, коли, греховным делом, и сбрехнет что не к месту усердный слуга?.. Не бойсь, друг, мне прямо говори все, что думаешь, мое дело выручать, потому что мне с руки. Я слушаю, бай же, складно аль нескладно, все едино, разжуем как-нибудь.
– Изволь видеть, государь боярин, в Новгороде воровство великое приготовляется, отступить хотят горожане и с воеводой со своим из-под воли великого государя за ляшские руки круля Жигимонта.
– Ты от меня это скрыл, – холодно и совсем оправясь отозвался Басманов.
– Как же так отступать-от хотят? – продолжал, словно не слыша слов Басманова, Малюта.
– Да весь Новгород, и с воеводой царским, и со владыкой, и со властями, и все старосты, н с мужиками выборными, огулом приговор написали и руки закрепили, чтобы им передаться Жигимонту-крулю, как удобь явится, а до того ни гугу… Всем молчок, знать, мол, не знаем и ведать не ведаем…
– Мудреное дело, паря, ты мне поведываешь – и я, братец, за Алексеем Данилычем вслед, в обиду приму твое бездельное над нами насмеятельство: видно, ты впрямь нас дурнями почитатешь, коли такую сказку поведываешь?.. Парнишку возьми безмозглого – и тот тебе не поверит, для чего такую притчу баешь. Новгород – не земский мужик, что Юрьева дня ждет, чтобы хвост показать помещику-кулаку, не то обидчику. Великий государь чествует и владыку и властей, жалует воевод своих, есть у них у всех доходы изрядные, и впредь от них никто не думает ничего отнять… Веру исповедуют нашу, православную… Чего же для к папежцу-то Жигимонту челом им ударить?.. Ну-кась, умник, молви нам премудрость свою, а то ум за разум заходит от речей твоих непутных.
– Не верьте, пожалуй… Покаетесь опосля, как хвостик покажет Москве да Литве передастся Новгород…
– Болтун, брат, ты безмозглый, хватил из братинки больше надлежащего, и лепечет язык сам ты не ведаешь что!.. – ввернул в свою очередь Басманов, сочувственно взглянув на Малюту.
А ватажник глазом не моргнув на своем стоит:
– Увидите!.. Спохватитесь, да поздно будет!
Басманов встал и медленно пошел вдоль комнаты своей, заложив руки за спину. Пройдя раза три, он остановился перед ватажником и, смотря ему в глаза, спросил:
– Кто же тебе поведал о предательстве Новгорода?
– Я вам не скажу кто, а государю сам представлю очевидца, при котором все сделалось, и он улику даст такую, что виноватые должны будут сознаться.
– Давай же твоего очевидца, я его расспрошу сам, а государю до расспроса доложить ни за что не решусь.
– Изволь, государь, ин быть по-твоему… Приведу с очей на очи.
– Веди скорее ко мне сюда!
Говоря эти слова, Малюта с ватажником вышли. Басманов остался сидеть, невольно поддавшись страху, когда в мыслях его встал непрошеный призрак царского подозрения, возбуждаемого легко всяким намеком на умолчание. Малюта был мастер играть на этом инструменте. Он уже явно вредил Басманову, давно перестав действовать с ним заодно.
«Надо предупредить державного на всякий случай!» – решил Алексей Данилович, идя на ночлег в опочивальню.
Суббота между тем, в один день с царской милостью, его не порадовавшей, получил неприятность со жгучею болью, заставившую облиться кровью сердце.
После чаши царской конюший немедленно нарядил нового стремянного к государевой опочивальне для выполнения приказаний, какие могут отдаваться.
Новые товарищи холодно встретили вступление в их среду найденного царскою милостью.
Присел Суббота на лавку и поднял волоковое окно, желая освежиться прохладой осеннего вечера. Устремив глаза во мрак, он мало-помалу начал различать предметы сперва неясно, а потом, освоившись с темью, более отчетливо. Вот он приметил суетливость у въезда в главные ворота, по сторонам которых, за будками, горели бочки, резко выделяя будки и стражников, окруживших какой-то поезд с вьюками, заводными лошадьми и прикрытием из полутора десятка стрельцов. Поезд этот остановили стражники вечера ради – и никак не позволяли въезжать на дворцовый двор. Поднялся шум.
– Поди, Суббота, узнай, что там! – приказал отрывисто, появившись в дверях внутреннего перехода, сам конюший.
Молча вышел новый стремянной и пошел к воротам. Воротился и рапортует:
– По царскому указу прибыл в слободу гонец кромский, везя спешно ханского посланца. Наказа же о пропуске, да еще ночью, не дано страже – та и не впускает прибывших.
– Пустить – пустим, нельзя. Ужо доложу: что прикажет государь. Возьми гонца и посланца хоть к себе и будь с ними до призову.
Стремянной буквально исполнил и это поручение.
Вошли гости в келью Осетра Субботы и расположились, сбросив лишнее бремя с себя.
Татарин уселся на коврике. Русский гонец, перекрестившись, сел за стол. При свете тонкой свечи из желтого воска гость и хозяин невольно вздрогнули, встретившись глазами.
– Дядя Истома, ты это?
– Никак, впрямь с того света, что ль, воротился, Суббота мой? – разом вскрикнули, узнав друг друга, дядя и племянник.
– На том свете не привелось еще быть, а, надо быть, скоро туда угожу, – мрачно отозвался Суббота. – Ты, дядя, как с татарином-от снюхался?
– С отцом твоим, не к ночи – ко дню будь помянут, в Крым нарядили нас, уже, никак, в-четвертые. Живали допрежь мы и обыркались… Все порядки знаем, ну и послали опять… Родитель твой на самый Вознесеньев день от трясовицы тамошней Богу душеньку отдал, вот и правлю теперь я один дело, посланца везу… Даст ли Бог голову сносить еще раз, как пошлют!.. Хан зло имеет на государя, на весну всенепременно за Окой явится, турки там теперя под Астраханью… Вот что о себе скажу… А все сам смотрю да не верю: впрямь ли в живых это ты, Суббота?.. Схож, неча молвить, только постарше, да злости такой допрежь не было в обличии, а то совсем племянник!.. Кудерцы также вьются, ус велик стал… а глазищи… Не смотри на меня таким волком!.. Я не ворог, коли родня подлинно… Куда только ты сгинул, голубчик, с самого того дня, как Нечайка со Змеевым художество над отцом учинили?.. Да, вспомнил, еще раз показался и пропал опять.
– Лишили меня счастья… Пропадай, жизнь! К чему было отцу Герасиму врачевать меня, грешного, людям на пагубу?
– На пагубу… Кому?.. Да в уме ли ты, разве можно губить кого?.. Сохрани те Господь от глагола хульного!.. К чему клепать на себя напраслину?
– Не клеплю, и нет тут напраслины… Слушай мою исповедь, дядя… Был я у вас уж с царской службы, с Шатскова острога. Летел я Бог один знает как; надеялся, что увижу Глашу… Ворочаюсь. Спрашиваю. Замужем, бают, за дьяком. Теми же пятами я назад, в Москву, – и отдался в опричники.
– Бедняга!.. Из огня в полымя. Слава богу, что отца нет!..
Суббота, к удивлению дяди, не обратил особенного внимания на весть о кончине родителя.
– Заодно погибать, думаю, по крайности, отомщу ворогу!.. Получил власть. Прилетел в Новгород. Нашел дьяка, мужа Глашина. Честный человек был, хотя и ворог, не заперся! Я на его медведя пустил… Он…
– Суббота!.. Да ты взаправду кромешник! – вне себя от негодования, отозвался дядя. – Не родня мне, изверг!
– Как хочешь… это твое дело!.. Я не напрашиваюсь и не отрекаюсь от родни. Дослушивай, не все еще.
– Что же еще? Коли медведь пущен, ведомо, задрал…
– Я велел оттащить, пусть с чистым покаянием, лучше, думаю… Глаша вдова остается. Наутро нашел, открылся… Она прокляла меня… И ты проклинаешь… Теперь мне все одно… Сыну погибели одна дорога!
И он истерически захохотал, так что встал волос дыбом у честного Истомы.
– Одумайся, Суббота, иди в монахи… Замаливай.
– Нет прощения трижды проклятому… Таня… Ты… Глаша… Не могу вынести… – И, зарыдав, вне себя, несчастный грохнулся на пол без чувств.
XI Трагедия из комедии
За радостью горе вослед,
И нет уж конца лютых бед!
Рождественская мистерияНочь. Темно в проходе перед ложницею царской, освещаемой тремя лампадами. Мертвая тишь нарушается легким храпом спящего спальника, не мешающим слышать отчетливо отрывистый полушепот из темного перехода. Иоанн не спит, вслушивается в смысл отрывистого сонного бормотанья и по мере вслушиванья делается беспокойнее. Вот встает державный, зажигает тонкую свечку на лампадном огне и с зажженной свечкой в руке направляется во мрак прохода, где, растянувшись навзничь, с закаченной назад головой и сжатыми судорожно кулаками, словно бросаясь в драку, тяжело дышит, по наружности в глубоком сне, Алексей Данилович Басманов. Грозный остановился над ним и продолжает вслушиваться в мнимосонный лепет временами вздрагивающего хитреца. Наконец, овладев собой, схватывает Басманова сильной десницей и поднимает его, грозно крикнув:
– Давай мне доносчика!
Очередной спальник Истома Безобразов, пробужденный этим криком, со страха подкатился под царскую кровать. Он со своим тюфячком под мышкой оставил державного наедине с его любимцем, не ведая причины вспышки, но зная на опыте невыгоду оставаться на виду в минуту царского гнева. Иоанн тормошит Басманова, не вдруг, по расчету, приходящего в себя, как бы подлинно после сна…
– До-нос-чик?.. Государь… Д-а-й бог память… Был я где? Д-да! Ватажник медвежий баял со стремянным вашим, с Осетром, что прибыл в слободу… Он… со мной!
– Што же ты себе пережевываешь во сне про измену, ворон, а нам, государю своему, не донес слышанное?
– Кругом виноват, надежа государь… Коли во сне соврал што, не клади опалы… Повели правду сущую исповесть… Прослышав про измену якобы, так баял мужик, не поверил я прямо… Думаю, може, по насердку клевещет, воеводу клевещет твоего да стремянного нового… А поруки где сыскать, что доподлинно так и есть? А во сне-от, не положь гнева… Сам не ведаю, как оно это самое прорвалось… Вижу, надежа государь, воочию, якобы законопреступники меня не чуют и, сами страх Божий отнемши, с панами торг ведут, словно мытники, наддачи требуют, продают твою отчину Новгор…
– Молчи, змея…
– Я, государь, и не поверил наяву, а во сне, вишь, бог попутал… Какой грех вышел…
И он показывал все признаки отчаяния.
Искусная игра возымела успех. Иоанн несколько успокоился и послал привести немедленно доносчиков на новгородские власти.
Услыхав приказ, захлопотал, словно выросший из-под земли, Григорий Лукьянович Бельский, прозываемый за свой гигантский рост, в шутку, Малютой, по отцовой кличке – Скуратовым. Редко так точно и спешно выполнялись царские повеления, как теперешний приказ о приводе доносчиков.
Явились они, будто находясь где близко и уже давно дожидая ввода перед царские очи.
Ватажник, однако, невольно потерялся. Не мгновенно исполнил он приказ царский подойти поближе и стать подле самого свечника. На свечнике этом ярко горели полторы дюжины свечей, разливая сильное сияние на ближайшие предметы на таком расстоянии, как поместился от огня ватажник. С другой стороны свечника стал достойный клеврет его, Волынец, воровские маленькие глазки которого забегали теперь с ускоренной быстротой. Долго смотрел на эту пару Грозный в ожидании прихода старшего сына своего, ничего не говоря и только вглядываясь в лица пришельцев. Тщательный осмотр их в уме Грозного, однако, был не в пользу представленных, так что это не укрылось ни от Басманова, ни от Малюты, мигом сообразившего, что горячо поддерживать доносчиков, по меньшей мере, неразумно. Это решение, созревшее у опытного злодея, определило систему его действий. Мгновенно чутким ухом заслышав издали шаги наследника, Малюта ловко юркнул в мрак перехода. Шепнуть на ухо красавцу Борису, несшему посох и рукавицы царевича Ивана, что сбирается Басманов морочить великого государя какими-то проходимцами, было делом одного мгновения. Впрочем, шепот на ухо любимцу имел возможность расслышать и сам царевич, оттого он при поклоне родителю, остановясь рядом с ним, и кинул презрительный взгляд на новые лица мужиков. Взгляд царевича был полон злобы и злорадства даже, послышавшегося вдруг в звонком смехе сына государева при вопросе: «Никак, эта сволочь, батюшка, не дала тебе опочивать?» Иоанн неохотно ответил сыну:
– Не малость до ушей моих дошла; слушай, что, говорят, затеяли нечестивцы!.. Говори ты первый, – приказал сухо Грозный Волынцу, не скрывая, впрочем, своего нерасположения, навеянного обзором наружности его.
Петруха не заставил повторять приказа – и заученную сказку, речисто, не борзяся, стал резать без запинки, как по столбцу, излагая мнимый сговор новгородцев и все подробности. Проговорив до конца так тонко соображенное, он остановился на словах:
– Больше ничего не знаю – и греха брать на душу не хочу.
– И то довольно наврал, – с загадочной какой-то интонацией отозвался царевич.
На лице Грозного выразилось неудовольствие против сына.
Царь уже был в возбужденном состоянии, не оставляющем места хладнокровному разбору, при котором виднее шаткость натянутых доводов и недостаточность логической основы задуманного.
– Осмеять все можно, и ложь находит, пока шутка шутится, а взаправду коли – недоверья одного мало, – проговорил он, хмурясь.
– Нужно убедиться доподлинно, может, и не ложь будет, надеясь на свое влияние на Грозного, – поспешил ввернуть слово Басманов.
– Допытывать коли повелишь, государь, истину со дна добудем, – отозвался грубо Малюта – и от слов его передернуло ватажника и Петруху. Зверский взгляд допытчика дополнил смысл этой угрозы: какого рода может быть это искание истины.
Сам Басманов почувствовал невольную дрожь, мурашками пробежавшую по коже опытного царедворца. Он понял, что Малюта теперь пойдет против него; следовательно, предстоит выдержать борьбу, исход которой не мог обещать сразу удачи. Как знать? Робкий взгляд, вскользь, на царевича мог только усилить опасения, не внушив надежды на поддержку с этой стороны. Здесь влияние ясно тяготело к красавцу Борису. А ему благообразный Алексей Данилович, чтобы порадеть сыну, подставлял не раз ногу. И если злобно улыбающийся теперь красавец не падал, то это не значило, чтобы, осторожно выбирая почву, не чувствовал он, что не случайно спотыкается на гладком месте. Слишком тонок был Борис, чтобы не почуять соперничества молодого Басманова, пристроенного к царю-отцу, когда его оставляли при царевиче-сыне. Знали между тем, что Грозный этого любимца сына сам ценил не ниже его.
Так и теперь внезапное неудовольствие напуганного отца на сына, у которого вырвалось восклицание, не соответствующее с настроением минуты, не укрылось от Бориса, и тонкий голосок его шепотом долетел до царских ушей. А шептал любимый царем молодой голос Бориса, вкрадчиво и внушительно относясь к Малюте:
– Григорий Лукьянович, прими прежде меры против клеветы! Если же найдешь ее, открой цель застращивания.
Грозный милостиво поглядел на Бориса и дал приказ:
– Так возьми обоих доносчиков, Лукьяныч, и на месте сам осмотри их донесенье.
Благо было бы всем, если бы умный совет Борисов не истолковал по-своему Малюта, забравший себе в голову прежде всего погубить Басманова. Чтобы сделать это, нужно было припутать к этому доносу его самого.
Как это сделать, Малюта поставил себе задачу, уезжая в Новагород. В прямой же переход его в польские руки он верил всего меньше.
С этими мыслями, крепко засевшими в голову, выехал наутро боярин Бельский с казначеем Фуниковым из слободы.
Перенесемся в Новагород в памятное утро прибытия туда царских посланцев из Александровской слободы.
Именем царским потребован воевода ко владыке, где сидели уже Малюта с Фуниковым. Явился воевода. Собрались конецкие старосты и бояре владычные.
Малюта встал и молвил:
– Господа власти, идемте ко Святой Софье. Там я доложу волю государя нашего, великого князя Ивана Васильевича.
Почти всех слова эти озадачили… Что бы такое было? Что за новости во Святой Софье поведает боярин?
– Глянь-ко-те, идем мы – и за нами кибитка едет с опричными людьми и со стрельцами, – говорили друг другу новгородцы, идя в собор.
Перекрестясь, вступили все в святое место. У очень многих сильно забилось почему-то сердце. Ретивое – вещун, недаром говорит пословица.
– Все здесь? – зычно крикнул Малюта, когда толпа сановников остановилась под куполом храма.
– Все, – отвечал кто-то неуверенно.
– Петр и Тарас, делайте свое дело! – еще раз крикнул Малюта, и двое колодников в цепях, выступив вперед, пошли на солею перед царскими вратами.
Потребовалась лесенка. Петр взлез на нее и стал отдергивать гвоздики у ризы на иконе Царицы Небесной. Внимание всех напряжено до высшей степени.
– Готово, государь, Григорий Лукьянович. Повели изымать кому ни на есть! – крикнул Волынец, отогнув край иконной ризы и спустившись наземь.
– Господа власти и лучшие люди новгородские, – обратился Малюта к представителям новгородским. – Государь и великий князь Иван Васильевич повелел вам избрать между вами, кому вы доверяете, для одного дела… Назовите вы мне этого избранника вашего!..
Начался шепот – и после перемолвок выдвинули старосту Плотницкого конца, мужа сановитого, пользовавшегося общим почетом в городе.
– Изволь, боярин, влезть по лесенке к иконе Богородичной, к Знаменью, – обратился к выборному Малюта.
Тот повиновался. Остановясь наравне с иконою, он оборотился, ожидая приказания.
– Заложи руку под ризу, где отогнуто, и поищи: нет ли между иконой и ризой чего ни на есть, и буде ущупаешь – вынь и неси сюда…
Слова эти прозвучали в мертвой тиши. Никто не смел дохнуть при возбужденном донельзя ожидании. Глаза всех обратились на икону и выборного. Запустить руку под ризу и вынуть оттуда столбец бумажный было делом одного мгновения. Со столбцом в руке подошел доставший его к царским посланцам и стал подле них. Малюта развернул столбец до начала и, подав достававшему, велел читать вслух, громко.
Уже сразу всех поразила форма какого-то договора с кем-то.
Удивление слушавших росло с каждым новым словом никому не ведомых условий. Будто бы заключены они от имени отчины Святой Софии с польским королем Жигимонтом: о предании Великого Новагорода ему, ляшскому владыке.
– Да это совсем неподобное дело… – прошептал вне себя сам читавший и бросил свиток.
– Читай!.. – крикнул с яростью в голосе Малюта. – Не кончил еще, не все…
Страх сковал уши слушавших данный перечень рукоприкладств; при произнесении своего имени каждый из присутствовавших невольно вздрагивал.
– Слышали?.. Что скажете?.. – спросил Малюта тем же грозным голосом, которым приказывал продолжать чтение, когда кончил чтец.
Пожиманье плечами да отрицательные покачиванья головой вместо слов были ответом на настоящий вызов.
– Посмотрите поближе подписи: похожи ли на ваши? – вставил Фуников, озадаченный не меньше новгородцев.
– Я не писал, а подпись свою по сходству отрицать не смею, – отозвался первым сам чтец, скорее других, как видно, пришедший в себя. – Кто это сделал, твоему благородию, господин боярин, конечно, известнее? А что сделано воровски – это ясно.
– Стало, ты, боярин, заподозриваешь подлог?.. Изрядно! Укажи же признаки, так, говоришь, тебе ясные?
– Ясны они, боярин, будут и тебе, коли изволишь принять труд рассудить, что все здесь написанное не имеет основы. Разве приговоры без повода пишутся? Где же указаны поводы богопротивного дела, допуская – даже для пристрастного судьи – неподобность во многих уликах? Здесь ведь ни одного повода нет! Стало быть, клевета не сумела даже сговор свой подкрепить никаким доказательством, которое бы подтверждало способность поверить лже беспутной. Чем же, к примеру сказать, воровской приговор являет свою подобность? Говорится ли о нарушении явном прав наших Москвой при настоящем владыке, либо сказывает ли приговор о нестерпимых притесненьях, не вынеся которых мы очертя голову пустились к пропасти ляшского владенья? Либо имеем мы в виду иного правителя, которого поддержат ляхи как подручника их, а нам за им жить будет на всей на нашей воле.
– Довольно!.. – крикнул Малюта. – Сам злодей, изменник, выдал себя своим словоохотством… Договорился…
– До чего же я договорился? – спокойно, сдержанно, но решительно отозвался чтец. – Я высказываю воровство поддельного приговора, на котором времени даже не обозначено…
– Кажется, есть… – вполголоса отозвался про себя Волынец. От Малюты не скрылась эта его самовыдача; и хваток за руку Тарасом не остался тоже незамеченным для рысьего взгляда Иоаннова допытчика.
Он сообразил мгновенно, в какое положение ставил себя, и, ловко обратив в грубую шутку свою укоризну, поспешил засмеяться, ответив оскорбленному, задабривая:
– А ты, боярин, и не понял, как мы заводим тенета к изловленью вора подлинного, якобы переходя на его сторону?.. Одарил тебя Бог умом-разумом супротив других прочих, стало, не след тебе заключать, что и мы можем верить легко сказкам. Доводы твои кто же не признает правыми? Наше дело, как ты говорил, воистину докопаться до виновников сговора и до писавших его; да насчет рукоприкладств: как и чем сделаны? А самой-от приговор возьмем в Москву, так как за им присланы мы от государя. Велит он разведать, как и очутиться тут мог, в неподобном месте, и для чего…
– Известно, для воровства!.. Попы-писаки… Кто ж, окромя них, засунуть может за икону? – отозвался благосклонным, но каким-то нестерпимо обидным тоном казначей Фуников, давно уже озиравший соборную утварь, свечники и ризы на иконах чистого серебра и золота.
Как бы не слыша его и случайно остановившись, Малюта продолжал ласковее, насколько позволял ему грубый голос:
– Наше дело представить государю, что здесь было, воровство указать несомненное да получить приказ: что дальше делать? Перед вами все было – мы тут ни при чем… Прошу о виденном не калякать раньше.
Суровый взгляд, брошенный при последних словах, шел вразрез с предыдущим задабриваньем. Впрочем, объясняемые каждым по-своему, все признавали слова эти не предвещавшими особенного зла, а только угрозу в предотвращении пустых толкований о том, что должно оставаться не для всех известным.
Эта успокоительная прелюдия, к несчастью, в дальнейшем развитии трагедии оказалась только пробой почвы со стороны затягивателя узла, каким был Малюта Скуратов, мастер своего дела.
Вечером в этот день, увозя с собой из Новагорода связанного софийского ключаря, ничего не могшего ответить на вопрос, как очутился за иконой приговор, тоже не выпускаемый из рук, Бельский позвал на пару слов Волынца.
– Твоя работа доведена только до половины. Написал ты приговор без числа затем, что отложен он до принятия князем Владимиром подговора на правление в Новагороде… Где же лежит такой подговор?
Петруха затрясся, слушая эти слова, показавшие ему, что Малюте стряпня его вся открыта и поздно запираться на подделке.
– Не знаю ничего больше… – отозвался бездельник с усилием.
– Кнутья да спицы у нас есть, чтобы подновить твою память… Я, впрочем, торопить не буду до приезда в слободу. А коли понадобится этот приговор и захочется тебе противенек снять, для памяти, што ль… во всякое время я готов дать. В Твери мы остановимся на трое суток. Времени довольно. А коли не будет подговор явлен каким новым парнем, до последнего стану, перед слободой – колодка на шею наложится в пять пуд со стулом. И рот, кстати, заклеплется надежно, до передачи в катские руки. Помни же!
В последний вечер в Твери Малюта воротился с Отроча-монастыря гневный и крепко озабоченный. По себе судил он других до сих пор безошибочно: отплатить злом за зло – так праведно! Тем паче воздать клеветнику, низкому подкапывателю под доброе имя.
В первый раз в жизни приходилось теперь убедиться ему, что есть упорные люди, говорящие «нет» на вопрос: зол ли человек, им плативший за добро злом?
В Отроче-монастыре заключен был бывший митрополит Филипп. Пал он вследствие целой сети клевет. Эти клеветы измышлял искусный мастер их, архиепископ новгородский Пимен. Филипп знал это, но на вопрос Малюты подтвердить зло, ему нанесенное Пименом, ответил:
– Не знаю!
Эта запинка в выполнении плана, решенного в голове Малюты, стоила жизни Филиппу, однако стойкость праведника осталась все же загадкой для черной души Григория Лукьяныча.
– Ему же пользы искал: государь призрел бы на смиренье, попамятовал бы, что крутенько повернул: не так надо было – так нет, упорствует! Не знаю! А сам, может, сто раз говаривал, что по милости сватушки, князя Владимира, из чернецов наверх вышел… Ловок Пимен, неча сказать. Да и мы не олухи! Басманчика заставим болтаться между небом и землей. Заодно уж пусть тогда дрыгается взаправь, а не лицедейски, как в напущенном сне в царской ложне…
Высказывая вслух свои планы и неудачи, Малюта вздрогнул, почуяв, что он не один. Броситься вперед, схватить за шиворот мужика, который, притаивая дыханье, стоял перед дверью из сеней во мраке, было для всполошенного делом мгновения. Рука, державшая находку, так же мгновенно распустилась, когда схваченный оказался не кто другой, как Петруха.
– Готово, значит? – осклабившись зверски, спросил Малюта.
– Принес целовальник один досканец, не угодно ль глянуть? Нет ли нужного? В кабаке, говорит, убили вечор мужичка разгульные люди каки-то. Убитый, вишь, пробирался проселком в Старицу с Новагорода и нес за пазухой доскан…
– Вижу взаправду, что ты парень мастероват на все руки… Увидим ужо, что там… – и сам внимательно пробегал хитро придуманный новый образец искусства Волынца – подговор по заказу.
– Никак, впрямь подговор! – выговорил Малюта весело и доброжелательно, дочитав до конца. – Находишь ты, брат Петруха, истинно в пору и в меру, что может потребоваться!
– Придется в меру, коли кнуты да спицы обещаны, да колодка, да в зубы затычка.
– То на упрямцев, а таким молодцам, как ты, – московки в мошну да царская милость.
– И вольно будет душу отвести?
– Чем угодно, окромя обношенья воевод.
– Не Басманчиков…
– Язык держать за зубами – первое дело! – перебивая его, заговорил с важностью Малюта. – Нужно знать, не Алексея ли Басманова, завзятого скомороха, были развеселые, убившие мужика с досканом?
– В его селе, над Тьмакою, – поспешил отозваться Петруха.
На непересказ вполне всех вопросов и ответов в этот вечер, во время этого своего рода допроса, – мы полагаем, читатели наши не посетуют. Малюта крепко прикрутил новым подделываньем к мнимой измене новгородцев ничего не думавшего князя Владимира да вместе с ним Алексея Басманова и архиепископа Пимена.
Мертвецки пьяный Петруха очувствовался наутро в пошевнях, летевших вскачь окольными путями, минуя Москву, в слободу Александровскую.
– Что привез: добро или зло? – увидя коварного Малюту, спросил бывший уж до того не в духе Грозный.
– Больше зла, чем добра, открывается, – загадочно и уклончиво отозвался разыскиватель. – Одно добро: не увернуться будет теперь и твоему врагу, брату двоюродному!.. Ни твоему скомороху Алешке, – дерзко и решительно отрезал Малюта.
Иоанн побледнел и, взяв за руку страшного доносчика, увел в свою образную.
Начался шепот, перерываемый вздохами царя. Иоанн при чтении поддельного подговора, видимо, крепился; он то бросал чтение, то кидался на колени перед образом, то вставал и, порывистыми движениями проявляя больше и больше овладевавшее им бешенство, произносил угрозы и проклятия. Снова успокаиваясь немного, принимался читать хитро составленную мнимую договорную грамоту. Наконец царь осилил ее, но уже находясь в таком положении ярости, при котором вылетают вместо слов междометия. Смысл их поясняли злобно вращаемые очи, налитые кровью.
Малюта не дремал. Послав за врачом царским Бомелием, приготовлявшим не один уже раз сильные яды, он наказал ему приготовить две, равной величины, чаши с мальвазией. Проходимец-врач, пользовавшийся чуть не безграничной в ту пору доверенностью Иоанна, силен был в изобретениях по части токсикологии – и на этот раз употребил для растворения в чистом греческом вине теплую неаполитанскую воду, изобретенную незадолго до того знаменитой отравительницей. Вино с этой водой получало приятный яркий цвет рубина, подернутый по краям чаши поясом мелких пузырьков густой пены.
Наступил вечер, а царь не прикасался к яствам накрытого стола семейного. Тускло горели оплывшие свечи в мертвой тиши светлицы царской, когда донесение, что приехал внезапно призванный князь Владимир Андреевич с супругой, подняло недвижно до того сидевшего Иоанна с его царского седалища. Бледный, со сверкающими глазами и нервною дрожью, страшен был в эту минуту Иван Васильевич. Грозным представлялся он теперь и членам своего семейства.
Старший сын, идя рядом с дядей, как-то боязливо ступал по ковру отцовской светлицы. Княгиня Владимирова почувствовала вдруг овладевшее ею тяжелое волнение от внезапного ужаса.
Вот подошли они к столу – и Иоанн, встав со своего кресла со злобой, перешедшей все пределы, вне себя, прерывавшимся голосом проговорил:
– Привет великому князю новгородскому и его великой княгине!
– Что это значит: такой прием и такие слова? – робко, но с достоинством отозвался князь Владимир Андреевич.
– Это значит, – громовым голосом разразился Иоанн, – что твоя измена вся мне известна и пришел час расплаты! Бомелий! Подай чаши князю и княгине… Мы их поздравствуем.
При произнесении имени Бомелия несчастный князь Владимир понял значение этой заздравной чаши и, с отвращением отстраняя ее от себя, молвил:
– Наш закон христианский запрещает нам класть на себя руки. Пусть отравят нас другие, а не мы сами. Волею чаши этой я не приму…
– Заставлю, так выпьешь!.. – крикнул Иоанн, трясясь от злобы.
– Не все ли равно, что заставляют пить, что льют в рот? – сказала величественно супруга князя Владимира. – Грех смерти ляжет не на тебя, милый, а на того, кто велит нам пить.
Бомелий приступил еще ближе с роковыми чашами. Князь Владимир подался назад, ища как бы в глазах племянника опоры и защиты. Царевич, поникнув головою, дрожал от ужаса. В глазах княгини блеснула слеза скорби. Превозмогши ее, она твердо взяла чашу и выпила, сказав мужу: «Прощай!»
Князь Владимир зарыдал; опустился на колени; горячо молился несколько мгновений и потом, взяв чашу, сказал Иоанну не без горечи:
– Умирая от руки твоей невинным, призываю тебя к ответу перед Страшным Судией.
– Пусть нас там судят, а теперь мой суд совершился над тобой, изменником и врагом моим! – жестко выговорил Грозный и махнул рукою, чтобы увели чету отравленных.
Поворотясь затем, чтобы уйти самому, Иоанн увидел подле себя Алексея Басманова.
Как бы стряхивая ядовитое насекомое, Иоанн стал обмахивать рукава своей ферязи и голосом, полным жестокости и отвращения, указав гневным взглядом на недавнего своего любимца, проговорил скороговоркою:
– Раздавить эту гадину, чтобы, после злодея брата моего, и об этом больше не поминать.
– Государь, чем я прогневил тебя! – крикнул было ловкий придворный, но тяжелые рукавицы двух кромешников по указанию Малюты зажали ему рот. С этой минуты не стало ни слуху ни духу про Алексея Данилыча.
Рассказывал наутро Гагара-кромешник своему приятелю, такому же извергу Шипуле:
– Вечор праздник был на нашей улице. Григорий Лукьяныч Федьку Басманова посылал батьку повершить. Вот бы ты посмотрел, какую рожу скорчил он! Прикинулся, якобы не понял, да как дядюшка зыкнул вдругорядь – пошел, покачиваясь, делать нече…
– И справил все как следует?
– У него спрашивай, милый человек… Я почем знаю… Видал сегодня – мертвецки пьян, а на роже ни кровинки. Вот, значит, лихой молодец!
– Да, брат, избави бог нас с тобой от такой участи… Родной сын?!
В то время, когда происходил этот разговор перед жилищем Григория Лукьяныча Бельского, он потребовал к себе стремянного Осетра.
Страшно переменился Суббота в эти немногие дни после встречи с дядею. Похудел он, постарел, и в кудрях показался серебряный отлив. Выражение лица получило бóльшую сосредоточенность, но при этом и бóльшую жестокость.
– Я звал тебя, Суббота, чтобы взять с собой. Едем мы попрежь великого государя. Нужно шею свернуть одному ворогу-упрямцу. За твою неудержь, что дьяка затравил в Новагороде, есть случай теперь заслужить полное отпущенье: сверни шею старому коршуну и – квит будешь со мной. На случай, коли сердце не выдержит и пустится на новую расправу с ворогом твоим, – я заступа, не выдам!
– Все едино мне теперь, боярин Григорий Лукьяныч… На душу грехов набрал – а покою по-прежнему нет. Не только не стал бы просить защиты али ухорони себе, а, пожалуй, попрошал бы скорее со мной порешить… Ноет ретивое и покою не дает ни чуточки!.. Да и какой покой прóклятому?..
– Молодо-зелено! – с участием как бы молвил хитрый зверь Малюта. – Поживешь с мое и бросишь всяческую блажь!.. Проклинают не тебя одного, а всех нас, царских слуг, вороги державного, да нам-от что? Собака лает, ветер носит… Были бы на нашем месте, сами то же бы делали, а на нас одна слава… Будь же готов, дружок! Я знаю тебя как хорошего товарища, а ворогов царя целая тьма… Я один верю тебе и защищаю, да царь-батюшка. Ужо воротимся с Новагорода – укажу я тебе твоего клеветника и обидчика.
Эта доверенность и как бы расположение Малюты на разочарованного, тоскующего Субботу не произвели никакого впечатления. Болезненное воображение его представляло ему попеременно то Таню с мечом в груди, шепчущую проклятие, то честного дьяка, один вид которого внушал доверенность и расположение. Наконец, свидание с Глашей и ее проклятье, представляясь так живо, и днем и ночью, и в дремоте и при бдении, но в состоянии глубокого забытья о всем окружающем, истомили вконец Субботу, почти лишенного сна. Если слетало успокоение на утомленные члены страдальца, то во время срочных хлопотливых поручений, сила значения которых не давала ему возможности оставаться наедине с собой и входить в себя, если можно так выразиться.
Взятие Субботы Бельским было именно таким положением в его безысходной муке, когда физические труды и хлопоты пересиливали духовную сторону. Не отказывался уже он ни от какого поручения, по первому зову вставая и идя куда велено, без отговорки и промедления, как послушное орудие воли других, как машина.
Вот спит он в прохладной монастырской сторожке Отрочьей обители, не так давно воротясь с поездки, продолжавшейся дня четыре. Тяжелое дыхание спящего давало право заключить безошибочно, что его томит страшное сновидение. Под болезненным тяготением сна вздрагивает Суббота, ежится и крепче прижимается ничком к оголовку. Что же видит он? Воочию представляется ему иерей Герасим, исповедующий и заклинающий о примирении с врагами. Суббота не кается и готов поставить на своем. Исповедник понижает голос, истощив всевозможные доводы, как вдруг голова игумена обращается в Данилу-дьяка и голосом Герасима укоряет нераскаянного: «Не думая прощать, ты дошел до тиранства надо мной, безвинным!»
– Сознаюсь! – спросонья кричит Суббота и просыпается от теребленья будившего опричника.
– Сам зовет!
– Иду.
И, шатаясь, не вполне еще освободившись от впечатления сна, вступил Суббота в келью своего нáбольшего.
– Иди с этим вожаком на конец монастыря. Введут тебя к старику и оставят. Ты его, понимаешь? – указал Малюта себе на шею и сделал руками движение, как следует крутить, крепче и разом.
Вышли. Довел вожак до порога; отворил дверь и отошел. Суббота шасть вперед. При свете лампады видит убогое ложе – и кто-то лежит в дремоте, седенький.
Подойти, сжать шею, как показал Малюта, не было бы большого труда, если бы лежащий вдруг не вскочил – и голосом подлинного, живого Герасима, так часто раздававшимся в ушах Субботы и потому неизгладимого из его слуха, не вскрикнул: «К злодейству приводит немилосердие!»
Суббота не мог выносить этого голоса и не помня себя бросился назад и упал без сил. Малюта был недалеко. Рассвирепел было, но, заметив, что чувства оставили его орудие, сам пошел безотлагательно выполнить свой умысел. Герасим – это был он подлинно – выгнан вон. Келья приперта. Филипп молящийся найден и удушен.
Выйдя из кельи Филиппа, Малюта счел нужным раскричаться, созвал монахов и настоятеля. В ужасе они не думали возражать или перечить страшному давителю, пустившему в ход явную ложь.
– Эк вы как жарите печи в келье старцевой! Никак, уж уходили его в чаду? Вошел я к нему, говорю, – не слышит будто. Подошел, глядь – он не дышит. Государь как узнает – разгневается!
Игумен и старцы только руками развели, поспешив приготовлением к погребению.
Все монастырские молчок о том, что произошло. До потомства дошел подвиг Малюты через притаившегося где-то Герасима, потом, при других порядках, рассказавшего кончину праведника.
XII Начало конца
Уходив Филиппа, Малюта исправил свой план – при готовности отроческого игумена все показать, что будет велено. Бельский поехал отсюда прямо в Новагород со сговорчивым игуменом, оставив Субботу в монастыре, до исцеленья. Стремянный царский казался пораженным как в столбняке, утратив как бы совсем сознание.
К несчастью для страдальца, еще раз принявшись пользовать своего бывшего пациента, Герасим воротил ему память и способность мыслить. Правда, и в вылеченном совсем оставалась теперь только тень прежнего, бесстрашного Субботы. Силы, уничтоженные тяжелым недугом, не скоро собираются. Дума же о совершенном зле, неотвратимо преследующая человека, для которого в мире нет больше приманок, – только вырабатывает одно ничем не заглушаемое стремление: сколько-нибудь умирить совесть. Цена собственной жизни кажется при этом ничтожной, не покрывающей нанесенного другим ущерба, и представление самых мучительных терзаний, придумываемых возбужденным воображением, кажется безделкой и желательным искуплением прежних падений.
Оставаясь в полном неведении о всем окружающем его, Суббота в Отроче-монастыре томился почти два месяца. Тем временем на берегах Волхова совершались ужасы, от одного пересказа которых становился дыбом волос у самых хладнокровных.
Привезя игумена, Малюта расписал все приходское духовенство по десяткам и на первый случай призвал к себе поставленных им десятников.
– Видите, батюшки, – начал как бы добродушно предатель, – государю донесли, что духовные отцы сговорились со чады своими на духу послужить как бы князю Владимиру Андреевичу, упокой Боже душу его! – и сам крестился. – Укажите, коли разузнаете, хоша трех, хоша пяток, хоша десяток, что сказывали на князя, как и про что разговор был насчет щедрого князя Владимира… Может, и так, спроста, люб он кому был… Может, и владыка ваш Пимен подхваливал князя приветливого да щедрого, всяко бывает – и скажется иное, может быть… Не потаите, отцы, коли на вспросях поговорят про то вам, для своей пользы, а церковное перепишите; гнев державного авось и утишится, коли упорства не окажется… Потрудитесь за братию свою… А пока чинить перепись будете, подыскивайте столбов писаных – и мне показывайте.
– Я вот в толк не возьму, про што это боярин наказывал нам разузнавать, про какие говоры? Про коего князя Владимира? Московский боярин-то, што ль, наездом, видно, здесь был? Может, у владыки одного?.. К нему московские люди прибежливы… В наших сороках куда московских бояр на духу иметь? – заболтал поп Лука Скорохват, так его прозвали за быстроту решений и привычку ко всему на лету прислушиваться.
Одни считали этого словоохотливого подхватывателя просто болтуном, без всяких затей. Другие, и можно сказать, большая часть, смотря на отца Луку как на сплетника, видели в его речах намерение ловца расставлять силки и ловить неосторожных. Поэтому знавшие его, – а не знавших его в городе не было между своей братией, – всегда только слушали Лукины россказни и беседу его с самим собой, не проявляя попытки разрешать ответами его недоумения.
Такой человек, как Лука, в руках Малюты был драгоценностью уже по одному тому, что на вопрос, в чем бы он ни заключался, всегда готов чем бы то ни было ответить, кстати и некстати. Сперва и владыка его считал деловым за такое качество, да как раскусил, с чего брал Лука свои мгновенно созидавшиеся предположения, не стал на глаза к себе пускать. Это, разумеется, не научило Скорохвата относиться к услышанному им разумней, а только поселило в нем своего рода обидчивость на архипастыря, «больно умного да осторожного… Все ему в бороду дуй да посвистывай знай, а рта не разевай», – отзывался Лука о митрополите в кружке немногих, его слушавших всласть. Получив от Малюты предложение разузнавать и выспрашивать, Скорохват с жаром принялся за выполненье наказа, разумеется, по-своему. При этом живое воображение отца Луки, пустившись скакать, как испуганный конь без узды, занесло его в непроходимые дебри противоречий и бессмыслицы. Да ему об этом всего меньше было заботы.
– Слыхал, Кузьмич, – обратился он к купецкому человеку, любившему его беседу, – что к нам выслали москвича, князя какого-то, щедрого и тороватого, на житье. А богомольный такой уж, что нашему брату только знай фелонь вздевай да служи. Истинно Господь Бог о малых своих попечение имеет, чтобы не горевали о находящих напастях.
– В твой приход, што ль, отец, водворили боярина-то? – поспешил отозваться знакомец.
– Нет… Должно, владыка своему какому прихлебателю порадел… Да я узнаю, как и што. Свое не пропущу!..
– Еще бы!..
И сам дал тягу. Недосужно было.
Идет навстречу Луке звонарь соборный Михей Обросимов, под хмельком, бурча себе под нос что-то. Скорохват дослышал в этом бурчанье слова «князь-господин» и прямо напал на Михея:
– От него ты, знать, теперя?.. То-то и накатился изрядно… Видно, милостивый…
– От него самого, отец!.. Из его собственных ручек три стопки принял, да и в мошну перепала малая толика… Да и…
– Велико имя Господне! На сиротскую долю истинно посылается… И княгиня тоже добрейшая была, бедных жаловала, – присовокупил Лука, вдохновенно входя в восторг.
– И была и есть и будет такова!.. – подтвердил Михей. Шел он с купецкой свадьбы. Князем и княгиней называли новобрачных, его угощавших. Он и выразил этим желание получить впредь благостыню.
Для Луки, еще больше подбитого подходящими выражениями, не существовало теперь преград для разгула летевшей вскачь мысли.
– И нашего брата много там, отцов духовных? – поспешил он задать вопрос Михею.
– Есть-таки!.. Знаменский протопоп, от Вознесенья Самсон, с Сыркова уставщик… Да и подгородных есть…
– Давай бог больше!.. Всем место будет… Не оскудевает рука милостивого.
Благословил Михея большим крестом и сам дальше пустился.
Хватаясь за кончики фраз и ухитряясь лепить воедино отдельно услышанные слова, Лука в течение одного этого дня, обежав только свой десяток, вмещал в голове целый ворох самых разнообразных известий, и поутру уже явился с донесением к Малюте.
Получив разрешение говорить, Скорохват рассыпал такой ковер узоров перед допытчиком, что подьячий его, успевая записывать из девяти слов десятое, упарился даже от непривычного труда. Когда же читать стали написанное, Григорий Лукьянович понял, какую околесицу нес перед ним словоохотливый Лука, но, отнеся противоречия к спешке самого записывателя, нашел, что из этого материала без большого труда изготовить можно кашу, в которой увязнут все, кого угодно ему будет в Новагороде припутать.
Отпуская Луку с приветливой улыбкой, так редко являвшейся на зверском лице, Малюта велел ему к себе чаще наведываться и обещал свое покровительство. Тут же Бельский включил Скорохвата в команду отца Евстафия, с казначеем Фуниковым назначенного для переписи церковной казны по всем приходам и городским соборам. Целая книга написалась доношенья Грозному о мнимом заговоре с участием князя Владимира. Здесь владыка Пимен не один раз прихвачен к соучастию.
Читая на пути эту злобную цепь наветов, где уже о первом доносе почти ничего не говорилось, а на свежей канве выведены новые узоры, связывавшие в бесчисленных заворотах имя Владимира, Пимена и попов да монахов новгородских, – Грозный царь приходил в раздражение, охватившее наконец его страстную натуру до состояния полного обаяния. Из него же, как из очарованного круга, отуманенный взор его не мог видеть подлинной действительности, а одни призраки коварных врагов, подлежащих уничтожению.
Такое состояние, верно рассчитанное Малютой, ставило злодея единственным и безответственным выполнителем всего, что он сам мог подсказать, а Иоанн бессознательно повторить, не входя ни в какую оценку или проверку, как бы мысль живая в нем на это время бездействовала или отсутствовала.
Страшно такое состояние и для лица, имеющего только достаток: во время потемнения рассудка можно бесследно все потерять. Еще страшнее представить в подобном положении лицо, одно слово которого служит законом, выполняемым по первому мановению. Преступны те, кто, зная возможность вызова припадков подобной душевной болезни, для своих целей производят их. Но можно ли относить к воле страдальца – почти бессознательного в это время – совершение того, что угодно его руководителям, с этой целью и вызывающим душевную горячку? Она между тем служит разгадкой действий, подобных совершенному Грозным в январе 1570 года в Новагороде.
Уже весь отдавшийся исступлению, навеянному доносом Малюты, царь Иван Васильевич на пути в Новагород дал приказ оцепить отчину Святой Софии.
Ужас горожан, увеличивавшийся с каждым новым распоряжением, предвещавшим незаслуженную, а потому и неведомую грозу, достиг полного развития со вступлением в слободы тысячи опричников, когда царь остановился на Городище.
Чуть брезжился дневной свет в праздник Богоявления, когда владыка Пимен со всем духовенством пошел с крестным ходом навстречу самодержцу при звоне всех колоколов в городе.
На Волховском мосту приблизившийся к государю владыка остановился служить соборно молебен о благополучном государевом прибытии. Чинно совершено служение. Смиренно подступил владыка со святым крестом к самодержцу, как вдруг, отстраняя от себя крест, царь грозно изрек архипастырю:
– Злочестивец! В руке у тебя не крест, а оружие на погубление наше… Сердце мое истерзал уже ты злым умышлением. Мне известны советы твои и злотворцев, решивших предать град врагу нашему… С дознания этого не назову я тебя ни пастырем, ни учителем, ни сопрестольником апостольской церкви… Имя твое – волк, хищник, губитель, изменник, досадитель нашему державству!.. – От ярости Иоанн не мог больше говорить и рукой указал идти к Софийскому собору. Как тени, беззвучно двинулись ряды духовных.
Сколько слез горячих пролито было у искренне молящихся во время литургии; не дошла до Создателя только молитва о миновении чаши гнева царского. Звук грозных слов укора архиепископу успел несколько затихнуть в умах трепетавших служителей церкви к концу мирно совершенного богослужения. Думали уже, авось этой вспышкой на мосту и пройдет зло софийского доноса, когда государь из собора пошел в архиерейский дом к обеду. Чинно сели за стол. Владыка прочел робко, но внятно молитву. Стали обносить блюда по рядам столовавших, по чину. Отведали крепкого меду софийского бояре московские – и, поглядывая издали на государя, стали перекидываться словами, как вдруг опять мрачнее бури поднялся Иван Васильевич. Увидел он, что владыке подали чашу и он собирался ударить челом державному.
– Бери его! – указав перстом на архиепископа, крикнул державный кромешникам – и через мгновение умчали из палаты преосвященного лютые исполнители царской воли. Бояре и дворяне, софийские духовные власти и вся прислуга владычная тут же были схвачены. Царь с сыном уехали на Городище. Одни бояре московские остались доканчивать обед.
Через день открылся невиданный суд.
На Городище, на улице, наскоро устроили род возвышения с престолом для царя и для его сына. По сторонам разместились густыми рядами опричники, оставив широкий проем для приближения к возвышению. У ступенек его поставлены столы для приказных и дьяков, размещенных кучками и назначенных для записывания разом нескольких допросов новгородских обывателей и обывательниц, якобы прикосновенных к делу. Малюта, нахватавший, что называется, «всякой твари по паре», задумал окончательно напустить мрак в державные очи царя Ивана Васильевича, раздув из ничего страшное кровавое дело о существовавшем будто бы заговоре целого города. Вечером в день Богоявления он успел чтением своего прибавления к доносу обратить царскую подозрительность, напряженную и без того болезненно, на существование будто бы колдовства: что с помощью его Пимен и его клевреты уловили умы целых тысяч горожан, связанных самыми страшными клятвами. Эти-то несуществовавшие клятвы будто бы и оказывались ничем не побеждаемым препятствием при расспросах верных слуг царских.
– Только на присутствие лично государя, – заключал свое рабское донесение коварный лжец, – и можно еще надеяться как на последнее средство. И если кроткое обращение царя-батюшки не вызовет ответа, то что значить могут усилия исполнителей государевой воли с таким народом, обуянным своими духовными руководителями? Они ведь на этом отнекиванье и основали невозможность быть уличенными и наказанными!
Читая хитрый подход, Иван Васильевич терялся в столкновениях противоположных мыслей. Здоровый ум его прежде всего возбуждал сомнение в возможности поголовного отрицания чего бы то ни было; но, не чуждый предрассудков своего времени, он невольно верил в возможность опутывания души человека нечистой силой посредством колдовства. В таком же состоянии ум Иоанна допускал действия околдованного не только противные совести и рассудку, но также и осознание зла до известной степени, мучения совести, а за всем тем – невозможность высказать заговоренное, какие бы со стороны воли ни употреблялись усилия разрушить чары. Раз дойдя до такого решения, нашептанного, разумеется, Малютой по причине собственной безопасности, Иван Васильевич принимал и другое, настолько же в наших глазах метафорическое положение: что представитель власти от Бога, поставленной в торжественные минуты праведного суда, могучим словом своим, как глаголом Божества, разрушающим чары, может разорвать узы языка, связываемого колдовством. На то государь и помазанник Божий!
Двадцать раз, может быть, начиная раздумывать, ум Грозного приходил к решению, неблагоприятному этой посылке, – и слова: «Царь тоже человек и смертный» – срывались с его уст, погружая душу в состояние нравственного глубокого страдания. Совесть раскрывала тогда перед ним длинный ряд промахов и действий, не одобряемых его чувством правоты, но допускаемых в минуты слабости.
– Неужели в ту пору со мной был дух Божий? Как же благодать, присущая ему, допустила несправедливость? Я совершал, верно, эти деяния сам, когда по слабости моей доверялся самомнению? Кто же порукой, что самая торжественность мгновения удалит непременно от меня подобное гибельное состояние? Когда начиналось самомнение, однако?.. Да, помню, не раз было, при Селиверсте и при Алексее покойном. Нападало на меня сомненье, что и они человеки и у них есть личные побуждения… Своя шайка, свои друзья и противники… Представляли – так выходило по толкованью их, а другие не то говорили. И сомневался я! Шел напролом со своей волей, сознавал, что и она кривит в ту сторону, как ей представляется… Если ошибались они, почему мне не ошибиться?.. Ведь не любо мне было влеченье к Казани, они хотели, я не одобрял захвата гнезда хищников, а как взяли – понял, что опасности, мной представляемые заранее при неуспехе… И ущерб и потери видел я прежде и считал больше, чем случилось… В этой ошибочности моей участвовала греховная воля, ища покоя и сладости, когда жизнь дана для труда и подвигов. Как же себе доверяться? Разве не мешали нашим храбрецам колдуны казанские? Разве не напустили они безумия на своих казанцев в угодность меньшинству, думавшему еще тягаться с моей силой верной… Много, значит, может обаянье?! Устоит ли воля, и укрепленная верой, перед началом зла, когда злу этому и я, помазанник, против воли поддаюсь в мгновения слабости?.. Укрепить может и просветить этот мрак благодать… Испросим ее в молитве…
И самодержец повергся в умилении перед иконами. Горячо помолившись, он раскрыл Божественную книгу, и глаза его упали на слова: «Вскую шаташася языцы и людие поучишася тщетным!»
Еще большее раздумье напало на державного при этом откровении, смысл которого в применении к теперешним обстоятельствам можно было ему толковать и за и против.
Глубокая дума сменилась раздражением, когда вошел Малюта и таинственными намеками дал новую пищу подозрительности, доложив, что приведенных баб-ведуньев он всячески склонял к признанью: призывал отца Евстафия, заставлял его отчитывать, кропить святой водой… Чары демонские не поддались, и упорство их осталось непреклонным. «Вот и добрался до корня, да ничего не поделаешь!» – заключил донесенье опытный злодей, напугавшийся было от подслушанных речей Иоанна Васильевича самого с собой. Да и как не напугаться злодею, когда понимал он, что напущенные страхи разлетаются, когда проницательный ум и воля склонны к правде, вступали в права свои над совестью Грозного. Ввернуть призыв ведуний было для Малюты вдвойне выгодно: новая декорация для завтра и новое сбиванье с прямого пути бодрой царской мысли. Расчет оказался верен.
– Так ты ведуньев этих поставь мне завтра спервоначалу! – решил державный, снова поддавшись минутной уверенности, что царское слово его способно разрушить чары и заставить говорить правду.
Малюта на этот раз высказал тоже что-то вроде его уверенности. Он знал уже, что у баб отрезанные языки не нарастут за ночь, а их бурчанье, вследствие невозможности говорить, примется за явное вмешательство противника Божия в дела человеческие.
Малюта слишком хорошо знал своего повелителя, чтобы мог не принять в расчет и подвижности его ощущений, легко менявшихся да переходивших из одной крайности в другую, от одного противоречия к другому. На этом и был построен им план трагедии с плачевным концом, данной в Новагороде 8 января 1570 года.
Мрачно начался этот грозный день. Совсем рассвело, когда вошел отец Евстафий в ложницу государеву и своим приходом перервал чуткий сон Грозного, всю ночь не смыкавшего глаз под напором мрачных мыслей, терзавших сердце своей правдивой едкостью. Была минута, когда государь совсем было решился бросить розыск новгородский, – положив на совесть обвиняемых смутное сплетение мнимых ветвей заговора, выпустить Пимена и всех захваченных да неоглядкой ускакать в свою Александровскую слободу. Отравление брата, вина которого представилась теперь совести державного недоказанной, мощно повлияло на такое решение. Послан был Истома Безобразов к конюшему даже – поднять конюший чин и уже немедля подавать царские сани, но постельничего (угрозой покончить тут же) остановил все понявший Малюта – и Истома в трепете явился на рассвете доложить, что нигде не отыскал конюшего! Тем временем воспользовался Малюта и пересказом, по-своему бессвязной болтовни попа Луки, взвел целую гору обвинений на попов и монахов. Якобы под видом юродивых покрывали знахарей и ведуний, и внушали они пасомым своим возможность верить их предсказаниям. А предсказанья эти были между тем подговоры, что под правлением князя Владимира Андреевича, под покровительной сенью ляшского господства все воображаемые беды и невзгоды Новагорода кончатся. Что всюду будет довольство и обилие вместо теперешнего упадка и скудости наступивших неурожайных лет.
Естественно возникшее от этого сообщения колебанье мыслей царских окончательно лишило сил болезненно возбужденный организм Грозного, и краткий лихорадочный сон смежил вежды державного перед самым рассветом. Перервание такого сна, разумеется, не привело ни к чему другому, кроме раздражительного настроения нравственно убитого Иоанна. Ум его при таком положении способен был делать одни лихорадочные скачки и легко приходить к самым антилогическим решениям, поддаваясь попеременно страху и раздражению.
Бледный, с горящими дико глазами и нескрываемой яростью, выехал Грозный царь на место «суда».
Сойдя с коня, государь оперся на руку сына, проявляя телесную слабость, как бы поднятый с болезненного ложа после продолжительного недуга. Поднявшись на ступени и подойдя к своему престолу, монарх произнес краткую речь голосом, дрожавшим от волнения, но звучным и полным гнева:
– Новгородцы! Приступаю чинить суд над крамольниками… На невинных не кладу опалы. Она постигнет одних нераскаянных. Горе тем, кто вздумает запираться и не отвечать по совести на то, о чем его спросят. Я сам все выслушаю… Не попущу крамолы; казню нечестие… И не обманет меня упорное отрицание или молчание!.. Толикое зло вызовет злейшую кару…
Сел, и подвели к передней кучке дьяков, связанных по трое, пятнадцать женщин, один вид которых внушал невольный ужас. Страшные, посинелые лица, дикое выражение глаз, свороченные на стороны рты, как бы в судороге, если не от истязаний; всклокоченные, выбивавшиеся из-под повойников волосы, с запекшеюся местами кровью, и вывернутые в пытке руки, скрученные за спиной, – в общем и в частности представляли тяжелую картину безвыходных мучений. Приведенные несчастные грохнулись всей толпой на колени. Их подняли за веревки.
Дьяк речисто сделал перекличку пятнадцати женских имен и прозваний и задал общий вопрос:
– Как вы, забыв страх Божий, предались духу злобы и колдовством превращаете смысл людской?
Несчастные закачали головой и замахали руками.
Малюта, стоя за государем, ввернул:
– Вот все одно, махают и слова не проронят.
Иоанн встал и крикнул:
– Отвечайте! Упорство – смерть! В последний раз говорю…
Дьяки, усердствуя будто, каждой на ухо вслух повторили вопрос и слова государевы, словно они не слыхали их.
Маханье руками и качанье головой повторились, сопровождаемые диким, животным воем вместо слов.
Мурашки нервной дрожи пробежали при этом по коже у приказных и у большинства бояр, поднимая дыбом волосы. Грозный побледнел еще более. Царевич задрожал.
Среди мертвой тишины раздался сиплый голос Малюты:
– Отвечайте или приготовьтесь к смерти!
Еще более страшный вой и маханье. Государь махнул рукою – и смысл этого мановения Малюта понял, видно, по-своему. Указал вперед – и эту толпу несчастных увели, заменив десятью священниками да монахами.
Для допроса их выступил другой дьяк и тоже начал с переклички.
Приведенные речисто, словом «яз» при произнесении своего имени, подтвердили, что они те самые.
Начался допрос.
– Видели вы баб-ведуньев, здесь стоявших?
– Видели.
– Знаете их?
Один отозвался, что Матрену и Феклу выдавали за знахарок. Прочие ответили отрицательно.
– Коли в твоем приходе ведуньи были, чего для их за приставы не отдавал?
– Отдавать за приставы – дело владыки да градского начальства.
– Как же прельщали ведуньи эти народ и как вы, попы, чад духовных не отвращали им верить?
– Ведал я, – отвечает один, – что ворожит баба; по духовенству наказывал душевредные лести сатанинские бежати, а подговаривать николи… Избави меня Господь!
– А поп Лука показывает прямо, что подговор был.
– Мало ль что попу Луке мерещиться может… Разоврется – на себя клепал иногда-сь, что, коли ему похочется, может он мехоношу во двор к себе приучить летать, всякое добро ему носить. Батюшка отец Исакий да дьякон Варлам Колмовской на то есть послухи.
Поп Лука забормотал что-то, так что никто не понял, и пустился в бег. В расчетах Малюты и Фуникова не было допрашивать Скорохвата – тогда бы, чего доброго, открылось обвинение не против оговоренных, а против оговаривавшего, потому бега его как бы не заметили.
Иоанн остался недоволен расспросами о ведуньях, и сам, оставаясь по-прежнему не в духе, если не говорить в раздражении, молвил:
– Духовные отцы, хоща и не подучали ворожиться, да мало, знать, наказывали прелести бесовския отметаться, коли в приходе бабы-ведуньи жили и людей прельщали? И за такое воровство на попов довлеет положити пеню большую – до двадцати рублев… А коли не платят – на правеж!
Голос его задрожал, а лицо сделалось еще мертвеннее, и глаза еще быстрее заходили, меча искры в ярости, переходившей все пределы. Малюта весело взглянул на ватажника, очутившегося подле него и связанных. Грабитель шепотом скороговоркою проговорил:
– Все попы в попущенье винны – всем окуп и правеж, значит?
Бельский кивком головы подтвердил это чудовищное решение. Дьяки, слыша, переглянулись.
У Грозного сильнейшее проявление ярости в эту пору часто влекло за собою ослабление – как бывает после сильного нервного припадка у людей, уже значительно истративших жизненные силы. Приближенные знали, что ослабление это иногда сопровождалось и обмороками. Ожидая того же самого и теперь, Борис Годунов шепнул что-то царевичу – и тот, встав и взяв отца за руку, тихо молвил:
– Государь-родитель, не изволишь ли мало-маля освежиться?.. Пройтитися…
Борис, Истома-постельничий и еще один боярин опричный тоже взяли под руки государя. Он не прекословил, почувствовав дурно.
Испив немного и пошатываясь, направился к саням своим Грозный.
XIII Развязка трагедии
Отъезд державного развязал руки бессовестным мучителям и доносчикам.
Теперь у них представление судейской трагикомедии получило два вида решений: людей состоятельных после трех-четырех вопросов и ответов обвиняли в попущенье, налагая большие окупы и ставя до уплаты на правеж, то есть под палки. Тех же, кто ничего не говорил (по неведенью, что отвечать) или в ответах повторял очень естественное «не знаю!», без всяких церемоний топили в полыньях волховских, на этот раз, к несчастью, очень больших и частых. Самая большая полынья была под середними городнями Волховского моста. Чтобы вернее бросать в нее несчастных, злодеи построили род эшафота на мосту. Взводили на него связанных по ступенькам с навязанными на шею камнями и сталкивали с высоты. Так что вода со льдом расхлестывалась высоко, принимая в ледяное лоно свою жертву, опускавшуюся прямо на дно. Случалось, однако, что жертвы боролись, выказывая сверхъестественную силу, и, разумеется, длили свою агонию, делая верную смерть более мучительной. Иногда, в борьбе за жизнь, удавалось сбросить жертве камень с шеи, и, падая, обреченный на гибель выплывал на поверхность и, держась на воде, хватался за край ледяной коры полыньи. Рассказывали даже про невероятное почти спасение некоторых и при таких обстоятельствах. Изобретательность злодеев, впрочем, не уставала придумывать средства пресечь и для таких героев способы к спасению. Кому-то из кромешников при виде выплывавших и вылезавших на лед пришла адская мысль: сесть в лодку с баграми и рогатинами да и доканчивать борьбу с топимыми. Всех ужасов, пускаемых в дело Малютой и его достойными клевретами, пересказать не хватило бы места и на десятке листов, не только в скромных наших указаниях на обстановку бедствий, при которых внезапно явился еще раз Суббота Осетр на свою погибель.
После открытия кровавого судилища Грозный не являлся уже на нем, но только получал донесения об упорстве обвиняемых.
– Заведомо заколдованы, – не забывал вставлять, говоря это, Малюта.
– Заколдованы… Все?! – с сомнением, но полный ужаса, отзывался Иоанн. – Что поделать с таким народом?
– Ничего не берет нераскаянных, и приходится угрозу выполнять нещадно.
– О! Горе мне, грешному!.. Неужели, однако, все упорствуют?.. – Иоанн знаком руки, показав на шею, сам боялся назвать рубленье голов, применяемое огулом.
Малюта понял, что ответ прямой при таком вопросе для него опасен, так как, делая вопрос, государь, видимо, не понимал всего ужаса избиения поголовного.
– Самых упорных, надежа государь, повелел ты, испытавши все средства склоненья к раскаянью… осуждать их, в страх другим…
– Однако, говоришь, все упорны?! Всех не перебьешь; вместо кары испытывали ли вы обещанье нашей милости? Велик ответ государь даст перед Богом за кару и тяжко виновных… Таких не может быть много… Остальные, может, и впрямь не знают, а не упорствуют?.. Уговаривайте!..
– Коли бы не колдовство, государь, заведомое, не посяжка на ваше, государево, здравие у злодеев – нечего бы им и запираться! А таких злодеев, кии вред царственному животу мыслят и творят, не грех карати за зло… – изворачивался Бельский, еще раз нагло обманывая своего повелителя.
– Однако так долго разыскивать виновных… Встречать упорство. Ничего не найти: ни хвостов, ни следа… Что-нибудь да не так?
– Кое-что открыли, а виноватых казнили уж.
– Это ты, Малюта, говоришь мне неправо! Показать сегодня же мне доспросные речи тех, кого вы судом своим совсем обвинили, – дал приказ решительно Грозный, так что увертываться больше нельзя было.
– Поднесу, государь, коли изволишь, велю вечером собрать…
Глубокая дума на лице царя, предвещавшая грозу, не утаилась от Бельского, видимо приунывшего. Неуверенно вышел он из палаты, направившись к Волховскому мосту. Здесь же внезапно перед глазами его разыгралась одна из тех невероятных неожиданностей, которые сбивают с толку самые обдуманные предприятия, хотя все, казалось, предусмотрено и приняты всевозможные меры, чтобы в деле не было ни колка ни задоринки.
Угрюмый выехал Суббота из обители, служившей ему лечебницей. С возвращением сознания пришла на память цель выезда из Москвы – Новагород. Власти монастырские подлинно знали, что государь и при нем Малюта Скуратов давно уже расправу чинят в волховской столице. Какая расправа эта – все молчали, и, подъезжая уже к Новагороду, Суббота только мог бы наталкиваться на действия своих товарищей кромешников, если бы внимание его не было притуплено собственным горем. Въехав на пустые почти улицы города, Осетр невольно стал чувствовать, что чинится тут что-то недоброе. Попал же на Волховский мост Суббота в то именно время, когда гнали по нем связанных плачущих женщин, которые были с грудными детьми, плохо прикрытыми лохмотьями матерей, босоногих и растерзанных. Следуя шагом по мосту почти вровень с грустной толпою жертв варварства Малюты, ничего не понимая, что бы это значило, Суббота случайно кинул взгляд на бедняжек, и показалось ему одно женское лицо знакомым. Мгновение – и в знакомом лице признает он черты Глаши, но в каком виде? Сердце перевернулось в Осетре – и он сам, не зная, что делает, крикнул:
– Глаша!
Услышав свое имя, скорбная мать обернулась, узнала говорящего, и инстинктивное чувство любви к ребенку сказалось в ее ответе:
– Спаси мое дитя – и я прощу тебе истязанье мужа, если в тебе есть крошка жалости и ты не злорадствуешь, окликая меня…
– Спасти дитя? А ты?..
– Пусть топят – конец страданьям!
– Кого топят?.. Как топят? – нерешительно, не веря еще своим ушам, переспрашивает Суббота, схватив уже за руку Глашу.
– Нас ведут топить, теперь…
– Кто? Душегубство разве позволено?.. Что вы сделали?..
– Мы – ничего, а топить ведут нас, как вчера утопили десятка три, и завтра.
– Да где я? Где мы! Ужели я опять грежу наяву?
– Не грезишь, в Новагороде мы, на мосту… И с моста здесь, по грехам людским, безвинных топят, бьют, рубят…
– Литва, что ль, здесь… Где же наши?!
– Не Литва… Свои губят… По царскому, сказано, повеленью.
– Не может быть… Ты ума рехнулась, несчастная!..
– Дал бы Бог, легче бы было!
– Что говорит эта женщина?.. Куда ведут их? – спрашивает у опричника Суббота, решительно и грозно.
Тот хотел огрызнуться, но, видя метлу и собачью голову, только оглядел с головы до ног спрашивавшего и отрезал:
– Не наше с тобой дело спрашивать… Больно любопытен!..
– Отвечай! – не владея собой и обнажив меч, крикнул Суббота дерзкому – и тот, по богатой одежде оценивая значение в опричнине, неохотно, но дал ответ:
– Топить… Известно! Да ты кто?
– Я стремянной царский Осетр. Таких разбойников, как ты, наряженных опричниками, угомонить еще могу… – И за словом рубанул его со всего плеча. Подскакал другой – и его уложил меч Субботы.
Гнавшие женщин бежали, крича: «Измена!»
Малюта побледнел, услышав внезапно этот крик, и пришпорил коня своего. Одновременно с ним, но другой стороной скакали на внезапного врага уже пятеро опричников. С одного удара он успел свалить поодиночке троих; удар четвертого попал вскользь, однако ранил руку, а пятый, споткнувшись с конем, не успел поднять меча, как потерял голову. Сзади наскакал в это мгновение Малюта и кнутовищем, безоружный, ударил по голове и между плеч ошеломленного храбреца. Но еще в горячности, Суббота быстро поворотился и размахом меча перерубил бы надвое смельчака, если бы Малюта не отскочил и не крикнул:
– Осетр!
Голос и наружность Григория Лукьяныча были слишком знакомы Осетру, чтобы он мгновенно не узнал своего начальника.
– Так-то ты своих бьешь! – крикнул Малюта.
– Разбойники заслуживают смерти.
– Не твое дело рассуждать! Как смел ты поднять руку на слуг царских?
– Царь не атаман разбойников… Суди меня Бог и государь, коли в чем винен, а невинных бить не дам, пока жив…
– Чего невинные… Кого же бьют? Ты все еще не пришел в себя…
– Нет, боярин… Хорошо слышал и Глашины слова, и подтвержденье того злодея, которого я первым убил, что этих женщин топить вели изверги!.. Не давая губить невинных, я – не разбойник, я слуга царский… верный…
– Это разберут после… Брось меч, тобой оскверненный убийством своих, и следуй за мною. Хватай его! – крикнул Малюта подоспевшим трем-четырем еще кромешникам.
– Коли своих бил этим мечом – не отдам его никому, пусть царь меня судит!.. Если скажет он, что губят народ по его указу, – поверю… А тебе, боярин, не верю! Погиб я, не спорю и защищаться не хочу… Но жизнь моя значит тут что-нибудь – правда!
И, махая мечом, Осетр не давал к себе подступить; отваги же броситься под шальной удар у опричников не хватало, видя убитых этим сумасшедшим.
– Вишь, он рехнулся, боярин! – отозвался один из опричников. – Пусть едет к царю, – подмигивая Малюте, чтобы он не перечил этой невинной лжи, чтобы провести страшного рубаку, внушительно добавил ему непрошеный советник. Когда бы он знал, как не любо явленье вновь к государю было теперь Григорию Лукьянычу!
Делать, однако же, было нечего. Пришлось уговариваться с Субботой, не выпускавшим и руку Глаши.
– Добро, пусть царь судит тебя, любимца своего, – поддакнул Малюта, не думая, чтобы горячему Осетру удалось доступить до державного. Сам он считал нужным предварительно доложить дело, чтобы еще раз колючая правда не представилась во всем неприкосновенном своем виде. Вышло не совсем так.
Суббота посадил к себе на коня связанную Глашу с дитятей. Малюта поехал вперед на Городище, за храбрецом в почтительном отдалении последовала кучка кромешников, не спуская глаз с твердо держимого меча, покрытого кровью.
Против царского дома остановился в сторонке этот кортеж, и Малюта ловко юркнул к государю с заднего крыльца.
Слух, что сделалось возмущение и привезли губителя опричников, вызвал на крыльцо толпу любопытных. Молодой Борис Годунов был одним из них. С первого взгляда он узнал стремянного – медвежьего плясуна, – и любопытство и расчет заставили царского любимца политика заговорить с учинившим побоище. Хитрый Борис выслушал дело и пошел в хоромы, тут же решив помочь виноватому, который не думал запираться и просить пощады. Это было выгодно для цели, у него уже давно обдуманной: низвергнуть Малюту, открыв глаза царю Грозному на злодейства, совершаемые его именем.
Воротиться к царевичу, нарядить его, явиться к отцу-государю с предложением выслушать лично преступника было для Бориса делом нетрудным, без потери дорогого времени.
Малюта не вдруг решился и не прямо сказал о бое опричников, подготовляя издалека царя, и уже забежал с известием о сумасшествии стремянного Осетра, который будто не помнил, за что поколол заигравшихся с ним товарищей, хотевших подразнить его медвежьею пляскою. Все шло как по маслу. Грозный сочувственно принял известие о болезни верного слуги своего. По обычаю своей подозрительности, Иоанн только прибавил:
– Разыскать, не было ли зла тут: не опоили ли его понасердку!
– Разузнаем, государь… Все разузнаем, а теперь нужно малого убрать в надежное место, не то бы дурна не учинил над собою.
Вошел сильно взволнованный царевич и прямо заговорил:
– Государь батюшка, на мосту на Софийском смута. Опричников побил стремянной наш Осетр, меч обнажив и напав на стражу…
– Это дело, Ваня, не так Малюта говорит. Осетр-то с ума сбрел… Не помнит ничего и понятия не имеет совсем. Поколол зубоскалов… Смеяться, вишь, да дразнить его вздумали.
– Малюта, государь, не то говорил тебе. Осетр Суббота во всей своей памяти в учиненном художестве не запирается, приносит полное покаяние.
– Просветление, что ль, малое нашло?.. Повидать мы его сами постараемся.
– Не просветленье малое, государь, а полное признанье… Осетр ведь перед дворец твой приведен и с поличным. Говорит все ясно и отчетливо. Сам изволишь убедиться, коли повелишь ввести его.
– Коли здесь он и может все помнить – ввести.
– Веди Осетра, Борис! – крикнул царевич, поспешив заявить, чтобы не предупредил Малюта, от этой неожиданности раскрытия лжи своей потерявшийся.
Растворились двери из сеней – и, всё продолжая держать плачущую Глашу с ребенком на руках, вошел суровый Суббота с окровавленным мечом своим и сам покрытый кровью из раны на прорубленном плече.
– Виноват, великий государь! – начал он, преклонив колени. – Побил я грабителей и разбойников, не признав в них слуг твоих, когда говорили они, что доподлинно губить вели безвинных женщин, вместе с этой Глафирой. Вины за этими женщинами быть не может, а слуги твои – не Иродовы избиватели младенцев. Меча, которым убил я извергов, не отдал я без твоей державной воли. Казни меня, виноватого, защити только безвинную. Я любил ее как невесту свою. Потеряв ее, хотел отомстить своим обидчикам. Стравил медведю ее мужа – дьяка Данилу – и за это казнь заслуживаю. За то же, что поднял меч на защиту, рассудит правота твоя: виновен ли я? Пощады не прошу и не заслуживаю, но тебе только поверю, коли сам скажешь, что с ведома твоего топят народ ежедень, с детями. Не мне верь, а этой женщине. Сам ее спроси.
И он сложил окровавленный меч к ногам царским.
– Поднявшие меч – мечом и погибнуть должны!.. – отозвался Грозный, выслушав признание Субботы. – Ты бы должен был помнить это и не быть мстителем, – прибавил государь грустно.
– Голова моя пред тобой, государь, повели казнить неключимого, но выслушай слова этой несчастной.
– Ее выслушаю, а ты приготовься! Не в катские руки отдам тебя, умрешь от руки товарища… Я не забываю, что ты – опричник! Говори всю правду – что знаешь? – обратился Грозный к отчаянной Глаше.
– Знаю, государь, я одно: неведомо за что бьют и топят у нас в Новагороде сотнями, слуги твои… Меня с другими женщинами волокли тоже топить, как попался Суббота… Признал он меня. Я попросила спасти дитя только. Он не поверил мне, что нас губить тащат… Переспросил опричника: так ли? Тот подтвердил… Суббота и ему не поверил, чтобы была на то воля твоя, государь: губить без вины всех нас. Убил прежде сказавшего, считая его не слугой твоим, а разбойником… Потом других порубил, что налетели на него. Меча не хотел отдать никому, кроме тебя. Ослушался боярина, должно быть, лютого губителя нашего. – Она глазами указала на Малюту.
– Карать государь должен за крамолу! – отозвался Грозный, но в голосе его слышались теперь не ярость и гнев, а глубокая скорбь и неуверенность. – Губить невинных мне, царю, и в мысль не приходило… Казнить без суда я не приказывал… Ведуньев каких-то, упорных, не хотевших отвечать, только я велел, за нераскаянность при дознанной виновности, покарать по Судебнику за злые дела их…
– Государь, – ответила отчаянная Глаша, – всех женщин да мужчин губили, не спрашивая, за что… Коли нечего отвечать на вопрос о деле, о коем ничего не знаешь сказать, поневоле скажешь – нет! Это ли нераскаянность и ослушанье? Это ли причина губить огулом, без разбору?
На лице Грозного выразился величайший ужас, лишивший его слов.
На всех присутствующих – исключая царевича разве да Бориса Годунова – слова Осетра и Глаши произвели разнообразные действия с общим ощущением трепета и неотразимости бедствия. Малюта, дерзкий и находчивый всегда, тут не мог владеть собой и собрать мысли. Взгляд, брошенный на него Грозным, заставил затрепетать злодея – и в сердце царя этот трепет его был самым неопровержимым доказательством страшного дела.
Иван Васильевич зашатался. Тяжело опустился на свое кресло, схватясь за голову, словно стараясь удержать ее на плечах. Действительно, от внезапного прилива крови голова у него кружилась и все предметы представлялись в движении, удерживая облики свои только до половины, наполовину же представляясь тусклыми. Тишина была так велика, что могло бы слышаться усиленное биение сердца в груди присутствующих, если бы их было не так много. Какая-то невыразимая тяжесть мешала вылетать порывам дыханья, хотя от напора его готовы были задохнуться многие. Осилив первый эту бурю ужаса, Иоанн движением руки подозвал к себе Бориса и, задыхаясь, сказал ему, указывая на Глашу:
– Возьми, чтобы была она цела и невредима… Останьтеся вы, – произнес Грозный, взяв за руку сына.
Держа за руку Глашу, Борис Годунов тихо молвил всем:
– Выйти велено.
За дверью отдал приказ взять раненого Субботу в сторожку и, как бы делая над собою величайшее усилие, шепнул на ухо подбежавшему было Малюте:
– Уезжай немедленно к войску, если жизнь дорога тебе! Уходится – дам знать… До того на глаза не попадайся.
Зверь Малюта подчинился приказу этого молокососа.
Эпилог Сердце царево в руце Божией
Ночь. Царя Грозного узнать нельзя, так изменили его несколько часов тяжелой скорби, чуть не отчаяния. Ум страждущего монарха получил давно ему, казалось, незнакомую проницательность, при настоящем положении только усиливающую душевную боль. Сознание, что он сам, всей душой предан улучшению быта народного, служил игрушкой врагов народа, напускавших гнев державного на кого хотелось этим извергам, – было самым мучительным. Уверенность, теперь несомненная, что, напуская страхи придумываемыми восстаниями и заговорами, коварная клика злодеев набросила на самодержавного государя тень множества черных дел, самый намек на которые отвергнут был бы его совестью, умом и волею, – представляла Грозному положение его безвыходным. Тиран, мучитель безвинных, руками таких же зверей, как сам, – вот что скажут потомки, не ведавшие всей неотвратимости обмана, которым осетили умного правителя те самые, которых поставил он на замену адашевцев.
– Кто же поверит, что, выбирая в свои наперстники зверей, носивших только образ человеческий, я не удовлетворял личным побуждениям злого сердца! – горько рыдая, говорил сам с собою царь Иван Васильевич. – И будут они правы, по-своему верно ставя обвинения. Не нравились ему, скажут они, не за то адашевцы, что всем заправляли и все забрали в лапы, скрывая от царя правду и показывая, что им было нужно, набрал он им на смену таких же управителей. Значит, нужны ему были эти шайки полновластных хозяев, ворочавших его именем? Адашевцы оказались менее жестокими! Человеческая кровь нужна была. Пить и лить ее выискалась шайка кромешников. От них, говорят, никому нет пощады. А я?.. Опустил руки!.. Вижу и слышу только так и то, что мне говорят и по-своему, прежде натолковав, указывают… Где моя прозорливость была, когда сомнение щемило сердце, а ухо поддавалось лепету коварных сплетений лжи, на гибель сотням и тысячам?.. Ну, казню я своих злодеев, очистят ли меня осужденье и кара их от обвинения в потворстве с моей стороны сперва, а потом в взваливанье на них моей же вины? Их гибель, скажут, нужна была ему, чтобы себя обелить! Вот мое положение. Кому я, самодержец, скажу, что эти изверги меня так осетили, что я делал все им угодное и нужное и не подумал поверить да разузнать, подлинную ли правду мою представляют? Как царю не поверить донесенью слуг своих, когда он постоянно все и узнает из этих же донесений?! Сам собою не имею я возможности открыть подлог и ложь, если захотят меня морочить! Сознаться в невозможности видеть истину, самому сказать, что я не способен управлять? А другие, если ты откажешься, способнее, что ли, это выполнить? Сесть на престол многие поохотятся, пусти только. Выполнить царские обязанности если не сможет привычный кормчий, по человечеству несвободный от промахов, – где смочь понести их непривычному, неопытному?.. Меня – наследственного владыку – могут окружить прихлебатели, искатели милостей, первые враги государей. Не больше ли зла наведут они при случайно возвысившемся? Сердцеведец!.. Ты зришь глубину души моей! Впал я в сети коварства и перед судом Твоим не обинуюсь, за зло, моим именем учиненное, понести заслуженное мною. Верую в святость судеб Твоих! Если же перед Тобой не хочу оправдываться неведением, какая польза перед людьми сваливать мне, самодержцу, вину на презренных слуг? Карай меня, Господи, за зло, ими учиненное! Сознаю в этом правосудие: но – просвети, пока не настанет час кары! Просвети мои умственные очи, да вторично не сделаюсь орудием людской злобы… Невознаградима кровь, пролитая злодеями при моем ослеплении… По крайней мере, нужно вознаградить, кого можно и кто не предстал еще моим обвинителем перед Судьей Праведным. Эй, кто там?.. Позвать Годунова Бориса ко мне!
Любимец царевича предвидел, что уста Иоанна произнесут в порывах мрачного отчаяния, и только ожидал зова, готовый пролить бальзам утешения в душу сильно потрясенного государя. Пользуясь страхом, наведенным признаньем Субботы и словами Глаши, молодой царедворец сумел повернуть руль царской благосклонности в свою пользу – советом Малюте скрыться от гнева. Удаление этого корня зла дало возможность не тратя времени начать поправку содеянного вреда. В силу царского приказа он не только спас Глашу, но и вырвал из рук палачей еще другие жертвы их злобы и любостяжания. Опричники собраны и усажены в слободах, назначенных для постоя их. Оцепленья сняты. Ватажник с братиею сам попал в кандалы и на цепь. Поп Лука – тоже с ними вместе. Выводимые на правеж выпущены – и весть, что авось смилуется Создатель? – в этот еще вечер облетела опустошенные слободы. Напуганные только боялись верить слуху о прекращении ужасов, хотя песни кромешников смолкли.
– Что в несчастном городе? – спросил Грозный вошедшего Бориса.
– Боятся верить покуда минованью ужасов.
– О господи! Что мне делать, преступнику?..
– Во-первых, государь, благоизволишь ободрить заутра уцелевших… Разошлем, во-вторых, помянники по обителям о поминовении страдальцев и страдалиц от Малютиной злобы и коварства.
– Моленья о душах их наша обязанность, но не сильны они смыть с души моей злодейства рабов моих…
– Государь, мертвые не встают; не успел я спасти Осетра – Василий Грязной, услыша твое решение, уже покончил его.
– Впиши его, несчастного и правдивого, первого в па-мянник… Встал за правое дело и – погиб!
– На то была воля не твоя, государь, он поднял оружие на своих… По совести не могу обвинить его, но долг не дает возможности и оправдать: поднявшие меч – мечом погибнут! Он, как донесли мне, жаждал смерти, считая себя виноватым раньше за злодейство над мужем поведавшей пред тобой лютость мучителей… Грязной на зло скор, как и все опричные…
– Я бы мог простить ему ревность не по разуму… Но он не просил пощады… Да будет воля Божия! Не ворочу я к жизни его, а был честный слуга.
– Зато грабителей, государь, и притеснителей, ради корысти пустившихся на доносы, не пощадит твое правосудие.
– Делай с ними, что знаешь, и с Малютой…
– Ты не увидишь его более, государь… Разве донесу, когда сложит честно голову в бою…
– О нем не поминай мне. Приготовь все к выезду нашему, и… Собрать людей новгородских… Хочу уверить их в безопасности.
Наступило утро, в полном смысле великопостное, сырое, мозглое, туманное. Редкими кучками удалось расставить унылых, загнанных горожан, уцелевших от казней. Сами как живые тени – стояли эти остатки недавно еще зажиточного населения. В толпе их стояла и Глаша с мужем, оправившимся от травли, посматривая на мост, откуда должен явиться Грозный. «Едет, едет!» – торопливо заговорили десятники стрелецкие, равняя ряды приведенных. С приближением царского поезда оробевшие опустились инстинктивно на колени, сняв шапки.
Иоанн въехал в круг их и задрожавшим от волнения голосом заговорил:
– Ободритесь, пусть судит Бог виновника пролития крови! Зла отныне не будет никому ни единого. Узнал я поздно злодейство… Кладу на душу мою излишество наказанья, допущенное по моему неведению… Оставляю правителей справедливых, но, памятуя, что человеку сродно погрешать, я повелел о делах ваших доносить мне, прежде выполнения карательных приговоров…
Слова милости еще звучали в ушах не могших прийти в себя граждан, а царь и царевич уже скрылись из виду.
Примечания
1
Жуковина – старинное русское слово от латинского scarabaeus – резной камень вообще, а не простая вырезка вглубь священного изображения рака, имевшего в Египте символический смысл, а в древнем мире вообще значение амулета.
(обратно)2
Совмещение обязанностей судебного и станового пристава, выбранного местными землевладельцами.
(обратно)3
Свидетелей.
(обратно)4
Адъютант отрядный.
(обратно)5
Отрядных начальников.
(обратно)6
Так русские называли ходившие несколько веков у нас в обращении иохимсталеры.
(обратно)7
Дьяки и подьячие с приписью, как старшие между своей братьею, подписывались, скрепляя; это указание себя в качестве дельца и называлось приписью, считаясь почетом.
(обратно)8
Рудою в народе называется кровь
(обратно)9
Поддельный документ.
(обратно)




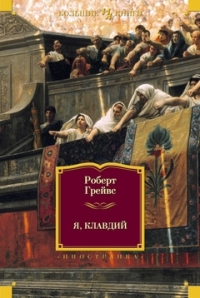
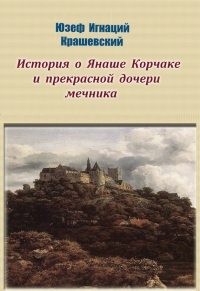
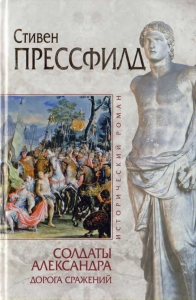

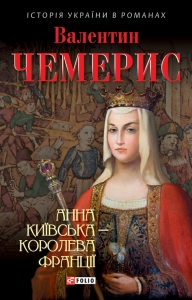

Комментарии к книге «Царский суд», Петр Николаевич Петров
Всего 0 комментариев