Константин Петрович Масальский Стрельцы
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2010
© ООО «РИЦ Литература», 2010
* * *
Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие.
КарамзинДействие в сем романе начинается со вступления на престол Петра Великого и продолжается до заключения в монастырь царевны Софии Алексеевны (1682–1689). Время сие представляет ряд событий, принадлежащих, без сомнения, к числу самых занимательных в истории нашего отечества.
Сочинитель хотел в форме романа представить сии события со всею возможною подробностию и верностию, держась не столько повествовательного, сколько драматического способа изложения. В повествовании, сколь бы оно ни было совершенно, мы слышим рассказ автора, разделяем с ним его мысли и чувствования. В драме мы видим самые лица, действовавшие во время события, узнаем характер их и страсти, намерения и желания, добродетели и пороки не из рассказа, а из слов и поступков их. Мы становимся сами свидетелями минувшего, живее желаем успеха добродетельному, сильнее чувствуем отвращение к злодею, яснее усматриваем странности, предрассудки и слабости прошедшего века, сильнее ужасаемся преступлений и удивляемся подвигам, одним словом, сами переносимся в прошедшее и живем с нашими предками. История сделалась бы еще занимательнее, если б драматический способ изложения был для нее возможен. Но историк может только влагать в уста своих героев такие слова, которые сохранились в летописях или в других исторических актах, хотя часто слова сии принадлежат летописцу, а не герою; должен соображать исторические материалы, часто одни другим противоречащие, и, освещая мрак прошедшего светильником исторической критики, говорить читателю: так было, или так долженствовало быть. Для него необходим слог повествовательный, коего главные достоинства суть сила и краткость. Чем более расскажет он важных и замечательных происшествий и чем короче будет рассказ его, тем большую он окажет услугу читателю. Представляя картину целых веков и тысячелетий, он по необходимости должен упускать подробности, часто весьма занимательные и любопытные, дабы не быть принужденным написать вместо одного тома десять. Подробности сии суть сокровища для исторического романиста. В четырех томах историк опишет четыре века, а романист – четыре года, или далее месяца, и никто ему слова не скажет, если только книга его приятна и заманчива. Историк, имеющий цель высшую, а не одно удовольствие читателей, часто обязан описывать события мало занимательные, но важные по своим последствиям. Романист имеет полное право умолчать об оных и рассказать подробно только то, что может приятно занять читателя. Историк открывает истину в прошедшем, вечные законы, управляющие миром, и созерцает события, как философ, заботясь не столько об удовольствии, сколько о поучении читающих. Исторический романист старается представить прошедшее в заманчивом и привлекательном виде и заботится преимущественно об удовольствии читателей, не выставляя слишком явно философическую или поучительную цель, которая должна быть и в романе. Однако ж романист не должен отступать от истины в происшествиях важных. Выводимые им на сцену исторические лица должны говорить и действовать сообразно с их истинными характерами. Слова и поступки их не должны нисколько противоречить истории. Одежда, нравы, обычаи и обряды, состояние религии, нравственности и умственного образования, дух законодательства должны быть романистом представлены в верной картине, которая не отвлекала бы, однако ж, внимания от хода происшествий. В происшествиях сих должно действовать преимущественно одно главное лицо. Оно может быть вымышленное или историческое. В последнем случае всего лучше избирать такое лицо, которого судьба достаточно не объяснена историею, дабы читателю не была наперед известна развязка романа. В вымыслах, необходимых для завязки и развязки, должно строго соблюдать правдоподобие и дух времени, которое описывается, и стараться все вымышленные происшествия представлять в связи с истинными, как последствия оных, как подробности, дополняющие и объясняющие повествование истории или по крайней мере ей не противоречащие. Вот мысли, которые сочинитель имел в виду, принявшись за роман. Справедливы ли они и исполнил ли сочинитель все, самому себе предписанное, – решат критики и просвещенные читатели. Сочинитель слишком далек от того, чтобы мнения свои считать безошибочными и опыты совершенными. Он искренно будет признателен благонамеренной критике, если она укажет ему ошибки в его мнении об исторических романах и недостатки в его сочинении.
Нравственная цель сего романа состоит в том, чтобы представить в верной картине ужасы мятежей и безначалия, вредные последствия насильственных переворотов в государстве, правосудие Провидения, не оставляющего без наказания виновников возмущений, и достойные подражания примеры преданности церкви, престолу и Отечеству.
Дабы не развлекать внимания читателя при чтении романа так называемыми историческими примечаниями, сочинитель ограничился весьма немногими, которые были необходимы для пояснения некоторых мест и старинных выражений в сей книге, и поместил в конце четвертой части указание источников, на коих каждая глава основана, не выписывая, однако ж, ничего из оных и не показывая своих изысканий и соображений. Для критика легко будет по сим указаниям решить: с достаточным ли старанием и успехом сочинитель употреблял исторические материалы. Но дабы читатели прежде сего решения могли хотя несколько удостовериться, что он не жалел труда и не упускал из вида даже мелочей, достаточно будет привести несколько примеров.
В I части «Деяний Петра Великого» на странице 158 сказано, что в первый бунт стрельцов, начавшийся 15 мая 1682 года и продолжавшийся три дня, убит был в числе прочих бояр князь Михаил Алегукович Черкасский. Сумароков в Описании означенного бунта пишет на странице 31, что князь сей защищал от стрельцов боярина Матвеева, но о смерти его ничего не говорит. В VII части «Древней Российской Вивлиофики» на страницах 481 и 482 сказано, что 8 июля 1682 года участвовал князь в церковном ходе из Успенского собора к церкви Казанской Божией Матери и сопровождал 13 июля царей Иоанна и Петра Алексеевичей в Троицко-Сергиевский монастырь. Из этого видно, что показание в «Деяниях Петра Великого» о смерти князя неосновательно и что он, вероятно, был только легко ранен; ибо менее нежели через два месяца после бунта участвовал уже в церковном ходе.
Сумароков в Описании бунта на странице 22, исчисляя заговорщиков, способствовавших боярину Милославскому к произведению мятежа, называет между прочим Ивана и Петра Андреевичей Толстых, не означая звания их. В «Деяниях знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра Великого», во II части на странице 61 сказано, что Петр Толстой служил стольником при царе Феодоре Алексеевиче, а потом комнатным стольником при царе Иоанне Алексеевиче. Так как заговор Милославского произведен в действие после смерти Феодора и до возведения на престол Иоанна, то и видно из сего, что Петр Толстой был в то время стольником. Сверх того в VII части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 397 в списках лиц, которые дневали и ночевали в церкви Архангела Михаила при гробнице царя Феодора Алексеевича, показаны в числе стольников Иван и Петр Андреевичи Толстые.
В VII части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 386 видно, что 28 апреля в 5-м часу дня начался обряд погребения царя Феодора Алексеевича, скончавшегося 27 апреля 1682 года. По свидетельству Маржерета (с. 24), Кемпфера (с. 361) и других иностранцев, писавших о России, предки наши погребали мертвых до истечения 24 часов после смерти, не исключая из сего правила и государей. Посему молено было полагать, что царь Феодор Алексеевич умер 27 апреля, вскоре после 5-го часа дня[1]. Но в томе III «Дополнения к деяниям Петра Великого» на странице 197 напечатана надпись, начертанная на образе, поставленном у гробницы Феодора. Из сей надписи видно, что он умер в 13-м часу дня в 1-й четверти. В Объявлении же, напечатанном в «Полном Собрании Законов Российской Империи», в томе II на странице 384 сказано, что царь скончался в 12-м часу дня[2]. Сочинитель предпочел последовать сказанному в вышеозначенной надписи.
В XIV части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 109 помещено в стихах царю Феодору Алексеевичу надгробное слово, из коего видно, что он умер в четверток. Посему можно было узнать, что 14 мая, день, назначенный заговорщиками для бунта, был понедельник. Таким образом можно было рассчитать, где было сие в романе нужно, какие дни были в известные числа, замечательные по каким-нибудь событиям.
В VII части «Древней Российской Вивлиофики» на странице 375 и следующих помещены два различных известия о вступлении Петра I на престол. Сочинитель сей статьи говорит: «Читателю благоразумному оставляется из обоих сих известий выбирать то, что имовернее, или оба согласить, сколько обстоятельства то дозволят». Сам же он ничего не решает. Известия сии содержатся в записках Разрядного и Посольского архивов. В записках первого сказано, что по смерти царя Феодора Алексеевича патриарх и Государственная Дума совещались о наследовании престола и положили избрать царя общим согласием людей всех чинов Московского государства; что избран был царем Петр Алексеевич; что Дума согласилась с сим избранием и патриарх благословил Петра на царство. В записках же Посольского архива не упоминается ничего о сем избрании, а сказано, что царевич Иоанн уступил престол брату потому, что у него здравствует его мать, царица Наталья Кирилловна; и что по просьбе духовенства, Думы и народа Петр Алексеевич принял царский венец. Голиков на странице 151 «Деяний Петра Великого», в I части, старается согласить сии записки, полагая, что после отречения Иоанна Алексеевича от престола патриарх и бояре из осторожности рассудили предоставить избрание царя на волю всех чинов и народа. Галем в Leben Peters des Grossen, в I части, на странице 31 и 32 последовал запискам Разрядного архива, а на странице 281, приводя оба известия, замечает странность причины, побудившей царевича Иоанна уступить престол брату, и сомневается в отречении его. Вероятно, говорит он, слабый царевич сам выдумал сию причину для прикрытия настоящей. А Бергман в сочинении своем Peter der Grosse als Mensch und Regent, в I части, на странице 106, заметив также противоречие в помянутых записках двух архивов, пишет, что царевич Иоанн из вопроса патриарха «кому из них престол наследовать?» заметил желание предпочесть ему младшего брата и решился добровольно уступить ему корону; ибо (сказал он) родительница его, Наталья Кирилловна, жива; и что патриарх объявил о сем отречении царевича народу, который воскликнул: «Да будет царем нашим царевич Петр Алексеевич!» Далее, говорит Бергман, следуя Голикову, что все присягали царю Петру 10 мая 1682 года. Но из Объявления (Манифеста), напечатанного во II томе «Полного Собрания Законов Российской Империи» на странице 384, видно, что все, сказанное в записках Разрядного архива, справедливо; что Петр был избран народом и что все присягали ему 27 апреля (а не 10 мая), не исключая и стрельцов, о которых Сумароков пишет, что они не признали общенародного избрания и не присягали Петру. Записки Разрядного архива, очевидно, заимствованы из означенного Объявления, изданного 27 апреля, а записки Посольского согласны с актом, изданным 26 мая 1682 года после переворота, произведенного царевною Софиею. В акте сем объявлено о совокупном вступлении на престол Иоанна и Петра и о поручении ей управления государством. (См. II том «Полного Собрания Законов Российской Империи», с. 398.) После сего понятно, почему в сем акте умолчано об избрании Петра на царство и о присяге стрельцов; почему причиною уступки престола Иоанном брату выставлено только то, что мать Петра, царица Наталья Кирилловна, здравствует и почему, наконец, не сходны официальные записки двух архивов.
Таким образом, сочинителю легко было бы увеличить историческими примечаниями вес своего сочинения; но он боялся, чтобы этот вес не подействовал на одни весы почтамта и чтобы сочинение его не сделалось вместе с тем легче на весах критики, ибо она могла бы укорить автора за нанесение читателям скуки множеством примечаний, которые послужили бы только к тому, чтобы показать труды его в изыскании и соображении материалов.
Места в романе, напечатанные косыми буквами, заключают в себе выписки, без всякой перемены слога, из исторических источников или для показания, как у нас в описанное в романе время выражались и писали, или для приведения подлинных слов и письменных актов, почему-нибудь любопытных и замечательных.
Сон, описанный в I части романа, вымышлен. Сочинитель в сем случае воспользовался правом романиста, не обязанного все без исключения основывать на исторических источниках. Может быть, станут его осуждать за несоблюдение правдоподобия; ибо многие считают, что сны не могут предсказывать будущего. Но сочинитель оправдывается свидетельством новейших германских психологов, которых нельзя укорить в суеверии или в неосновательности. Основываясь на опытах, они пишут, что деятельность души во время сна совершенно отличается от ея деятельности во время бодрствования, подлежа чудесным, непостижимым законам, и что сны, хотя и редко, могут предсказывать будущее, равно как и возобновлять в душе такие представления, которые у человека в состоянии бодрствования давно уже изгладились из памяти.
Длинное предисловие, вероятно, навело уже скуку на почтенных читателей. Сочинитель почтет себя счастливым и вознагражденным за труды, если роман его успеет произвести на них противное действие.
Часть первая
I
Где стол был яств, там гроб стоит,
Где пиршеств раздавались лики,
Надгробные там воют клики,
И бледна смерть на всех глядит.
Глядит на всех, – и на царей,
Кому в державу тесны миры,
Глядит на пышных богачей,
Что в злате и сребре кумиры;
Глядит на прелесть и красы,
Глядит на разум возвышенный,
Глядит на силы дерзновенны
И точит лезвие косы.
ДержавинЛучи заходившего солнца играли на золотых главах церквей кремлевских. Улицы и площади пустели. На лице каждого прохожего можно было заметить задумчивость, уныние и беспокойство.
– Прогневали мы, грешные, Господа Бога! – сказал купец Гостиной сотни Лаптев[3], подходя к дому своему с приятелем, пятидесятником Сухаревского стрелецкого полка Борисовым. – Царь, говорят, очень плох! Уж изволил приобщиться и собороваться. Того и жди, что… да нет! И выговорить страшно!
– Бог милостив, Андрей Матвеевич! – сказал пятидесятник. – К чему наперед унывать и печалиться. Авось царь и выздоровеет.
– Дай Господи! да куда же ты торопишься, Иван Борисович. Шли мы далеко, устали. Неужто не зайдешь ко мне отдохнуть? Жена бы поднесла вишневки. Не упрямься же, потешь приятеля. Этакой несговорчивый! Словно подьячий[4] Судного приказа!
С этим словом купец, схватив одною рукою пятидесятника за рукав, другою взялся за кольцо и застучал в калитку. На дворе раздался лай собаки, и через минуту приказчик Лаптева, сбежав поспешно с лестницы, отворил калитку.
– Ванюха! Беги в светлицу к хозяйке и скажи, чтоб принесла нам фляжку вишневки да что-нибудь для закуски. Слышь ты, мигом! Его милости не время дожидаться.
Вслед за побежавшим приказчиком хозяин повел гостя на лестницу. Потом через стекольчатые стены и темный чулан, где лежало несколько груд выделанной кожи и сафьяна, вошли они в чистую горницу. Два небольшие окна ее были обращены на Яузу. В одном углу горела серебряная лампада перед образами старинной живописи, в богатых окладах. Другой угол занимала пестрая изразцовая печь с лежанкой. Подле дверей, в шкафе со стеклами, блестели серебряные ковши и чарки, оловянные кружки и другая посуда. Перед одним из окон стоял большой дубовый стол, накрытый чистою скатертью, и придвинутая к нему скамейка, покрытая пестрым ковром с красною бахромою. В этом состояли все украшения комнаты. Помолясь образам и посадив гостя к столу, хозяин, потирая руки, в молчании ожидал вишневки. Наконец дверь отворилась. Приказчик поклонился низко гостю и, поставив перед хозяином пирог на оловянном блюде и фляжку с двумя серебряными чарками, вышел.
– Милости просим выкушать! – сказал Лаптев, налив чарку.
– А ты-то что же, Андрей Матвеевич? Разве я один пить стану?
– И себя не обнесем! – отвечал хозяин, наливая другую чарку. – Ох, Иван Борисович! – продолжал он, вздохнув. – Сердце у меня замирает! Что-то будет с нашими головушками, как батюшки-царя у нас не станет!
– Опять ты загоревал, Андрей Матвеевич. Что будет, то и будет! Что унывай, то хуже! Ну, если б даже – от чего сохрани Господи! – и скончался царь; святое место не будет пусто! Взойдет на престол наследник.
– Вот то-то и горе, Иван Борисович, что наследников-то у нас двое: царевич Иван Алексеевич[5] да царевич Петр Алексеевич. Знакомый мне из Холопьего приказа подьячий вчера у меня ужинал. Человек нужный. Я его, ты знаешь, угостил. Он, бог с ним, выкушал целую фляжку настойки да и поразговорился о разных важных делах. Сначала мне любо было его слушать, а напоследки таково стало страшно, что меня дрожь проняла. Я было его унимать, а он пуще задорится. Так настращал, проклятый, что я целую ночь глаз не смыкал!
– Да что ж он тебе говорил такое?
– Говорил-то он мне много! Всего и не вспомнишь! – отвечал Лаптев, понизив голос и поглядывая на дверь с некоторым беспокойством, желая удостовериться, плотно ли она затворена. – Да ты, Иван Борисович, я чай, сам все знаешь!
– Ничего я не знаю. Уж если заговорил, так договаривай. Ведь из избы сору не вынесу. Неужто меня опасаешься?
– Чего тебя опасаться, Иван Борисович! Ведь ты не сыщик Тайного приказа, прости господи, а мой старинный приятель и кум. Выпьем-ка еще по чарке, так авось и порасхрабрюсь. Твоя милость и без чарки не трусливого десятка, а я так нет! Мы люди робкие, смирные! Пуганая ворона и куста боится. За твое здоровье, друг любезный!
Осушив чарку, Лаптев продолжал:
– Ну так изволишь видеть, куманек. Подьячий, – типун бы ему на язык! – говорил вот что. Царь-де очень плох, того и смотри, что Богу душу отдаст.
– Дай Господи ему Царство Небесное! Тьфу пропасть! Многие лета!
– А коли он скончается, то будет худо, очень худо! Я, слышь ты, рассказывать-то не мастер. Покойный крестный батька часто за это меня бранивал и твердил: «Не умеешь говорить, так больше кланяйся!»
– Да не в этом дело! Что ни говори, а уж беды нам не миновать.
– Да растолкуй мне, Андрей Матвеевич, какой беды?
– То-то и беда, что я рассказывать не мастер. Подьячий, – провал его возьми! – сказывал, что, если царь, слышь ты, скончается, так и пойдет потеха! Блаженной памяти царь Алексей Михайлович, когда был еще жив, хотел царевича Петра назначить по себе наследником, да царевна Софья Алексеевна[6] помешала. Всем известно, что Иван Алексеевич слабенек здоровьем. Вот, слышь ты, нынешний царь Феодор Алексеевич[7] также объявил желание и написал грамоту, чтобы престол достался после него Петру Алексеевичу. А Софья-то Алексеевна опять помешала. Подьячий болтал, что ей самой хочется царствовать и что она прочит на престол Ивана Алексеевича. Царевна-де думает: он будет хворать, а я делами управлять. Многие бояре ей помогают. Не в обиду твоей милости будь сказано, они подговаривают и стрельцов. Уж быть потехе!
– Ты, кажется, Андрей Матвеевич, человек разумный, а веришь бредням пьяного подьячего. Желал бы я знать: кто бы меня мог подговорить! Сам Сатана не прельстит твоего кума, хоть золотые горы сули!
– Дай Господи, как бы все стрельцы так думали; да ведь не все похожи на твою милость. В семье не без урода! Притом, если какой-нибудь боярин втай станет подговаривать, давать рублевики; уговорит, умаслит, скажет, что царь приказал. Долго ли, куманек, вдаться в обман.
– Нет, Андрей Матвеевич! Трудно обмануть того, кто Бога помнит, царя почитает и ближнего любит, как следует православному христианину.
– Разумные речи, Иван Борисович, разумные речи! И Писание все это повелевает. Подьячий меня напугал, а ты утешил. Выпьем же за здоровье нашего батюшки-царя Феодора Алексеевича!
С этими словами Лаптев наполнил снова чарки вишневкою. Приятели встали, обнялись, поцеловались и лишь только хотели взяться за чарки, как вдруг раздался в Кремле колокольный звон.
– Что это значит? – сказал Борисов. – Кажется, набат?
– Нет, куманек. Что-то больно заунывно звонят, да и все в большие колокола. Ох, Иван Борисович! Что-нибудь да неладно! Посмотри-ка, посмотри, как народ бежит по улице.
Лаптев открыл окно и, увидев знакомого купца, закричал:
– Иван Иванович! Иван Иванович! Куда ты бежишь? Аль на пожар?
– Худо, Андрей Матвеевич! Очень худо! – отвечал купец, остановясь и запыхавшись. – Меня едва ноги несут.
– Да скажи, не мучь! Что наделалось?
– Нашего батюшки-царя не стало! – отвечал купец и побежал далее.
Как громом пораженный, Лаптев отскочил от окна, сплеснув руками. Стрелец, изменясь в лице, перекрестился. Долго оба не прерывали молчания. Наконец Лаптев, после нескольких земных поклонов пред образом Спасителя, закрыл лицо руками, и слезы покатились по бледным щекам его. «Упокой Господи душу его во Царствии Небесном!» – сказал он. Борисов, крепко обняв хозяина, в мрачной задумчивости вышел из его дома, поспешая явиться в полк, а Лаптев взял под образами лежавший свиток бумаги, на котором написаны были святцы[8], и дрожащею рукою отметил на стороне, подле имени святого Симеона: «Лета 190[9] Апреля в 27 день, в четверток, в 13 часу дня, преставился православный государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич».
II
Заря багряною рукою
От утренних спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.
ЛомоносовЧасы на Фроловской башне пробили 14-й час дня. Во дворце собралась Тайная Государственная Дума. В правой стороне обширной залы со сводами, поддерживаемыми посредине колонною, между двух окошек стоял сияющий золотом престол с заощренными столбиками по сторонам и с остроконечною крышею. Над нею блестел двуглавый орел. Под крышею, на задней стенке престола видна была икона Божией Матери, над царскими креслами. С правой стороны, на невысокой серебряной пирамиде, накрытой золотою тканью, лежала осыпанная драгоценными каменьями держава[10]. По всему полу залы пестрели персидские ковры, а около стен возвышались, четырьмя ступенями от пола, обитые красным сукном скамьи. Голубые штофные[11] занавесы, висевшие на окнах, препятствовали лучам солнца проникать в залу. Стены были украшены иконами, древними картинами и серебряными подсвечниками, в равном расстоянии один от другого прикрепленными. Горевшие в них восковые свечи разливали по зале тусклый свет и освещали сидевших на скамьях патриарха, митрополитов[12], архиепископов[13], бояр, окольничих и думных дворян[14]. Думные дьяки[15] стояли в некотором отдалении. В зале царствовала глубокая тишина, и взоры всех устремлены были на патриарха Иоакима[16]. Наконец он встал и, благословив собрание, сказал:
– По воле Бога Вышнего, сотворшаго небо и землю, в Его же Деснице судьба всех царств земных и народов, православный государь наш, царь и великий князь Феодор Алексеевич прешел из сея временныя жизни в вечную. Да совершается святая воля Его, и да будет благословенно имя Его. В сокрушении сердца вознесем мольбы о упокоении души преставльшагося царя и о даровании сиротствующему граду сему и всей России царя нового. Благоверному царевичу Иоанну Алексеевичу подобает вступить на престол прародительский; но он изрек волю свою нам, зовущим его на царство. Он вручает державу брату своему, благоверному царевичу Петру Алексеевичу. Сего ради, по воле благочестивейшей царицы Натальи Кирилловны[17], мерность наша[18] призывает собрание сие: да помолимся Господу Богу, направляющему сердца праведных ко благу, и да изберем царя и государя всея России.
В продолжение речи, каждый раз, когда патриарх произносил имя Божие, присутствующие, снимая свои высокие собольи и черные лисьи шапки, крестились. Когда патриарх сел на место, встал боярин Милославский[19] и сказал:
– Не нам, рабам и верным слугам царским, решать: кому из царевичей престол наследовать. Искони велось, чтобы старший сын царя был наследником престола. Какое имеем мы право мимо старшего брата звать на царство младшего? Царевичу Иоанну следует принять державу.
– Разве ты не слыхал, Иван Михайлович, что говорил святейший патриарх? – возразил брат царицы, боярин Нарышкин. – Разве можно принудить царевича Иоанна вступить на престол, когда он того не хочет?
– Так, Иван Кириллович! – сказал Милославский. – Принуждать нельзя, а просить можно. Может быть, он и переменит свое намерение.
– Царевича уже просили, он отказался, так в другой раз просить непригоже! – возразил Нарышкин.
– Полно, так ли, Иван Кириллович? Хоть здесь, в собрании, и не следовало бы говорить, какие по Москве слухи носятся, – однако ж и скрыть грешно. Многие думают, что царевича Иоанна принудили отказаться от престола.
– Да кто ж бы его мог принудить? – спросил начальник Стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукой[20].
– Почему мне знать? Я этому и сам не верю, а говорю только, что слухи носятся.
– Не всякому слуху верь, Иван Михайлович! – продолжал Долгорукой. – Можно спросить самого царевича. Стыдно тогда тебе будет, когда все увидят, что ты напрасно наводишь на ближнего подозрение. Я вижу, на кого ты метишь.
– Неужто ты думаешь, что я говорю о царице Наталье Кирилловне? Сохрани меня, Господи! Царица так беспристрастна и справедлива, что никогда не предпочтет даже родного сына пасынку.
Последние слова Милославский произнес с ироническою улыбкой, которая явно открывала его настоящие мысли. Бояре разгорячились. Начался между ними жаркий спор, в котором постепенно и все собрание приняло участие. Наконец Дума решила: «Быть избранию на царство общим согласием всех чинов Московского государства людей». Дьяки записали решение Думы. Между тем на площади перед дворцом собрались стольники, стряпчие, московские дворяне, дьяки, жильцы, городовые дворяне, дети боярские, гости, купцы и других званий люди[21]. Стрельцы, предводимые своими полковниками, явились на площади и построились в ряды. Некоторые полки были в темно-зеленых, другие в светло-зеленых кафтанах, застегнутых на груди золотыми тесьмами. Каждый был вооружен саблею, ружьем и блестящею секирой, имевшею вид полумесяца. Стрельцы воткнули перед собою секиры в землю и подняли ружья на плечо. Над рядами их развевалось множество знамен белых, красных и черных, с изображением Страшного Суда, архангела Михаила и других предметов, заимствованных из священной истории. На некоторых видны были желтые и красные львы. Ко дворцу примыкал Сухаревский полк; на крае правого крыла стоял пятидесятник Борисов.
Князь Долгорукой, выйдя из дворца, сел на белого персидского коня, на котором блистал шитый золотом чепрак[22] из алого бархата. Объехав ряды стрельцов, он приказал стоять вольно. Полковники, подполковники, пятисотенные, сотники и пятидесятники вложили сабли в ножны, а стрельцы составили ружья в пирамиды и, не сходя с мест своих, начали разговаривать между собою и с толпящимся на площади народом.
– Вот и я здесь, Иван Борисович! – сказал купец Лаптев, увидев Борисова и подойдя к нему. – Хотел было остаться дома: сынишка маленький очень что-то прихворнул. Да сердце не утерпело! Хочется проститься с батюшкой-царем. Мне сказали, что всех пускать будут.
– Да, всех. Царица Марфа Матвеевна приказала. Я думаю, скоро пустят. Теперь патриарх служит панихиду. Служба уж довольно давно началась. Завтра в пятом часу дня назначено погребение в Соборной церкви Архангела Божия Михаила.
– Дай, Господи, усопшему Царство Небесное. Добрый и милостивый был царь!.. Чай, плачет царица?
– Плачет, что река льется! Легко ли, Андрей Матвеевич, через два месяца после венца овдоветь!
– Утешь ее, Господи, и помилуй нас, грешных! А кто наследник-то по царе?
– Да бог весть. Говорят разно.
– Хорошо было бы, как бы Петр Алексеевич! Недавно видел я обоих царевичей в селе Коломенском, на соколиной охоте. Старший-то такой бледный и задумчивый. Глазки все в землю потуплять изволит. А младший – настоящий сокол! На обоих я вдоволь насмотрелся. Я, слышь ты, узнал, что в Коломенском будет соколиная охота, встал до заутрени и поехал с приятелями в село, к знакомому подсокольнику. Он сказал мне, что охота будет на поле, неподалеку от Коломенского, подле березовой рощи. Мы туда! Вошли в рощу, и лишь только принялись за пирог, который я взял на дорогу, как вдруг затрубили в рога и послышался конский топот. Мы все бегом на край рощи и влезли на высокие березы. Ты ведь знаешь, что никому не велено смотреть на соколиную охоту. Царевичи остановились неподалеку от березы, на которой я сидел. Подсокольничие[23] пустили журавля. Длинноногий полетел! Выше, выше, выше! Чуть из глаз не ушел. Тогда сокольничий спустил кречета. Взвился словно стрела! Мигом нагнал журавля; начал над ним кружиться, кружиться и вдруг сверху как налетит на него да как ударит! Ах ты господи! Только перья полетели. Потом еще, еще! Так и бьет! Длинноногий ринулся вниз, словно камень. Тотчас подскакал к нему сокольничий, поднял журавля и затрубил в серебряный рог. Кречет спустился и сел на рукавицу сокольничего, а тот с добычею к царевичам. Потом спускали еще несколько кречетов. Напоследок оба царевича поехали. Гляжу: прямо к березе, на которой я сидел. Я свету божьего не взвидел! Притаился на суку, словно тетерев от охотника. Царевичи подъехали под самое дерево. Покажи-ка мне «Урядник», сказал Петр Алексеевич сокольничему. Тот вынул книгу из алой бархатной сумки, висевшей у него сбоку на золотой тесьме, и подал царевичу. У меня, куманек, книга-то эта вся переписана. Знакомый подсокольничий меня снабдил. Я ее почти всю наизусть знаю. Куда красно написана! Вот, слышь ты, царевич и начал книгу рассматривать, да и засмеялся, а потом, обратясь к братцу своему, начал читать вслух из книги: «Новопожалованный Начальный приимает кречета образцовато, красовато, бережно; и держит честно, смело, весело, подправительно, подъявительно, к видению человеческому, и ко красоте кречатьей; и стоит урядно, радостно, уповательно, удивительно». Из всего «Урядника», сказал Петр Алексеевич, мне всего лучше нравится приписка покойного батюшки: «Правды же и суда и милостивыя любве и ратнаго строя николи же не позабывайте: делу время, и потехе час». Если Бог привел бы меня когда-нибудь быть царем, то я из всего «Урядника» оставил бы только приписку батюшки, а все бы прочее отменил. Царю грешно терять время на соколиную охоту. Лучшая для него потеха: устроять благо своих подданных. Каковы речи, куманек? У меня слезы навернулись! Дай Господи, чтобы Петр Алексеевич был нашим царем!
– А почему так? – спросил, вслушавшись в последние слова, подошедший к ним человек в кафтане с длинными откидными рукавами, сзади связанными узлом, и в низкой бархатной шапке с меховой опушкой. Это был дворянин Сунбулов[24].
Лаптев смутился и не знал, что отвечать. Но Борисов, смело глядя в глаза Сунбулову, сказал ему:
– А какая стать твоей чести вмешиваться в наш разговор? Мы вольны говорить, что хотим, с приятелем и никого не просили нас подслушивать. Что ты нам за указчик?
– Потише, потише, господин пятидесятник! Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами. Я подам на тебя челобитную в Стрелецкий приказ, так напляшешься!
– Подавай, пожалуй! А теперь советую: отойди подальше. Скажи еще хоть одно слово, так я с тобой по-стрелецки разделаюсь! Суди меня Бог и государь! – воскликнул Борисов, ударив рукою по своей сабле.
– Слово и дело! – закричал Сунбулов.
– Перестань горланить! Я прикажу связать тебя!
– Меня связать? Да разве ты не видишь, что я дворянин? Слово и дело! Слово и дело!
– Что здесь за шум? – спросил пятисотенный Бурмистров, приблизясь к ссорившимся.
– Да вот, Василий Петрович, этот дворянин пристает ко мне и буянит. Кричит слово и дело, ни к пути, ни к делу. Норовит, чтоб меня с ним взяли в Тайный приказ. Видишь, что выдумал!
– Бери мушкет! Стройся! – закричал князь Долгорукой.
Стрельцы бросились к ружьям, а Бурмистров и Борисов, оставив Сунбулова, поспешили на места свои. Лаптев между тем давно уже скрылся в толпе.
– Мушкет на плечо! Подыми правую руку! Понеси дугой! Клади руку на мушкет! – закричал Долгорукой, и ряды ружей, возвысясь из-за секир, воткнутых в землю, заблистали в воздухе. На Красном Крыльце явился патриарх Иоаким, предшествуемый священнослужителями со святыми иконами и хоругвями и сопровождаемый всею Государственною Думою. На площади водворилось глубокое молчание. Все сняли шапки, и патриарх начал следующую речь:
– Ведомо всем, что благословенное Богом царство российское, пребывая в непорочной христианской вере, по благости Спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа, было в державе блаженныя памяти благочестивого великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея России самодержца; а по нем великом государе царский престол наследовал сын его, благочестивый великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец. По преставлении его восприемником был престола сын его, благочестивый и великий государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич. Ныне изволением и судьбами Божиими он великий государь, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались братья его государевы благоверные царевичи и великие князья Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Единодушным согласием и единосердечною мыслию объявите: кому из них государей преемником быть царского скипетра[25] и престола?
И подобно грому раздался со всех сторон крик: «Да будет царем нашим царевич Петр Алексеевич!»
– Беззаконно обойти старшего царевича! – закричал после всех Сунбулов. – Надлежит быть на престоле Иоанну Алексеевичу!
– Здравия и многие лета нашему царю-государю Петру Алексеевичу! – закричали тысячи голосов. Земля, казалось, дрожала от шума и восклицаний.
Патриарх, обратясь к Государственной Думе, спросил: «Как поступить надлежит?» Все, кроме Милославского и других, немногих приверженцев царевны Софии, отвечали: «Да будет по избранию народа!» Патриарх в сопровождении Думы пошел во дворец, где находился юный Петр с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, и благословил его на царство. После этого народ целовал со слезами горести холодную руку Феодора и со слезами восторга державную руку Петра. Закатилось солнце, и граждане, не думая о сне, еще плакали о царе умершем. Взошло солнце, и вся Москва произнесла уже клятву верности царю новому.
III
Кто узрит нас? Под ризой ночи
Путями тайны мы пройдем,
И будет пир страстям роскошный.
ГлинкаБлаговест призывал православных к обедне, когда Сухаревского полка пятисотенный Василий Бурмистров шел в дом к начальнику Стрелецкого приказа князю Михаилу Юрьевичу Долгорукому. Проходя по берегу Москвы-реки и поравнявшись с одним низеньким домиком, увидел он под окнами сидевшую на скамье старушку, одетую в черный сарафан и повязанную платком того же цвета. Она горько плакала. Бурмистров решился подойти к ней и спросить о причине ее горести. Долго рыдания мешали ей отвечать на вопрос прохожего. Наконец она, отняв от глаз платок и взглянув на Бурмистрова, на лице которого живыми красками изображалось сострадание, сказала ему:
– На что, батюшка, знать тебе про мое горе? Ты мне не поможешь.
– Почему знать, старушка! Может быть, я и найду средство помочь тебе.
– Нет, кормилец мой! Мне уж недолго осталось жить на свете. Скоро прикроет меня гробовая доска, тогда и горю конец! Ох, боярин, боярин! Будешь ты отвечать перед Богом, что обижаешь меня, бедную.
– Про какого боярина говоришь ты, бабушка?
– Бог ему судья! Я не хочу его осуждать и перед добрыми людьми порочить.
– Будь со мною откровенна: скажи, кто твой обидчик. Авось и помогу тебе. Меня знают многие знаменитые бояре. Я замолвлю за тебя слово перед ними. Самому царю ударю челом.
– Спасибо тебе, кормилец, что за меня, беззащитную вдову, вступаешься. Бог заплатит тебе! Знаю, что ты мне не поможешь, но так и быть: я все тебе расскажу. Вон видишь ли там, за крашеным забором, где ворота со львами на вереях[26], большой сад и высокие хоромы? Там живет сосед мой, боярин Милославский. Мой покойный сожитель Петр Иванович, по прозванию Смирнов, здешней приходской церкви священник, оставил мне этот домишко с огородом. Он преставился накануне Крещенья незадолго до кончины царя Алексея Михайловича. Вот уж седьмой год, кормилец мой, как я вдовею. Сын мой Андрюша обучается в окодемьи, что в Андреевском монастыре. Не отдала бы я его туда ни за что, как бы не покойник муж завещал. Будущим летом, в день святыя мученицы Аграфены-Купальницы, минет ему осьмнадцать лет; мог бы уж хлеб доставать да меня, старуху, кормить. А то бьет только баклуши, прости господи! Только и вижу его в праздники; а в будни все в монастыре. Учится там какой-то кречетской грамоте, алтынскому языку и невесть чему! Как бы не помогала мне дочь Наташа, так давно бы я с голоду померла. Она одним годом помоложе брата, а какая разумная, какая добрая! Самоучкой выучилась золотом вышивать. Успевает и шить, и за хозяйством ходить, а по вечерам читает мне Писание да Жития. И в книжном-то ремесле она, я чай, брату не уступит. В праздник только у нея, моей голубушки, и дела, что с ним за книгой да за грамотой сидеть. Пишет, словно приказный! И брат-то на нее только дивуется. Каково же мне, батюшка, расстаться с такою дочерью!
При этих словах старушка снова горько заплакала, но потом, скрепясь, продолжала:
– Был у меня, батюшка, знакомец, площадной подьячий, Сидор Терентьич Лысков[27]. Он часто навещал меня, ухаживал за мною, старухою, грамотки писал, по приказам за меня хлопотал. Не могла я нахвалиться им. Думала, что он добрый человек, а он-то, злодей, и погубил меня! В прошлом году на моем огородишке всю капусту червь поел, да попущением Божиим от грозы учинился в домишке пожар. Приехали объезжие с решеточными приказчиками[28] и с ними целая ватага мужиков с рогатинами, топорами и водоливными трубами. Огонь залили и поставили весь дом вверх дном. Иное перепортили, иное растащили. Наташа с испугу захворала. Пришлось хоть по миру идти! Я и сказала о своей несгоде подьячему. Он дня через два принес мне десять рублей серебряных и сказал, что упросил крестного отца своего, боярина Милославского, помочь мне, бедной, и дать взаймы без роста и без срока. Принес с собой писаную грамотку и велел в деньгах расписаться Наташе. Она было хотела грамотку прочитать: не дал, лукавец! Сказал, что она приказных дел не смыслит. Я и велела ей расписаться. А сегодня утром пришли ко мне подьячие из Холопьего приказа и объявили, что Наташа должна у Милославского служить во дворе и что он завтра пришлет за нею своих холопов. Я свету божьего не взвидела! Уж не за долг ли, подумала я, берет боярин к себе Наташу? Побежала к знакомым просить взаймы десяти рублей, чтобы отдать долг боярину. Бегала, бегала, кланялась в ноги: никто не дал! У всех один ответ: самим, бабушка, есть нечего. Не знаю, что и делать! Наташа с утра пошла навестить больную тетку. Я чай, скоро воротится. Ума не приложу: как сказать ей про мое горе и беду неминучую! Погубила я, окаянная, мою Наташу!
Старуха залилась слезами. Бурмистров, не говоря ни слова, вынул из-под кафтана кожаный кошелек, отдал вдове и, не дав ей опомниться, поспешными шагами удалился. С берега Москвы-реки, входя в улицу, в которой находился дом Долгорукого, увидел он вдали старуху перед ее хижиной. Она стояла на коленях, с воздетыми руками ко кресту, который по ту сторону реки сиял на главе церкви.
В кошельке было девять клейменых ефимков[29], пять золотых и несколько серебряных копеек. Немедленно вдова побежала к Милославскому и, заплатив ефимок слуге, упросила его сказать боярину, что она пришла к нему для уплаты долга. Но через несколько минут слуга вышел к ней с ответом, что дело об ее долге уже кончено и что боярин денег от нее не примет. «Поди, поди! – говорил он, выводя плачущую старуху со двора. – Хотя до завтра кланяйся, не пущу к боярину! Не велено!»
Солнце давно уже закатилось, когда Бурмистров возвращался домой по опустевшим улицам. Пройдя переулком мимо длинного и низкого строения, вышел он на берег Москвы-реки и сел отдохнуть на скамью, стоявшую под окнами небольшого деревянного дома, от которого начинался забор Милославского. Густые облака покрывали небо и умножали вечернюю темноту. В окне, под которым сидел Василий, появился свет, и вскоре кто-то отворил окно, говоря сиплым голосом:
– Угораздила же его нелегкая истопить печь на ночь глядя! Я так угорел, что в глазах зелено. Сядем-ка сюда, к окошку, так угар скорее пройдет.
– Боярин давно уж спит во всю Ивановскую! – сказал другой голос. – Можно, я чай, и выпить. Да вот этого не попробовать ли, Мироныч? Тайком у немца купил. Выкурим по трубке!
– Что это? Табак! Ах ты, греховодник! Получше нас с тобой крестный сын боярина Сидор Терентьич, да и тому за эту поганую траву чуть было нос не отрезали. Как бы не крестное целованье, так не уцелеть бы его носу. Сидор-то Терентьич, прости господи, давно продал душу не нашему! Поцелует крест во всякой неправде. А ведь мы с тобой православные! Коли поймают нас с табаком, так мы от кнута-то не отцелуемся[30].
– Ну, так выпьем винца.
– Да не корчемное ли?
– Нет, с Отдаточного двора[31].
– То-то, смотри. За твое здравие, Антипыч!
– Допивай скорее; другую налью!
– Нет, будет. Боюсь проспать. Боярин приказал идти за три часа до рассвета с Ванькой да с Федькой за дочерью попадьи Смирновой.
– За какой дочерью?
– Да разве ты ничего не слыхал?
– От кого мне слышать! Расскажи, пожалуйста.
– Вот видишь, дело в чем. Боярин с год назад или побольше, за обедней у Николы в Драчах, подметил молодую девку, слышь ты, красавицу! Я с ним был в церкви. Он и приказал мне проведать: кто эта девка? После обедни пошла она с молодым парнем домой, а я за ними следом. Гляжу: они вошли в избу, знаешь, там, подле нашего сада, а у ворот сидит мужик с рыжей бородой. Я к нему подсел и разговорился. Он мне рассказал, что эта девка – дочь вдовой попадьи Смирновой, а парень – ее сын. Я и донес обо всем боярину. Тут же случился Сидор Терентьич. Да я давно знаком, молвил он, с этою старухою. Знаком? – спросил боярин. Покойник ее муж учил меня грамоте, отвечал Сидор Терентьич. Боярин меня выслал вон, и начали они о чем-то шептаться. Долго шептались.
В прошлом году… Смотри! Бороду сжег! Эк дремлет! Качается, словно язык на Иване Великом! Не любо слушать, так поди спать.
– Нет, пожалуйста, рассказывай. Невзначай вздремнулось.
– То-то невзначай. Коли еще вздремнешь, так лягу спать, а завтра слова от меня не добьешься. Налей-ка еще кружку; в горле пересохло. Ну, так вот видишь: в прошлом году у попадьи невзначай дом загорелся, примером сказать, как твоя борода. Наехали объезжие с решеточными и старуху вконец разорили. А Сидор Терентьич и смекнул делом. Написал служилую кабалу. Я ее переписывал. В кабале было сказано: «Попадья Смирнова с дочерью заняла у боярина Милославского десять рублей на год без росту, а полягут деньги по сроке, то ей, дочери, у государя своего, боярина Милославского, служить за рост по вся дни во дворе; росту она высокого, лицом бела, волосы темно-русые, глаза голубые, 16-ти лет»[32].
– Как так? Я что-то этого в толк не возьму.
– Все дело в том, что дочь попадьи теперь отдана приказом в холопство нашему боярину. Понимаешь ли?
– Разумею. Сиречь она с нами стала одного поля ягода?
– Нет, брат, погоди! Боярин-то давно на нее зарился. Жениться он на ней не женится, а полубоярыней-то она будет. Понимаешь ли?
– Разумею. Сиречь она с нами, холопами, водиться не станет.
– Экой тетерев! Совсем не то. Ну да что с тобой теперь толковать! Сам ее завтра увидишь. Боярин, слышь ты, велел привести ее к нему в ночь, чтобы шуму и гаму на улице не наделать. Ведь станет плакать да вопить, окаянная. Она теперь в гостях у тетки, да не минует наших рук. Около дома на всю ночь поставлены сторожа с дубинами, да решеточный приказчик в соседней избе укрывается. Не уйдет голубушка! Дом ее тетки неподалеку… Тьфу пропасть! опять ты задремал. Нет, полно. Пора спать. Завтра ведь до петухов надо подняться.
Окно затворилось, и огонь погас. Выслушав весь разговор, Бурмистров встал со скамьи и поспешил возвратиться домой.
IV
И смотрит вдаль, и ждет с тоской…
«Приди, приди, спаситель!»
Но даль покрыта черной мглой:
Нейдет, нейдет спаситель!
Жуковский– Вставай, Борисов! – сказал Василий, войдя в свою горницу, освещенную одною лампадою, которая горела перед образом. – Как заспался! Ничего не слышит. Эй, товарищ! – С этими словами он потряс за плечо Борисова, который спал на скамье подле стола, положив под голову свернутый опашень[33].
Борисов потянулся, потер глаза и сел на скамью.
– Уж оттуда не вылезет! – пробормотал он.
– Что такое ты говоришь?
– Так и полетел в омут вниз головами!
– Ты бредишь, я вижу. Опомнись скорее да надевай саблю: нам надо идти.
– Идти? Куда идти?.. Ах, это ты, Василий Петрович. Куда это запропастился? Я ждал, ждал тебя да и вздремнул со скуки. Какой мне страшный и чудный сон привиделся!
– После расскажешь, а теперь поскорее пойдем!
– Ночью-то! Да куда нам идти? Домовых, что ли, пугать?
– Не хочешь, так я один пойду. Эй! Гришка!
Вошел одетый в овчинный полушубок слуга с длинною бородою.
– Беги в первую съезжую избу и позови десятерых из моих молодцов. Скажи, чтоб взяли сабли и ружья с собою! Проворнее! Да вели Федьке заложить вороную в одноколку.
– Куда ты сбираешься? – спросил удивленный Борисов. – Вдруг вздумал ехать, да еще и в одноколке! Разве ты забыл царский указ?[34]
– Не забыл, да в указе про ночь ничего не сказано, и притом никто меня не увидит. Немец Бауман подарил мне одноколку за два дня до указа, и я ни разу еще в ней не езжал. Хочется хоть раз прокатиться.
– Ты, верно, шутишь, Василий Петрович!
Василий, в ожидании стрельцов ходя большими шагами взад и вперед по горнице, рассказал Борисову цель своего ночного похода.
– И я с тобой! Куда ты, туда и я. В огонь и в воду готов! Только смотри, чтоб нам не досталось. С Милославским-то шутить не с своим братом.
– Если трусишь, так останься!
– Не к тому мое слово, Василий Петрович! Мне не своей головы, а твоей жаль. Я люблю тебя, как отца родного. Никогда твою хлеб-соль не позабуду. Безродного ты приютил меня, словно брата родного, и вывел в люди.
– Ну полно! Что толковать об этом! Лучше расскажи: что тебе приснилось! Ты говорил, что видел во сне что-то страшное?
– Да, чудный сон! Он что-нибудь да предвещает недоброе. Снилось мне, что мы с тобой стоим на высокой горе. С одной стороны видим долину, да такую долину, что вот так бы и спрыгнул туда! Рай эдемский! С другой стороны гора как ножом срезана. Крутизна – взглянуть страшно, а внизу такой омут, что дна не видать. Смотрим: летит из долины белая голубка. Она села к тебе на плечо. Вдруг с той стороны, где был виден омут, лезет на гору медведь, а за ним скачут, словно лягушки – наше место свято! – восемь бесов, ни дать ни взять как на нашем главном знамени, на котором Страшный Суд изображен. Медведь прямо бросился на тебя, повалил на землю и потащил к омуту, а голубка вспорхнула, начала над тобой виться и жалобно заворковала. Ты с медведем барахтаешься. Я было бросился к тебе на подмогу, ан вдруг бесы схватили меня да и не пускают. Мне так стало горько, так душно, что и наяву, я чай, легче на петле висеть, а лукавые начали вокруг меня плясать и кричать: «Здравствуй, брат! Знаешь ли ты нас? Ступай к нам в гости! Давай пировать!» Я хотел было сотворить крестное знамение и молитву «Да воскреснет Бог!», но окаянные схватили меня за руку и зажали мне рот. Вдруг из долины бежит на гору лев, ну вот точь-в-точь такой, как на картинке, которую подарил тебе начальник наш, князь Михайло Юрьевич. Лев напал на медведя; но бесы завыли, как псы перед пожаром, кинулись на льва и бросили его в омут. Там кто-то громко захохотал совсем не человеческим голосом. Меня подрал мороз по коже. Вдруг в небе появилось над долиной белое облако, а из него лучи во все стороны так и сияют! Солнышко от них побледнело и стало похоже на серебряную тарелку, которую только что принесли в горницу из холодного погреба. Под белым облаком что-то зачернелось. Ближе, ближе! Глядим: летит орел о двух головах. Над самой верхушкой горы остановился и начал спускаться. Крылья такие, что целый полк прикроет! Голубка села опять к тебе на плечо, а медведь и бесы сбежались в кучку и смотрят на орла. И вдруг обернулись они в какого-то страшного зверя с семью головами. Орел схватил его в когти, взвился и опустил в омут. В это самое время ты меня разбудил.
– Ну а что сделалось с голубкой? – спросил Василий.
– Не знаю. Как бы ты не разбудил меня, так я бы посмотрел.
На лестнице послышался шум шагов. Двери отворились, и вошли десять вооруженных стрельцов.
– Ребята! – сказал Василий. – Есть у меня просьба до вас. Один боярин обманом закабалил бедную сироту, единственную дочь у старухи-матери. В нынешнюю ночь хочет он взять ее силой к себе во двор. Надобно ее отстоять. Каждому из вас будет по десяти серебряных копеек за работу.
– Благодарствуем твоей милости! – закричали стрельцы. – Рады тебе служить всегда верой и правдой!
– Только смотрите, ребята! Никому ни полслова.
– Не опасайся, Василий Петрович! И пыткой у нас слова не вымучат!
– Я полагаюсь на вас. За мной, ребята!
Василий, сойдя с лестницы, сел с Борисовым в одноколку и выехал со двора на улицу.
– Если кто меня спросит, Гришка, – сказал он слуге, – то говори, что меня потребовал к себе князь Долгорукой.
Он пошевелил вожжами и поехал шагом, для того чтобы шедшие за ним стрельцы не отстали. В некотором расстоянии от дома Смирновой он остановился и вышел из одноколки, приказав Борисову и стрельцам дожидаться его на этом месте. Подойдя к воротам, он постучался в калитку. Залаяла на дворе собака; но калитка не отпирается. Между тем при свете месяца приметил он, что из ворот дома Милославского вышли три человека в татарских полукафтаньях и шапках. У каждого был за спиною колчан со стрелами, а в руке большой лук[35]. В нетерпении начал он стучать в калитку ножнами сабли.
– Кто там? – раздался на дворе грубый голос.
– Отпирай.
– Не отопру. Скажи прежде, наш или не наш?
– Отпирай, говорят! Не то калитку вышибу!
– А я тебя дубиной по лбу да с цепи собаку спущу. Много ли вас? Погодите! Вот ужо вас объезжие! Они сейчас только проехали и скоро вернутся! Вздумали разбойничать на Москве-реке! Шли бы в глухой переулок!
– Дурачина! Какой я разбойник! Я знакомец вдовы Смирновой. Мне до нее крайняя нужда.
– Не морочь, брат! Что за нужда ночью до старухи? Убирайся подобру-поздорову, покамест объезжие не наехали. Худо будет! Да и хозяйки нет дома.
– Скажи по крайней мере, где она?
– Не скажу-ста. Да чу! Никак объезжие едут. Улепетывай, пока цел!
В самом деле раздался вдали конский топот. Легко вообразить себе положение Бурмистрова. Не зная, где живет тетка Натальи, он хотел спросить о том у вдовы Смирновой и сказать ей о своем намерении. А теперь он не знал, на что решиться. Выломить калитку и принудить дворника сказать, где хозяйка или дочь ее, – невозможно; шум мог разбудить людей в доме Милославского и все дело испортить. Притом угрожало приближение объезжих. Гнаться за вышедшими из ворот людьми Милославского – также невозможно; они давно уже переехали Москву-реку и оставили лодку у другого берега. Бежать к мосту – слишком далеко; потеряешь много времени, и притом как попасть на след этих людей? Оставалось возвратиться домой и успокоить себя тем, что употреблены были все средства для исполнения доброго, но невозможного намерения. Василий почти уже решился на последнее и пошел поспешно к своей одноколке; но какой-то внутренний, тайный голос твердил ему: действуй! Лицо его пылало от сильного душевного волнения, и он дивился: почему он с таким усердием старается защитить от утеснителя девушку, никогда им не виданную и известную ему по одним только рассказам. Он сел в одноколку.
– Куда ты теперь? – спросил Борисов.
– Сам не знаю куда! – отвечал Василий. – Поеду куда глаза глядят, а ты с нашими молодцами перейди через мост да подожди меня у лодки, вон видишь, что стоит там, у того берега.
– Ладно! Однако ж не забудь, что скоро светать начнет. А нам, я чаю, надо воротиться домой до рассвета. А то народ пойдет по улицам. Тогда на берегу стоять будет неловко. Если спросят нас: что мы тут делаем? Не сказать же, что лодку или реку стережем. Для лодки-то одиннадцати сторожей много, а Москву-реку никто не украдет.
– Разумеется, что должно возвратиться домой до рассвета. Ступай же на тот берег, а я поеду. Прощай!
Василий скоро скрылся из вида. Борисов и стрельцы переправились через мост, дошли до указанной лодки и сели на берегу. Прошел час: нет Бурмистрова. Проходит другой: все нет, а на безоблачном востоке уже появилась заря.
– Что это вы, добрые молодцы, тут делаете? – спросил вооруженный рогатиною решеточный приказчик, проходивший дозором по берегу Москвы-реки.
– Звезды считаем, дядя! – отвечал Борисов.
– Дело! А много ли насчитали?
– Тьмы тем, да и счет потеряли, и потому сбираемся идти домой.
– Дело! А какого полка и чина твоя милость и как прозвание?
– Я небывалого полка пятидесятник Архип Неотвечалов.
– Дело! А не с лихим ли каким умыслом пришли вы сюда, добрые молодцы – не в обиду вам буди сказано, – и по чьему приказу?
– Не с лихим, а с добрым. А по чьему приказу – не скажу, да и сказать нельзя. Накрепко заказано. Э! да уж солнышко взошло. Пойдемте, ребята, домой.
– Дело! А не пойти ли мне за вами следом?
– Пойдешь, так в реку столкнем.
– Дело! Ступайте домой, добрые молодцы. Нет, чтобы вы на объезжих натолкнулись. С ними народу-то много, так с вами управятся. Шутками не отбояритесь! А мне одному, вестимо, с такою гурьбой не сладить.
– Дело! – сказал Борисов, передразнивая приказчика, и пошел скорым шагом со стрельцами по берегу Москвы-реки. Солнце уже высоко поднялось, когда они вошли в свою съезжую избу.
V
Наружность иногда обманчива бывает.
Дмитриев– Иди попроворнее, красная девица! – говорил дворецкий Милославского, Мироныч, Наталье, ведя ее за руку по улице, к берегу Москвы-реки. – Нам еще осталось пройти с полверсты. Боярин приказал привести тебя до рассвета, а гляди-ка, уж солнышко взошло. Ванька! Возьми ее за другую руку, так ей полегче идти будет. Видишь, больно устала. А ты, Федька, ступай вперед да посмотри, чтоб кто нашу лодку не увел. Теперь уж скоро народ пойдет по улицам.
Федька побежал вперед.
– Оставь меня! – сказала Наталья другому слуге, который хотел взять ее за руку. – Я могу еще идти и без твоей помощи.
– Видишь, какая спесь напала! Не хочет и руки дать нашему брату, холопу. Не бойсь, матушка! Не замараю твоей белой ручки! А если бы и замарал, так завтра пошлют белье стирать или полы мыть, так руки-то вымоешь.
– Не ври пустого, Ванька! – закричал Мироныч. – Наталья будет ключница, а не прачка.
В это время послышался вдали голос плачущей женщины. Дувший с той стороны ветер приносил невнятные слова, из которых можно было только расслышать: «Голубушка ты моя! Наташа ты моя!» Наталья оглянулась и увидела бежавшую за нею мать. Из дома тетки Наталья ушла тихонько с присланными за нею от Милославского людьми; она не хотела прервать сна своей престарелой матери, проведшей всю ночь в слезах и в утомлении уснувшей перед самым рассветом. Бедная девушка хотела к ней броситься, но, удержанная Миронычем, лишилась чувств. В то же время и мать, потеряв последние силы, упала в изнеможении на землю, далеко не добежав до дочери.
– Провал бы взял эту старую ведьму! – проворчал Мироныч, стараясь поднять Наталью с земли. – Ах, господи! Да она совсем не дышит! Уж не умерла ли? Коли вместо живой принесем к боярину покойницу, да он нас со света сгонит. Ахти беда какая!
– Потащим ее скорее, Мироныч! – сказал Ванька. – Вон кто-то едет в одноколке. Пожалуй, подумает, что мы ее уходили!
– Что вы делаете тут, бездельники? – закричал Бурмистров, остановив на всем скаку свою лошадь.
– Не твое дело, господин честной! – отвечал Мироныч. – Мы холопы боярина Милославского и знаем, что делаем. Бери ее за ноги, Ванька. Потащим.
– Не тронь! – закричал Василий, соскочив с одноколки и выхватив из-за пояса пистолет.
Мироныч и Ванька остолбенели от страха и вытаращили глаза на Бурмистрова. Он подошел к Наталье, взял ее осторожно за руку и с состраданием глядел на ее лицо, покрытое смертною бледностью, но все еще прелестное.
– Принеси скорее воды! – сказал он слуге.
– А где я возьму? Река не близко отсюда!
– Сейчас принеси, бездельник! – продолжал Василий, наведя на него пистолет.
– Аль сходить, Мироныч? – пробормотал Ванька, прыгнув в сторону от пистолета.
– Не ходи! – крикнул дворецкий, неожиданно бросясь на Бурмистрова и вырвав пистолет из руки его. – Слушаться всякого побродяги! Садись-ка в свою одноколку да поезжай не оглядываясь! Не то самому пулю в лоб, разбойник! – С этими словами навел он пистолет на Бурмистрова.
Выхватив из ножен саблю, Василий бросился на дерзкого холопа. Тот выстрелил. Пуля свистнула, задела слегка левое плечо Василья и впилась в деревянный столб забора, отделявшего обширный огород от улицы.
– Разбой! – завопил дворецкий, раненный ударом сабли в ногу, и повалился на землю.
– Разбой! – заревел Ванька, бросясь бежать и дрожащею рукою доставая стрелу из колчана.
В это самое время послышался вдали конский топот, и вскоре появились на улице, со стороны Москвы-реки, скачущие во весь опор объезжие и несколько решеточных приказчиков.
Бурмистров, бросив саблю, поднял на руки бесчувственную девушку, вскочил в одноколку, левою рукою обхватил Наталью и, прислонив ее к плечу, правою схватил вожжи и полетел, как стрела, преследуемый криком «держи!». Из улицы в улицу, из переулка в переулок гнав без отдыха лошадь, он скрылся наконец из вида преследователей и остановился у ворот своего дома.
– А! Василий Петрович! – воскликнул Борисов, вскочив со скамьи, на которой сидел у калитки, нетерпеливо ожидая его возвращения.
– Отвори скорее ворота.
Борисов отворил и, пропустив на двор одноколку, снова запер ворота.
– Ба, ба, ба! Да ты не один! Ах, боже мой! Что-то? Она без чувств?
– Помоги мне внести ее в горницу.
Они внесли Наталью и положили на постель Бурмистрова. Долго не могли они привести ее в чувство. Наконец она открыла глаза и с удивлением посмотрела вокруг себя.
– Где я? – спросила она слабым голосом.
– В руках добрых людей! – отвечал Василий.
– А где моя бедная матушка? Что сделалось с нею? Скажите, ради бога, где она?
– Ты с нею сегодня же увидишься.
– Увижусь? Да не обманываешь ли ты меня?
– Непременно увидишься. Будь только спокойна. Прежде надобно, чтоб силы твои подкрепились несколько.
– Отведи меня, ради бога, скорее к матушке! – Наталья хотела встать, но в бессилии опять упала на постель; в глазах ее потемнело, голова закружилась, и бедная девушка впала в состояние близкое к бесчувственности.
В это время кто-то постучал в калитку. Василий вздрогнул. Борисов подошел к окну, отдернул тафтяную занавеску и, взглянув на улицу, сказал шепотом:
– Это наш приятель, купец Лаптев.
– Выйди к нему, сделай милость; скажи, что я нездоров и никого не велел пускать к себе.
– Ладно.
Борисов вышел в сени и встретил там Лаптева, которому слуга Бурмистрова, Гришка, весьма походивший поворотливостию на медведя, в этот раз невпопад отличился и препроворно отворил калитку.
– Василий Петрович очень нездоров! – сказал Борисов, обнимаясь и целуясь с гостем.
– Ах, господи! Я зашел было пригласить его вместе идти к ранней обедне, а потом ко мне на пирог. Что с ним сделалось?
– Вдруг схватило!
– Пойдем скорее к нему! Ах, мои батюшки! Долго ли, подумаешь, до беды!
– Он не велел никого пускать к себе.
– Как не велел! Нет, Иван Борисович. Воля твоя! Сердце не терпит. Впусти меня на минутку: я его не потревожу. Писание велит навещать болящих!
– Приди лучше, Андрей Матвеевич, вечером, а теперь, право, нельзя. Меня даже не узнает. Совсем умирает!
– Умирает! Ах, Боже милостивый! Пусти хоть проститься с ним.
Сказав это, растревоженный Лаптев, не слушая возражений Борисова, поспешно пошел к дверям. Борисов схватил его за полу кафтана, но он вырвался, вошел прямо в спальню и, как истукан, остановился, увидев прелестную девушку, лежавшую на кровати, и стоявшего подле нее Василья. Одолеваемый и досадой, и стыдом, и смехом, Борисов начал ходить взад и вперед по сеням, ожидая развязки этого неожиданного приключения и приговаривая тихонько: «Экой грех какой!»
Увидев Лаптева, Василий смутился и покраснел. Это совершенно удостоверило гостя в основательности подозрений, мелькнувших в голове его при входе в комнату. Он, как вкопанный, простоял несколько секунд в величайшем изумлении, смутился и чуть не сгорел со стыда. «Не вовремя же, – думал он, – навестил я больного!» Он поклонился низко Бурмистрову, желая тем показать, что просит прощения в своем промахе и в причиненном беспокойстве, и, не сказав ни слова, поспешно пошел в сени. Борисов, услышав шум шагов Лаптева, из сеней скрылся на чердак.
– Куда ты торопишься, Андрей Матвеевич? – сказал Бурмистров, нагнав Лаптева на лестнице. – Из гостей так скоро не уходят.
– Не в пору гость хуже татарина! Извини, отец мой, что я сдуру к тебе вошел. Мне крайне совестно. На грех мастера нет. Я не знал… я думал… Извини, Василий Петрович!
– И, полно, Андрей Матвеевич, не в чем извиняться. Выслушай!
Василий, введя гостя в сени, объяснил ему все дело.
– Вот что! – воскликнул Лаптев. – Согрешил я, грешный! Недаром Писание не велит осуждать ближнего. Ты защитил сироту, сделал богоугодное дело, а я подумал невесть что.
– Сделай, Андрей Матвеевич, и ты богоугодное дело. Я человек холостой; Наталье Петровне неприлично у меня оставаться; а ты женат: прими ее в свой дом на несколько дней. Я сегодня же пойду к князю Долгорукому и стану просить, чтобы он замолвил за нее слово пред царицей Натальей Кирилловной. Она, верно, заступится за сироту.
– Ладно, Василий Петрович, ладно! Я сегодня же вечером приеду к тебе с женой, в колымаге, за Натальей Петровной. Жена ее укроет в своей светлице; а домашним челядинцам скажем, что она, примером, хоть моя крестница, приехала, примером, хоть из Ярославля…
– И что зовут ее: Ольга Васильевна Иванова.
– Ладно, ладно! Все дело устроим, как быть надобно. А! да уж к обедне звонят. Пора в церковь. Счастливо оставаться, Василий Петрович!
– Теперь и мне выйти можно! – сказал Борисов, отворяя с чердака дверь в сени, у которой подслушал весь разговор Василья с гостем. – Больному нашему стало легче. Теперь, кажется, опасаться нечего.
– Ну, Иван Борисович, спасибо! Напугал ты меня. Я спроста всему поверил да и попал впросак.
– Не взыщи, Андрей Матвеевич! Вперед не ходи туда, куда приятель не пускает.
– Вестимо, не пойду! Однако ж, пора к обедне. Счастливо оставаться.
Лаптев ушел. Василий возвратился в спальню и, подойдя к кровати, приметил, что Наталья погрузилась в глубокий сон. Тихонько вышел он из горницы и затворил дверь. Поручив Борисову быть в сенях на страже и попросить Наталью, если б она без него встала, подождать его возвращения, Бурмистров пошел к князю Долгорукому. Через час он возвратился с необыкновенно веселым лицом. Борисов тотчас после его ухода запер дверь спальни и, утомленный ночным походом, сел на скамью, начал дремать и вскоре заснул. Едва Василий вошел на лестницу и отворил дверь в сени, Борисов вскочил и со сна закричал во все горло: «Кто идет?»
– Тише, приятель! Ты, я думаю, разбудил Наталью. Она все еще спит?
– Не знаю. Я спальню запер и туда не заглядывал.
– Запер? Вот хорошо!
Василий тихонько отворил дверь и увидел, что Наталья сидит у стола и читает внимательно лежавшую на нем книгу, в которой переписаны были апостольские послания. Он вошел с Борисовым в горницу, извинил его перед Натальей за содержание ее под стражей и сказал:
– Князь Долгорукий сегодня же хотел говорить о тебе, Наталья Петровна, царице. Он уверен, что царица защитит тебя.
– Я возлагаю всю надежду на Бога. Да будет Его святая воля со мною! До гроба сохраню я в сердце благодарность к моему избавителю и благодетелю, хотя я и не знаю его имени. – Последние слова сказала Наталья вполголоса, потупив в землю свои прелестные глаза, наполненные слезами.
Бурмистров сказал ей свое имя. Разговор между ними продолжался до самого вечера. Восхищенный умом девушки, Василий и не приметил, как пролетело время. Лаптев сдержал слово и приехал вечером за Натальей. Проводив ее до колымаги и уверив ее, что она скоро увидится с матерью в своем новом убежище, Василий, всходя по лестнице с Борисовым, крепко сжал ему руку и с жаром сказал: «Какая прелестная девушка! Как рад я, что мне удалось сделать ей услугу».
VI
Они условились в тиши
И собираются, как звери,
Хранимых Богом растерзать.
ГлинкаНачинало смеркаться, когда боярин Милославский, возвратясь из дворца домой, ходил взад и вперед по горнице, погруженный в размышления. На столе, стоявшем подле окна и покрытом красным сукном, блестела серебряная чернильница и разложено было в порядке множество свитков бумаг. У стола стояла небольшая скамейка с бархатною подушкою. Около стен были устроены скамьи, покрытые коврами. Серебряная лампада горела в углу пред старинным образом Спаса Нерукотворенного.
На боярине блистал кафтан из парчи, с широкими на груди застежками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками. На голове у него была высокая шапка из черной лисицы, похожая на клобук[36], расширяющийся кверху. В левой руке держал он маленькую серебряную секиру – знак своего достоинства. С правой руки спущенный рукав почти доставал до полу.
Сев наконец на скамейку, снял он с головы шапку и положил на стол вместе с секирою. Засучив рукав и взяв один из свитков, боярин начал внимательно его читать, разглаживая левою рукою длинную свою бороду.
– Заступись, батюшка, за крестного сына твоего! – закричал, упав ему в ноги, вбежавший площадной подьячий Лысков.
Боярин вздрогнул, оборотился к нему и с удивлением спросил:
– Что с тобой сделалось, Сидор?
– За кабалу, которую написал я, по моей должности и в твою угоду, на дочь вдовой попадьи Смирновой, царица приказала поступить со мною по Уложению. Да дьяк Судного приказа поднял старое дело о табаке. Если не заступишься за меня, горемычного, то за лживую кабалу отрубят мне руку, а за табак отрежут нос. Помилосердуй, отец мой! Куда я буду годиться?
– Будь спокоен! Встань! Ручаюсь тебе, что останешься и с рукой, и с носом.
– Князь Долгорукий на меня наябедничал. Уж меня везде ищут; хотят схватить и посадить на тюремный двор до решения приказа.
При имени Долгорукого боярин изменился в лице; губы его задрожали от злобы и досады.
– Останься в моем доме, Сидор. Посмотрим, кто осмелится взять тебя из дома Милославского! А я завтра же подам челобитную царевне Софье Алексеевне. Авось и Долгорукий язык прикусит!
– Вечно за тебя буду Бога молить, отец мой!
Лысков поклонился в ноги Милославскому и поцеловал полу его кафтана.
– Возьми вот этот ключ и поди в верхнюю светлицу, что в сад окошками. Запри за собою дверь, никому не показывайся и не подавай голоса. Один дворецкий будет знать, что ты у меня в доме. С ним буду я присылать тебе с моего стола кушанье. Полно кланяться, поди скорее.
Лысков ушел. Солнце закатилось, и все утихло в доме Милославского. Когда же наступила глубокая ночь, боярин, надев простой, темно-зеленого сукна кафтан и низкую шапку, похожую на скуфью, вышел в сад с потаенным фонарем в руке. Дойдя до небольшого домика, построенного в самом конце сада, он три раза постучал в дверь. Она отворилась, и боярин вошел в домик. Все его окна были закрыты ставнями. Около дубового стола, посредине довольно обширной горницы, освещенной одною свечою, сидели племянник боярина, комнатный стряпчий Александр Иванович Милославский, из новгородского дворянства кормовой иноземец Озеров[37], стольники[38] Иван Андреевич и Петр Андреевич Толстые[39], городовой дворянин Сунбулов, стрелецкие полковники Петров и Одинцов, подполковник Циклер[40] и пятисотенный Чермной[41].
При появлении Милославского все встали. Боярин занял первое место и, подумав немного, спросил:
– Ну что, любезные друзья, идет ли дело на лад?
– Я отвечаю за весь свой полк! – отвечал Одинцов.
– И мы также за свои полки! – сказали Петров и Циклер.
– Ну а ты, Чермной, что скажешь? – продолжал Милославский.
– Все мои пятьсот молодцев на нашей стороне. За других же пятисотенных ручаться не могу. Может быть, я и наведу их на разум, кроме одного; с тем и говорить опасно.
– Кто же этот несговорчивый?
– Василий Бурмистров, любимец князя Долгорукого. Он нашим полком правит вместо полковника. Я за ним давно присматриваю. Дней за пять он ездил куда-то ночью и привез с собой к утру какую-то девушку, а вечером отправил ее неизвестно куда. Вероятно, к князю Долгорукому, к которому он ходил в тот же день.
– А ты не узнал, как зовут эту девушку?
– Не мог узнать. Один из моих лазутчиков рассказал мне, что этот негодяй в ту же ночь, как привез к себе девушку, ходил с десятерыми стрельцами и пятидесятником Борисовым к дому попадьи Смирновой, твоей соседки.
– Понимаю! – воскликнул Милославский. – Это его дело… Послушай, Чермной, я даю пятьдесят рублей за голову этого пятисотенного. Он может нам быть опасен.
– И конечно опасен. Его надобно непременно угомонить. Завтра я постараюсь уладить это дело.
– Ну а ты что скажешь, племянник?
– Я достал ключи от Ивановской колокольни, чтобы можно было ударить в набат.
– Мы с братом Петром, – сказал Иван Толстой, – неподалеку от стрелецких слобод, в полуразвалившемся домишке, припасли дюжину бочек с вином для попойки.
– А я шестерых московских дворян перетянул на нашу сторону, – сказал Сунбулов, – да распустил по Москве слух, что Нарышкины замышляют извести царевича Иоанна.
– А я распустил слух, – сказал Озеров, – что Нарышкины хотят всех стрельцов отравить и набрать вместо них войско из перекрещенных татар.
– Итак, дело, кажется, идет на лад! – продолжал Милославский. – Остается нам условиться и назначить день. Я придумал, что всего лучше приступить к делу пятнадцатого мая. В этот день убит в Угличе царевич Димитрий[42]. Скажем, что в этот же день Нарышкины убили царевича Иоанна.
– Прекрасная мысль! – воскликнул Циклер. – Воспоминание о царевиче Димитрии расшевелит сердца даже самых робких стрельцов.
– Пред начатием дела надобно будет их напоить хорошенько, – сказал Одинцов. – Это уж забота Ивана Андреевича с братцем; у них и вино готово. Зададим же мы пир Нарышкиным и всем их благоприятелям.
– Уж подлинно будет пир на весь мир! – промолвил Чермной, зверски улыбаясь. – Только вот в чем задача: пристанут ли к нам все полки? Четыре на нашей стороне, если считать и Сухаревский, а пять полков еще ни шьют ни порют. Полковники-то их совсем не туда смотрят. Одно твердят: присяга да присяга! Чтоб не помешали нам, проклятие!
– Велико дело пять полковников! – воскликнул Одинцов. – Сжить их с рук, да и только! Пяти голов жалеть нечего, коли дело идет о счастии целого русского царства.
– Справедливо, – сказал Милославский.
– Ну а если полки-то и без полковников своих, – спросил Сунбулов, – захотят на своем поставить и пойдут против нас? Тогда что мы станем делать?
– Тогда приняться за сабли! – отвечал Одинцов.
– Нет, не за сабли, – возразил Озеров, – а за молоток. Недаром сказано в пословице, что серебряный молоток пробьет и железный потолок. Царевна Софья Алексеевна, я чаю, серебреца-то не пожалеет?
– Разумеется, – сказал Милославский. – Я у нее еще сегодня выпросил на всякий случай казну всех монастырей на Двине. Пошлем нарочного, так и привезет серебряный молоток. Да впрочем, у меня, по милости царевны, есть чем пробить железный потолок и без монастырской казны.
– Нечего сказать, мы довольны милостию царевны! – сказал Сунбулов. – Я чаю, она не забыла, Иван Михайлович, обещания своего: пожаловать меня боярином, когда все благополучно кончится? Я ведь начал дело и подал голос на площади за царевича Иоанна.
– Царевна никогда не забывала своих обещаний, – отвечал Милославский.
– А меня с товарищами в стольники, да по поместью на брата? – спросил Циклер.
– Нечего и спрашивать. Что обещано, то будет исполнено. Ах да! Хорошо, что вспомнил: составил ли ты, племянник, записку, о которой я тебе говорил?
– Готова, – отвечал Александр Милославский и, вынув из кармана свиток, подал дяде. Тот, бегло прочитав записку, покачал головою и сказал:
– И этого, племянник, не умел путем сделать! Артемошку Матвеева-то[43] и не написал! Что его миловать? ведь он не святее других. Я тебе вчера сказывал, что царица велела ему возвратиться из ссылки. Он, конечно, помнит, что я ему ссылкой-то удружил. Уж и то худо было, что из Пустозерска перевезли его в Лухов, а то еще едет в Москву! Надобно отправить его туда, откуда никто не возвращается. Хоть список-то и длинненек, однако ж прибавь Матвеева, да напиши поболее таких записок, для раздачи стрельцам. А как будешь раздавать, накрепко накажи им, чтоб никому спуску не было и чтоб начали с Мишки Долгорукого. Не поможешь ли ты, Петр Андреевич, в этом деле племяннику? – продолжал он, обратясь к Толстому.
– С охотой!
В это время кто-то застучал в дверь. Все вздрогнули. Чермной, сидевший на конце стола, встал, вынул из-за кушака длинный нож и тихонько подошел к двери, удерживая дыхание. Посмотрев в замочную скважину, он при свете месяца увидел стоявшую у двери женщину.
Опять раздался стук и вслед за ним едва внятный голос:
– Пустите, я от царевны Софьи Алексеевны к боярину Ивану Михайловичу!
– А! это из наших! – сказал Чермной, отворяя дверь.
Вошла немолодых лет женщина, одетая в сарафан из алого штофа, с рукавами, обшитыми до локтей парчою. Сверх сарафана надет был на ней широкий шелковый балахон с длинными рукавами, который она сняла, вошедши в горницу. На шее у нее блестело широкое жемчужное ожерелье; в ушах висели длинные золотые серьги, а на лице и при слабом сиянии одной свечи заметны были белила и румяна. Стуча высокими каблуками желтых своих сапожков, подошла она к столу и села подле Озерова. Не бывает действия без причины. Почему, например, пришедшая женщина села подле Озерова, а не подле кого-нибудь другого? Потому, что Озеров ей давно приглянулся, а царевна Софья обещала ее выдать за него замуж, если она будет исполнять все ее приказания и ни разу не проболтается. Это была постельница[44] царевны Софьи, родом из Украйны, по прозванию Назнанная.
– Добро пожаловать, Федора Семеновна! – сказал Милославский. – Верно, от царевны, с приказом?
– С приказом, Иван Михайлович. Царевна велела отдать тебе грамотку, которую ты ей вчера подал, и сказать, что всему быть так, как ты положил; да велела благодарить тебя за твое усердие к ней. Меня было остановил на дороге решеточный. «Куда идешь, бабушка?» – спросил он. «Бабушка! Ах ты хамово поколение! – закричала я. – Ослеп, что ли, ты? Да тебя завтра же повесят, зароют живого в землю! Не видишь, с кем говоришь?» Разглядев мое лицо и мой наряд, решеточный повалился мне в ноги. Я и велела ему лежать ничком на земле до тех пор, пока я не пройду всей улицы. Я чаю, мошенник со страху и теперь еще не встал.
– Итак, все решено, любезные друзья! – сказал Милославский. – Приступим к делу пятнадцатого мая. До тех пор я не буду выезжать из дому и скажусь больным. По ночам собирайтесь здесь для советов и для получения от меня наставлений. Главное дело не робеть. Смелым Бог владеет. Однако уж светает: пора расходиться. Прощай, Федора Семеновна. Скажи царевне, что дело идет на лад и что я все устрою как нельзя лучше.
Все поднялись с мест и вышли один за другим в сад. Боярин удалился в свои комнаты, а прочие, выйдя чрез небольшую калитку в глухой переулок, разошлись по домам.
VII
Кто добр поистине: не распложая слова,
В молчаньи тот добро творит.
КрыловПробыв целое утро у князя Долгорукого и получив приказание прийти опять к нему по возвращении из собора Архангела Михаила, куда князь поехал за обедню и панихиду по царе, Бурмистров чрез Фроловские[45] ворота вошел в Кремль. Раздался благовест с колокольни Ивана Великого. Народ начал собираться в Успенский собор к обедне. Василий вошел в церковь. Когда служба кончилась и народ начал расходиться, на церковной паперти[46] кто-то ударил слегка Бурмистрова по плечу. Он оглянулся и увидел своего сослуживца, пятисотенного Чермного.
– Здорово, товарищ! – сказал ему Чермной. – Какими судьбами ты попал в Успенский собор? Ты обыкновенно ходишь к обедне к Николе в Драчах.
– Да так, вздумалось побывать в соборе и взойти после обедни на Ивановскую колокольню; я уж очень давно на ней не бывал.
– Кстати и мне взобраться туда вместе с тобою и полюбоваться на Москву.
Вместе с этими словами в голове Чермного мелькнула адская мысль: воспользоваться случаем и исполнить обещание, данное им накануне Милославскому. Он придумал, взойдя на самый верхний ярус колокольни с Бурмистровым, невзначай столкнуть его вниз, когда он засмотрится на Москву, и сказать потом, что товарищ его упал от собственной неосторожности. Василий, ни в чем не подозревая Чермного, согласился идти с ним вместе на колокольню. Пономарь за серебряную копейку отпер им дверь и, к великой досаде Чермного, пошел сам вперед по лестнице. Наконец они добрались до самого верхнего яруса.
Василий, подойдя к перилам, начал вдали отыскивать взором дом купца Лаптева. Если кто-нибудь из читателей наших (о читательницах говорить не смеем) бывал влюблен и когда-нибудь смотрел с колокольни или башни на город, то он верно знает, что всего скорее обращаются глаза в ту сторону, где живет любимый человек. С трудом рассмотрев в отдалении дом Лаптева, Василий начал напрягать зрение, думая: не увидит ли окон верхней светлицы и кого-нибудь у окошка? Однако ж и весь дом едва был виден, и потому неудивительно, что Василий понапрасну напрягал зрение, погружаясь между тем все более и более в приятную задумчивость, и наконец, глядя во все глаза на обширную Москву, вместо города увидел пред собою образ своей Натальи, если не в самом деле, то по крайней мере в воображении. Тем временем Чермной выдумывал средство, как бы избавиться от безотвязного пономаря, который, побрякивая ключами и показывая пальцем колокольни разных московских церквей, говорил:
– Погляди-ка, господин честной, отсюда все церкви видны. Одних Никол не перечтешь: вот это Никола у Красных колоколов, это Никола в Драчах, это Никола на Курьих ножках, это Никола на Болвановке, это Никола в Пыжах…
– Знаю, знаю! – твердил сквозь зубы Чермной; но пономарь, не слушая его, продолжал усердно пересчитывать церкви и колокольни.
– Сделай одолжение, любезный! – сказал наконец Чермной. – Вот тебе две серебряные копейки. Я что-то нездоров: нет ли у тебя Богоявленской воды[47]? Я бы выпил немного, так авось мне бы полегче стало.
– Как не быть, отец мой; только идти-то за ней далеконько! – отвечал пономарь, почесывая затылок и уставив глаза на две серебряные копейки, лежавшие у него на ладони.
– Ну, вот тебе еще копейка, только сделай милость, принеси воды хоть немножко.
– Шутка ли вниз сойти и опять сюда взобраться! Ну да уж так и быть.
Пономарь пошел вниз, а Чермной, внимательно глядя на Бурмистрова и заметив, что он в глубокой задумчивости стоит у перил, начал украдкою к нему приближаться. Подойдя уже близко к товарищу, он тихонько стал нагибаться, держа в руке серебряную копейку, чтобы сказать, что поднял ее с полу, если б Василий, неожиданно оглянувшись, приметил его движение. Уж он готов был схватить товарища за ноги и перебросить чрез перила, как вдруг опять раздался голос возвратившегося пономаря.
– Не прикажешь ли, отец мой, принести кстати просвирку[48]? Да не поусердствуешь ли копеечкой на церковное строение? В селе Хомякове, Клюквино тож, сгорела недавно церковь.
– Где сгорела церковь? – спросил Бурмистров, выведенный из задумчивости громким голосом пономаря.
– В селе Хомякове, отец мой.
Василий вынул из кармана ефимок и отдал пономарю. И Чермной поневоле последовал его примеру, отдав серебряную копейку, которую держал в руке. Пономарь низко поклонился и, не сказав ни слова, пошел за кружкою простой воды, потому что Богоявленской у него не было.
Когда шум шагов его затих на лестнице, Чермной, видя, что Бурмистров отошел от перил и хочет идти вниз, остановил его и сказал:
– Мы с тобой давнишние сослуживцы, товарищ, и всегда были приятелями. Могу ли я на тебя положиться и поговорить с тобой откровенно об одном важном деле?
– Хочешь – говори, хочешь – нет, это в твоей воле. Я не хочу знать твоих важных дел, если меня опасаешься.
– Если б я тебя опасался, то и не начал бы разговора. Я тебя всегда почитал и любил, и потому решился, как добрый товарищ, предостеречь тебя.
– А от чего бы, например?
– Неужели ты ничего не слыхал и не знаешь? Послушай-ка, что по всей Москве говорят.
– Поговорят да и перестанут.
– Хорошо, как бы тем кончилось.
– А чем же может кончиться?
– Да тем, что и моя голова и твоя не уцелеют.
– Ну, так что ж? Двух смертей не будет, а одной не миновать.
– Я вижу, что ты мне не доверяешь и не хочешь быть со мною откровенен. Может быть, и пожалеешь об этом, да будет поздно. И к чему скрываться от меня? У нас одна цель с тобою: нам не мешало бы соединиться и действовать вместе. Времени терять не должно. Худо будет, если люди станут пахать, а мы руками махать. Пойдем обедать ко мне, товарищ. Я бы за столом сообщил тебе важную тайну. У тебя волосы станут дыбом, даром что ты не трус.
Чермной, не смея напасть открыто на Бурмистрова и не надеясь его пересилить и сбросить с колокольни, решился притвориться преданным царю Петру Алексеевичу, подстрекнуть любопытство Бурмистрова обещанием открыть ему тайну, зазвать к себе обедать и за столом отравить его ядом, купленным недавно, по поручению Милославского, в Новой аптеке[49].
– О чем ты говоришь, Чермной? – сказал Василий. – Что у тебя за ужасная тайна? Право, не понимаю!
– Скажи лучше, что понимать не хочешь. Неужели ты не слыхал, что царю Петру Алексеевичу грозит опасность?
– Какая опасность?
– Та самая, о которой ты говорил сегодня с князем Долгоруким и о которой я уже прежде тебя его предуведомил.
Бурмистров устремил проницательный взор на Чермного.
– Спроси самого князя, если мне не веришь. Я обещал ему доставить полное и верное сведение о числе и силе заговорщиков и о всех их замыслах. Надеюсь вскоре исполнить мое обещание, хотя бы мне стоило это жизни. Я готов пролить кровь свою за царя Петра Алексеевича. Давно я на это решился и действую; а ты… думаешь о молодых девушках да прогуливаешься ночью по Москве с твоими стрельцами. Не сердись на меня, товарищ, за правду! Я прямо скажу тебе, что грешно заниматься какою-нибудь девчонкою, когда дело идет о спасении царя.
– Побереги для других твои советы. Я знаю не хуже тебя свои обязанности и докажу на деле, а не словами, что готов умереть за царя.
– Дай руку, товарищ! Будь ко мне доверчив и ничего не скрывай от меня. Станем вместе действовать. Ум хорошо, а два лучше. Богом клянусь, что я стою за правое дело!
– Не клянись, а докажи это. Лучшая клятва в верности царю – кровь, за него пролитая. Тебе не перехитрить меня, Чермной! Ты, как вижу, подглядывал за мною, а я наблюдал за тобою. Напрасно станешь ты клясться, что стоишь за правое дело. Поверю ли я клятвам человека, который недавно уверял некоторых из стрельцов, что можно, не согрешив пред Богом, нарушить присягу, данную царю Петру Алексеевичу? Для кого присяга не священна, того все клятвы пиши на воде.
– Вот и вода! – сказал пономарь, которого лысая голова в это время явилась, как восходящее солнце. Он подошел осторожно к Чермному, чтоб не расплескать воды из принесенной им кружки; но Чермной, раздраженный укоризною Бурмистрова, оттолкнул пономаря и сказал Василию:
– Нас рассудит князь Долгорукий с тобою. Ты обвиняешь верного слугу царского в измене! Или я, или ты положишь голову на плаху.
Сказав это, он пошел вниз.
– Ах ты, бусурман нечестивый! – ворчал между тем пономарь, пустясь за ним в погоню по лестнице. – Да как ты смеешь толкаться, когда я держу кружку с Богоявленской водой. Я половину воды пролил на пол! Да я на тебя святейшему патриарху челом ударю! Татарин, что ли, ты али жид? Погоди ужо, дешево со мной не разделаешься!
Бурмистров шел за пономарем по лестнице. Чермной скрылся от своего преследователя, и пономарь в самом низу, в дверях, остановил Василья для допроса.
– Скажи, господин честной, кто этот окаянный антихрист, что с тобою наверху разговаривал?
– Не знаю! – отвечал Василий, не желая выдать товарища. – Я вовсе с ним не знаком и в первый раз встретился с ним сегодня. Кажется, он из татар.
– Ну так у него и рожа-то не христианская! Коли держится иной шерсти[50], так шел бы в свою поганую мечеть; а то лезет на Ивана Великого да пономаря толкает, нечестивец! Счастлив, что ушел: я бы с ним разведался на Патриаршем дворе!
Оставив разгневанного пономаря, Василий поспешил к дому князя Долгорукого.
Кончив вместе с Бурмистровым начатое поутру представление о заговоре, князь поехал к царице Наталье Кирилловне и приказал находившимся в доме его десятерым стрельцам взять под стражу Чермного, когда он, по обещанию, придет к нему вечером. Бурмистров сорвал личину с лицемерного злодея. Прощаясь с князем, Василий просил дать ему слово, чтобы за открытие заговора не давали ему никакой награды.
– Я не хочу, – говорил он, – чтобы меня могли подозревать в чистоте моих намерений. Открыв заговор, я не искал выслужиться и основать мое счастие на бедствии ближних, хотя и преступных. Я исполнил только священную клятву, данную Помазаннику Божию. За что же награждать меня? Неужели только за то, что я не хотел сделаться преступником и не нарушил священнейшей из клятв? Жизнь царя тесно соединена с благом Отечества и с неприкосновенностию Церкви православной, которую угрожает поколебать Аввакумовская[51] ересь, заразившая большую часть стрельцов. Я всегда был готов умереть за веру, царя и Отечество, но никогда не желал суетных земных наград и почестей, помня слова святого апостола Павла, повелевающего не заботиться о том, как судят о нас люди, и не искать хвалы их, а памятовать, что судия наш – Господь, который в пришествие Свое осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и что тогда всякому похвала будет не от людей, а от Бога. Дайте мне слово, князь, не награждать меня.
Князь Долгорукий обнял Бурмистрова, молча пожал ему руку и поехал к царице.
VIII
Зачем в полуночной тиши,
Мои лукавые злодеи,
По камням крадетесь, как змеи?
Глинка– Полно ли тебе горевать, красная девица! – говорила дородная Варвара Ивановна, жена Лаптева, сидевшей у окна Наталье. – Да ты этак глазки выплачешь.
– Как же мне не плакать, Варвара Ивановна, когда я до сих пор не знаю, где матушка и что с нею сделалось. Может быть, она… – Наталья не могла выговорить ничего более и, рыдая, закрыла платком прелестное лицо свое.
– Полно, моя ягодка, плакать! Ведь Андрей Матвеевич обещал непременно узнать сегодня, где твоя матушка; да и братец твой авось принесет радостную весточку о родительнице. Я чаю, он придет к тебе завтра. Этакая память, прости господи, забыла ведь, какой у нас день сегодня и которое число!
– Суббота, тринадцатое мая, – сказала Наталья.
– Ну, так и есть: завтра братец придет. Полно же горевать, мое наливное яблочко, право, глазки выплачешь.
В это время раздался стук у калитки, и чрез минуту вошел Лаптев с печальным лицом. Не дожидаясь вопроса девушки, он сказал:
– Я не узнал еще, Наталья Петровна, где твоя матушка. Был у братца твоего в монастыре. Завтра чуть свет вместе с ним пойдем искать ее по всему городу. Наверно, ее укрыл какой-нибудь добрый человек. Она не знает, где ты, а ты не знаешь, где она, – вот и вся беда! Полно горевать, Наталья Петровна, Бог милостив. Писание не велит… Ах, господи! Наталья Петровна! что это с тобой? Воды, жена! скорее воды!
Дородная Варвара Ивановна самым скорым шагом, каким только могла, пустилась из верхней светлицы вниз по лестнице, за водою, а Лаптев, сидя на скамье подле Натальи, приклонил к плечу голову девушки и в испуге смотрел на ее бледное лицо и закрывшиеся глаза.
Вскоре Варвара Ивановна, запыхавшись, явилась с кружкою в руке и подала мужу. Брызнув несколько раз в лицо Натальи холодною водою, Лаптев привел ее в чувство и выпил оставшуюся в кружке воду. В это самое время неожиданно вошел в светлицу Бурмистров. Готовясь принести жизнь на жертву царю, он хотел взглянуть в последний раз на Наталью и проститься с старинным своим приятелем, Лаптевым. При входе Василья бледные щеки девушки вдруг вспыхнули. Чтобы скрыть свое смущение, она закрыла лицо платком.
– Ах, господи! – воскликнул сидевший еще подле нее Лаптев. – Ей опять дурно! Жена, еще воды!
Варвара Ивановна, тяжело вздохнув, поднялась со скамейки, на которую села отдыхать после совершенного ею подвига; но Бурмистров предупредил ее и, взяв кружку, побежал вниз. Между тем Наталья оправилась от своего смущения. Вскоре Бурмистров возвратился с кружкою и поставил ее на стол. Несколько времени продолжалось молчание. Бурмистрова занимала одна восхитительная мысль: она меня любит! Лаптев, посадив гостя подле себя, придумывал, с чего начать разговор; Варвара Ивановна придумывала, чем гостя потчевать; а Наталья размышляла: ах, боже мой! не заметил ли он моего смущения?
Наконец Лаптев прервал молчание:
– Что слышно новенького, Василий Петрович? Мы давно уже с тобой… Что это?.. набат?
– Кажется, – сказал Василий.
– Надобно посмотреть, где горит.
Лаптев побежал на чердак, чтобы выйти на кровлю. Варвара Ивановна с Натальей подошли к окну, а Бурмистров к другому.
– Зарева нигде не видать, – сказал возвратившийся Лаптев. – Накрапывает дождик; кровля прескользкая, и вечер такой темный, хоть глаз выколи. Я чуть не свалился с кровли. Однако ж смотрел во все стороны: пожара нигде не заметно. Что бы это значило?.. Да чу!.. где-то ударили в барабаны!
Бурмистров отворил окно и, прислушиваясь к отдаленному звуку барабанов, сказал:
– Бьют тревогу! Прощай, Андрей Матвеевич!
Поклонившись Варваре Ивановне и Наталье, Василий поспешно вышел и у ворот встретил Борисова.
– Я к тебе, Василий Петрович. Хорошо, что ты мне сказал, что пойдешь сюда сегодня вечером, без того верно бы я не нашел тебя. У нас в полку неспокойно!
– Как? Что это значит?
– Гришка Архипов да Фомка Еремин, десятники Колобова полка, пришли к нашим съезжим избам и говорят такие похвальбы, что и слушать страшно.
– А наши что?
– Наши связали их да и посадили в рогатки.
– Хорошо сделали. Ну а еще что?
– Пяти полков стрельцы, кроме нашего, Стремянного, Полтева и Жуковского, разбрелись по Москве; кто на Отдаточный двор, кто в торговую баню, кто на колокольню. Напились допьяна, звонят в набат и бьют тревогу.
– Чего же полковники-то смотрят?
– Полковники? Поминай как звали! Всех их втащили на самые высокие каланчи съезжих изб и оттуда сбросили. Не испугайся, Василий Петрович. Стрелец Федька Григорьев, которого ты выкупил недавно от правежа[52], прибежал ко мне и сказал, что пятисотенный Чермной нанял за пять рублей четырех стрельцов.
– Для чего нанял?
– Для того, чтобы ночью забраться в твой сад, из саду влезть в окно и зарезать тебя, да и меня кстати.
– Посмотрим, удастся ли им это? Пойдем проворнее, Борисов. Скоро уже полночь, а до дому еще неблизко.
Они удвоили шаги и вскоре подошли к дому; постучались – Гришка отпер калитку.
– Недавно, – сказал он, – прискакал сюда верхом десятник от князя Долгорукого с какою-то к тебе, Василий Петрович, посылкою.
– Где он?
– В сенях дожидается. Да вот и он.
Василий развернул свиток, поданный ему десятником, и прочитал: «Возьми двадцать человек надежных стрельцов и в полночь поди с ними к домам пятисотенного Чермного, подполковника Циклера и полковников Петрова и Одинцова. Забрав всех их, свяжи и приведи тотчас ко мне. Мая 13 дня 7190 года. Князь Михаил Долгорукий».
– Съезди поскорее, – сказал Василий десятнику, – к съезжей избе нашего полка и скажи, что я велел позвать к себе теперь же двадцать стрельцов из полсотни Борисова. Скажи, чтобы не забыли ружей и сабель.
– Слушаю.
Десятник сел на лошадь и поскакал. Не прошло четверти часа, как явились двадцать стрельцов и стали в ряд на дворе, в молчании ожидая Василья, который с Борисовым побежал в спальню за пистолетами. В то самое время, когда они оба сходили по лестнице, раздался в сенях крик выбежавшего из горницы опрометью Гришки: «Воры, воры!»
Со страху споткнувшись на лестнице, храбрый слуга не сбежал, а пролетел мимо господина своего на двор и чуть не сшиб его с ног.
– Где воры? – спросил Борисов.
– У нас в саду! Целая шайка! Батюшки-светы, что будет с нами?
– В сад, ребята! – закричал Борисов стрельцам. – Ловите разбойников!
Стрельцы бросились в сад вслед за Васильем и Борисовым. При свете месяца увидели они приставленную к окну лестницу и на верхних ступеньках человека. Он силился отворить окно. Два его товарища держали лестницу, и два готовились лезть вслед за ним. Бывший на лестнице, услышав шум, соскакнул с самого верха на землю, и все побежали. «Лови! держи!» – закричали стрельцы; но бездельники успели добежать до забора, отделявшего сад Василья от соседнего огорода, вскарабкались на забор и, соскочив в огород, скрылись. Стрельцы хотели пуститься за ними в погоню, но Василий остановил их и повел за ворота. Дойдя до небольшого дома, где жил Циклер, он окружил его и вошел в комнаты. Все двери были настежь отворены и все имение из дома вывезено. В спальне Циклера увидел Василий секиру, воткнутую перед окном в пол, и привязанный к нему свиток бумаги. Сняв его, он прочитал:
«По близкому соседству моему с тобою, я знал, что ты ко мне первому придешь сегодня в гости. Милости просим! Жаль только, что хозяина не застанешь дома. Я и все наши там, где тебе не найти нас. О приказе, который получен тобою сегодня, узнали мы прежде тебя. Из этого ты видишь, что нас не перехитрить, да и не пересилить; мы решились твердо стоять за правое дело, и на нашей стороне народу многое множество. Советую тебе взяться за ум. Плетью обуха не перешибешь. С одним полком немного против восьми сделаешь. На Стремянной, Полтев и Жуковский не надейся: все наши. Сухаревский смотрит на тебя и упрямится. Да наплевать на тебя и с твоим полком! И без тебя дело обойдется. Эй, возьмись за ум: худо будет! Не образумишься, так изрубим и втопчем в грязь; а образумишься, так получишь поместье да триста рублей. Слышишь ли? Напиши ответ и положи сегодня же ночью в пустую избушку, что подле моей торговой бани»[53].
Бурмистров немедленно пошел со стрельцами к князю Долгорукому и, вручив ему найденный свиток, провел с ним остаток ночи в совещаниях.
IX
Нет, нет! У нас святое знамя,
В руках железо, в сердце пламя:
Еще судьба не решена!..
КарамзинУдарил первый час дня. Восходящее солнце осветило золотоверхий Кремль. Послав Бурмистрова к Ивану Кирилловичу Нарышкину[54] и Артемону Сергеевичу Матвееву с приглашением явиться к царице Наталье Кирилловне для важного совещания, князь Долгорукий поспешил во дворец. Вскоре прибыли туда Нарышкин и Матвеев. Долгорукий встретил их на лестнице и молча подал брату царицы записку Циклера. Нарышкин, прочитав ее, побледнел и передал бумагу Матвееву.
– Опасность велика! – сказал тихо Матвеев, прочитав записку и отдавая ее Долгорукому. – Необходимы твердые и скорые меры. Видела ли царица эту бумагу?
– Нет еще, – отвечал Долгорукий. – Я ожидал вашего прибытия и не велел стряпчему докладывать обо мне.
Войдя в залу, где был стряпчий, Нарышкин сказал ему:
– Донеси царице, что Артемон Сергеевич, Михаил Юрьевич и я просим дозволения войти в ее комнаты.
Стряпчий вышел в другой покой и сказал о боярах постельнице, сидевшей у окна за пяльцами, в которых она вышивала золотом и жемчугом пелену для образа. Постельница пошла в спальню Натальи Кирилловны и, чрез минуту возвратясь, сказала, что царица немедленно выйдет к боярам. Стряпчий сообщил им ответ, и вскоре постельница, отворив дверь в залу, пригласила бояр войти в горницу, где она сидела за пяльцами, а сама, оставшись, по приказанию царицы, в зале, начала расспрашивать стряпчего, зачем бояре так рано приехали?
Царица села с боярами к столу, украшенному резьбою и позолотою, и с приметным беспокойством спросила о причине такого раннего их прихода.
– Мы пришли к тебе, государыня, – отвечал Матвеев, – с недобрыми вестями. Однако ж просим тебя не смущаться. Господь поможет смирить замышляющих злое.
– Да будет воля Божия! – отвечала, побледнев, царица. – Я на все готова!.. Скажи, Артемон Сергеевич, что сделалось?
– Циклер, Одинцов и все товарищи их неизвестно куда скрылись. В доме Циклера нашел пятисотенный Бурмистров записку. Прочитай ее, Михаил Юрьевич.
Когда Долгорукий кончил чтение, Матвеев продолжал:
– Мы пришли спросить тебя, государыня, что делать велишь?
– Я полагаюсь во всем на вас. Делайте моим именем все, что признаете нужным.
– Я велел, – сказал Долгорукий, – десяти стрельцам, переодевшись в монашеское платье, разведывать, где скрываются Циклер и прочие заговорщики? Прежде еще получения мною записки этого злодея узнал я вчера, что полки Стремянной, Полтев и Жуковский, которые считал я верными, допустили себя подкупить. Теперь на стороне царевны Софьи Алексеевны восемь полков, а на стороне царя Петра Алексеевича только один Сухаревский. Но не в силе Бог, а в правде! Надобно приказать Сухаревскому полку и Бутырскому[55] войти сегодня ночью в Кремль и запереть все ворота. Теперь же должно отправить гонцов во все ближние города и монастыри с царским указом, чтобы всякий, кто любит царя, вооружился, чем может, и спешил к Москве защищать его от злодеев, умышляющих пролить священную кровь царскую. Можно назначить сборным местом село Коломенское и послать туда кого-нибудь из бояр для предводительства ополчением, а бунтовщикам объявить, если б они вздумали начать осаду Кремля, что мы будем защищаться до последней крайности, что скоро придет к Москве ополчение и нападет на них, а мы сделаем вылазку и что после того ни одному бунтовщику, который в сражении уцелеет, не будет пощады: всем голову долой! Ручаюсь, государыня, что мятежники оробеют и будут просить помилования.
– А если не оробеют? – сказал Нарышкин.
– Тогда пускай сразятся с нами! – продолжал Долгорукий. – Мы будем держаться в Кремле, покуда не подойдет ополчение и не нападет на них с тыла. Тогда мы сделаем вылазку и разобьем бунтовщиков.
– Более мой! Боже мой! – сказала с глубоким вздохом царица. – Русские станут проливать кровь русских!
– Нет, государыня, – возразил Долгорукий, – презренные бунтовщики, забывающие Бога, нарушающие священную клятву, данную царю и Отечеству, недостойны именоваться русскими.
– Но, может быть, они обольщены обещаниями, обмануты; может быть, прольется кровь многих невинных!.. Неужели нельзя уговорить их? Обещай им, Михаил Юрьевич, какую хочешь награду. Я ничего не пожалею, только бы не лилась кровь христианская. Обещай даже, если нужно, простить стрельцов, которые убили своих полковников.
– Все это будет бесполезно, государыня. Уговорить их невозможно. Кого они теперь послушают! Царевна Софья давно уже внушила им мысль, что царь Петр Алексеевич наследовал престол противузаконно и что царевича Иоанна, против его воли, бояре, тебе в угоду, удалили от престола. Только главные заговорщики знают истинные намерения властолюбивой царевны, а простые стрельцы убеждены, что они вступаются по справедливости за царевича Иоанна. Вели, государыня, действовать, как я сказал; других средств не вижу для отвращения грозящих бедствий.
– Нельзя ли переговорить с царевной Софьей Алексеевной? – сказал Матвеев. – Пусть откроет она тебе, царица, свои желания и требования: может быть, исполнением их она удовольствуется и не захочет проливать кровь русскую. Ее одно слово успокоит стрельцов. Она ввела их в заблуждение; она же всего легче может их из него и вывести.
– Нет, Артемон Сергеевич! – возразил Нарышкин. – Царевна слишком далеко зашла; она не может уже воротиться, да и не захочет. Она желает царствовать именем Иоанна Алексеевича и погубить ненавистный ей род Нарышкиных. Из этого ты видишь, что переговоры с нею невозможны.
– В таком случае, – сказал Матвеев, – более нечего делать, как согласиться с предложением Михаила Юрьевича. За кровь, которая польется, ответит Богу царевна Софья Алексеевна.
В это время отворилась из залы дверь, вошла поспешно постельница и сказала:
– Царевна Софья Алексеевна изволила приехать к тебе, государыня; она уже на лестнице.
Бояре вскочили с мест своих. Царица молча указала им на дверь, завешенную штофным занавесом. Бояре вошли в темный коридор и, спустись по крутой и узкой лестнице в нижние покои дворца, вышли через другие сени на улицу, избежав таким образом встречи с царевною.
– Я пришла, – сказала София, садясь подле царицы, – предостеречь тебя, матушка, от угрожающей опасности. Вся Москва ропщет, что братец Иван обойден в наследовании престола. Вчера два митрополита от лица всего духовенства, несколько бояр и многие выборные от народа били мне челом, чтобы он был объявлен царем московским.
– Ты знаешь, Софья Алексеевна, что он сам уступил престол брату.
– Справедливо, матушка; но не должно пренебрегать народного ропота. Я опасаюсь, чтобы не сделалось чего худого. Лучше уступить общему желанию: все хотят, чтобы провозглашен был царем братец Иван.
– Хотят невозможного: московский престол один – и московский царь может быть только один.
– Волнение умов очень сильно; легко могут начаться беспорядки и кровопролитие. Теперь еще есть время поправить дело: братец Иван уступил престол младшему брату, а младший брат пусть возвратит престол старшему. Никто ни слова не скажет, и вся Москва успокоится.
– Нет, Софья Алексеевна! Бог увенчал моего сына царским венцом, один Бог властен теперь лишить его этого венца. Да будет воля Божия!
– Послушай моего искреннего совета, матушка; может быть, раскаешься, да будет поздно.
– Да будет воля Божия! – повторила царица.
Царевна, покраснев от гнева, вскочила с кресел и вышла поспешно из комнаты. Царица, после усердной молитвы за обедней в Успенском соборе, возвратясь во дворец, послала гонца к брату своему Ивану Кирилловичу, боярину Матвееву и князю Долгорукому с приглашением, чтобы они явились к ней на другой день рано утром для окончания начатого ими совещания.
X
И криками ночные враны,
Предвозвещая кровь и раны,
Все полнят ужасом места.
ПетровСолнце давно уже закатилось. В доме Милославского, которого никто не подозревал в преступных замыслах, собрались заговорщики, а стрельцы около съезжих изб своих зажгли костры, прикатили бочки с вином, подаренные им Толстыми, и принялись за попойку и рассуждения. Несколько пятисотенных, сотников и пятидесятников, покусясь обратить к порядку своих подчиненных, сделались жертвою своего мужества. Их схватили и сбросили, одного за другим, с тех же каланчей, с которых недавно были сброшены верные своему долгу полковники. По совершении этого подвига попойка возобновилась. Шумные разговоры и песни во всю ночь не умолкали.
Один из стрельцов, сидящий верхом на опорожненной бочке, с деревянным ковшом в руке. Нечего сказать, Кондратьич, молодец! Ты всех, кажется, усерднее поработал; мне ни одного не удалось сбросить, а ты четверых спровадил.
Другой стрелец. Туда им и дорога! Вздумали нас учить! Ученого учить – только портить. А где Васька Бурмистров с своим поганым полком?
Третий стрелец. А дьявол его знает! Многие было из стрельцов не хотели от нас отстать, да этот краснобай с пятидесятником Ванькою Борисовым их отговорил. Только один Фомка Загуляев из Сухаревского полка с нами остался.
Первый стрелец (поет сиплым басом).
Против солнца, на востоке, Стоит келья, монастырь. Как во том монастыре Стрелец спасается: По три раза в день допьяна напивается[56].Второй стрелец. Перестань горланить, Ванюха. Страшно слушать этакую еретическую песню. Затяни-ка лучше «Вниз по матушке по Волге».
Первый стрелец. Дай прежде промочить горло. Эй, Павлуха! ты уж чуть на ногах стоишь, а знай себе наливаешь. Налей, кстати, и мой ковш. Мне не хочется сойти с коня-то. Видишь, какой толстый, толще иного монастырского служки, да и в обручах весь. Уж не бойсь, не сшибет!
Четвертый стрелец. Полно вздор молоть, Ванюха, лучше поговорим о деле. Слышали ли вы, ребята, что в прошлую середу приехал сюда ссылочный Матвеев, а третьего дня, в пятницу, опять в бояре пожалован?
Пятый стрелец. Ну, что ж? Пусть его боярствует; ведь он в старину был наш брат стрелец.
Четвертый стрелец. Как так?
Пятый стрелец. Мой покойный дядя рассказывал, что годов за тридцать ходил царь Алексей Михайлыч под Смоленск и что Матвеев помог царю взять этот город. С тех пор царь узнал его и начал жаловать. Матвеев был в то время стрелецким головою, по-нынешнему полковником.
Шестой стрелец. Да, нечего сказать, послужил он царю верой и правдой. Когда Алексей Михайлыч вздумал во второй раз жениться, уж он был думным дворянином. В день свадьбы царь пожаловал его окольничим, а через год боярином, в тот самый день, как меня приняли в Стремянной полк из посадских детей. Вот уж скоро минет десять лет, как я стрельцом, а он боярином.
Первый стрелец. Экое диво, боярином! Навязал царю на шею свою питомицу, состряпал свадьбу да и в бояре попал! Этак бы и я умел выслужиться. Нет, ребята, хоть Матвеев и был в старину наш брат, стрелец, а все-таки он ни к черту не годится. Ведь ему Нарышкины-то родня?
Второй стрелец. Говорят, что родня. Кирила-то Полуехтович был бескопеечный дворянин. В свадьбу дочки попал также в окольничие, а через год и в бояре. Залетела ворона в высокие хоромы! А во всем Матвеев виноват: он царя-то приворожил к своей питомице – чтобы ему издохнуть, чернокнижнику! За чернокнижество он и в ссылку попал. Свояк мой, дворецкий боярина Милославского, раз подслушал, как боярин его разговаривал о Матвееве с приятелями. Господи боже мой! да этого мало, что его в ссылку послали: его бы надобно было живьем изжарить на хворосте, проклятого! Страшно и рассказывать, что слышал я от дворецкого.
Пятый стрелец. Что ж ты слышал?
Второй стрелец. Мало ли что! Всякой Еремей про себя разумей! Ну да уж так и быть, разболтаю я вам все, что знаю. Семь лет крепился. Была пора молчать, а ныне пришла пора и языку волю дать. Однако ж, ребята, чур из избы сору не выносить. Этак, пожалуй, и в Тайный приказ потянут да запытают до смерти! Вот, вишь ты, ребята, дело в чем. Был при покойном царе Алексее Михайлыче, да и ныне еще никак жив, лекарь Гадин[57]. Боярин Матвеев правил тогда Аптекарским приказом, подружился с Гадиным, да и вздумал у него колдовству учиться. Раз боярский карло, Захарка, спал за печкой. Матвееву-то и невдомек. Вот пришел к нему в гости Гадин, принес с собой черную книгу и начал ее с боярином читать. Вдруг – наше место свято! – и полезла в горницу нечистая сила, кто из-под полу, кто в окошко, кто из печки – ну, так и лезут, проклятые! Захарка сидит за печкой ни жив ни мертв и шелохнуться не смеет.
Первый стрелец. Этакая диковина! Стало быть, карло-то видел нечистых. Посмотрел бы хоть одним глазком на них; чай, страшно?
Второй стрелец. Свояк мой расспрашивал Захарку: каковы лукавые с рожи? Он говорил, что больно некрасивы. У иного ноги козлиные, у другого гусиные, у третьего петушьи. Руки у них с когтями, словно грабли; головы почти у всех свиные или змеиные. У всякого притом рога, борода козлиная да хвост с закорючкой.
Первый стрелец. Страсть какая!
Второй стрелец. У иных есть и рыжие бороды.
Павлуха. А вот я в тебя пущу ковшом, так ты и не будешь вперед мигать да на меня указывать. Ты думаешь, я пьян, так и не примечу, что ты над моей бородой тешишься. Смотри, Егорка!
Пятый стрелец. Не мешай, Павлуха! дай ему досказать.
Второй стрелец. И начал Гадин с лукавыми разговаривать, а они в один голос закричали: у вас в избе есть третий человек. Матвеев вскочил, взглянул за печку и хвать Захарку за волосы. Вытащил его, стянул с него шубу и так ударил оземь, что переломил ему два ребра. Потом принялся топтать его и выкинул замертво из горницы. За это, да еще за то, что с Гадиным замышлял он, злодей, испортить покойного царя Федора Алексеича, его и в ссылку послали[58]. Подлинно: велико еще к нему было милосердие за старые его службы. Сжечь бы его, чернокнижника!
Пятый стрелец. Нет, товарищ, не греши: все это наговорили на Матвеева его злодеи. Еще покойный царь Федор Алексеич по его челобитным увидел, что он сослан безвинно, велел ему с Мезени, куда его отправили с сыном из Пустозерска, переехать в Лухов и пожаловал ему вотчину в 700 дворов. Похож ли Матвеев на чернокнижника? Нет, брат, он истинно православный христианин. При покойном царе Алексее Михайлыче не было боярина сильнее его, а сделал ли он хоть кому-нибудь какое дурно? Все любили его, как отца родного. Я был еще мальчишкой лет двенадцати, и как теперь гляжу на ветхий дом Матвеева, неподалеку от Николы в Столпах. Царь часто бывал в гостях у боярина и приказывал ему несколько раз перестроить дом на счет царской казны; но Матвеев отговаривался и обещал напоследок дом перестроить, только не на счет казны, а на свои деньги. Понадобился под дом камень. На грех, в целой Москве не случилось тогда ни одного камешка продажного. Что делать? Боярин призадумался. Вдруг на другой день на двор к нему, телега за телегой; глядь – все с камнями. Боярин вышел на крыльцо и спрашивает: откуда и кто прислал? Тогда выборные из стрельцов да из торговых и посадских людей подошли к боярину и ударили челом. Мы слышали, молвили они, о твоей нужде, боярин, и кланяемся тебе камнем. Боярин сказал им спасибо и не хотел принять камня. Я-де могу купить. Но они молвили: «Мы привезли каменья с могил отцов и дедов наших; не продадим ни за какие деньги, а дарим тебе, нашему благодетелю». Боярин, видя их такую любовь, заплакал и начал их обнимать. Тотчас же поехал к царю и спросил: как быть? Царь приказал ему принять подарок. «Видно-де, народ тебя любит, когда с могил отцов снял для тебя каменья. Такой подарок и мне бы любо было принять от народа».
Первый стрелец. Все так! Да зачем он питомицу-то свою за царя сосватал; без того ее роденьке не бывать бы в чести. Не стали бы Нарышкины царевича Ивана Алексеича изводить, нашу погибель замышлять, новые пошлины выдумывать, задерживать наше жалованье, в праздничные дни заставлять православных работать и обижать встречного и поперечного.
Пятый стрелец. Что правда, то правда! Всякое худо по их приказу делается, хоть они и таятся. Шила в мешке не утаишь. Народ-то стал ныне подогадливее. Да недолго им праздновать; будет и на нашей улице праздник. Икона Знаменья Божией Матери их скоро покарает.
Молодой стрелец. Что это за икона, дядя Савельич?
Пятый стрелец. Неужто ты не знаешь? Правда, где тебе и знать! В Москве только с Юрьева дня, а прежде все жил в захолустье.
Молодой стрелец. Расскажи, дядя, пожалуйста, какая икона Нарышкиных-то покарает?
Пятый стрелец. Бывал ли ты в соборной церкви Знаменского монастыря?
Молодой стрелец. Был раза два.
Пятый стрелец. Был, так верно видел и икону. Эту церковь еще при царе Алексее Михайловиче поновил боярин Иван Михайлович Милославский. Он этой церкви давнишний вкладчик. Там местной образ Знаменья Божией Матери украсил он окладом, жемчугом и самоцветными каменьями. Лет с десяток назад, в Николин день, подошла после обедни к образу кликуша. Народу в церкви было еще очень много. «Послушайте меня, православные! – закричала она. – Не потерпит Знаменье Пресвятой Богородицы, чтобы Нарышкины были выше старинных бояр; придет время, пропадут Нарышкины, пропадут во веки веков, аминь!» Потом кликуша завизжала и повалилась на пол. Ее вынесли из церкви и положили на землю у паперти. Все думали, что она умерла, и поскорее разошлись от беды. На другой день по всему городу искали кликушу сыщики. Сгибла да пропала, словно на дно канула! Тогда только и речей было по всей Москве, что об этом. С тех пор всякий, кого обидят Нарышкины, непременно отслужит молебен иконе в Знаменском соборе. Видно, дошли чьи-нибудь молитвы: всем Нарышкиным туго приходит.
Первый стрелец. А что, разве про них что-нибудь уж приказано?
Пятый стрелец. Приказу еще нет, а велено быть готовым. Иван Андреевич Толстой и братец его подарили нам бочки-то для того, чтоб мы не робели. Чего робеть? закричал я: ведь мы за правое дело вступаемся! Только бы ваша милость не оробела, а стрельцы-молодцы рады с чертом подраться!.. Аль ослеп ты, Павлуха, что на меня набрел? Экой олух!
Павлуха. А ты зачем на дороге стал? Мало тебе места-то? Еду не свищу, а наеду не спущу!
Пятый стрeлeц. Да ты не едешь, а идешь. Эк тебя бросает в стороны! Ой, ты горе-богатырь! Выпил ковш, да уж и глаза вытаращил.
Павлуха. Ковш? Нет, брат, не один ковш, а с полдюжинки наберется. Вишь расхвастался! Ты думаешь, что я и выпить не умею. Выпьем-ста не хуже тебя, да еще и голубца по нитке пройдем.
Первый стрелец. Светает, ребята! Не пора ли по избам?
Второй стрелец. Неужто ты спать хочешь? Этакая баба! Пировать, так пировать всю ночь напролет. Вот, взглянь на Павлуху – молодец! перешел уж к другой бочке. Лежит, а не спит; знай наливает!
Восходящее солнце осветило пирующих. Многие, успев уже подкрепить себя сном, принялись снова за ковши, разговоры и песни. Вдруг у главной съезжей избы раздался звук барабана.
Третий стрелец. Бьют сбор! Побежим, ребята!
Четвертый стрелец. Вставай, Павлуха!
Павлуха. Куда вас леший несет?
Четвертый стрелец. Разве ты не видишь, что все бегут к главной избе? Ведь сбор бьют.
Павлуха. И рад бы в рай, да грехи не пускают! (Силится встать, но опять падает подле бочки.) Беги без меня, куда надобно, а я останусь здесь да сам ударю сбор. (Начинает кулаком барабанить по дну бочки.)
Четвертый стрелец. Эк нарезался, проклятый! Видно, дело без тебя обойдется. Прощай! (Убегает.)
Павлуха. Ай да Федька! Конь бежит, земля дрожит! Словно с цепи сорвался! И я бы побежал, кабы пьян не лежал. Видно, до Нарышкиных добираются. Вот я вас, Хамово поколение, один всех перережу!
Сбежавшиеся у главной избы стрельцы увидели полковников Петрова и Одинцова, подполковника Циклера, пятисотенного Чермного, стольника Ивана Толстого, дворян Сунбулова и Озерова. Трое последние одеты были в стрелецкое платье.
– Товарищи! – закричал Циклер. – Москва и все русское царство в опасности! Лекарь фон Гаден признался, что он, по приказанию Нарышкиных, поднес покойному царю яблоко с зельем. Они же, Нарышкины, придумали на поминках по царе угостить всех вас, стрельцов, вином и пивом, и всех отравить. Они замышляют убить царевича Ивана Алексеевича. К ружью, товарищи! Заступитесь за беззащитного! Царевна Софья Алексеевна наградит вас.
– Смерть Нарышкиным! – закричали стрельцы и бросились в свои избы за оружием. Вскоре они собрались опять на площади, с ружьями и секирами, некоторые же с копьями. Сабель не взяли с собою, по приказанию заговорщиков, которые сочли сабли излишнею тягостию.
– Обрубите покороче древка у секир, товарищи! – закричал Циклер. – С длинным древком секирою труднее рубить головы изменникам!
Приказ был немедленно исполнен. Стрельцы вмиг обрубили древки один у другого. Стук секир смешался с криком: «Смерть изменникам!»
В это самое время на площади появились два всадника, скачущие во весь опор. Это были Александр Милославский, племянник боярина Ивана Михайловича и стольник Петр Толстой. Остановясь пред главною избою, они сказали несколько слов с Циклером и прочими заговорщиками.
– Стройтесь в ряды! – закричали Циклер, Петров и Одинцов. Когда стрельцы исполнили приказание, Милославский и Толстой поехали мимо рядов их. «Сегодня пятнадцатое мая, – кричали они, – сегодня зарезан был в Угличе царевич Димитрий. Сегодня Нарышкины удушили царевича Ивана Алексеевича! Отмстите кровь его и спасите святую Русь!»
Стрельцы в ярости замахали секирами и воскликнули: «Умрем за святую Русь!» Когда шум прекратился, Циклер, сев на лошадь, подъехал к Милославскому, развернул свиток бумаги и, обратясь к стрельцам, сказал: «Вот имена изменников и убийц царевича!» Потом он, Милославский и Толстой, объехав ряды стрельцов, останавливались пред каждою сотнею и повторяли имена жертв, обреченных на гибель. Съехавшись опять пред главною избою, Циклер закричал:
– Грамотные, вперед!
Из рядов двенадцатитысячного войска отделились семь человек. По данному знаку они приблизились к Циклеру и получили от него, Милославского и Толстого списки, приготовленные для стрельцов по приказанию боярина Милославского.
– Смотрите же, – сказал Циклер, – смерть всем убийцам и изменникам, которые в списках означены; чтоб ни один не уцелел!
Стрельцы возвратились со списками на места свои. В это время полковники Петров и Одинцов, верхом, выехали из-за угла одной из съезжих изб. За ними везли пушки и пороховые ящики. Все заговорщики, сев на лошадей, поехали к Знаменскому монастырю. За ними пошло и все войско при шумных восклицаниях. Отслужив молебен, заговорщики вынесли из церкви икону Знамения Божией Матери и чашу святой воды. Стрельцы преклонили оружие пред образом, перекрестились, ударили в барабаны тревогу, подняли знамена и двинулись к Кремлю.
Часть вторая
I
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы,—
Лишь груды тел…
БатюшковВместе с восходом солнца Матвеев, Нарышкин и Долгорукий явились во дворец. Вслед за ними, по приглашению царицы, приехали родитель царицы Кирилл Полиевктович Нарышкин[59], князья Григорий Григорьевич Ромодановский[60], Михаил Алегукович Черкасский[61] и другие преданные ей бояре. Большая часть из них, ожидая с часу на час, что пламя бунта вспыхнет, надели под кафтаны латы. Патриарх уведомил царицу, что он занемог и не в силах не только заниматься какими-либо государственными делами, но и встать с постели. Совещание продолжалось несколько часов, и после жарких споров и рассуждений все согласились с мнением князя Михаила Юрьевича Долгорукого. Царица поручила Матвееву съездить немедленно к патриарху, спросить об его здоровье, уведомить о мерах, какие принять было положено, и испросить его благословение.
Едва Матвеев вышел из комнаты, раздался отдаленный громовой удар.
– Что это значит? – сказала царица. – Утро такое ясное, на небе ни одного облачка, неужели это гром?
Князь Черкасский подошел к окну, посмотрел во все стороны и приметил на юге густую тучу, которая быстро поднималась из-за горизонта.
– Сбирается гроза, государыня! – сказал он.
– Верно, убьет меня молния! – шепнул князь Долгорукий сидевшему подле него Ивану Кирилловичу Нарышкину. – Мне снилось сегодня ночью, что пророк Илия на огненной колеснице взял меня с собою на небо. После этого сна я до сих пор не могу прийти в себя и чувствую какую-то непонятную тоску. Это даром не пройдет: уж что-нибудь да будет со мною!
– И, полно, Михаил Юрьевич! – возразил вполголоса Нарышкин. – Куда ночь, туда и сон! Неужто ты снам веришь?
Между тем царица отошла к окну и о чем-то тихо разговаривала с своим престарелым родителем. Все бывшие в зале бояре также встали с мест своих и в почтительном молчании смотрели на царицу.
Вдруг отворилась дверь. Матвеев вошел поспешно в залу. На лице его заметно было беспокойство, которое он напрасно скрывать старался. Взоры всех обратились на него, и царица спросила:
– Что ты, Артемон Сергеевич?
– Боярин князь Федор Семенович Урусов с подполковниками Стремянного полка Горюшкиным и Дохтуровым попался мне на лестнице. Они говорят, что стрельцы из слобод своих рано утром вступили в Земляной город, оттуда двинулись в Белый; в Китай-городе остановились у Знаменского монастыря и скоро подойдут к Кремлю. Я приказал как можно скорее запереть все кремлевские ворота.
– Хорошо, если успеют! – сказал Долгорукий. – А на всякий случай я прикажу около дворца построиться Сухаревскому полку в боевой порядок.
Долгорукий сошел в нижние покои дворца, велел бывшему там пятидесятнику Борисову, с своею полсотнею стрельцов, выйти на площадь и ударить сбор; а Бурмистрова, который там же ожидал приказаний князя, отправил верхом к полковнику Кравгофу с повелением, чтобы он поспешил с своим Бутырским полком к Красному крыльцу. Отряд Борисова вышел на площадь. В это самое время поднялся сильный вихрь, и вой его соединился с ударами грома, которые почти ни на миг не умолкали.
– Бей сбор! – закричал Борисов барабанщику.
Сокрытые около дворца в разных местах стрельцы Сухаревского полка не могли расслышать звуков барабана при шуме жестокой бури, столь неожиданно поднявшейся.
Долгорукий, войдя опять в залу, начал говорить царице о сделанных им распоряжениях. В это самое время растворилась дверь, ведущая в комнаты царя Петра и царевича Иоанна, и вошел вместе с ними в залу Кирилл Полиевктович. Царица поспешно приблизилась к своему сыну, крепко обняла его и залилась слезами.
Вдруг на Ивановской колокольне раздался звук колокола.
– Что это значит? – сказал князь Черкасский, подходя к окну. Сильный удар грома заглушил унылый звон колокола. Гром стихнул, но звон продолжался, мешаясь с невнятными криками, раздававшимися на площади, и с барабанным боем. – Они уже у Красного крыльца! – воскликнул Черкасский.
– Кто? бунтовщики? – спросил Долгорукий, вынимая саблю. – Не ошибаешься ли ты, князь? Может быть, это Сухаревский полк?
– Посмотри сам. Вон как машут они секирами! Чу, как кричат! Слышишь ли?
– Я уйму их! – сказал Долгорукий и подошел к двери; но царица остановила его, ужасаясь мысли, что с появлением князя начнется на площади кровопролитие.
– Позволь, Михаил Юрьевич, – сказала она, – чтобы Артемон Сергеевич вышел первый на крыльцо и постарался уговорить мятежников. Надобно узнать, чего они требуют. Может быть, не нужно будет проливать крови… Боже мой!.. крови русских!
Долгорукий отошел от двери, приблизился к князю Черкасскому, смотревшему в окно, и крепко стиснул в руке рукоять своей сабли от негодования, увидев мятежников, окруживших со всех сторон Красное крыльцо густыми толпами.
– Смотри, смотри, Михаил Юрьевич! – закричал Черкасский. – Они ломают на крыльце решетки и перила!
– Государыня! – сказал вошедший в залу подполковник Дохтуров, – меня послал к тебе Артемон Сергеевич. Мятежники думают, что царевич Иван Алексеевич убит, и требуют выдачи его убийц.
– Покажи им царя и царевича. Может быть, они успокоятся, – сказал Наталье Кирилловне отец ее.
Царица взяла за руку Петра и Иоанна и вывела на Красное крыльцо. Толпа стрельцов, взбежав на ступени, окружила царицу.
– Ты ли царевич Иван? – спрашивали они.
– Я! – отвечал царевич трепещущим голосом. – Успокойтесь, меня никто не обижал и обижать не думал.
– Ой ли? – сказал один из стоявших подле него стрельцов гигантского роста. – Слышите ли, ребята? – закричал он. – Царевич сам говорит, что ему никто никакого дурна не делал! Не идти ли нам по домам?
В ответ на эти слова раздался на площади громкий крик. Бывшие на крыльце стрельцы сошли на площадь. Все кричали, но нельзя было расслышать ни одного слова. Царица с сыном своим и царевичем Иоанном возвратилась во дворец, а Матвеев сошел с крыльца и, воспользовавшись минутою, когда шум утих несколько, начал говорить:
– Я не узнаю в вас, братцы, прежних стрельцов. Вы были всегда храбрыми воинами и верными слугами царскими. Я сам в старину был вашим головою и всегда любил вас, как родных детей. Послушайтесь моего совета. Я не верю, чтобы вы сами захотели покрыть себя вечным позором и восстать против вашего законного царя: верно, подучили вас злые и коварные люди. Не слушайте их: они вас обманывают. Они сказывали вам, что царевич Иван Алексеевич убит, а вы видели сами, что он жив и здрав. Неужели кто-нибудь из вас захочет погубить навеки душу свою? Нет, братцы! Вспомните Бога, вспомните час смертный! Дадите ли вы добрый ответ на Страшном Суде Христовом, когда наругаетесь над крестом Спасителя, который вы целовали с клятвою служить верой и правдой царю Петру Алексеевичу? Успокойтесь, возвратитесь в ваши слободы и докажите, что вы все те же храбрые и верные царю стрельцы.
– Кажись, боярин-то дело говорит! – шептали многие из стрельцов друг другу.
– По домам, ребята! – закричало несколько голосов.
Матвеев, обрадованный действием своего увещания, вошел во дворец и сказал царице, что стрельцы, по-видимому, успокаиваются. Но едва успел он удалиться, раздался в толпе чей-то голос:
– Нарышкины убьют не сегодня, так завтра царевича Ивана! Тогда где мы возьмем другого царя? Поневоле останемся при младшем брате! А тогда Нарышкины пуще возьмут волю и всех стрельцов перевешают! Иван Нарышкин вчера надевал на себя царскую порфиру и похвалялся своими руками удушить царевича!
– Смерть Нарышкиным! – воскликнули тысячи голосов. – Во дворец! Режь изменников!
Стрельцы бросились толпами к Красному крыльцу, но вдруг остановились, увидев на нем князя Михаила Юрьевича Долгорукого с поднятою саблею.
Все притихли. Долгорукий сошел с лестницы.
– Бунтовщики! изменники! – закричал он. – Голова слетит с плеч у первого, кто осмелится хоть одною ногою ступить на это крыльцо! Слушайте меня! Молчать, говорю я вам!.. Что? Меня не слушаться?.. Вели стрелять! – продолжал он, обратясь к Борисову, стоявшему с своею полсотнею по левую сторону Красного крыльца.
– Подыми мушкет ко рту! – закричал Борисов. – Содми с полки! Возьми пороховой зарядец! Опусти мушкет книзу! Посыпь порох на полку! Поколоти немного о мушкет! Закрой полку! Стряхни! Содми! Положи пульку в мушкет! Положи пыж на пульку! Вынь забойник! Добей пульку и пыж до пороху!
Оставалось только закричать: «Приложися! Стреляй!» Но стрельцы, воспользовавшись продолжительною командою того времени, успели предупредить Борисова. Оглушенный ударом ружейного приклада по голове, он упал без чувств на землю, а стрельцы его, видя невозможность защищаться против превосходной силы, разбежались.
Мятежники после этого бросились на Долгорукого. Сабля его сверкнула, и голова стрельца, который первый подбежал к нему и замахнулся на него секирою, полетела на землю.
– Силен, собака! – закричал, остановясь шагах в двадцати от князя, один из бунтовщиков, бежавших вслед за первым стрельцом. Товарищи его также остановились, издали грозя Долгорукому секирами.
– Ну, что стали, лешие! – крикнул десятник. – Одного струсили!.. Вперед!
– Погоди, я его разом свалю! – сказал стрелец, целясь в князя из ружья.
Раздался выстрел, пуля свистнула, но, попав вскользь по латам князя, которые были на нем надеты под кафтаном, отскочила в сторону и ранила одного из бунтовщиков.
– Что за дьявольщина! – воскликнул десятник. – И пуля его неймет, а бьет наших же!
– За мной, ребята! – закричал пятисотенный Чермной, бросясь на Долгорукого с толпою мятежников.
– Тьфу ты, черт! Еще срубил одному голову! – воскликнул один из стрельцов, бежавших за Чермным, остановясь и удерживая своего племянника. – Погоди, Сенька, не суйся прежде дяди в петлю. Авось и без нас сладят с этим лешим!
– Посмотри-ка, дядя, посмотри! как он саблей-то помахивает. Вон, еще кого-то хватил, ажно секира из рук полетела!
– Нечего сказать, славно отгрызается! Да погоди ужо, не отбоярится! Что это? он сам бросил саблю!
Долгорукий, видя, что ничто не может удержать мятежников, кинул саблю и закричал окружавшим его со всех сторон стрельцам:
– Не хочу долее защищаться и проливать кровь напрасно. Во всю жизнь мою я старался делать вам добро и любил вас, как отец. Не хочу пережить позора, которым вы себя покрываете. Вы хотите изменить вашему законному государю, забываете, что целовали крест Спасителя с клятвою служить царю верой и правдой. Делайте что хотите: за все дадите ответ Богу. Предаю вас праведному суду Его. Я вас любил, как детей, – убейте вашего отца!
– Дядя! на что Чермной кафтан-то с князя снимает? – спросил Сенька своего дядю, который все стоял на прежнем месте, держа за руку племянника.
– Ба, ба, ба! под кафтаном у него латы! Ах он еретик проклятый! Вот так, долой латы, без них легче!
– Взглянь-ка, дядя, он стал теперь ни дать ни взять Рында[62]: весь бел как снег; никак, на нем атласное полукафтанье. Ну, потащили голубчика! Куда это?
– Вишь ты, на Красное крыльцо. Ай да молодцы, наша братья стрельцы!
Втащив Долгорукого на крыльцо, изверги сбросили его на копья. Кровь несчастного князя потекла ручьями по длинным древкам копий и обагрила руки злодеев. Сбросив его на землю, они принялись за секиры и вскоре с зверским хохотом разбросали разрубленные его члены в разные стороны.
Между тем отряд мятежников ворвался во дворец чрез сени Грановитой палаты. Вбежав в комнаты царицы и, наконец, в ее спальню, злодеи увидели Матвеева.
– Хватайте этого изменника! Тащите, ребята! – закричал сотник.
– Не троньте моего второго отца! – воскликнула царица, схватив Матвеева за руку.
– Ну, что вы стали, олухи! – крикнул сотник. – Что вы на нее смотрите? Тащите, да и только!
– Просите какой хотите награды, только не убивайте его. Что он вам сделал, безжалостные! Лучше меня убейте!
– Ну, ну, ребята, проворнее! Хватайте и тащите изменника. Делайте, что велено. Не робейте.
– Прочь, изверги! – закричал князь Черкасский, бросясь с саблей к мятежникам, и вырвал из рук их Матвеева, которого они вытащили уже из спальни царицы в другую комнату.
– Не раздражай их, князь Михаил Алегукович, и не подвергай самого себя опасности. Пускай они убьют меня одного, я не боюсь смерти. Во всю жизнь я помнил о часе смертном, я готов умереть.
– Нет, Артемон Сергеевич, жизнь твоя еще нужна для царя и для счастия отечества. Прочь, изменники! Не выдам его! Разрублю голову первому, кто подойдет к нам.
– Ребята! приткните его пикой к стене! – закричал сотник. – Не в плечо, не в плечо, Федька! пониже-то, в левый бок норови! Вот так!
Черкасский, раненный в бок подле самого сердца, упал. Злодеи, схватив Матвеева, вытащили его на Красное крыльцо. Приподняв и показывая боярина толпящимся внизу сообщникам своим, закричали они: «Любо ли вам?»
В ответ раздался крик: «Любо, любо!» – и боярин, столько любимый некогда стрельцами и народом, друг покойного царя Алексея Михайловича и воспитатель матери царя Петра, полетел на острые копья.
– Во дворец! – закричали злодеи. – Ловите прочих изменников!
С этими словами толпа стрельцов, опустив копья, взбежала на Красное крыльцо и рассеялась по всему дворцу. Трепещущая царица, проливая слезы, удалилась с сыном своим и царевичем Иоанном в Грановитую палату. Бояре, князь Григорий Григорьевич, сын его Андрей Ромодановские, подполковники Горюшкин и Дохтуров, пали под ударами секир. В одной из комнат дворца скрывался стольник Федор Петрович Салтыков. Мятежники схватили его.
– Кто ты? – закричал один из стрельцов, приставя острие копья к его сердцу. – Молчишь? Отвечай же! Афанасий Нарышкин, что ли, ты? А! видно, язык не ворочается, – так вот тебе, собака!
Обливаясь кровью, Салтыков упал на пол.
– Боже милосердый! Сын мой! – воскликнул боярин Петр Михайлович Салтыков, войдя в комнату и бросясь на окровавленный труп своего сына.
– Сын твой? – сказал заколовший его стрелец. – А я думал, что он Афанасий Нарышкин.
– Дал ты маху, Фомка! – сказал десятник. – Кажись, в списке нет Салтыковых. Дай-ка справлюсь.
С этими словами вытащил он из-за кушака список и начал читать по складам.
– Так и есть. Сына-то нет, а батюшка тут. Приколи его! Вишь, больно вопит по сыне: жаль бедного!
Рыдающий старец, обнимая убитого сына, ничего не слыхал из разговора стрельцов. Удар секиры, разрубивший ему голову, прекратил его страдания.
– Нам еще есть над кем поработать! – сказал десятник, заткнув за кушак список. – Осталось еще довольно изменников. Пойдем ошарим все другие комнаты: не попадутся ли нам Иван да Афанасий Нарышкины. За их головы цена-то подороже, чем за все прочие положена.
Переходя из комнаты в комнату и встречаясь почти в каждой с другими стрельцами, искавшими своих жертв, десятник увидел наконец спрятавшегося под столом придворного карлика, который, скорчась от страха, прижался к самой стене.
– Эй, ты, кукла! не знаешь ли, где Иван и Афанасий Нарышкины?
– А что дашь, если скажу? – сказал карлик, с притворною смелостию выступя из-под стола.
– Да вот дам тебе раза секирой по макушке.
– Ну-тка дай! Меня-то ничем не убьешь и не заколешь, а тебя самого скорчит в три дуги. Разве ты не знаешь, что все карлики – колдуны?
– Ах ты, чучело! похож ли ты на колдуна? Вот я тебя угомоню!
– Ну, попробуй! Ударь меня не только секирой, хоть щелчком; тебя разом скорчит.
Стрелец хотел ударить карлика кулаком по голове, но вдруг кулак его разогнулся, и он потрепал колдуна-самозванца по плечу.
– Ты, как я вижу, мал, да удал! Ну, что ссориться с тобою!
– Aгa, струсил! Вот так-то лучше!
– И вестимо лучше! Если ты в самом деле колдун, так знаешь всю подноготную и, верно, укажешь нам, куда запрятались эти изменники? А не укажешь, так я не побоюсь твоего колдовства: велю пришибить, похороним, да кол осиновый вколотим в спину. Не бойсь, будешь лежать смирнехонько! Говори же, где Нарышкины?
– Иван близко от вас; чуть ли не в этой комнате. Только вам не найти его. Найдут его другие. А Афанасий спрятался в дворцовой церкви Воскресенья на Сенях.
– Пойдем туда! Если ты нас обманул, так осинового кола тебе не миновать! А откуда ты родом, как твое прозвание и давно ли попал в придворные? – спросил десятник карлика.
– Родился я неподалеку от Москвы, зовут меня Фомою Хомяком, а в придворные карлики при царице определил меня брат ее, Афанасий Кириллович.
– Тот самый, который теперь спрятался в церкви?
– Да.
– Не жил ли ты прежде в здешней богадельне? – спросил один из стрельцов. – Я тебя, кажись, там видал.
– Жил, – отвечал карлик.
– Где ж ты колдовству-то обучился, – продолжал стрелец, – неужто в богадельне?
– Колдовству меня обучил покойный дед мой, а в богадельню я вступил только для того, чтобы позабавиться. В две недели я пораспугал там всех: и хромые, и безрукие, и слепые – все разбежались. То-то уж мне сделалось просторно. Хожу, бывало, из горницы в горницу один-одинехонек да посвистываю. Раз царица с Афанасьем Кирилловичем приехала осмотреть богадельню. Он увидел меня и смекнул: на что-де такому малому человеку одному этакой большой дом? «Хочешь ли ты в придворные?» – спросил он меня. «Хочу», – отвечал я. На другой день он приехал за мною, увел во дворец, – и с тех пор служу я при комнатах царицы.
– Не ложь, так правда! – сказал стрелец. – Моя тетка живет лет с тридцать в богадельне, а ни один колдун оттуда ее еще не выживал. Она мне рассказывала, что царица взяла тебя к себе по просьбе Афанасья Нарышкина, сжалясь над твоим убожеством.
– А вот увидим! – подхватил десятник. – Покажет ли нам этот колдунишка кого нам надобно? Вот, кажется, дверь в церковь. Коли ты нас обманул, так я тебя за ноги, да и об угол!
Один из стрельцов отыскал пономаря и велел ему отпереть церковь. Пономарь хотел сказать что-то в возражение, но поднятая над головою секира заставила его замолчать и исполнить приказанное.
Афанасий Нарышкин, брат царицы, был комнатным стольником[63]. Он отказался от боярства; слишком скромно думая о себе и не доверяя своим мнениям, он не хотел мешаться в дела Государственной Думы. Благотворительность была первая потребность души его, цель его жизни. Услышав, что стрельцы везде его ищут, чтобы предать мучительной смерти, он поспешил к священнику церкви Воскресения на Сенях, некогда им облагодетельствованному, и просил таинствами исповеди и причастия приготовить его к вечности. Священник убедил его, почти принудил скрыться, не теряя ни минуты, в церкви, под престолом. Придворный карлик, проходя мимо церкви и увидев входивших в нее Нарышкина и священника, подсмотрел, что только один из них вышел оттуда и запер церковные двери.
Вдруг среди тишины, царствовавшей в храме, Нарышкин слышит у дверей шум. Ключ два раза щелкнул – и тяжелая дверь заскрипела, медленно поворачиваясь на железных петлях. Кто-то вошел в церковь. Он слышит голос: «Показывай же нам его! Где он спрятался?» Другой голос отвечает: «Уж я тебе говорю, что он здесь. Вели-ка поставить у окон и дверей часовых».
По шуму шагов Нарышкин мог заключить, что целая толпа ищет его по церкви.
– Смотри ты, колдунишка, если мы его не сыщем – беда тебе! – сказал один голос. – Осталось только один алтарь обыскать.
Нарышкин слышит, что северные двери отворяются и несколько человек входят в алтарь.
– И здесь его нет! – говорит голос. – Что, колдунишка, струсил? Вот мы тебя, обманщика! Нет ли разве под престолом изменника? Сунь-ка туда пику, Фомка! Авось голос подаст!
Нарышкин, удерживая дыхание, слышит, что пика проткнула парчевой покров престола. Слегка шаркнув по кафтану Нарышкина, она вонзилась в пол.
– Кажись, никого нет! – сказал голос. – Не приподнять ли покров пикой да не взглянуть ли под престол-то?
– Загляни! – закричал другой голос. – Ба, ба, ба! вот он где, изменник! Тащите его оттуда!
Беззащитного Нарышкина схватили. Он не сказал ни слова своим убийцам, не произнес ни одного жалобного стона. Когда его выносили из алтаря, он взглянул на образ Воскресения Христа, стоявший за престолом, вздохнул, закрыл глаза – и душа его погрузилась в жаркую, предсмертную молитву. Преддверие храма Божиего обращено было в плаху. Секиры злодеев пролили кровь невинного. Разрубленное на части тело Нарышкина изверги сбросили на площадь пред церковью.
– Пойдем теперь отыскивать Ивана Нарышкина! – сказал десятник, подняв на плечо секиру, с которой капала еще кровь. – Скажи-ка нам, колдун, где он?
– Я знаю, где он, но если и скажу, то все вам не найти его! – отвечал карлик.
– А почему так?
– Да так; не найти, и только!
– Заладил одно: не найти! Скажи нам только, где он. Поищем, не сыщем – беда не твоя. Без того я тебя не отпускаю! Гришка! Возьми его за ворот!
– Смотри, Фома – не знаю, как по батюшке, – не скорчи меня, пожалуйста! – сказал Гришка. – Мне приказано взять тебя за ворот, а сам бы я тебя волоском не тронул.
– Не ты велел, так и беда не твоя.
– Ну, ну, отпусти уж его, пострела! – сказал десятник, когда он со стрельцами и карликом вышел из дворца. – Ступай на все четыре стороны, да не поминай нас лихом!
– Счастлив ты, что меня отпустил. Задержи ты меня еще хоть немножко, я бы тебя так испортил, что никакая ворожея не помогла бы тебе!
– Ну, полно гневаться! Да не испортил ли уж ты меня, сказки по правде. Не сгуби понапрасну!
– То-то, не сгуби! Ты уж вполовину испорчен. В дугу тебя не сведет, а только через два дня ты кликать начнешь: залаешь по-собачьему, захрюкаешь по-свиному и заквакаешь по-утиному. Недели две или три без умолку пролаешь, прохрюкаешь да проквакаешь, а после ничего: тем все и кончится.
– Неужто? – воскликнул с ужасом десятник. – Фомушка, батюшка, отец родной, помилуй! Нельзя ли порчу как-нибудь исправить? Легкое ли дело три недели лаять, да к тому еще хрюкать и квакать! Взмилуйся! А не взмилуешься, так, право, секирой хвачу. Пусть же не даром промучусь. Ну что ж такое! Хрюкать так хрюкать, коли на то пойдет! Ведь не умру же от этого, а ты-то, чертов сын, уж не воскреснешь. А все-таки лучше, Фомушка, если б ты со мной помирился и порчу из меня выгнал. Разошлись бы мы с тобой приятелями, подобру-поздорову.
– Ну, ну, хорошо! Полно кланяться-то. Становись на колена.
Десятник с подобострастием исполнил приказание. Прочие стрельцы, окружив карлика и десятника, смотрели на первого с любопытством и страхом.
– Приложи правую ладонь к земле, – закричал колдун, – и зажмурь правый глаз! Правый, говорят тебе, а не левый! Зажмурь крепче, а не то окривеешь.
Десятник, опершись правою рукой о землю, смотрел одним глазом на карла с умоляющим видом.
– Теперь надобно выдернуть у тебя десять седых волосов из бороды. Да смотри, не морщиться, а не то беда!
– Выдерни хоть две дюжины, отец родной, сколько угодно, только избавь от порчи!
– Больше десяти не нужно! Раз, два, три, ну, вот и четыре, пять, вот и шесть, семь, вот восемь… Ну, не хорошо, очень худо: больше нет седых-то, все черные!
– Ахти, мой батюшка, неужто нет? Поищи, кормилец! Не сгуби меня, окаянного!
– Постой, постой! Вот, кажется, еще седой волос – девять! Ну а десятого, воля твоя, нет!
– Как не быть, батюшка! Сыщется. Поищи, родимый!
– Говорят тебе, нет! Что ж мне делать! Вина не моя! Вот есть, и не один, с седым кончиком, да черт ли в них. Надобно, чтоб весь был седой.
– В усах-то погляди, отец родной, в усах-то нет ли?
– В усах! Что мне усы! Надобно из бороды.
– Этакая напасть какая! Поищи, почтенный, пожалуйста, постарайся.
– Правда, можно вместо одного седого выдернуть десять черных, если хочешь.
– Дергай, кормилец мой, дергай скорее: только порчу-то выгони!
Выдернув еще десять черных волосов, карлик с важным видом свернул их в комок, поднес ко рту, пошептал что-то и зарыл волосы в землю.
– Ну, ступай теперь. Да вперед не ссорься с нашим братом.
Десятник в восторге вскочил, поклонился карлику в пояс и поспешно пошел от него с своим отрядом, ворча про себя:
– Проклятый! Не будь он такой сильный колдун, так я изрубил бы его в мелкие кусочки! Пострел этакой! Бесенок! Сам бы ты у меня заквакал, сам бы завизжал поросенком под секирой! Я бы тебя!
Обыскав дворец, мятежники рассеялись по всей Москве, грабили домы убитых ими бояр и искали везде Ивана Нарышкина и всех тех, которые успели из дворца скрыться. Родственник царицы, комнатный стольник Иван Фомич Нарышкин, живший за Москвою-рекою, думный дворянин Илларион Иванов и многие другие были отысканы и преданы мучительной смерти.
Солнце явилось из-за туч на прояснившемся западе и осветило бродящих по Москве стрельцов и брошенные ими на площадях жертвы их ярости. Оставив в Кремле многолюдную стражу, мятежники возвратились в свои слободы.
II
От ужаса ни рук не чувствую, ни ног;
Однако должно скрыть мне робость ради чести.
КняжнинБурмистров, отправленный Долгоруким к Кравгофу, выехал из Кремля на Красную площадь и во весь опор проскакал длинную, прямую улицу, которая шла с этой площади к Покровским воротам. Проехав чрез них, он вскоре достиг Яузы и въехал в Немецкую слободу. По числу улиц и по виду деревянных домов она походила на нынешнее богатое село. В слободе были три церкви, одна кальвинская и две лютеранские. Остановясь у дома Кравгофа и привязав у ворот к кольцу измученную свою лошадь, Бурмистров вошел прямо в спальню полковника, который, затворив дверь и не велев слуге никого впускать к себе, курил тайком трубку[64]. Кравгоф был родом датчанин, но слыл в народе немцем, потому что в старину это название присваивали русские всем западным иностранцам. По его представлению Бутырскому полку дано было красное знамя с вышитою посредине крупными буквами надписью: «Берегись!» Он три недели выдумывал эту надпись и остановился на том, что нельзя лучше выразить храбрости полка и того страха, который он наносит неприятелю; но насмешники перетолковали выдумку его по-своему. Кравгоф-то, говорили они, велит своим поберегаться и не так чтобы очень храбриться.
– Князь Михаил Юрьевич Долгорукий прислал меня к тебе, господин полковник, с приказанием, чтобы ты шел как можно скорее с полком ко дворцу.
– К творес? – воскликнул Кравгоф, вскочив со стула и проворно опустив трубку в карман длиннополого своего мундира.
– Да, ко дворцу. Восемь стрелецких полков взбунтовались.
– Мой не понимай, што твой каварит.
– Восемь полков взбунтовались, хотят окружить дворец, убить всех бояр, приверженных к царице, провозгласить царем Иоанна Алексеевича. Ради бога, поскорее, господин полковник!
– Ай, ай, ай! какой кудой штук! А хто скасал марширофать с мой польк?
– Меня послал к тебе князь Долгорукий.
– Толгирукий? Гм! Он не есть мой нашальник. Еслип велел сарис, то…
– Помилуй, Матвей Иванович, ты еще рассуждаешь, когда каждый миг дорог.
– Мой сосывать тольшен военний совет, а патом марш.
– Побойся Бога, Матвей Иванович, это уж ни на что не похоже. Есть ли теперь время думать о советах?
– Стрелиц не снает слюшпа, и патому так утивлялся! Гей! Сеньке!
Вошел Сенька, слуга полковника.
– Побеши х геспетин польпольковник, х майор, х каптень, х порушик, потпорушик, прапоршик, скаши, штоп все припешал ко мне. Ешо вели свать отин ротна писарь.
Бурмистров, видя, что нет возможности принудить упрямого Кравгофа к перемене своего намерения, в величайшей досаде отошел к окну и, скрестив на груди руки, начал смотреть на улицу. Чрез несколько времени стали собираться приглашенные для военного совета офицеры Бутырского полка.
Сначала вошел майор Рейт, англичанин, потом подполковник Биельке, швед, с капитаном Лыковым. Когда и все прочие офицеры собрались, Кравгоф приказал ротному писарю Фомину принести бумаги и чернилицу, пригласил всех сесть и сказал:
– Князь Толгирукий прислал вот этот косподин стрелица скасать, што восемь польк вспунтирофались и штоп наша польк марш ко творса. Сарись не скасаль нишего. Натопна ли марш?
– Господи, твоя воля! – воскликнул капитан Лыков. – Восемь полков взбунтовались! Да что же тут толковать? Пойдем, побежим драться, да и только!
– Косподин каптень! твой не тольшна каварить преште млатший официр! – воскликнул Кравгоф. – Косподин млатший прапоршик, што твой тумает?
– Тотчас же идти ко дворцу и драться!
– Траться? Гм! Косподины все прошие прапоршик, што ви тумает?
– Драться! – отвечали в один голос прапорщики.
– А косподины потпорушики и порушики?
– Драться!
– А где ешо три каптень? Зашем вишу отин?
– Двое захворали, а один, как известно, в отпуске, – отвечал Лыков.
– А зашем нет рапорт о их полеснь?
– Есть, господин полковник! Я вчера подал, – сказал ротный писарь.
– Карашо!.. Ну а косподин Ликов, што твой тумает?
– Я думаю, что надобно дать время бунтовщикам войти в Кремль, окружить дворец и сделать, что им заблагорассудится, а потом идти не торопясь ко дворцу, взглянуть, что они сделали, и разойтись по домам.
– Твой смеет шутить, косподин каптень! Твой смеет смеялься! – закричал Кравгоф, вскочив со своего места. – Я твой велю сатить на арест.
– За что, господин полковник? Меня спрашивают: что я думаю? я должен отвечать.
– Твой кавариль сперва траться!
– Я и теперь скажу, что без драки дело не обойдется и что надобно бежать ко дворцу, не теряя ни минуты.
– Мальши, каптень! Мой снает не хуше твой поряток. Косподин майор, што твой тумает?
– Я думаю, что тут нечего долго думать, а должно действовать! – отвечал сквозь зубы Рейт, довольно чисто говоривший по-русски; он давно уже жил в России.
– А твой што скашет, косподин польпольковник?
– Мой скашет, што в такой вашний дело нушно сперва тумать, карашенька тумать. Сперва план, диспосиция, а патом марш!
– Карашо, весьма карашо! Мой сокласна. Фомкин! Тай пумага с перо; я сделай тотшас план и диспосиция.
Выведенный из терпения медленностию Кравгофа, Бурмистров вскочил со своего места и хотел что-то сказать; но вдруг отворилась дверь, и вбежал прапорщик Сидоров, посланный еще накануне полковником в Москву с каким-то поручением.
– Бунт! – закричал он. – Стрельцы убили князя Долгорукого и ворвались во дворец! Я сам видел, как несчастного князя сбросили с Красного крыльца на копья и разрубили секирами!
– Боже милостивый! – воскликнул Бурмистров, сплеснув руками. – Господин полковник, господа офицеры! Вспомните Бога, вспомните присягу! Пойдем против мятежников, защитим царя или умрем за него!
– Умрем за царя! – закричали все, выхватив шпаги. Кравгоф и Биельке также вытащили из ножен свои мечи. Первый при этом воскликнул: «Да, да! Пудем все умереть!» Биельке прибавил: «Да, да! И мой пудет умереть!»
– Zounds[65]! – заревел басом англичанин Рейт, бросясь к дверям с обнаженною шпагой. В дверях столкнулся он с капралом Григорьевым.
– Где господин полковник? – спросил капрал.
– Што твой натопна? – сказал Кравгоф.
Капрал, вытянувшись перед ним, начал говорить:
– Все солдаты нашего полка и с капралами разбежались. Теперь, я чаю, одни домовые остались в избах. Я хотел своих солдат остановить, спрашиваю: куда? – ничего не говорят, хватают ружья да бегут. Что прикажете делать, господин полковник?
– Какой кудой штук, какой кудой штук! – повторял Кравгоф, ходя в беспокойстве взад и вперед по комнате.
Бурмистров, поклонясь полковнику и прочим офицерам, вышел, сел на лошадь и поскакал в Кремль.
– Вон бежит по улице солдат с ружьем! – сказал Лыков. – Так бы и приколол бездельника!
– Где пешит? – сказал Кравгоф, приблизясь к растворенному окну. – Гей! сольдат! сольдат! Кута твой пешит?
Солдат взглянул на окно и побежал далее, не останавливаясь.
– Косподины официр! – воскликнул Кравгоф. – Сольдаты вспунтирофались! Што стелать с пестельники? Сольдат не хошет каварить с комантир! О, я его наушаю каварить! Косподины официр! што ваш тумает стелать?
– А вот я его заставлю говорить! – проворчал Лыков, выбегая из комнаты. Нагнав солдата, он остановил его, отнял ружье и привел, держа за ворот, к полковнику. Приставив к груди его шпагу, капитан закричал:
– Сейчас говори, бездельник, куда ты бежал и зачем? Если солжешь, так я тебя разом приткну к стене.
– Виноват, батюшка! Помилуй! Скажу всю правду-истину! Вчера ходил у нас по избам какой-то дворянин, роздал много денег и обещал еще два эстолька, если мы заступимся за царевича Ивана Алексеича. Он сказал, что все стрельцы на стороне царевича и что когда они войдут в Кремль, то он пришлет гонца за нами. Гонец приехал, мы и бросились в Кремль. Помилуйте, государи-батюшки! наше дело солдатское; солдат глуп: всему верит!
– Всему верит! – воскликнул Лыков. – Ах ты, злодей-мошенник! Видишь, каким простаком прикидывается. Разве ты забыл присягу? Целовал ли ты крест, чтобы служить царю Петру Алексеевичу верой и правдой?
– Целовал, батюшка, целовал!
– А что же ты теперь делаешь? Дали алтына четыре, так душу и продал Сатане! Беги, куда бежал, мы тебя не держим. Стрельцы взбунтовались против царя, и ты бунтуй с ними вместе; стрельцы забыли Бога, и ты забудь. Беги, любезный, беги к ним, прямо к Сатане в когти. Что ж ты стоишь? я тебя не держу.
– Да, да, пестельник! Твой путут садить на ад и шарить на горяч, красна калена сковорот! – сказал Кравгоф, думая, что он удачно подделался к простым понятиям солдата о вечных мучениях и сильно на него подействовал.
Солдат, пораженный словами капитана, почувствовал всю меру своего преступления, заплакал и упал к ногам его.
– Приколи меня, батюшка! – говорил он, всхлипывая. – Погубил я свою душу! Приколи меня, окаянного! Отрекся я от Бога. Отцы мои родные, казните, расстреляйте меня!
– Нет; тебя расстрелять еще не за что. Конечно, грех твой велик, но если раскаешься и загладишь вину свою добрым делом, то Бог простит тебя! Чем бежать прямо в когти Сатане, пустись-ка лучше вдогонку за своими товарищами и уговаривай всех, чтоб они не позорили имени русского изменой и не губили душ своих!
Солдат, обняв ноги капитана, вскочил. Лицо его сверкнуло радостью и мужеством.
– Побегу! – воскликнул он. – Стану уговаривать, чтобы образумились и стали грудью за царя. Не послушают, так штыком начну бунтовщиков усовещивать.
– Вот это дело, брат! – сказал Лыков. – И капитан твой побежит вместе с тобою на доброе дело.
– И мы все! – закричали офицеры.
– И ми! Да! И ми! – прибавили Кравгоф и Биельке.
– Идем! марш! – воскликнул громовым голосом Рейт, махая шпагою. – Смерть всем бунтовщикам и изменникам!.. Это что за дьявольщина! – крикнул он, отворив дверь и увидев несколько солдат, стоявших в сенях.
– Стой! – закричали солдаты, прицелясь из ружей в Рейта. – Не велено никого пускать отсюда. Вокруг дома целая рота!
– Я уж как-нибудь пролезу! – закричал Лыков и бросился в двери. Рейт хотел удержать его за руку, но не успел. Усовещенный Лыковым солдат, бывший с офицерами в комнате, схватил ружье свое и побежал за капитаном.
Несколько ружей прицелились в них, когда они из сеней вышли на улицу.
– Что вы, мошенники! – крикнул Лыков таким ужасным голосом, что вся окружавшая его толпа солдат вздрогнула. – Да как у вас рука-то поднялась прицелиться в меня, вашего капитана! Испугать меня вздумали? Не испугаете! Плюю я на смерть и на вас всех, бездельников. Видите ли, я вот стою, не бегу, не хочу даже и защищаться. Разбойники, что ли, вы или православные солдаты? Ну, ну, кто из вас отдал душу черту, тот прикладывайся и пали в Лыкова. Бровь не поморщу, упаду с радостью на сырую землю за царя и правое дело. Что ж вы ружья-то опустили?.. Видно, совесть заговорила?.. Слушайте, ребята! Кто меня любит, тот сейчас поднимай на штык подлеца, который осмелится в капитана выстрелить. Спровадьте его подлую душонку прямо в ад, к Сатане в гости. Ну, ну, что ж в меня никто не стреляет? Что?.. Головы повесили, беспутые! Стыдно в глаза посмотреть мне, вашему капитану. Ах вы, бараны безмозглые, вороны пустоголовые! Да что это вы затеяли? Какой злодей, какой дьявол вас натолкнул на такое богопротивное дело? Если б вы видели, как мое сердце болит за вас! Жаль, куда мне жаль вас: вы до сих пор были бравые солдаты, христиане православные. Эх! как жаль мне вас, солдатушки!.. – Лыков прослезился.
– Виноваты! – заговорили некоторые. – Виноваты, отец наш, капитан! – подхватили многие голоса. – Виноваты! – крикнули наконец все солдаты в один голос. – Согрешили Богу и государю!
Лыков вмиг утер слезы, бодро и весело поднял голову и окинул глазами всех солдат, поправляя усы.
– То-то, виноваты! Велик ваш грех, но можно в нем покаяться – и все дело поправить. Выкиньте дурь из головы да меня послушайтесь. Пойдемте-ка унимать бунтовщиков. Коли согласны, так и я командовать начну. Смирно! Стройся!
Солдаты поспешно построились в ряды.
– На караул! Раз! Два! Гаркнем ура! да и марш!
– Ура! – крикнули единодушно солдаты.
– Спасибо, ребята! Теперь скорым шагом марш!
Вся рота двинулась за капитаном. Прочие офицеры, бывшие в доме, последовали за нею. Но они пришли уже поздно в Кремль: на площади лежали одни жертвы; палачей уже там не было.
III
Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
ПушкинНа другой день, шестнадцатого мая, рано утром, шел отряд стрельцов по одной из главных улиц Белого города. Поравнявшись с домом князя Юрия Алексеевича Долгорукого, отца начальника стрельцов, убитого ими накануне, они остановились и начали стучаться в ворота.
Малорослый слуга отворил калитку и едва устоял на ногах от ужаса, увидев пришедших гостей.
– Дома ли боярин? – спросил один из них.
– Как не быть дома! Дома, отец мой! – отвечал слуга, заикаясь.
– Скажи боярину, чтоб он вышел на крыльцо: нам до него есть нужда.
– Слушаю! – сказал слуга и побежал на лестницу.
Чрез несколько времени явился на крыльце восьмидесятилетний князь. Он был без шапки, и ветер развевал его седые волосы. Лицо старца выражало глубокую скорбь.
– Мы пришли к тебе, боярин, просить прощения, – сказал стрелец, стоявший впереди своих товарищей, – погорячились мы вчера и убили твоего сына!
– Бог вас простит! Я не стану укорять вас. Мне не воскресить уже сына!
– Спасибо тебе, боярин, что зла не помнишь! – сказал стрелец.
– Спасибо! – закричала вся толпа.
– Если же дать нам выпить за твое здоровье и за упокой души твоего сына! – продолжал стоявший впереди стрелец. – У тебя, я чаю, погреб-то, как полная чаша!
Князь, не ответив ни слова, вошел в свою спальню, сел у окна и приказал слуге отпереть для стрельцов свой погреб. Выкатив оттуда бочку, незваные гости расположились на дворе, потребовали несколько кружек и начали пить. Малорослый слуга, отворивший им калитку, потчевал их и низко кланялся.
– Скажи-ка ты, холоп, старик-то вопил вчера по сыне? – спросил один из стрельцов.
– Как же; отец мой. Он лежал хворый в постели; а как услышал про свое горе, то стал на колена перед святыми иконами да так и облился слезами. – Приметив неудовольствие на лице стрельца, слуга примолвил: – Не то чтобы с горя заплакал, а с радости. «Много ты мне стоил забот и кручины! – сказал он. – Спасибо добрым людям, что тебя уходили!»
– Врешь ты, холоп! Скажи всю правду-истину: что говорил боярин? Не то хвачу по виску кружкой, так и ноги протянешь!
– Виноват, отец мой, не гневайся, скажу всю правду-истину! – сказал дрожащим голосом слуга.
– Грозился ли на нас боярин?
– Грозился, отец мой.
– Aгa, видно, щука умерла, а зубы целы остались! Что же говорил старый хрен?
– Говорил, отец мой, говорил!
– Тьфу ты, дубина! Я спрашиваю: что говорил?
– Щука умерла, а зубы целы остались.
– Вот что! Ах он злое зелье! Чай, рад бы всех нас перевешать! Что он еще говорил? – закричал стрелец, схватив слугу за шею.
– Взмилуйся, отец мой, ведь не я говорил, чтоб вашу милость перевешать.
– Как, разве он и это сказал?
– Не помню, отец мой! Ахти, мои батюшки, совсем задавил! Отпусти душу на покаяние! Тошнехонько!
– Задавлю, коли не скажешь всей правды!
– Скажу, кормилец мой, скажу! Боярин говорил, что сколько на кремлевских стенах зубцов, столько вас повесят стрельцов!
– Слышите ли, братцы, что старый хрен-то лаял? Постой ты, собака!
С этими словами опьяневший уже стрелец вскочил и бросился на крыльцо. За ним побежало несколько его товарищей. Схватив старца за седые волосы и вытащив за ворота, злодеи изрубили его и, остановив крестьянина, который вез белугу на рынок, закололи его лошадь, отняли у него рыбу и бросили ее на труп князя.
– Вот тебе и обед! – закричали они с хохотом и побежали в Кремль.
В находившейся близ спальни царицы Натальи Кирилловны небольшой комнате, в которую вела потаенная дверь, родитель царицы Кирилл Полиевктович и брат ее Иван Кириллович, скрывшиеся туда накануне, придумывали средство выйти из дворца и тайно выехать из города; убежище свое, указанное им царицею, но многим из придворных известное, они не считали верным. Вскоре после рассвета пошли они в спальню Натальи Кирилловны, которая всю ночь провела в молитве. Иногда, переставая молиться, подходила она к стоявшей у стены скамье, обитой бархатом, и, проливая слезы, благословляла сына своего. Одетый в парчовое полукафтанье, он спал, покоясь на изголовье, руками матери для него приготовленном. Трепеща за жизнь сына, она решилась уложить его в своей спальне и всю ночь охранять его. Вошедши тихонько к царице, родитель ее и брат сообщили ей свое намерение. Видя ее беспокойство, они остались в ее спальне почти до полудня, стараясь успокоить ее советами и утешениями. Между тем проснулся Петр Алексеевич, встал, помолился и начал также утешать свою родительницу.
– Стрелецкий пятисотенный Бурмистров просит дозволения предстать пред твои светлые очи, государыня! – сказала постельница царицы, вошедши в спальню.
– Бурмистров? Я сейчас выйду к нему, – сказала царица. – А вы, батюшка и братец, удалитесь в вашу комнату! Бурмистров до сих пор был предан моему сыну; но в нынешнее время на кого можно положиться?
Когда отец и брат царицы удалились, она вышла к Бурмистрову. Он низко ей поклонился и сказал:
– Государыня! я собрал почти всех стрельцов нашего полка и скрыл в разных местах около Кремля. Мятежники и сегодня войдут опять в Кремль. Позволь, государыня, сразиться с ними! К нам пристанут все честные граждане. Я многим уже раздал оружие. Московские жители всем сердцем любят твоего венценосного сына и с радостию прольют за него кровь свою.
– Благодарю тебя за твое усердие и верность! Дай Бог, чтобы я могла наградить тебя достойно! Не хочу, однако ж, кровопролития. Я узнала, что Софья Алексеевна не хочет отнять царского венца у моего сына, а желает только, чтобы Иван Алексеевич вместе с ним царствовал.
– Как, государыня, у нас будут два царя?
– Софья Алексеевна желает именем их сама править царством и отнять у меня власть, которую мне Бог даровал. Спаситель не велел противиться обидящему. Я уступаю ей власть мою. Дай Бог, чтобы она употребляла ее лучше, нежели я, для счастия России. Не хочу, чтобы за меня пролилась хоть одна капля крови. Благодари от моего имени всех верных стрельцов и распусти их по домам. Поди и будь уверен, что я никогда не забуду твоей верности и усердия.
– Сердце твое в руке Божией, государыня! Я исполню волю твою!
Едва Бурмистров удалился, раздался звон на Ивановской колокольне, барабанный бой и шумные восклицания перед дворцом на площади. Царевна Марфа Алексеевна[66], старшая сестра царевны Софии, поспешно вошла в спальню царицы. Бледное ее лицо выражало страх и смущение.
– Стрельцы требуют выдачи дядюшки Ивана Кирилловича! – сказала она. – Кравчий князь Борис Алексеевич Голицын[67] пошел на Красное крыльцо объявить им, что Иван Кириллович из Москвы уехал. Злодеи, вероятно, станут опять обыскивать дворец: не лучше ли ему скрыться в моих деревянных комнатах, что подле Патриаршего двора? Туда мудрено добраться, не зная всех сеней, лестниц и переходов дворца. Постельница моя Клушина, на которую я совершенно полагаюсь, проводит туда дядюшку.
Наталья Кирилловна хотела благодарить царевну, хотела что-то сказать ей, но ничего не могла выговорить. Она крепко обняла ее, и обе зарыдали.
Марфа Алексеевна кликнула свою постельницу, бывшую в другой комнате, и пошла с нею к родителю и брату царицы.
Чрез несколько минут толпа стрельцов вбежала в спальню Натальи Кирилловны.
– Где брат твой? – закричал один из сотников. – Выдай сейчас брата, или худо будет.
– Ты забыл, злодей, что говоришь с царицей! – воскликнул Петр Алексеевич, устремив сверкающий от негодования взор на сотника.
– Брата нет здесь, – сказала Наталья Кирилловна.
– А вот увидим! – продолжал сотник. – Ребята! пойдем и ошарим все углы.
Стрельцы вышли из спальни и рассеялись по дворцу. После напрасных поисков они вышли на площадь и вызвали на Красное крыльцо нескольких бояр.
– Скажите царице, – закричал пятисотенный Чермной, – чтобы завтра непременно был нам выдан изменник Иван Нарышкин, а не то мы всех изрубим и зажжем дворец!
После этого мятежники из Кремля удалились. На другой день опять раздался в Кремле набат и звук барабанов. Вся площадь пред дворцом наполнилась стрельцами. С ужасными угрозами стали они требовать выдачи брата царицы.
Устрашенные бояре собрались в ее комнатах. На всех лицах изображались ужас и недоумение.
– Матушка! – сказала царевна София, войдя в комнату. – Все мы в крайней опасности! Мятежники требуют выдачи Ивана Кирилловича. В случае медленности грозят нас всех изрубить и зажечь дворец!
– Брата нет во дворце, – отвечала царица. – Пусть рубят нас мятежники, если забыли Бога и перестали уважать дом царский.
– Где же Иван Кириллович? Если б он знал про нашу опасность, то, верно бы, сам решился пожертвовать собою для общего спасения.
– Он и пожертвует, – сказал Нарышкин, неожиданно войдя в комнату.
– Братец! что ты делаешь! – воскликнула, побледнев, царица. Упав в кресла и закрыв лицо руками, она зарыдала.
Все присутствовавшие молчали. Удивленная София долго не могла ни слова выговорить. Великодушие Нарышкина победило на минуту ненависть, которую она давно к нему в глубине сердца таила. Наконец царевна сказала:
– Не печалься, любезный дядюшка! Все рано или поздно должны умереть. Счастлив тот, кто, подобно тебе, может пожертвовать жизнию для спасения других. Я бы охотно умерла за тебя; но смерть твоя, к несчастию, неизбежна. Покорись судьбе своей!
– Я не боюсь смерти. Желаю, чтоб и другие могли ее встретить так же спокойно, как я встречаю. Дай Бог, чтобы кровь моя успокоила мятежников и спасла отечество от бедствий.
В дворцовой церкви Спаса Нерукотворенного собралось множество стрельцов, согласившихся, по просьбе Нарышкина, чтобы он пред смертию исповедался и приобщился Святых Тайн. Нарышкин, царица Наталья Кирилловна и царевна София, в сопровождении всех бывших во дворце бояр, вошли в церковь. После исповеди началась обедня. Каждая оканчивавшаяся молитва напоминала царице, что час смерти любимого ее брата приближается.
Хор запел «Отче наш». «Уже в последний раз на земле, – думал Нарышкин, – слышу я эту молитву, которую нам Спаситель заповедал». Он стал на колена. «Да будет воля Твоя!» – повторил он вполголоса. Когда раздались слова «И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим!», Нарышкин от искреннего сердца простил Софию и начал за нее молиться.
Наконец отворились царские врата. Раздался голос священнослужителя: «Со страхом Божиим и верою приступите!» – и Нарышкин, забыв все земное, подошел к чаше спасения.
– Теперь уж недолго осталось жить изменнику! – шепнул один из бывших в церкви стрельцов своему товарищу.
– Певчие, кажется, нарочно пели протяжно, чтобы обедня не так скоро кончилась, – сказал другой стрелец. – Ну, вот уж он приобщился. Опять запели! Будет ли конец этой обедне?
Служба кончилась. Боярин князь Яков Никитич Одоевский вошел торопливо в церковь.
– Государыня! – сказал он, подойдя к царице. – Стрельцы, стоящие на площади, сердятся, что заставляют их ждать так долго, и грозят всех изрубить. Нельзя ли, Иван Кириллович, выйти к ним скорее? – продолжал он, обратясь к Нарышкину.
Царица, терзаемая неизобразимою горестию, вовсе не слыхала слов Одоевского. Проливая слезы, она смотрела на брата. Он подошел к ней.
– Прости! – сказал он прерывающимся голосом. – Не терзайся! Забудь мою погибель и помни мою невинность!
Почти без чувств упала царица в объятия брата. Бояре плакали. Стрельцы изъявляли нетерпение.
София, смущенная раздирающим сердце зрелищем, отворотилась, подошла к иконостасу и, взяв с налоя образ Богоматери, подала царице.
– Вручи эту икону несчастному страдальцу: при виде ее, может быть, сердца стрельцов смягчатся, и они простят осужденного ими на смерть. – Царевна произнесла эти слова громко, чтобы стрельцы, бывшие в церкви, могли их расслышать.
Царица подала икону брату. Он с благоговением взял ее и спокойно пошел к дверям золотой решетки, сопровождаемый с одной стороны рыдающею сестрою, а с другой – царевною Софиею.
Едва отворились двери решетки, раздался неистовый крик:
– Хватай, тащи его!
Окружавшие дворец стрельцы, увидев Нарышкина, влекомого толпою товарищей их на площадь, наполнили воздух радостными восклицаниями. Теснясь вокруг своей жертвы и осыпая страдальца ругательствами, злодеи провели его чрез весь Кремль к Константиновскому застенку. Там, за деревянным, запачканным столом, на котором лежало несколько бумажных свитков и стояла деревянная кружка с чернилами, сидел под открытым небом крестный сын боярина Милославского, площадной подьячий Лысков.
– Добро пожаловать! – воскликнул он, увидев Нарышкина. – Так-то все на свете превратно! Сестрица твоя хотела было меня согнать со света; а теперь я буду допрашивать ее брата. Эй! десятник! Подведи-ка боярина поближе к столу. Тише, тише, господа честные! Вы этак стол уроните. Что Нарышкин-то за невидальщина!
– Начинай же допрос! – сказал стоявший подле Лыскова сотник.
– Не в свое дело не суйся, господин сотник! Ты приказного порядка не смыслишь. Лучше поди-ка посмотри: готово ли все для пытки?
– Все готово! Уж не заботься!
– Ну, Иван Кириллович, примемся за дело! – продолжал Лысков, развертывая один из лежавших на столе свитков.
– К чему меня допрашивать? – сказал Нарышкин. – Я не сделал никакого преступления! Не теряйте времени и скорее убейте меня. За кровь мою дадите ответ Богу. Молю Его, чтобы Он простил всех врагов моих, которые довели меня до погибели!
– Все это хорошо! А допрос-то надобно кончить своим чередом. Тебя никто убивать не хочет. Оправдаешься – ступай на все четыре стороны; не оправдаешься – по закону казнят тебя. Плакаться не на кого. Закон для всех писан.
– Для всех! Вишь что выдумал! – шепнул один из стоявших за стулом Лыскова своему соседу. – По Уложению, надо было бы у самого нос отрезать; а нос-то у него целехонек. Ой, эти приказные твари! Как бы умел кто-нибудь из нашей братьи допрос и приговор написать, так я бы этому еретику теперь же обрубил нос-то, да и голову кстати. Вот-те и закон!
– Замышлял ли ты извести царевича Ивана Алексеевича? – спросил Лысков. – Говори же, Иван Кириллович!.. Эй, вы! в пытку его!
Видя, что жестокие мучения довели Нарышкина почти до бесчувственности, но не принудили его признаться в преступлении, выдуманном его врагами, Лысков велел снова подвести страдальца к столу.
– Упрям же ты, Иван Кириллович! Однако ж я не хочу тебя напрасно мучить; запишу, что ты признался. Можно ведь и молча признаться. Согласен ли ты на это?
Нарышкин не отвечал ни слова.
– Молчишь – и, стало быть, соглашаешься. Дело доброе. Запишем!.. Надевал ли ты на себя царскую порфиру?.. Также молчишь? И это запишем.
Предложив еще около десяти вопросов и не получив ни на один ответа, Лысков записал, что Нарышкин во всем признался. Развернув потом другой свиток, Сидор Терентьевич громко прочитал следующее:
– Уложения главы второй, в статье второй сказано, что буде кто захочет Московским Государством завладетъ и Государем быть и про тое его измену сыщется до пряма, и такова изменника потому же казнити смертию. И так, по силе оной статьи, – сказал Лысков с расстановкой, записывая произносимые им слова, – боярина Ивана Нарышкина, признавшегося в измене, казнити смертию. Ну, господа честные, подписывайте приговор – и дело в шляпе. Господин сотник, не угодно ли руку приложить? Вот перо. Еще кому угодно?
– Подпишись за всех разом! – сказал десятник.
– Пожалуй! Надобно будет написать: за неумением грамоте.
– Пиши, как знаешь; это твое дело! – закричало несколько голосов.
Положив перо на стол и свернув свиток, Лысков подал его валено сотнику.
– Вот и приговор! Теперь можно его исполнить!
– Ладно! это уж наше дело! – сказал сотник, разорвав на клочки поданную ему бумагу.
– Что ты, что ты, отец мой! В уме ли ты? Да знаешь ли, что велено делать с тем, кто изорвет приговор?
– Не знаю, да и знать не хочу! Эй, ребята! ведите-ка боярина на Красную площадь. Ба, ба, ба! это еще кого сюда тащат? Что за нищий?
– Не нищий, – сказал пришедший с отрядом десятник, – а еретик и чернокнижник Гадин. Вишь, какое лохмотье на себя надел. Мы насилу его узнали!
– А! милости просим! – воскликнул сотник. – Не принес ли он такого же яблочка, каким уморил царя Федора Алексеевича?
– Надобно его допросить, – сказал Лысков.
– Вот еще! С этим молодцом мы и без допроса управимся! – сказал приведший фон Гадена десятник. – Проходил я мимо Поганого пруда[68] и спросил прохожего: не знаешь ли, где живет лекарь? Он указал мне дом. Я на крыльцо. Попался навстречу какой-то парень на лестнице: сын, что ли, лекаря, аль слуга – лукавый его знает! Кто живет здесь? – спросил я. Он было не хотел отвечать и задрожал, как осиновый лист. Я его припугнул. Батюшки дома нет, молвил он. – А куда ушел? – Не знаю! – Не знаешь! Ах ты, мошенник! Хватай его, ребята! – Он начал кричать; так горло и дерет! Мы и прикололи его. Выбежал на лестницу мужик с метлой. Эй ты, метла! Кто живет здесь? – закричал я. Лекарь Гудменшев[69], батюшка! Я вынул из-за кушака список изменникам. Смотрю: написано лекарь Степан Гаден. Глаголь[70] есть и добро есть: я и смекнул, что Гуд или Гад все едино и что в доме живет нехристь. Врешь ты, дубина! – крикнул я на мужика. Не Гудменшев, а Гадин. Своего господина назвать не умеет! Как угодно твоей милости, молвил он. Вбежали мы в горницы. Вместо образа висит на стене смерть. Признаться, мороз меня подрал по коже. Верно, смекнул я, чернокнижник извел какого-нибудь православного, содрал кожу и кости его на стену повесил. Так сердце у меня и закипело! Начали шарить, обыскивать. Глядь: под кроватью спрятался чернокнижник. Как раз схватили его, на Красную площадь, да и на пики! Потом пошли мы в Немецкую слободу и там поймали этого зверя. Мы было и его на площадь! Так нет: взвыл голосом, да суда просит. Мы и привели его сюда.
– Нечего тут судить да рядить. Чернокнижников, что собак, без суда бей! – закричал сотник. – Тащите его на Красную площадь.
Приведя Нарышкина и Гадена на место казни, изверги подняли их на копья и, сбросив на землю, изрубили.
В это самое время прибежал престарелый родитель Нарышкина, Кирилл Полиевктович, оставленный тихонько сыном в покоях царевны Марфы Алексеевны во время сна, в который старец невольно погрузился после двух суток, проведенных в беспрерывной тревоге. Увидев голову сына, поднятую на пике, он поднял руки к небу и в изнеможении упал на землю.
– А! и этот старый медведь вылез из берлоги! – сказал Лысков, бывший в числе зрителей казни. – Поднимите его! – закричал он стрельцам.
– Не хватить ли его лучше по затылку вот этим? – спросил стрелец, поднимая секиру. – Что старика долго мучить!
– Нет, нет, не велено! – сказал Лысков. – Отнесите его ко мне на двор: там готова для него телега. Приказано отправить его в Кириллов монастырь и постричь в чернецы. Пусть там спасается!
IV
Погибни же сей мир, в котором беспрестанно
Невинность попрана, злодейство увенчанно,
Где слабость есть порок, а сила – все права.
ГнедичВ три дня пало шестьдесят семь жертв властолюбия Софии. По истреблении всех преданных царю Петру бояр ослепленные царевною и ее сообщниками стрельцы, в уверенности, что они защитили правое дело, выступили спокойно из Кремля в свои слободы. По тайному приказу Софии, 23 мая они опять пришли с Бутырским полком к Красному крыльцу и послали любимого своего боярина князя Ивана Андреевича Хованского[71], единомышленника и друга Милославского, объявить во дворце следующее: «Все стрельцы и многие другие московские граждане хотят, чтобы в Московском государстве были два царя, яко братия единокровные; царевич Иоанн Алексеевич, яко брат больший, и царь да будет первый; царь же Петр Алексеевич, брат меньший, да будет царь второй. А когда будут из иных государств послы, и к тем послам выходити Великому Государю Царю Петру Алексеевичу, и противу неприятелей войною идти ему ж Великому Государю, а в Московском государстве правити Государю Иоанну Алексеевичу». Патриарх Иоаким немедленно созвал Государственную Думу. Голос немногих бояр, бесстрашных друзей правды, утверждавших, что опасно быть двум главам в одном государстве, заглушен был криком многочисленных приверженцев Софии. По большинству голосов Дума решила: исполнить требование стрельцов. Патриарх в сопровождении митрополитов, архиепископов, бояр, окольничих и думных дворян пошел в залу, где были царица Наталья Кирилловна, царь Петр Алексеевич, царевич Иоанн, царевна София и все прочие члены семейства царского. Выслушав решение Думы, юный государь сказал: «Я не желаю быть первым царем, и в том буди воля Божия. Что Бог восхощет, то и сотворит!»
Раздался звук большого колокола на Ивановской колокольне. Патриарх вышел на Красное крыльцо и объявил решение Думы и волю царя собравшемуся на площади народу, стрельцам и солдатам Бутырского полка. Восклицая: «Многие лета царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу! Многие лета царевне Софье Алексеевне!» – стрельцы возвратились в свои слободы.
Двадцать шестого мая, утром, в столовой боярина Милославского, сидел Сидор Терентьич Лысков за небольшим столиком и завтракал. Дворецкий Мироныч, с обвязанною ногою, ходил на костылях взад и вперед по комнате.
– Не знаешь ли, Сидор Терентьич, – спросил дворецкий, – зачем боярин сегодня так рано в Думу уехал?
– Сегодня напишут указ о вступлении на престол Ивана Алексеевича.
– Вот что! А царя Петра Алексеевича в ссылку, что ли, пошлют? Ты мне, помнится, тайком сказывал, что царевна Софья думала прежде его уходить; знать, передумала?
– Да. Можно было обойтись и без этого.
– Стало быть, Петр Алексеевич останется царем. Да как же это будет, Сидор Терентьич: кто же из двух будет царством править? Ведь надо бы об этом подумать.
– Не беспокойся! Уж об этом думали головы поумнее нас с тобой.
– Все так. Однако ж вот что, Сидор Терентьич: если Петр Алексеевич останется царем, то царица Наталья Кирилловна, пожалуй, захочет по-прежнему править царством, пока сын ее будет малолетен. А тогда худо дело! Как тут быть?
– А вот увидим: сегодня в Думе все это решат.
– Нечего сказать, боярин Иван Михайлович сыграл знатную шутку. Чаю, помощники-то его все награждены?
– Разумеется. Они получили все, что царевною было обещано. Ее постельница Федора Семеновна вышла замуж за Озерова и получила такое приданое, что теперь у нее денег куры не клюют. Один Сунбулов недоволен: он ждал, что его пожалуют боярином, ан его произвели в думные дворяне. Взбесился наш молодец и ушел в Чудов монастырь; хочет с горя постричься в монахи.
– Знать, его за живое задело.
– Теперь нам знатное будет житье. Крестный батюшка будет всеми делами ворочать по-своему.
– Ну а стрельцам-то, чаю, будет награда?
– Как же. Их угостят на площади царским столом. После венчания на царство Ивана и Петра Алексеевичей стрельцов назовут Надворною пехотою[72]. В монастыри на Двине отправляется стольник князь Львов за монастырскою казною и для высылки таможенных и кабацких голов с деньгами в Москву. Все эти денежки раздадут стрельцам[73]. Они изберут выборных, которые всегда будут прямо входить к царевне Софье и к государям и бить челом об их нуждах. Любимый их боярин князь Иван Андреевич Хованский назначается их главным начальником. На Красной площади поставят каменный столп с жестяными по сторонам досками: на них напишут имена убитых изменников. Да выдадут еще стрельцам похвальные грамоты с государственною печатью за их верность и усердие к дому царскому и за истребление изменников.
– Видишь ты что! Подлинно: за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Ну а тебе какая награда, Сидор Терентьич?
– Меня крестный батюшка обещал посадить дьяком в Судный приказ. Уж то-то мне будет раздолье. Бояр, окольничих и всех, кто не под силу, трогать не стану, а примусь за гостей, за купцов гостиной, суконной и черных сотен и за всякого, у кого мошна толста; я из них сок-то повыжму, да и с тобой поделюсь. Только всегда держи мою сторону и нахваливай меня крестному батюшке.
– Уж не бойсь, за этим дело не станет; только не скупись да барышами делись. Ой, ой, ой! ноженьку разбередил!
– Сядь скорее. Охота же тебе ходить; на костылях что за ходьба! Ну что, подживает ли твоя нога?
– Подживает помаленьку. Уф! как бы поймать разбойника, который меня ранил: я бы его своими руками разорвал!
– А знаешь ли, кто тебя ранил? Стрелецкий пятисотенный Бурмистров. Крестный батюшка мне сказывал.
– Чтоб ему издохнуть, анафеме! Чтоб ему в аду места не было! Чай, тягу дал, разбойник?
– Крестный батюшка приказал боярину князю Хованскому везде искать его.
– Рублевую свечу бы поставил, кабы поймали мошенника! Ах да, совсем было забыл: не напомнишь ли ты боярину, как он из Думы приедет, о старухе, что у нас в подвале сидит: что с ней делать прикажет?
– Что за старуха?
– Попадья Смирнова. По приказанию боярина вчера привели ее к нам из Земского приказа. Ее подняли на улице решеточные в тот самый день, как мне ногу подрубили. И с тех пор все содержали на тюремном дворе по приказу же Ивана Михайловича.
– А! вот что! Дело доброе. Чай, уж от нее выпытал крестный батюшка, где ее дочка?
– Спрашивал ее, грозился в пытку отдать. Одно говорит: хоть зарежь, не знаю.
В это время на дворе раздался стук кареты.
– Боярин приехал! – воскликнул Мироныч, поднявшись со скамейки. – Уйти скорее в свою избу.
Дворецкий ушел, а Лысков выбежал на крыльцо встречать Милославского. Он ввел его на лестницу и вошел вслед за ним в рабочую горницу боярина.
– Ну, Сидор, дело кончено! – сказал Милославский, сняв шапку и садясь к столу. – Вот указ, который сегодня послали из разряда во все приказы и ко всем иногородним воеводам.
– Нельзя ли прочитать, батюшка?
– Пора обедать, уж полдень прошел. После обеда прочитаешь. Однако ж постой, покуда на стол не подали, я расскажу тебе содержание указа и прочту места, которые тебя всего более порадуют. Нечего сказать, указ славно написан; немало ломали мы над ним голову. Ни слова не сказано о прежнем решении Думы, чтобы быть избранию на царство общим согласием людей всех чинов Московского государства; не упомянуто ничего об избрании; сказано только, что Иоанн Алексеевич уступил престол брату и что Петр Алексеевич по челобитью патриарха с собором, Думы и народа принял царский венец. О присяге стрельцов умолчано. Сказано, что целовали ему крест бояре, окольничие и думные и всяких чинов служилые и жилецкие люди. Далее написано, что сегодня, то есть двадцать шестого мая, патриарх с духовенством, Дума и народ били челом царю Петру, что «царевич Иоанн Алексеевич ему большой брат, а царем быти не изволил, и в том чинится Российского царства в народе ныне распря, и у них, царя и царевича, просят милости, чтоб они изволили для всенароднаго умирения на прародительском престоле учиниться царями, и скиптр и державу восприять и самодержавствовать обще». Далее сказано, что они восприняли скипетр и державу, и что все целовали им крест, и что, «посоветовав с матерью своею, царицею Натальею Кирилловною, с своими государскими тетками и сестрами, благородными царевнами, с патриархом, coбором и Думою, и по челобитью их и всего Московского государства всяких чинов изволили государственных дел правление вручить сестре своей, царевне Софии Алексеевне, со многим прошением, для того, что они, великие государи, в юных летах, а в великом их государстве долженствует ко всякому устроению многое правление».
Потом сказано, что «при изволении и прошении их государей, патриарх со всем собором подал ей, царевне, на то богоугодное дело свое архипастырское благословение». Слушай теперь окончание: «И великая государыня, благоверная царевна и великая княжна София Алексеевна, по многом отрицании, к прошению братии своей великих государей и благословению о Святем Дусе отца своего и богомольца, великого господина, святейшего Иоакима, патриарха Московского и всея Руссии, и всего освященного собора, склоняяся, и на челобитье бояр, и окольничих, и думных, и всего Московского государства всяких чинов всенародного множества людей милостивно призирая, и желая Российское царствие в державе братии своей великих государей соблюдаемо быти во всяком богоугодном устроении, правление восприяти изволила. И, по своей государской богоподражательной ревности и милосердому нраву, изволила всякие государственные дела управляти своим государским, Богом дарованным, высоким рассуждением, и для того указала она, великая государыня, благородная царевна, боярам и окольничим и думным людям видать всегда свои государские пресветлые очи, и о всяких государственных делах докладывать себе государыне». В конце прибавлено, чтобы в указах с именами царей писать имя и царевны.
– Пирог и щи давно уже поданы, – сказал вошедший слуга.
– Пойдем, Сидор, обедать. Ты, я думаю, не меньше моего есть хочешь. Не в пору я с тобой разговорился и совеем забыл пословицу: соловья баснями не кормят.
На столе, не покрытом скатертью, стоял пирог на оловянном блюде и щи в медной вылуженной мисе. Для боярина подали серебряную ложку, а для Лыскова деревянную, также ножи; вилок же подано не было, потому что предки наши заменяли их руками. Разрезав пирог, Милославский взял в руки кусок и, пригласив Лыскова последовать его примеру, начал есть с большим аппетитом. Когда порядочная доля пирога поубавилась, слуги, стоявшие у конца стола, сняли блюдо и опорожнили его. Потом подан был из пшеничной муки каравай. Взяв по куску каравая, Милославский и Лысков придвинули к себе мису и начали хлебать щи прямо из мисы. После того подали вареную в уксусе баранью голову, кожа которой, для прикрасы, вырезана была в виде бахромы и обложена кругом. За нею последовали жареная курица, приправленная луком, чесноком и перцем, и наконец каравай с медом. В больших кружках подаваемы были во время обеда пиво, крепкий мед и французское вино. Наливая из кружек эти напитки, попеременно, в серебряные чарки с ручкой, широкие и плоские, обедавшие запивали каждое кушанье. Встав из-за стола, боярин и крестный сын его, обратясь к висевшим в углу образам, так же, как и перед обедом, помолились, обтерли рукою усы и бороду и поцеловались. Потом вышли они в сад и легли под тенью огромной липы, на приготовленном для них сене, покрытом простынею, положив под головы по мягкой подушке, набитой лебяжьим пухом.
– Ты не узнал еще, батюшка, где дочь старухи Смирновой, твоя беглая холопка? – спросил, лежа, Лысков.
– Не узнал еще. Я велел Хованскому поймать Бурмистрова: от него выпытаем. Сегодня вечером придут ко мне десятка два стрельцов. Походи ты с ними, Сидор, по Москве да поищи беглянки. Авось попадется.
– Конечно, попадется. Прикажи только действовать твоим именем. Я подниму на ноги объезжих и всех решеточных: как раз сыщем голубушку!
– Объяви, что тому, кто ее найдет, дам я… Уф, зевается!.. дам я два десятка рублевиков, да и впредь не оставлю своими милостями. Ну, теперь полно разговаривать: смерть спать хочется. Давно уж не спал я спокойно; много было забот и хлопот! Не вели меня будить никому, Сидор. Ты, я чаю, прежде меня проснешься?
– Сосну часок, другой, третий, как обыкновенно. Только вот что, батюшка, стрельцы, как узнал я, изорвали дела во многих приказах. В Холопьем не оставили почти ни одного клочка бумаги. Можно написать новую кабалу на дочку Смирновой и сказать, что она принадлежит тебе по старинному и полному холопству. Справиться будет не с чем. Тогда ты можешь все с нею делать, что душе угодно. Как состареется и не понадобится для тебя более или же надоест тебе, продай ее, променяй или подари.
– Это дело ты выдумал! – отвечал Милославский впросонках и захрапел. И Лысков вскоре последовал его примеру.
V
И как нередко говорят:
«Когда б не он, и в ум бы мне не впало!»
А ежели людей не стало,
Так уж лукавый виноват,
Хоть тут его совсем и не бывало.
КрыловКупец Лаптев с женою своею, Варварою Ивановною, возвращался от обедни домой. Оба были одеты, как следовало в день воскресный. Он был в светло-синем суконном кафтане, с застежками на груди из широких шелковых тесемок, и в низкой меховой шапке. Полы кафтана закрывали до половины его сафьянные зеленые сапоги. Длинные рукава были засучены; в одной руке держал он шелковый платок, в другой толстую палку с большим костяным набалдашником. Наряд супруги его состоял из малинового штофного сарафана с парчевыми зарукавьями, из алого суконного опашня с достававшими до земли рукавами и из шелковой фаты, надетой сверх меховой шапочки. Полы опашня сверху донизу застегнуты были серебряными пуговицами, такими крупными, что можно было бы ими в случае нужды зарядить пушку вместо картечи. Золотые серьги, жемчужное ожерелье и разные перстни и кольца довершали великолепие ее наряда.
– Что это за указ сегодня в церкви читали? – спросила Варвара Ивановна.
– Неужто ты не поняла? Царевич Иван Алексеевич вступил на престол вместе с братцем, а Софья Алексеевна будет делами править.
– Как? А царица Наталья-то Кирилловна?
– Ее от дел прочь.
– Да за что так?
– Так! Ни за что ни про что! Софье Алексеевне давно хотелось править царством, для того и стрельцы бунтовали.
– Не поминай об этом, Андрей Матвеич, у меня до сих пор сердце замирает. Как Бог нас помиловал! Три дня и три ночи сидели мы дома безвыходно, как в клетке. Сердечушко все изныло! Постучат, бывало, в ворота – ноги вот так и подкосятся и в холодный пот бросит. Горемычного соседа нашего ограбили, злодеи!
– Бог тому судья, кто стрельцов взбунтовал. Дай Господи, чтобы впредь все было тихо и смирно.
– Дай Господи!
– Здравствуй, Андрей Матвеевич! – сказал Бурмистров, идя к нему навстречу.
– А! Василий Петрович! Господь Бог и тебя помиловал!
Со слезами на глазах от радости Лаптев бросился обнимать Бурмистрова.
– Милости просим ко мне, хлеба-соли откушать, – сказал Лаптев. – Время уж и за стол: обедни везде отошли.
– Я нарочно пришел к тебе. Есть до тебя дело, Андрей Матвеевич. Где Наталья Петровна?
– Ушла с братцем своим к Николе в Драчах. Жаль ее, мою голубушку; как свечка тает с тоски по своей родительнице. До сих пор о ней ни слуху ни духу.
– Успокой Наталью Петровну: скажи ей, что она скоро с нею увидится.
– Как, Василий Петрович? Да где же она?
– Теперь еще сказать нельзя.
– Это дело другое.
– Она в руках боярина Милославского, – шепнул на ухо Бурмистров Лаптеву. – Не говори Варваре Ивановне. Я боюсь, чтоб она не сказала об этом Наталье Петровне.
– Господи боже мой! – сказал шепотом Лаптев.
Варвара Ивановна хотя и шла впереди своего мужа и Бурмистрова, однако ж заметила, что они шепчутся, и решилась во что бы то ни стало выпытать тайну, сообщенную ее сожителю.
– По приказу Милославского, – шепнул Бурмистров, – объезжие с решеточными и бездельник Лысков со стрельцами третьего дня и вчера искали по всему городу Наталью Петровну. Верно, и сегодня искать будут.
– Ахти, мои батюшки! Как же тут быть?
– Надобно Наталью Петровну уговорить, чтобы она решилась ехать сегодня же к моей тетке, в Ласточкино Гнездо. Это небольшая деревня в стороне от Троицкой дороги. Я уже ее уведомил об этом. Там всего семь дворов. Крестьяне никуда не ездят, да и в поместье никто не приезжает, кроме моего слуги Гришки, и то раза два в год. Кому придет в голову отыскивать там Наталью Петровну? А ей можно сказать, что она непременно увидится там с своей матушкою, и скоро. Борисов взялся бедную старушку выручить из рук Милославского. Мы с ним, кажется, хорошо придумали, как это сделать.
– Ладно, ладно, Василий Петрович. Ты человек разумный. Ты все устроишь, да и меня из беды выпутаешь.
– А тебе, Андрей Матвеевич, надобно будет сегодня подать челобитную в Земский приказ, что приехавшая к тебе из Ярославля крестница… как бишь ты назвал Наталью Петровну?
– Ольга Васильевна Иванова.
– Да, Ольга Васильевна Иванова, двадцать третьего мая, когда стрельцы в последний раз приходили в Кремль, сидела на скамье за воротами и пропала без вести.
– Ладно, Василий Петрович, ладно! Пусть Земский приказ ее ищет. А чтоб усерднее искали, моей челобитной не опорочили и меня как-нибудь не потревожили, поклонюсь я дьяку приказа дюжиною мешков муки да бочонком вишневки. Ведь нельзя без этого.
– И! полно, Андрей Матвеевич! к чему тебе добро свое терять понапрасну.
– Нельзя, отец мой, я знаю приказных. Подай челобитную хоть о том, чтоб тебя кнутом высекли, да не подари: не высекут!
Бурмистров улыбнулся.
– Ну, прощай, Андрей Матвеевич! – сказал он.
– Да куда же ты? Неужто не отобедаешь с нами? Вон уж дом наш близехонько!
– Нельзя, Андрей Матвеевич! Борисов меня дожидается. Как дело есть, так и еда на ум нейдет. Вечером, я думаю, забегу к тебе на минуту.
Поклонясь Лаптеву и жене его, Бурмистров ушел.
– О чем это вы шептались? – спросила Варвара Ивановна.
– Не твое, жена, дело! – отвечал Лаптев.
– Что за дело такое? Уж и жене сказать нельзя! Господи боже мой! Двадцать три года прожили вместе; всегда был у нас совет да любовь, а теперь, на старости лет, вздумал от меня таиться. Уж не шашни ли какие затеял?
– Полно вздор-то молоть! Шашни! С ума, что ли, я сойду!
– Почему знать. Бес и горами качает!
– Ах ты, дура, дура! Да что с тобой толковать! Не скажу, да и только!
– Не скажешь? Да я тебе покою не дам! Коли ты стал от меня таиться, так ты мне не муж, я тебе не жена. Сегодня же со двора съеду!
– Не бойсь, не съедешь!
В молчании подошли они к дому. Надобно заметить, что Лаптев, будучи от природы робкого характера, не умел поддержать той неограниченной власти, какою в старину пользовались наши предки над своими женами. Это могло произойти частию от неприятного впечатления, которое произведено было на Лаптева чрез неделю после свадьбы, когда он в первый раз захотел воспользоваться правами мужа и поколотить жену свою. Впоследствии, при каждой начинавшейся ссоре, он невольно вспоминал, как за первый толчок, данный им своей супруге, получил он, сверх всякого чаяния, две пощечины, как схватила она его за бороду, как он, вырвавшись, убежал от преследовавшей его по пятам сожительницы на сеновал и как он терзался, воображая, что она исполнит свою угрозу и одна съест испеченный ею, а им несправедливо осмеянный пирог, за который они поссорились.
На столе стояли уже миса со щами и блюдо с пирогом, когда Лаптев и жена его вошли в комнату.
– Куда это запропастился Андрей Петрович с сестрицей? Как их долго нет! Неужто обедня у Николы в Драчах еще не отошла? Ах да! я и забыл, что он хотел с нею погулять в Царевом саду[74] и просил, чтобы их не дожидаться к обеду. Боюсь я, чтоб Наталья Петровна не попалась там на глаза мошеннику Лыскову! Конечно, после обеда все в городе спят; однако ж все бы я не пустил ее в сад, коли бы знал, что ее ищут. Ну, делать нечего! Авось Бог ее помилует. Дай-ка, жена, вишневки, да сядем за стол.
Варвара Ивановна не отвечала ни слова и, сидя на скамье у окна, смотрела на проходящих по улице.
– Аль ты оглохла? Давай, говорят тебе, вишневки!
Варвара Ивановна встала, обратясь к образам, помолилась и, сев в молчании за стол, разрезала пирог. Муж также, помолясь, сел к столу. Взяв ложку и кусок хлеба, Варвара Ивановна начала хлебать щи, не обращая никакого внимания на мужа.
– Что же, вишневка будет ли сегодня аль нет? – спросил гневно Лаптев. – Давай ключ от погреба. Если тебе лень, так я сам схожу за фляжкой.
– Нет у меня ключа! Ты не сказываешь мне, про что вы шептались, а я не скажу, где ключ.
– Как, да разве я не хозяин в доме? Разве жена смеет ослушаться мужа? В Писании сказано, что муж есть глава жены. Вот еще что выдумала! Сейчас принеси фляжку!
– Не принесу!
– Принеси, говорят! Худо будет! – закричал Лаптев, вскочив со скамьи.
Варвара Ивановна, не теряя духа, спокойно подвинула к себе блюдо с пирогом и, выбрав большой кусок, принялась есть. Не столько нахмуренное лицо жены, сколько вид пирога, напоминавший Лаптеву сеновал, принудил его удержать порыв досады. Он прошел несколько раз по горнице и опять сел к столу.
– Варвара Ивановна! да принеси вишневки! За что ты меня мучишь? Ты ведь знаешь, что я, не выпив чарки, обедать не могу.
– А мне что за дело? Не обедай!
– Не обедай! Да разве ты хочешь уморить меня с голоду?
– Вот пирог! – сказала Варвара Ивановна, подвинув к нему не совсем вежливо блюдо.
– Видим, что пирог! Да без вишневки не пойдет кусок в горло.
– Хлебни щей!
– Ахти, господи! Какая упрямая!
Лаптев схватил в досаде кусок пирога и начал его убирать за обе щеки. Можно было, глядя на него, подумать, что он каждым куском давится или принимает отвратительное лекарство.
– Ну что тебе, жена, за охота знать, про что мы шептались? Плевое дело, да и до тебя совсем не касается.
– Коли плевое дело, так скажи какое.
– Я боюсь: ты проболтаешься да все расскажешь Наталье Петровне. Сохрани Господи!
– Никому не скажу; побожусь, если хочешь.
– Нет, не божись! Писание не велит божиться. Ну, уж так и быть. Давай вишневки! Перескажу тебе; только смотри: не проговорись.
– Прежде скажи, а там и вишневки дам.
– Тьфу ты пропасть – скажи! Ну, все дело в том, что матушка Натальи Петровны попалась в лапы боярину Милославскому.
– Милославскому! Ахти, мои батюшки!
– Василий Петрович хочет ее выручить!
– Помоги ему Господи! Ну а еще что?
– Больше ничего!
– Да о чем же вы так долго шептались?
– Экая безотвязная!
Лаптев рассказал жене все подробности разговора его с Бурмистровым и заключил подтверждением, чтобы она не говорила ни полслова Наталье. Варвара Ивановна обещала крепко хранить тайну и пошла за вишневкой. Чтобы наградить мужа за его откровенность, принесла она полную кружку вместо половины.
Лаптев, которому забота не дала уснуть после обеда, немедленно пошел к дьяку Земского приказа и сказал еще раз, прощаясь с женою:
– Смотри же, не говори!
Вскоре после его ухода возвратилась домой Наталья с братом.
– Ну вот, братец-то дело вздумал, моя ягодка! Что сидеть дома да плакать. Вот сегодня, как погуляла, так и щечки сделались порумянее. Садитесь-ка обедать, мои голубчики. Чай, проголодались?
Брат Натальи тотчас после обеда ушел. Он каждое воскресенье бродил по Москве вдоль и поперек в надежде случайно узнать что-нибудь о судьбе своей матери. Варвара Ивановна и Наталья сели у окна.
– Э-э-эх, мое наливное яблочко! Все-то ты плачешь! Господь Бог милостив: авось скоро увидишься с родительницей.
– Как, разве ты что-нибудь про нее слышала, Варвара Ивановна?
– Нет, я ничего не слыхала! Да полно плакать, мое солнышко! Глядя на тебя, сердце разрывается!
Во время последовавшего за тем молчания Варвара Ивановна придумывала: чем бы ей утешить Наталью. Не сказать ли ей, полно, думала она, что матушка ее жива и здорова. Что, кажется, за беда? Хоть муж и запретил говорить, да мало ли что он без толку приказывает. Я ведь и сама не глупее его! Лишнего-то не выболтаем. Дело другое сказать, что матушка ее у Милославского. Об этом можно и смолчать.
Эти размышления мучили ее до самого вечера. Она не могла даже уснуть после обеда, по обыкновению, и все сидела у окна с Натальей, которая принялась вышивать в пяльцах.
– Не введешь ли ты меня, Наталья Петровна, в брань, если тебе скажу добрую весточку? – сказала наконец Лаптева. – Я давно бы тебя порадовала, да муж не велел.
– Что такое, Варвара Ивановна? Уж не узнали ль что-нибудь о матушке? Если тебе угодно, я даже не скажу и братцу, что от тебя услышу.
– Точно ли не скажешь?
– Я тебе даю слово.
– Матушка твоя жива и здорова.
– Боже мой! Не обманываешь ли ты меня, Варвара Ивановна? Где же она? Скажи, ради бога!
Наталья, вскочив со своего места, со слезами на глазах от радости бросилась целовать руки Лаптевой.
– Где она, – вот этого-то нельзя еще тебе сказать, моя ласточка. Потерпи маленько. Ты скоро, очень скоро увидишься с родительницей. Не сегодня, так завтра.
– Для чего же ты не хочешь сказать, где она? – сказала печальным голосом Наталья. – Может быть, она в руках недобрых людей. Скажи, ради бога!
– Нет, нет! Что ты это, моя малиновка! Она в руках у доброго человека.
– Для чего же ты не хочешь назвать его? Ах, нет! Я знаю: верно, она в руках Милославского!
– Милославского? Что ты это! Да кто это тебе сказал?
– Знаю, знаю! Она у него! Верно, он ее до тех пор держать будет, пока меня не сыщут. Братец узнал от своего товарища, которого встретил в саду, что меня вчера и третьего дня, по приказанию Милославского, искали по всему городу. Прощай, Варвара Ивановна!
– Куда, куда ты это? Господь с тобой! – закричала испуганная Лаптева, пустясь за Натальей в погоню. Дородность помешала ей сойти скоро с лестницы. Выбежав за ворота, Варвара Ивановна посмотрела во все стороны и, не видя Натальи, пустилась бегом к ближнему переулку, думая, что увидит там Наталью.
Во всю длину переулка ни одного человека! Только у ворот низенького дома стояла корова и щипала траву на улице. Лаптева побежала к другому переулку. И там никого нет! «Уж не бросилась ли она в реку?» – подумала Варвара Ивановна. От этой мысли кинуло ее в холодный пот. Не имея сил бежать далее, она, едва переводя дух, в совершенном изнеможении побрела к дому. Недоумение, раскаяние, сожаление, страх сильно волновали ее. «Что я скажу, – думала она, – мужу, когда он возвратится домой и спросит: где Наталья? Дернул же лукавый меня за язык! Что, если бедняжка с моих слов да бросилась в реку! Господи боже мой! что мне делать? Да я весь век стану мучиться, что погубила душу христианскую. Не думала, не гадала я впасть в такое тяжкое согрешение! Помилуй, Господи, меня, грешную!» В этих мыслях Лаптева начала горько плакать и усердно молиться, стоя на коленах перед образом Николая Чудотворца, которым ее благословил в день свадьбы покойный отец ее. После молитвы села она к окошку. «Да с чего, – начала она размышлять, – пришло мне в голову, что Наталья Петровна утопилась? Может быть, она побежала искать своего братца, чтобы с ним посоветоваться. Однако ж, зачем ей было бежать так скоро? Зачем она простилась со мною?»
Во время этих размышлений ее раздался стук у калитки. «Муж! – подумала Варвара Ивановна, вскочив со скамьи в испуге. – Худо, как совесть нечиста! Бывало, прежде постучит он, и горя мало! Его же сбираешься побранить: зачем поздно пришел, а теперь…»
Дверь чрез несколько времени отворилась, и вошел Бурмистров.
– Дома Андрей Матвеевич? – спросил он.
– Нет еще, отец мой!
– Что с тобой сделалось, Варвара Ивановна? Ты побледнела и вся дрожишь!
– Ничего, Василий Петрович. Так, что-то зябнется!
– А в горнице у вас очень тепло. Не сделалось ли чего-нибудь худого?
– Нет, отец мой, все благополучно!
– А где Наталья Петровна?
– Она все еще гуляет с братцем.
– До сих пор гуляет! Да как же это, Варвара Ивановна? Я братца ее встретил одного на улице, вскоре после обеда. Он сказал мне, что Наталья Петровна осталась с тобою.
– Ох, Василий Петрович! Как бы ты знал, как мне тяжко и горько! Ума не приложу, что мне делать, окаянной. Лукавый меня попутал!
– Как, что это значит?
– Покаюсь тебе во всем, как отцу духовному. Только не брани меня, кормилец мой!
– Ради бога, скажи скорее, Варвара Ивановна, что сделалось?
– А вот видишь, батюшка. Ты сегодня с мужем шептался, как мы шли от обедни. Я и пристала к нему: скажи, о чем вы шептались? Он долго не говорил. Однако ж я на своем поставила. Он, вишь ты, без вишневки обедать не может. Мне в голову и приди: не дам ему вишневки, пока всего не перескажет. Он крепился, крепился, да наконец мне все и рассказал; не велел только говорить Наталье Петровне.
– А ты, верно, не утерпела, Варвара Ивановна? Так ли?
– Согрешила, грешная! Хотела было ее утешить и сказала только, что матушка ее жива и здорова; а она и привязалась ко мне. Я ей больше ничего не открыла. Пусть провалюсь сквозь землю, если я лгу! Она сама догадалась. Побледнела, задрожала да и кинулась вон из горницы. Я за ней. Куда тебе! И след простыл! Выручи меня из беды, Василий Петрович, помоги как-нибудь, отец родной!
– Встань, Варвара Ивановна, встань! Как тебе не стыдно в ноги кланяться!
– Батюшка ты мой! Не встану! Мне совестно даже глядеть на тебя.
– Не заметила ли ты, по какой улице и в которую сторону ушла Наталья Петровна?
– Невдомек, отец мой.
– Она, верно, пошла к Милославскому! Дай Бог, чтоб я успел остановить ее.
Бурмистров сбежал с лестницы и, вскочив на свою лошадь, пустился во весь опор по берегу Яузы к мосту. Он вскоре скрылся из глаз Варвары Ивановны, смотревшей из окна ему вслед.
Опять раздался стук у калитки. Вошел в горницу брат Натальи. Бедная Лаптева принуждена была и ему покаяться в своем согрешении. И тот бросился опрометью в погоню за сестрою.
Наконец еще стучат в ворота. «Ну, это муж, сердце чувствует!» – шепнула Варвара Ивановна, вскочив со скамьи и отирая платком пот с лица.
– Куда ушел хозяин? – спросил решеточный приказчик, войдя в горницу. – У ворот сказали мне, что его дома нет.
– Не приходил еще домой! – отвечала Варвара Ивановна.
– Да где ж это он до сих пор шатается? Уж солнышко давно закатилось, пора бы, кажется, и домой прийти. А ты хозяйка, что ли?
– Хозяйка, батюшка.
– Кто еще у вас в доме живет?
– Приказчик Ванька Кубышкин да работница, Лукерья.
– А еще кто? Чай, дети есть?
– Были – мальчик и девушка, да от родимца еще маленькие скончались.
– А нет ли еще кого в доме?
– Жила у нас крестница моего сожителя, Ольга Васильевна Иванова.
– Где ж она?
– Пропала, батюшка.
– Пропала? Как так? Давно ли?
– В стрелецкие бунты, отец мой.
– В бунты? Да кто тебе сказал, что были бунты?
– Слухом земля полнится! Да вот и соседа нашего стрельцы ограбили.
– Врешь ты! Не смей этого болтать. Бунта никакого не было. Не только говорить, и думать об этом не велено, а не то в Тайном приказе язык отрежут.
– Виновата, батюшка! Мне и невдомек, что бунтов не было. Мое дело женское.
– То-то женское. У бабы волос длинен, да ум короток, а язык и волосов длиннее!
– Длиннее, батюшка, длиннее! Как твоей милости угодно.
– А подана ли челобитная о пропаже?
– Не знаю, отец мой. Об этом у мужа спроси.
– Чего ты указываешь! Без тебя знаем, у кого спросить! А какова приметами крестница?
– Невдомек, батюшка. Волосы, кажись, рыжеватые, глаза иссера карие, рот как быть водится и нос как быть водится.
– Ну, ну, хорошо! Засвети-ка фонарь да ступай за мной.
– Куда? Зачем, отец мой!
– А тебе что за дело? Скорей поворачивайся!
Варвара Ивановна, дрожа, как в лихорадке, пошла в находившуюся на конце двора, подле огорода, поварню, достала огня и засветила фонарь. Лукерья, спавшая на полу, приподняла голову, поправила впросонках лежавшее у нее в головах толстое полено и снова заснула.
– Где лестница на чердак? – спросил приказчик. – Что глаза-то на меня уставила? Показывай лестницу!
Лаптева, едва передвигая ноги от ужаса, вошла с двора в сени и отперла дверь на чердак. Подходя по двору, приказчик закричал:
– Эй, вы! Не зевать! Двое встаньте у ворот. Никого не выпускайте и не впускайте! Ты, Сенька, встань у погреба, ты, Федька, у конюшни, а ты, Антипка, гляди, чтоб кто с двора через забор не перелез.
Войдя в сени вслед за Лаптевой и приблизясь к двери на чердак, приказчик продолжал:
– Ну, что ж стала? Ступай вперед да свети.
Лаптева, ни жива ни мертва, взошла на чердак. Приказчик, осмотрев все углы, сказал:
– Веди теперь на сеновал. Да нет ли еще у тебя горницы какой или чулана? Во всех ли я был?
– Во всех, батюшка!
Осмотрев сеновал, конюшню, сарай, погреб и кладовую, приказчик возвратился с Варварой Ивановной в ее светлицу. В погребе взял он мимоходом фляжку.
– Ну, прощай, хозяйка! За твое здоровье мы выпьем. Что в этой фляжке?
– Вишневка, отец мой!
– Ладно! Не поминай нас лихом! Да смотри, вперед не болтай пустого про бунты. Бунтов не было!
– Знаю теперь, батюшка, знаю! Какие бунты! Правда, не одна я про них болтаю, да все пустое, кормилец! Знать, кому-нибудь во сне нагрезилось.
– А зачем печь у вас сегодня топлена? – спросил приказчик, приложив руку к печи.
– Сегодня не топили, отец мой, а в воскресенье, по приказу его милости, объезжего. Погода была больно холодна.
– Знать, хорошо натопили. Тепла в избе на месяц будет. И теперь дотронуться нельзя до печки: словно накаленный утюг! В другой раз топи меньше. Прощай!
Приказчик ушел. Варвара Ивановна, проводив его, перекрестилась. Не успела она сесть на скамью и поставить фонарь на стол, как шум шагов послышался на лестнице и заставил ее опять вскочить. Вошел Лаптев.
– Что ты, жена? – воскликнул он, взглянув на Варвару Ивановну, – здорова ли? А фонарь на столе зачем? Разве нет свеч? Да уж пора и огонь гасить, а то, пожалуй, нагрянет решеточный, как снег на голову!
– Сейчас ушел отсюда решеточный. Напугал меня до смерти! Весь дом обыскивал.
– Как так?
Выслушав подробное донесение, Лаптев похвалил жену за ее благоразумие. Она, между прочим, сказала ему, что скрыла Наталью на сеновале от поисков.
– Что ж ты за ней не сходишь? Я думаю, бедняжка перепугалась? Сходи за ней скорее!
Поправив тускло горевшую лампаду и взяв фонарь, Варвара Ивановна отправилась на сеновал. Возвратясь оттуда через несколько времени, она сказала:
– Наталья Петровна на сене уснула. Таково-то спит сладко, что мне ее разбудить было жалко!
– Вот вздор какой! Неужто ее на всю ночь оставить на сеновале?
– А что ж, Андрей Матвеич, погода теплая. Пусть ее поспит еще хоть немножко. Как сами станем ложиться, так можно будет ее тогда разбудить; а теперь, право, ее жалко тревожить!
– Ну хорошо, пусть будет по-твоему. Только диво: как могла она заснуть при таком страхе. Решеточный-то недавно ушел?
– Только что пред тобой вышел.
– Диво, да и только! Вот, подумаешь, спокойная-то совесть. Беда над головой у бедняжки, а она спит себе, словно младенец!
При словах «спокойная совесть» Лаптева тяжело вздохнула.
– Знаешь ли что, жена? – продолжал Лаптев. – Ведь матушку-то Натальи Петровны выручили!
– Как! Кто выручил?
– Наш кум, Иван Борисыч, по наставлению Василья Петровича. Вот видишь, как было дело. Василий Петрович узнал, что сегодня Милославский, отобедав и отдохнув, поехал на весь вечер в гости к приятелю своему, князю Хованскому, а Лысков с дюжиною стрельцов пошел, слышь ты, по Москве отыскивать Наталью Петровну. Вот Василий Петрович призвал к себе Борисова да человек десять стрельцов Сухаревского полка и послал их в дом Милославского. Набольшим в доме остался дворецкий боярина, Мироныч. Когда уж смерклось, Борисов стук в ворота. «Кто там?» – закричал холоп. – «Стрельцы Титова полка, от князя Хованского». Это, слышь ты, любимый полк боярина, потому что в нем многое множество раскольников, а он сам такой старовер, что и сохрани Господи! Ворота отворили, и Борисов со стрельцами вошел на двор, вызвал дворецкого и сказал ему, что его-де прислал боярин Милославский с приказом: тотчас привести старуху Смирнову в дом князя. «Да как же это? – молвил дворецкий. – Боярин накрепко наказывал без него старуху не выпускать ни на пядь из дому». – «Я уж этого ничего не знаю, – сказал Борисов. – Что нам приказано, то мы и делаем. Пожалуй, мы воротимся и скажем боярину, что ты боишься отпустить без него старуху». Дворецкий призадумался. «Постой, постой! – молвил он. – Я сам приведу ее к боярину». – «Как хочешь!» – отвечал Борисов и пошел со двора. Перейдя мост, через который лежала дорога дворецкому, Борисов спрятался со стрельцами на дровяном дворе и сквозь щелку в заборе смотрит на мост. Глядь: дворецкий идет на костылях впереди со старухой, а за ними четыре боярских холопа с дубинами. Лишь только поравнялись они с забором, Борисов, видя, что на улице никого, кроме них, нет, вдруг кинулся на них со стрельцами. Как раз всех втащили на дровяной двор, перевязали и приставили ружья ко лбу. «Если не уйметесь кричать, тут вам и смерть!» Делать было нечего, замолчали. На крик их прибежал мужик, который сторожил двор. И мужика пугнули да велели молчать. Борисов приказал стрельцам продержать дворецкого с холопами и мужика на дворе до ночи, а сам и увел матушку Натальи Петровны на постоялый двор. Там уж готова была повозка. Пришел Василий Петрович и растолковал все дело старухе. Она и поехала с Борисовым в Ласточкино Гнездо. Василий Петрович сам ее проводил до заставы и сказал на прощание, что через день и Наталья Петровна к ней приедет.
– Слава богу! Спасибо Василью Петровичу!
– Уж подлинно что спасибо! Прежде дочь спас, а теперь и мать выручил, да и меня из беды выпутал. Я уж подал челобитную в Земский приказ. Пусть себе ищут мою крестницу! Только вот что: завтра, чуть свет, придет за Натальей Петровной ее братец. Он отпросился на неделю в отпуск из окодемьи, для свидания с родительницею, которая будто бы умирает. Наталье-то Петровне надобно бы было сегодня из Москвы уехать, да не успели всего приготовить. Сходи-ка за ней теперь да разбуди. Пусть она скорее путем спать уляжется, а потом ты, пока мы сами не легли, сбери и уклади все ее пожитки.
Варвара Ивановна, вздохнув, взяла фонарь и вышла из комнаты. В ожидании ее возвращения Лаптев начал ходить взад и вперед по комнате.
– Тьфу ты, пропасть! – сказал он наконец про себя. – Да что она там так долго делает?
– Все пропало! Она уж в руках злодея Милославского! – воскликнул брат Натальи, войдя в комнату и бросив на пол свою суконную шапку.
– Что с тобой сделалось, Андрей Петрович?
– Я бежал за нею, что было силы, как Гиппомен или Меланий за Аталантой[75], но не мог уже догнать ее вовремя.
– Господи помилуй! Да про кого ты говоришь? Что за Маланья с талантом?
Объяснив Лаптеву сравнение свое, взятое из греческой мифологии, Андрей прибавил:
– Перебежав мост, увидел я вдали, что сестра подходит к дому Милославского. Сердце у меня замерло! Я не мог бежать далее. Она остановилась у ворот. Каково мне было смотреть на нее, Андрей Матвеевич, каково мне было видеть ее у пещеры тигра, куда она войти хочет для того, чтобы собственною гибелью спасти мать свою, уже спасенную! Перекрестясь, она постучалась и вошла в ворота. Бедная сестра! Бедная матушка!
Андрей не мог говорить более и заплакал.
Во время рассказа его сострадание и гнев попеременно наполняли душу Лаптева. Наконец он вскочил и, ударив по столу рукою, воскликнул:
– Ах она окаянная! Наделала дела, да еще и обманывать меня вздумала! Погоди ужо! Видно, не смеет сюда идти-то. Пускай же сидит всю ночь на сеновале! Пускай ее терзается; поделом ей!
Андрей, преданный своей горести, ничего не расслушал из сказанного Лаптевым. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Густые облака, покрывавшие все небо, превратили майский вечер в осеннюю ночь. В душе Андрея было еще темнее, нежели на улице. Лаптев в сильном волнении ходил из угла в угол, садился, опять вставал. Наступила ночь, и крупные капли дождя застучали по стеклам окон. «Не сходить ли мне за женой? – подумал Лаптев. – Или нет, пусть ее еще посидит! Не умрет от этого! Я и сам в старину на этом сеновале сиживал!»
Что побудило его переменить намерение? Желание ли наказать жену за проступок и ее исправить или же чувство мщения, возродившееся при воспоминании о неприятном положении своем на сеновале за двадцать три года пред тем? Пусть решат этот вопрос психологи. А пока они занимаются решением этой важной задачи, взглянем: что делает Бурмистров.
В глубокие сумерки поскакав во весь опор вслед за Натальею от дома Лаптева, он вскоре въехал в многолюдные улицы и должен был пустить лошадь рысью, чтобы не обратить на себя внимание какого-нибудь объезжего и не заставить себя преследовать. В одном переулке встретился он с Борисовым, который шел с матерью Натальи к постоялому двору. Узнав от него, что он выманил дворецкого из дома Милославского и велел его продержать до ночи на дровяном дворе, Василий поехал к дому боярина. Привязав у вереи свою лошадь и постучась в ворота, сказал он, что прислан от князя Хованского. Во всем доме Милославского один Лысков знал Бурмистрова в лицо; но Василью было известно, что он ушел со стрельцами отыскивать Наталью.
– Пришла сюда молодая девушка? – спросил он холопа, отворившего ему калитку.
– Беглая-то? Пришла недавно.
– Где же она?
– Спроси об этом у других холопов. Мое дело стоять у ворот.
Василий вошел в дом. В сенях остановил его слуга вопросом:
– Кого твоей милости надобно?
– Я прислан боярином Иваном Михайловичем. Он из дома князя Хованского велел сюда прийти какой-то девушке. Где она?
– Ни боярина, ни дворецкого нет дома; так мы, общим советом, отвели ее в горницу Сидора Терентьича, крестного сына боярина, там ее заперли и послали Федьку-садовника сказать об этом Ивану Михайлычу.
– Хорошо! Отведи меня к ней.
– А зачем? Я ведь твоей милости не знаю.
– Ты вздумал еще умничать. Делай, что велят! – закричал Бурмистров грозным голосом.
Слуга, оробев, повел Василья вверх по крутой лестнице к светлице, где жил Лысков. Сняв со стены висевший на гвозде ключ, он отпер дверь и вошел за Бурмистровым в горницу. Наталья сидела у окна. Бледное лицо ее выражало безнадежность и отчаяние. Увидев Василья, она вскочила и закричала:
– Ради бога, скажи: где моя бедная матушка? Злодеи заперли меня и не дают мне с нею увидеться.
– Успеешь еще с нею увидеться! – отвечал Бурмистров сурово. – А теперь ступай за мной: боярин Иван Михайлович велел теперь же привести тебя к нему.
– Я не выйду из этого дома, пока не увижусь с нею!
– Так не будет же по-твоему! В этом доме ты никогда с нею не увидишься. Мы упрятали ее в доброе место. Сейчас иди за мной! Мне дожидаться некогда.
Удивленная Наталья посмотрела пристально на Бурмистрова. Поняв двусмысленность слов его, она встала и хотела идти за ним.
– Постой, постой, голубушка! – сказал слуга. – Мы тебя посадили сюда общим советом, так один я отпустить тебя не могу. Надобно прежде собрать всю дворню да потолковать.
– Разве ты не слыхал, дурачина, что боярин приказал привести ее сейчас же к нему?
– Воля твоя, господин честной, а один я отпустить ее не могу. Да чу! Кто-то идет по лестнице! – сказал слуга, подойдя к двери. – Никак, Сидор Терентьич! Он и есть. Изволь его спросить, а теперь наше дело сторона.
Слуга, пропустив Лыскова в его горницу, пошел вниз в сени, где он был дневальным.
Сидор Терентьевич остолбенел от удивления. Услышав от слуг, что Наталья заперта у него в комнате и что за нею прислал отец его какого-то стрелецкого пятисотенного, он вовсе не ожидал увидеть Бурмистрова в своей комнате.
– Послушай, бездельник! – сказал ему Василий. – Если ты пикнешь и помешаешь мне делать, что надобно, так я тебе снесу голову с плеч. Знаю, что я этим погублю себя, но тебе от этого легче не будет.
– Что это значит?.. Открытый разбой, что ли?
– Молчать, говорю я тебе! – сказал Василий, вынув саблю.
Лысков замолчал, дрожа от страха и злости, и внутренно жалел, что всех стрельцов, с которыми он ходил отыскивать Наталью, разослал в разные стороны для поисков. На храбрость холопов Милославского не мог он надеяться, зная притом, что Бурмистров всегда верно исполнял свои обещания.
– Проводи нас с Натальей Петровной за ворота. Только повторяю тебе: если ты не только словом, хоть знаком, изменишь нам и вздумаешь нас как-нибудь останавливать, я уж не пожалею ни себя, ни твоей головы. Даю в том честное слово, клянусь всеми святыми!
Вложив в ножны саблю и взяв Лыскова под руку, он пригласил Наталью идти перед ними и, увидев толпу слуг, которые собрались на дворе из любопытства, начал дружески с Лысковым разговаривать.
– Приходи же завтра ко мне обедать! Грешно забывать старых приятелей! – сказал он громко. – Не забудь, что жизнь твоя на волоске и что я никогда не изменял своему слову! – прибавил он шепотом.
Они вышли за ворота. Лысков, по приказанию Бурмистрова, отвязал от вереи лошадь Василья, и последний повел ее одною рукою за повода, держа другою Лыскова. Окруженные густою темнотою вечера, приблизились они к мосту. Тогда Бурмистров, опустив руку Лыскова, вскочил на лошадь, посадил Наталью вместе с собою и полетел как стрела.
– Держи! Грабеж! Разбой! – закричал во все горло Лысков.
В несколько минут Бурмистров был уже у своего дома и приказал Гришке, переодевшись ямщиком, заложить повозку. Взяв с собою все свои деньги и небольшой чемодан с лучшими вещами, Василий поехал с Натальей к Лаптеву.
Андрей все еще сидел у окна, а Лаптев расхаживал большими шагами по горнице. Вдруг услышали они шум на лестнице, дверь отворилась, и вошла Наталья с Бурмистровым. Она бросилась на шею брату. Долго не могли они оба ни слова выговорить. Бурмистров смотрел на них с умилением. Лаптев плакал, как ребенок, от радости.
– Ну, Василий Петрович! – сказал он наконец, отирая рукавом слезы. – Ты настоящий ангел-хранитель Натальи Петровны! Как это ты ее выручил?
– Я расскажу тебе об этом после, Андрей Матвеевич; а теперь надобно подумать о том, как бы скорее отправить Наталью Петровну с братцем в дорогу.
– Как, неужто теперь, ночью? Да и лошадей нигде не достанешь!
– Повозка уж у ворот! Не должно терять ни минуты.
– Коли так, то все мигом будет готово.
– А где Варвара Ивановна?
– На сеновале. Ушла туда, да и не возвращалась. Глаза показать стыдно!
– Пойдем к ней скорее. Как же ты так, Андрей Матвеевич, ее там оставил?
– Надо же было ее проучить.
– Вот какой строгий! Я этого за тобой и не знал.
Все сошли вниз. Лаптев засветил свечу и повел всех к сеновалу. Дождь уж перестал, облака редели, и месяц с усеянного звездами небосклона светил гораздо яснее, нежели свеча Лаптева.
– Жена! – закричал он.
– Виновата, Андрей Матвеич, виновата! – раздался голос на сеновале. – Попутал меня лукавый!
– То-то лукавый! Вперед слушайся мужа, да не говори всего, что знаешь. Сойди скорее! Наталья Петровна уж здесь!
– Здесь! Ах ты, моя жемчужина! Уф! гора с плеч свалилась! Где она, мое ненаглядное солнышко?
Варвара Ивановна слезла по крутой лестнице с сеновала и бросилась обнимать Наталью. Через полчаса все ее вещи были уложены. Лаптев тихонько положил в чемодан кожаный кошелек с рублевиками. Потом все вошли в светлицу Варвары Ивановны и сели. Помолчав немного, все вдруг поднялись с мест, помолились и начали прощаться с отъезжавшими. Бурмистров помог Наталье сесть в повозку. Брат сел подле нее.
– Дай Бог вам счастия и всякого благополучия! – говорил Лаптев.
– Дай тебе Господи жениха по сердцу! – повторяла, со слезами на глазах, Варвара Ивановна. – Не забудь нас, моя ласточка! Мы тебя никогда не забудем!
Гришка, взмахнув рукою, пустил лошадей вскачь.
Бурмистров ехал верхом подле повозки. Вскоре приблизились они к заставе. За двадцать серебряных копеек стоявший на часах сторож пропустил их за город без дальних расспросов. До солнечного восхода ехали они без отдыха. Тогда, остановясь в каком-то селе, оглянулись они на Москву; но она уже исчезла в отдалении.
VI
Судьба нас будто берегла:
Ни беспокойства, ни сомненья!..
А горе ждет из-за угла.
ГрибоедовУзнав на опыте, как опасно поверять тайну не только женщине, но даже и женатому мужчине, Бурмистров не сказал при прощанье Лаптеву, что он решился тихонько уехать из Москвы, чтобы скрыться от преследований Милославского.
Путешественники наши, отдохнув в селе (которое, как узнали они, называлось Погорелово), пустились далее и вскоре с большой Троицкой дороги своротили на проселочную, пролегавшую сквозь густой лес. Гришка принужден был ехать шагом. Брат Натальи вылез из повозки, пошел подле ехавшего верхом Василья и начал с ним разговаривать о происшествиях в Москве и о случившемся перевороте.
– Я удивляюсь, – сказал Андрей, – как царевна Софья Алексеевна до сих пор ничем не наказала Сухаревский полк за его приверженность к царю Петру Алексеевичу. Впрочем, быть может, она читала превосходное творение Платона[76] о праведном. Она, как я слышал, большая охотница до чтения и даже сочиняет стихи.
– Она хочет уверить народ, что не ею произведен бунт и что она приняла правление по усильной просьбе патриарха и Думы для того только, чтобы положить конец смятениям. И за что бы можно было наказать явно Сухаревский полк? Неужели за то, что он, помня присягу, хотел противиться мятежникам и защищать своего законного государя? Я узнал, однако ж, что Милославский предложил ей послать весь полк в какой-нибудь дальний город и что она на это согласилась.
– Стало быть, она не читала Платона… И тебе, Василий Петрович, надобно будет идти с полком?
– Нет. В первый день после бунта я подал челобитную об отставке. Вчера узнал я, что меня уже уволили и что дано тайное приказание Милославскому при первом удобном случае схватить меня ночью и отправить на всю жизнь в Соловецкий монастырь.
– Слава богу, что ты успел из Москвы уехать; а не то мог бы невинно пострадать, подобно Сократу[77].
– Мне давно бы надобно было бежать из Москвы… Милославский как-то узнал, что я подрубил ногу его дворецкому. Удивительно, как я до сих пор уцелел! Видно, было слишком много у него хлопот и без меня. Однако ж верно бы он наконец меня вспомнил, особенно после вчерашнего случая. Я думаю, Лысков уж ему рассказал, что я гулял с ним по-приятельски под руку и звал его к себе обедать.
– Да, да! – сказал Андрей, засмеявшись. – Сестра мне сказывала. Это мне напомнило поступок Диогена[78], если не ошибаюсь, или другого какого-то циника, правильнее же сказать, киника, ибо название это происходит от греческого слова «кион», которое значит пес, собака. Однажды какой-то богач пригласил этого киника к себе обедать и после обеда начал показывать ему свои разукрашенные палаты. Захотелось кинику плюнуть. Видя везде разостланные по полу дорогие ковры, киник и плюнь в бороду хозяину. Я не нашел-де хуже места в твоих палатах. И тебе бы, Василий Петрович, догадаться да плюнуть в бороду Лыскову!
Рассказав этот анекдот из древней истории, Андрей и сам заметил, что он привел его вовсе некстати; но делать было нечего: сказанного не воротишь. Притом Андрей знал правило всех ученых, что раз сказанное, кстати или некстати, основательно или неосновательно, умно или глупо, – должно поддерживать всеми силами, всем возможным красноречием. Впрочем, Бурмистров не сделал Андрею ни возражения, ни замечания, ни вопроса. Вероятно, он, занятый другими мыслями, вовсе не расслушал рассказа о кинике, и этот рассказ сошел с рук благополучно.
Ехавшая впереди повозка, миновав лес, остановилась.
– Андрей Петрович! – закричал Гришка, приподнявшись и оборотясь к брату Натальи. – Сестрица просит тебя, чтобы ты сел в повозку. Дорога стала получше, все идет полем, да и Ласточкино Гнездо уж видно.
Андрей сел подле сестры. Гришка свистнул и пустил вскачь лошадей. Переехав вброд небольшую речку, путешественники встретили на берегу другую повозку. Она остановилась.
– Василий Петрович! – закричал голос, и выскочил из повозки Борисов. Василий остановил свою лошадь, и Гришка с большим трудом удержал разбежавшуюся тройку.
– Матушка Натальи Петровны благополучно доехала в Ласточкино Гнездо! – сказал Борисов. – А ты как сюда попал, Василий Петрович?
Василий рассказал ему причину своего поспешного выезда из Москвы и поручил ему продать все оставшиеся в доме его вещи и деньги взять себе.
– Нет, Василий Петрович, я все деньги, какие выручу, к тебе перешлю или привезу сам.
– Разве ты не хочешь принять от меня последнего, может быть, в жизни подарка? Мы бог знает когда еще с тобою увидимся!
– Что ты это говоришь, Василий Петрович!
Бурмистров соскочил с лошади, подошел к Борисову и сказал ему вполголоса:
– Меня из полка уволили, и царевна Софья Алексеевна тайно велела Милославскому схватить меня и отвезти в Соловецкий монастырь. А по твоей челобитной, которую ты вместе со мною подал об отставке, приказано тебе отказать. Сухаревский полк скоро пошлют в какой-нибудь дальний город. Чаще уведомляй меня о себе. Старайся при первом случае выйти в отставку и прямо приезжай ко мне. Теперь все в руках царевны Софьи Алексеевны; но авось придет время – и все переменится. Тогда опять начнем служить вместе, по-прежнему. Ну, прощай, Борисов! Не забывай меня.
– Прощай, Василий Петрович, прощай! Забудь меня Бог, если я тебя забуду. В малолетстве еще лишился я отца и матери; жил бедняком бесприютным, без роду и племени; ты призрел меня, ты…
Борисов не мог говорить более: слезы градом покатились по лицу его.
– Матушка моя, умирая на дальной стороне, – продолжал Борисов прерывающимся от сильного душевного волнения голосом, – через чужих людей прислала мне этот образ. Ей не удалось благословить своего сына!.. Ты заменил мне отца и мать, Василий Петрович! Может быть, мы в этой жизни уж не увидимся: благослови меня вместо отца и матери!..
Борисов, сняв с шеи висевший на черном снурке небольшой серебряный образ Богоматери, подал Бурмистрову и стал перед ним на колена.
Тронутый до слез Василий, подняв благоговейный взор к небу, троекратно над головою Борисова сделал образом знамение креста. Борисов, поклонясь три раза в землю, приложился к иконе и, приняв ее из рук Василья, опять надел на себя.
– Прощай, Василий Петрович, второй отец мой! – воскликнул Борисов. – Приведи меня Господь еще когда-нибудь с тобою увидеться!
Они бросились друг другу в объятия и долго не могли расстаться. Наконец Борисов вскочил в повозку, взял вожжи и, переехав речку, поскакал по дороге к лесу. Въезжая в лес, он оглянулся и, увидев на берегу речки Василья, который все еще стоял и смотрел ему вслед, закричал издали: «Прощай, второй отец мой!» – и повозка скрылась в чаще леса.
Через полчаса путешественники въехали в Ласточкино Гнездо. На холмистом берегу небольшого озера, в которое впадала речка, стояли восемь крестьянских хижин. Одна из них, находившаяся на краю, отличалась от прочих величиною, надстроенною над нею светлицею, размалеванными ставнями и вычурною резьбою около окошек. Это был дом помещицы. Гришка остановил у ворот тяжело дышавших от усталости лошадей. На скамье перед домом сидела в задумчивости старуха в черном сарафане.
Наталья и Андрей выпрыгнули из повозки. Раздались восклицания: «Матушка!» – «Дети!» – и в немом восторге старушка прижала дочь, а потом сына к своему сердцу. Когда услышала она, что освобождением своим и спасением дочери обязана Бурмистрову, то, бросясь к нему, начала обнимать его ноги. Василий поднял ее и повел под руку в дом своей тетки.
На дворе встретила их пожилая женщина в сарафане из голубой китайки[79], обшитом мишурным позументом[80], и в шапочке из заячьего меха, белизна которой делала еще заметнее смуглый цвет ее лица, загоревшего от солнца. Это была Мавра Савишна Брусницына, владетельница Ласточкина Гнезда.
– Добро пожаловать, дорогие гости! – сказала она. – Здравствуй, любезный племянничек! Мы уже с тобой, кажись, лет пять али побольше не видались!
– Да, тетушка! – отвечал, здороваясь с нею, Бурмистров.
– Милости просим в горницу! Я ждала еще сегодня утром дорогих гостей. Что так замешкались? Скоро уж солнышко закатится.
– Нельзя было ранее приехать, тетушка.
– А уж у меня ужин готов и баня топится с раннего утра.
Угостив приезжих ужином, который состоял из нескольких ломтей ржаного хлеба, из щей, поданных в большой деревянной чашке, и из гречневой каши, помещица принудила сначала Наталью, а потом племянника и Андрея отправиться в баню.
– Помилуйте! – говорила она. – У меня дрова-то не купленные! Да как же это можно после дороги не сходить в баню?
– Велика ли дорога, тетушка! Всего-то проехали не более пятидесяти верст.
– Да уж воля твоя, много ли, мало ли проехали, а все-таки вы дорожные, и в бане вам надо попариться. Ведь с утра топится! Я чай, в ней теперь такой пар, что на корточки присядешь!
Воспользовавшись против воли банею, в которой в самом деле легко было задохнуться от жара, все собрались в верхнюю светлицу.
– Что это, племянник, у вас в Москве понаделалось? – спросила помещица. – Вчера посылала я в село Погорелово моего крестьянина Ваньку Сидорова за харчами. Ему порассказали там такие диковинки, что волосы у меня на голове стали дыбом.
– А что он слышал, тетушка?
– Сказывали ему, что злодеи стрельцы проломали кремлевскую стену, царский дворец и Грановитую палату по камешку разнесли, патриарху бороду опалили, боярина Матвеева втащили на маковку Ивана Великого и оттуда сверзили на пику, всех Нарышкиных живьем изжарили на вениках да на хворосте, подкопались под Ивана Великого, опутали его, батюшку, веревками, свалили наземь, и во всей Москве-матушке не оставили ни кола ни двора, хоть шаром покати!
– Ну нет, тетушка! – отвечал, улыбнувшись, Бурмистров. – Были, правда, в Москве смятения, однако ж тебе уж слишком много насказали. Слухи и толки похожи на снеговой ком: чем далее катится, тем больше становится.
Василий рассказал тетке о бывших в Москве происшествиях.
– Впрочем, – сказал Андрей, – дивиться нечему! И в древние времена бывали мятежи, которые ничем не уступят бунту стрельцов. Например: Катилина[81] составил заговор, и если б не Цицерон[82], которого многие называют (и, кажется, справедливо) Кикерон, то в Риме произошло бы еще более неистовств, нежели в Москве.
– Так, батюшка! – сказала Мавра Савишна, ничего не понявши из сказанного Андреем. – Экая эта проклятая Катерина! Видно, она была колдунья, коли сказать заговор смыслила. В селе Погорелове живет старый старичишка, Антип Ильин. Змея ли кого ужалит, ногу ли кто топором разрубит, – как раз заговорит, так что и кровь не пойдет.
Андрей, с усмешкой, выразившей сожаление и самодовольство, начал подробно объяснять, кто был Катилина и какой заговор он составил. Мавра Савишна слушала его, по-видимому, с величайшим вниманием. Когда он довел рассказ свой до самого занимательного места, а именно до известной речи Цицерона, то остановился для краткого размышления: перевести ли речь эту целиком, или объяснить вкратце ее содержание. Хозяйка в это время вдруг встала, отворила дверь в сени и закричала работнице:
– Акулька! Приготовь поскорее в верхней светлице из соломы две постели, для Натальи Петровны и ее матушки, а для Василья Петровича и Андрея Петровича вели постлать сена в чулане. Дорогим гостям, я чай, уже спать хочется.
– Пора, пора, Мавра Савишна! – сказала старушка Смирнова и перекрестила рот, по обычаю, и доныне наблюдаемому при зевоте всеми благочестивыми людьми.
Андрей нахмурился, а Василий и Наталья не могли удержаться от улыбки. По приглашению хозяйки женщины пошли в верхнюю светлицу, а мужчины в чулан, устроенный подле ее нижней горницы. Последняя совмещала в себе и столовую, и гостиную, и залу, и все прочие нынешнего времени комнаты, кроме передней, которую заменяли стекольчатые сени. Кухня устроена была на дворе, под одною кровлею с сараем, конюшнею, погребом, курятником и банею. При всем том обладательница Ласточкина Гнезда гордилась своим домом, устроенным по ее плану, гораздо более, нежели в древности Семирамида[83] своим дворцом с висячими садами.
Андрей, по миновании срока своему отпуску, возвратился в Москву. Бурмистров заменил его при прогулках, которыми Наталья, страстная любительница сельской природы, не упускала каждый день наслаждаться. Василий не помнил времени счастливее из всей своей жизни. Чем короче узнавал он Наталью, тем более усиливались в нем любовь к ней и уважение. И в невинном сердце девушки давно таившаяся искра любви, зароненная сначала благодарностию к своему защитнику и избавителю, постепенно зажгла огонь такой чистый, такой священный, что Зороастр[84] верно бы предписал в Зендавесте поклоняться этому огню, если б он мог гореть на жертвеннике.
Однажды, в прекрасный день июня, под вечер, Василий и Наталья, прогуливаясь по обыкновению, дошли по тропинке, извивавшейся по берегу озера, до покрытой кустарником, довольно высокой горы. С немалым трудом взобравшись на вершину, сели они отдохнуть на траву, под тень молодого клена, и начали любоваться прелестными окрестностями. Перед ними синелось озеро; на противоположном берегу видно было Ласточкино Гнездо, окруженные плетнями огороды, нивы и покрытые стадами луга. Слева, по обширному полю, которое примыкало к густому лесу, извивалась речка и впадала в озеро; по берегам ее желтели вдали соломенные кровли нескольких деревушек. Справа мрачный бор, начинаясь от самого берега озера, простирался вдаль, постепенно расширялся, занимал почти весь южный горизонт и, как море, синелся в отдалении. Жители Ласточкина Гнезда и окрестных деревень наследовали от предков своих поверье, что в этом бору водятся нечистые духи, ведьмы и лешие. Несмотря на это, поселяне, занимавшиеся охотою, ходили в Чертово Раздолье (так называли они бор) для стреляния дичи и рассказывали иногда, возвратясь домой, такие чудеса, что волосы на голове поднимались от ужаса у слушателей.
Солнце скрылось в густых облаках, покрывавших запад. На юго-восточном, синем небосклоне засиял месяц и, отразясь в озере, рассыпался серебряным дождем на водной поверхности, струимой легким ветром; из-за мрачного, необозримого бора, черневшего на юге, медленно поднималась туча; изредка сверкала молния и раздавались протяжные удары отдаленного грома.
– Посмотри, Василий Петрович, – сказала Наталья, – как бледнеет месяц, когда блещет молния!
– Кто? Я бледнею? Неужели ты думаешь, что я боюсь грозы? – отвечал с улыбкой Бурмистров, выведенный словами Натальи из глубокой задумчивости.
– Не ты, а месяц. Я знаю, что стрелецкий пятисотенный не такой трус, как он.
– Виноват! Я так задумался, что вовсе не расслышал тебя, милая Наталья.
Яркий румянец покрыл щеки девушки. Она потупила глаза и начала дышать так прерывисто, как будто бы чего-нибудь сильно испугалась. Это удивило Бурмистрова; он не заметил, что в рассеянности назвал Наталью милою.
– Что с тобой сделалось, Наталья Петровна?
– Ничего… мне показалось, что за этим деревом… Какая сильная молния!.. Я испугалась молнии.
– Как! Ты мне говорила, что вовсе не боишься грозы.
– Это правда! Я не знаю, отчего я в этот раз так испугалась. Скоро пойдет дождь: не пора ли нам домой, Василий Петрович?
– Мы в полчаса успеем дойти до дому. Туча тянется к западу и, вероятно, пойдет стороной.
– Солнце уж закатилось.
– О! нет еще; его заслонило густое облако.
– Нам надобно будет идти по берегу, мимо этого бора. Хоть я и не верю тому, что рассказывала твоя тетушка, однако ж… я боюсь, чтобы матушка не стала об нас беспокоиться.
– Мы еще так мало гуляли. Отчего сегодня ты так домой торопишься? Матушка знает, что мы всегда долго гуляем и что тебе опасаться нечего, когда брат тебя провожает. Ты помнишь, что она, отпуская тебя в первый раз гулять со мною, назвала меня в шутку своим сыном и сказала: смотри же, береги сестрицу! Скажи, Наталья Петровна, как думает обо мне твоя матушка?
– К чему об этом спрашивать? Ты сам знаешь, что ты для нее сделал.
– И всякий сделал бы то же на моем месте. А ты, Наталья Петровна, как обо мне думаешь?
– Ах, какая молния!.. Право, нам пора домой… мы и не приметим, как набежит туча.
Наталья хотела встать, но Василий взял ее за руку. Сердце бедной девушки забилось, как птичка, попавшая в силок; едва дыша, она не смела поднять глаз, потупленных в землю. Бурмистров чувствовал, как дрожала рука ее. На длинных ресницах блеснула слеза, покатилась по разгоревшейся щеке и упала на пучок васильков, который украшал грудь девушки. Василий, устремив на нее взор, выражавший чувства, на языке человеческом невыразимые, сказал ей:
– Матушка твоя, шутя, назвала меня своим сыном. Но если б она сказала это не в шутку, то я был бы счастливейшим человеком в мире. От тебя зависит, милая Наталья, мое счастие. Скажи: любишь ли ты меня столько же, сколько я тебя люблю? Согласишься ли идти к венцу со мною?.. Реши судьбу мою. Скажи: да или нет?
Наталья молчала. Прерывистое дыхание и прелестные, полуоткрытые уста показывали всю силу ее душевного волнения.
– Не стыдись меня, милая! Скажи мне то словами, что давно уже говорили мне твои прекрасные глаза. Неужели я обманывался?
– Я должна во всем повиноваться матушке, – сказала Наталья трепещущим голосом. – Если она велит мне…
– Нет, милая Наталья, я не сомневаюсь, что матушка твоя согласится на брак наш; но я тогда только вполне буду счастлив, когда уверюсь, что ты волею идешь за меня, что ты меня любишь. Скажи: любишь или нет?.. Но ты молчишь! Итак… нет!.. Прости меня, Наталья Петровна, что я тебя встревожил, – продолжал Василий, опустив ее руку. – Забудем разговор наш. Вижу, что я обманулся в надежде. Завтра же на коня: поеду куда глаза глядят! Без тебя нигде не найти мне счастия. Ты скоро забудешь меня, но я, где бы ни был, буду тебя помнить, буду любить тебя, любить до гробовой доски!
Крупные слезы покатились по пылающим щекам девушки. Закрыв глаза одною рукою, тихонько подала она другую Василью и произнесла едва слышным голосом:
– Люби меня!
В это время яркая молния осветила приближавшуюся грозную тучу, и грянул сильный гром; поднявшийся ветер закачал вершины дерев, в густоте бора раздался ружейный выстрел, но счастливцы ничего не видали и не слыхали: они как будто улетели на небо.
Возвращаясь домой, они старались передать друг другу все надежды и опасения, все радости и печали, которые попеременно наполняли сердца их со времени первого свидания. Казалось, они боялись упустить случай высказать все, что таили так долго в глубине сердца. С некоторым удивлением и с неизъяснимо-сладостным чувством предаваясь взаимной откровенности, которая казалась им за полчаса невозможною, они и не приметили, как дошли до Ласточкина Гнезда. Несмотря на их усталость, оба досадовали, что дорога не продлилась еще на несколько верст для того, чтобы они успели все мысли, все чувства, наполнявшие сердца их блаженством, сообщить друг другу. Им представлялось, что вся природа разделяет их счастие. Шум ветра, потрясавшего ветви дерев, плескание волн, рассыпавшихся седою пеною на берегу озера, и удары грома казались им выражением радости, голосом любви, одушевляющей и неодушевленную даже природу.
В тот же вечер вдова Смирнова благословила образом Спасителя дочь свою и Василья и, обнимая их, со слезами радости назвала двух счастливцев милыми детьми.
С указательного, неясного пальчика Натальи переместилось золотое кольцо на мизинец Василья, а он за этот подарок поблагодарил невесту жемчужным ожерельем, которое досталось ему в наследство от матери. Всякий, кто женится или женился по любви, знает, каким необыкновенно сладостным чувством это небольшое слово «невеста», произносимое в первый раз, наполняет сердце.
Хозяйка, узнав о помолвке своего племянника, показала необыкновенный свой дар красноречия, прочитав без отдыха и скороговоркою длинное поздравление, со всеми употребительными и до сих пор между простым народом в подобных случаях прибаутками и присловицами; потом побежала она в чулан, принесла оттуда фляжку с настойкой и глиняный стакан, принудила старуху Смирнову поздравить жениха и невесту и налила стакан снова.
– Дай вам Господи, – сказала она, – совет да любовь, прожить сто лет да двадцать и завестись таким же домком, какой я себе построила! – Потом, выпив стакан и поставя его на столе, Семирамида затянула веселую свадебную песню; подперла одну руку в бок, а в другую взяв платок, начала им размахивать, притопывая ногами, приподнимая то одно, то другое плечо и кружась на одном месте.
На другой день, когда Василий ушел гулять с невестою, тетка его, призвав всех своих крестьян, приказала перегородить досками нижнюю свою горницу и прорубить посредине дверь, которую она завесила простынею. Из полотна, данного помещицею, жены и дочери крестьян сшили перину и подушки и набили их сеном. К стене велела она прикрепить тонкими дощечками половину разбитого своего зеркала, в которое не без труда можно было узнать себя без привычки, потому что поверхность стекла была не очень гладка. При всем том она имела полное право гордиться и этим зеркалом: в то время не только в избе небогатой помещицы, но и в домах знатных людей зеркала почитались за большую редкость.
– Ну! – сказала она, отпустив крестьян и крестьянок и осматривая приготовленную ею горницу. – Вот и спальня готова! Все мигом скипело! То-то племянник подивуется!
Бурмистров, возвратясь с гулянья, в самом деле удивился неожиданной перестройке дома и от искреннего сердца благодарил тетку за ее усердие. Наталья, услышав, что Мавра Савишна называет новую комнату спальнею Василья, покраснела и убежала в сад Семирамиды, несмотря на убедительные приглашения осмотреть архитектурное ее произведение.
– Взглянь-ка, племянник, – говорила Мавра Савишна, – здесь и зеркало есть!
Бурмистров, взглянув в зеркало, чуть-чуть не захохотал: хотя он был редкой красоты мужчина, но в зеркале увидел какого-то калмыка, очень неблагообразного; неровное зеркало переделало все лицо Василья по-своему.
День, назначенный для свадьбы, по окончании Петрова поста, в начале июля, приближался. Василий, оседлав свою лошадь, поехал в село Погорелово, где, по словам тетки, мог купить все, что только было нужно для его свадьбы. Приехав в село, он прежде всего отыскал священника. Не объявив ему своего имени и сказав, что он желает по некоторым причинам приехать из Москвы в село венчаться с своею невестою, Бурмистров спросил: можно ли будет обвенчать его без лишних свидетелей?
– Да почему твоя милость так таиться хочет? Согласны ли родители на ваш брак?
– У меня родители давно скончались, а у невесты жива одна мать; она приедет вместе с нами. Нельзя ли, батюшка, сделать так, чтоб, кроме нас, никого не было в церкви? Я бы за это тебе очень был благодарен.
– Чтоб никого не было в церкви? Гм! Это сделать будет трудненько. Надобно, по крайней мере, чтоб приехало с вами несколько свидетелей; а то этак, пожалуй, и на родной обвенчаешь. Нарушить мою обязанность я не соглашусь ни за что в свете. Старинный знакомец мой, покойный отец Петр, по прозванию Смирнов, попал было раз в большие хлопоты.
– А! так ты был знаком с ним, батюшка?
– Как же! Я и до сих пор, как случится быть в Москве, навещаю старушку, вдову его. Жива ли она? Уж я ее года с два не видал.
– Жива и здорова. Пожалуй, я ее попрошу приехать со мною. И она тебе скажет, что никакого препятствия к моему браку нет.
– Хорошо, хорошо! Мне очень приятно будет с нею повидаться.
– Нельзя ли будет обвенчать меня попозже вечером или даже ночью?
– Ночью? Гм! А вдова-то Смирнова будет с вами?
– Будет.
– Пожалуй, если уж тебе так хочется. Да что это тебе так вздумалось? Кто венчается ночью? Воля твоя, а уж верно тут что-нибудь да есть.
– После венца я тебе все объясню, батюшка. Ты сам увидишь, что причины моего желания основательны и никак не могут ввести тебя в какие-нибудь хлопоты.
– Ладно! Хорошо! А это что? – продолжал священник, увидев, что Бурмистров положил ему на стол кожаный кошелек. – Нет, нет, воля твоя, я не возьму! После свадьбы, если ты захочешь чем-нибудь поблагодарить меня, я не откажусь: у меня большое семейство. А теперь я не приму ничего!
– Мне бы хотелось, батюшка, чтоб разговор наш остался между нами и…
– Обещаю тебе, что все останется в тайне. Я не сделаю вреда ближнему нескромностию, хотя и не знаю, в чем состоит этот вред. Возьми же, сделай милость, назад свой подарок.
Бурмистров принужден был взять назад кошелек и простился с священником. Выйдя на крыльцо, он чрезвычайно удивился: лошадь его, которая была привязана к перилам, исчезла. Думая, что она сорвалась и убежала, он вышел за ворота.
– Держи! хватай его! – раздался крик. Толпа крестьян окружила Бурмистрова.
Вовсе не ожидав такого внезапного нападения, он не успел обнажить своей сабли; его обезоружили и связали. В одном крестьянине узнал он переодетого десятника стрелецкого Титова полка. Десятник сел с ним вместе в телегу, стоявшую у ворот. Несколько конных стрельцов, переодетых в крестьянское платье, окружили их.
– Вези! – закричал ямщику десятник, и вскоре телега, сопровождаемая стрельцами, выехала из села на большую дорогу. Толпа любопытных поселянок и мальчишек смотрела вслед за ними.
– Куда это, кумушка, его повезли? – спросила одна поселянка у другой.
– Знать, в Москву.
– Да зачем это? Как его веревками-то, бедного, скрутили!
– Видно, он из Нарышкиных али изменник какой. Взглянь, как скачут: пыль столбом!
– Жаль его, горемычного!
– И! что его жалеть, кумушка, поделом вору и мука!
Часть третья
I
С кем был! Куда меня закинула судьба!
ГрибоедовСолнце уже закатилось, когда Бурмистрова привезли в Москву. Телега остановилась в Китай-городе близ Посольского двора, у большого дома, окруженного каменным забором[85]. Ворота отворились, и телега через обширный двор подъехала к крыльцу.
– У себя ли боярин? – спросил десятник вышедшего на крыльцо слугу.
– Дома. У него в гостях Иван Михайлович с крестным сыном.
– Скажи князю, что мы поймали зверя. Спроси: куда его посадить велит?
Слуга побежал в комнаты и, вскоре возвратясь, сказал десятнику, что боярин с гостями ужинает и велел тотчас представить ему пойманного. Четыре стрельца с обнаженными саблями и десятник ввели связанного Бурмистрова в столовую и остановились с ним у дверей.
– Добро пожаловать! – сказал сидевший подле Милославского старик в боярском кафтане. Длинная седая борода, черные глаза, блиставшие из-под нахмуренных бровей, и лоб, покрытый морщинами, придавали лицу старика важность и суровость. Это был князь Иван Андреевич Хованский.
– Где ты поймал этого молодца? – спросил князь десятника.
– В селе Погорелове, верст за сорок от Москвы.
– Вот уж он куда успел лыжи направить! Нет, голубчик, хоть бы ты ушел на дно морское, так я бы тебя и там отыскал! Ну что, Иван Михайлович, – продолжал Хованский, обратись к Милославскому, – умею я сдержать слово? Уж коли я обещаю что-нибудь другу, так непременно исполню!
– Спасибо тебе, князь! – сказал Милославский. – Постараюсь отплатить тебе услугу. Царевна Софья Алексеевна будет тебе очень благодарна.
– Что же с этим молодцом делать прикажешь? – спросил Хованский. – Я его отдаю тебе головою. Вчера я подарил тебе затравленного зайца, а сегодня Бурмистрова. Который зверь лучше?
– Оба хороши.
– Нет, батюшка, – возразил Лысков со злобною усмешкою, – последний зверь лучше. Пословица говорит: блудлив, как кошка, а труслив, как заяц. А Бурмистров похож и на зайца, и на кошку; стало быть, он зверь диковинный, какой-нибудь заморский кот.
Милославский и Хованский засмеялись.
– А знаешь ли, Сидор, другую пословицу: не все коту Масленица, бывает и Великий пост, – сказал Милославский. – И заморскому коту пришлось попоститься.
Бурмистров, слушая все эти насмешки, с трудом мог скрывать кипевшее в сердце негодование. Обнаружить свои чувства значило бы увеличить злобную радость торжествующих врагов; поэтому он решился с видом хладнокровия на все колкости не отвечать ни слова. Думая, что насмешки не достигают цели и не язвят Бурмистрова, Милославский, вдруг приняв на себя важный вид, спросил грозным голосом:
– Как смел ты украсть мою холопку? Отвечай, бездельник!
– Я не украл, а освободил несчастную девушку, закабаленную обманом.
Губы Милославского посинели и задрожали. Ударив кулаком по столу, он вскочил, хотел что-то сказать, но не мог ничего выговорить, задыхаясь от ярости. Даже Лысков испугался и облил себе бороду пивом из поднесенной им в то время ко рту серебряной кружки.
– И, полно, Иван Михайлович, гневаться! – сказал Хованский, встав из-за стола, взяв за руку и усаживая Милославского. – Пусть его полается! Собака лает, ветер носит. Дай срок: авось запоет другим голосом!
– Куда ты скрыл мою холопку? – вскричал Милославский. – Сейчас признавайся! Этим одним можешь спастись от ожидающей тебя казни!
– Никакие мучения и казни, – отвечал спокойно Бурмистров, – не испугают меня и не принудят открыть убежища Натальи.
– Отведите его на тюремный двор! – закричал Милославский. – Скажите, что я велел посадить его на цепь, за решетку! Я развяжу тебе язык!
Когда увели Бурмистрова, Милославский, обратясь к Лыскову, сказал:
– Напиши, Сидор, сегодня же доклад. Завтра утром поеду к царевне, буду просить ее, чтобы велела этому злодею и бунтовщику Бурмистрову отрубить голову!
– Не лучше ли, Иван Михайлович, – сказал Хованский, – отправить его в Соловецкий монастырь и велеть, чтобы отвели ему на всю жизнь келейку? Там под стенами, слыхал я, есть такие подвалы, что и поворотиться негде.
– Нет, Иван Андреевич, оттуда можно убежать. Да и на что долго его мучить? Лучше разом дело кончить.
Простясь с Хованским, Милославский и Лысков, сев в карету, отправились домой.
Через день, поздно вечером, Хованский получил следующую записку: «Боярин Иван Михайлович Милославский, по тайному указу, посылает к начальнику Стрелецкого приказа, боярину князю Ивану Андреевичу Хованскому, тюремного сидельца[86], стрелецкого пятисотенного Ваську Бурмистрова, которого за измену, многие его воровства и похвальбу смертным убийством велено казнить смертию. Так как завтра будет венчание обоих царей, то казнить его в эту же ночь, и не на площади, а где ты сам, князь, придумаешь. Июня 24 дня 7190 года».
В этой записке была вложена другая. В ней было сказано: «Постарайся, любезный друг Иван Андреевич, у Бурмистрова выведать: где скрывается беглая моя холопка? Если он это объявит, то казнить его погоди. Тогда я выпрошу ему помилование от смертной казни, и он будет только выслан из Москвы в какой-нибудь дальний город, на всегдашнее житье. Обе эти записки возврати мне, как в первый раз с тобою увидимся».
– А где тюремный сиделец? – спросил Хованский по прочтении записок, обратясь к присланному с ними гонцу.
– Стоит на дворе, с сторожами.
– Вели его привести сюда да позови ко мне моего дворецкого. Потом поезжай к боярину Ивану Михайловичу и скажи ему от меня, что все будет исполнено по его желанию.
Гонец вышел, и чрез несколько времени ввели скованного Бурмистрова в рабочую горницу князя.
– Идите домой! – сказал Хованский сторожам. – Тюремный сиделец останется здесь.
Оставшись наедине с Бурмистровым, князь спросил его:
– Не был ли родня тебе покойный гость Петр Бурмистров?
– Я сын его, – отвечал Василий.
– Сын? Жаль, что не в батюшку ты пошел! Я был с ним знаком.
Хованский прошел несколько раз взад и вперед по комнате.
– Что приказать изволишь? – спросил вошедший дворецкий, Савельич, который, мимоходом сказать, отличался точностию в исполнении приказаний своего господина, добродушною физиономией, длинным носом и способностию пить запоем две недели сряду, а иногда и более.
– Есть ли у меня в тюрьме порожнее место?
– Есть два, боярин. Одно в чулане, под лестницей, а другое на чердаке, где сидел недавно жилец Елизаров за то, что не снял на улице перед твоей милостью шапки.
– Отведи туда вот этого и ключ принеси ко мне.
– А цепи-то снять прикажешь?
– Нет, не снимай!
Дворецкий повел Бурмистрова к каменному, в два яруса, строению, которое примыкало к забору, окружавшему двор. Проходя по темному чердаку, Василий приметил справа и слева несколько обитых железом дверей, на которых висели большие замки; у одной из них дворецкий остановился, отворил ее и, введя Бурмистрова, запер его. Осмотрев новое свое жилище, Василий при свете месяца, проникавшем сквозь железную решетку узкого окна, увидел у стены деревянную скамью и небольшой стол, на котором стояла глиняная кружка с водою и лежал кусок черствого хлеба. Сквозь покрытое пылью и паутиною стекло окна Василий рассмотрел длинную улицу, которая вела на Красную площадь, а вдали – Кремль и колокольню Ивана Великого. Усталость принудила Бурмистрова лечь на скамью, и он вскоре погрузился в сон. За полчаса до полуночи, когда отдаленный колокол на Фроловской башне пробил третий час ночи, стук замка у дверей разбудил Василья. С фонарем в руке вошел к нему Хованский.
– Прочитай! – сказал князь, подавая ему обе записки Милославского и поставив фонарь на стол.
Бегло прочитав поданные бумаги, Василий возвратил их князю.
– Ну, что ж? – спросил Хованский. – Скажешь ли, где беглая холопка Ивана Михайловича?
– Никогда!
– Подумай хорошенько, – продолжал Хованский, – если ты будешь упорствовать, то прежде, нежели явится утренняя заря, труп твой, с отрубленною головою, будет уже зарыт в лесу, без богослужения, а душа твоя низвергнется в преисподнюю, в огонь вечный, уготованный для грешников.
– За предлагаемую цену не куплю я жизни! – отвечал с твердостью Бурмистров. – Милославский истощил уже надо мною все мучения пытки, но понапрасну. Охотно пожертвую и жизнию для спасения Натальи! Прошу одной только милости: позволить мне по-христиански приготовиться к смерти.
– Сотвори крестное знамение, – сказал Хованский.
Бурмистров, пристально взглянув на князя, перекрестился.
– Ты не можешь умереть по-христиански! – сказал князь, приметив, что Василий крестился тремя, а не двумя сложенными пальцами. – Ты богоотступник! Ты отрекся от древнего благочестия и святой веры отцов. Душа твоя – добыча врага человеков и будет сожжена огнем вечным.
– Я уповаю на милосердие Спасителя! – сказал с жаром Бурмистров. – Вечный огонь любви Его пылал еще до сотворения мира; этот огонь оживотворил вселенную и дал бытие человеку; этот огонь в лучах откровения и благодати блещет с Неба, освещает путь жизни смертного, согревает сердце верующего и надеющегося и в смертный час наполняет дивным спокойствием душу всякого, кто не помрачил ее неверием и преступлениями, кто покаянием очистил ее пред смертию. Это спокойствие должно удостоверять нас, что вечный огонь любви и за могилою не угаснет и наполнит сердце блаженством, которого оно на земле напрасно ищет!
– Я вижу, что ты заблудшая овца, которую еще можно исхитить из стада козлищ. В Писании сказано, что обративший грешника на путь правды спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Знай, что я держусь древнего благочестия. Твой покойный отец был ревностный его поборник. Я докажу тебе истину веры моей не словами, а делом. Отлагаю твою казнь. Если успею обратить тебя на путь истинный, то спасу тебя не только от смерти временной, но и от смерти второй и вечной. Милославскому скажу завтра, что ты уже казнен, а тебе принесу драгоценную книгу, которая откроет тебе заблуждение твое и наставит тебя на путь правый. Буду часто с тобой беседовать и вступать в словопрения, чтобы духовные очи твои прозрели истину. Прощай!
Сказав это, Хованский вышел. Чрез несколько времени дворецкий князя принес подушку, толстую книгу в старом переплете, жареную курицу и кружку с смородинным медом. Сняв цепи с Бурмистрова, дворецкий поставил принесенный им ужин на стол, подушку положил на скамью, а книгу подал Бурмистрову.
– Боярин велел сказать, что жалует тебя подушкою для сна, пищею и питьем для подкрепления тела и книгою для исцеления души. Кажись, так! Ведь он у нас мудрен: любит говорить свысока; иной раз и не поймешь его.
– Благодари князя! – сказал Бурмистров дворецкому.
– Ладно, поблагодарю, – отвечал дворецкий, зевая. – Нашему боярину и ночью не спится, и ночью дворецкого туда да сюда помыкает. Куда мудрен он у нас! Затем мое почтение. Пойти уснуть до рассвета.
Дворецкий вышел и запер дверь. Василий принялся прежде всего за ужин; он три дня ничего не ел; потом, разогнув принесенную книгу[87], на открывшейся странице увидел он написанное красными чернилами и крупными буквами заглавие: «Страдание священнопротопопа Аввакума многотерпеливого»; перевернув несколько страниц, прочитал он другое заглавие: «Страдание за древнее благочестие Василия иже бысть Крестецкаго яму»; потом третье: «Инока Авраамия, выписано о времени сем елико от отец, навыкох, реку тебе, рассуди писания, да познаеши время совершенно». По старинному почерку, которым книга была писана, Бурмистров догадался, что она старообрядческая, хотел взглянуть на общее ее заглавие, но в ней его не было. Не чувствуя охоты читать, он лег на скамью и вскоре заснул глубоким сном.
Проснувшись рано утром, Бурмистров услышал раздававшийся по всей Москве звон колоколов. Он подошел к окну и увидел, что вся улица, которая вела к Кремлю, наполнена была народом. В полдень раздался звук барабанов, и появились в улице, со стороны Кремля, знамена приближавшихся стрельцов. Когда полки их проходили мимо дома Хованского, Василий рассмотрел, что впереди полков шли полковники Циклер, Петров и Одинцов и подполковник Чермной. Первый нес на голове бумажный свиток. Это была похвальная грамота, данная стрельцам царевною Софиею за усердие их к престолу и за истребление изменников[88]. Бурмистров невольно вздохнул и подумал: «Злодеи, вероломно нарушившие присягу и пролившие столько крови невинных, торжествуют, а я в тюрьме ожидаю смерти!» Он отошел от окна, сел на скамью и погрузился в горестные размышления, которые прервал дворецкий, принеся ему обед и ужин.
– Боярин, – сказал он, – не велел мне с тобой говорить ни полслова; если ты меня о чем-нибудь спросишь, я отвечать не стану.
– Мне не о чем с тобой говорить!
– Ну как не о чем! – возразил дворецкий. – Впрочем, если сам разговаривать не хочешь, так мое почтение!
Дворецкий вышел.
На другой день Василий от невыносимой скуки принялся за чтение присланной Хованским книги. Наконец, на третий день, в сумерки, вошел к нему князь и, увидев, что он читает книгу, потрепал его по плечу.
– Читай, читай, духовный сын мой! – сказал он. – Я уверен, что эта книга откроет мысленные очи твои и спасет душу твою от погибели. Третьяго дня, увидясь со мной в Грановитой палате, Милославский спросил о тебе. Я сказал ему, что ты уже казнен. Не объявил ли ты моему дворецкому своего имени?
– Нет, князь.
– Хорошо. Если он вздумает когда-нибудь спросить, как тебя зовут, не отвечай ему ничего или назовись каким-нибудь выдуманным именем. Если ты проговоришься, то принудишь меня в тот же день казнить тебя, не ожидая твоего обращения на путь правды. Будь осторожен. Ты видишь, что я для спасения души твоей подвергаю себя опасности поссориться с Иваном Михайловичем и навлечь на себя гнев царевны Софьи Алексеевны. Впрочем, дело уже сделано! Я ничего не боюсь и очень буду рад, если успею обратить тебя к истинной вере и древнему благочестию. В этом я не сомневаюсь. Тогда я отправлю тебя куда-нибудь подальше от Москвы под чужим именем для обращения других заблудших на путь истинный и для проповедания древнего благочестия. Что ты на это скажешь?
– Во всю жизнь мою старался я следовать совести: что внушит мне она, то я и сделаю.
– Худой тот человек, кто поступает против совести. Я надеюсь, что успею убедить твою совесть и что ты упрямиться не станешь. Впрочем, поговорим об этом в другое время. Будь откровенен со мною, как сын с отцом. Ты зла мне не сделал. Родитель твой был мне приятель; я от искреннего сердца желаю добра тебе.
Василий поблагодарил князя. Сев на скамью и приказав Бурмистрову сесть подле себя, Хованский продолжал ласковым голосом:
– Сегодня за обедом в Грановитой палате Милославский опять заговорил со мною о тебе и спросил: где казнили тебя и где похоронили? Я отвечал ему, что тебе отрубили при мне голову и похоронили в лесу, что подле Немецкой слободы. Стыдно было лгать; но греха нет во лжи, если лжешь для того, чтобы спасти душу ближнего. Что у тебя в кружке?
– Вода, князь.
– Вода? Это бездельник дворецкий умничает! Я велел подавать тебе меду.
– Вчера и во все эти дни он приносил мед; только сегодня подал воды.
– Я его проучу за это! Подай-ка мне кружку-то. Голова что-то кружится. Сегодня за обедом нас славно употчевали! Цари в своем столовом платье сидели за особым столом с патриархом; за другой стол по левую руку сели митрополиты, архиепископы, епископы и все священнослужители, бывшие при венчании царей, а по правую руку за кривым столом посажены были мы, бояре, окольничие и думные дворяне. Царевна Софья Алексеевна велела всем быть без мест, а меня посадили на третье. На первом месте сидел ближний боярин царственной печати и государственных великих посольских дел оберегатель князь Василий Васильевич Голицын[89]; подле него Иван Михайлович, а потом я с сыном. Пред венчанием царей третьяго дня пожаловали сына из стольников прямо в бояре.
– Третьяго дня было венчание?[90]
– Да. Разве ты не слыхал во весь день по всей Москве колокольного звона? Рано утром мы, бояре, собрались у государей в Грановитой палате с окольничими и думными дворянами. В сенях пред Палатою были стольники, стряпчие, дворяне, дьяки и гости, все в золотом платье. Государи велели князю Голицыну принести с казенного двора животворящий крест и святые бармы Мономаха[91]. Для царя Петра Алексеевича сделаны были точно такие же бармы и крест, другой царский венец, другой скипетр и другая держава. Все эти царские утвари бояре отнесли на золотых блюдах под пеленами, унизанными самоцветными каменьями, в Успенский собор и передали патриарху. Там устроено было против алтаря, близ задних столпов, высокое чертожное место, покрытое красным сукном, с двенадцатью ступенями. На этом месте стояли для царей два кресла, обитые бархатом и украшенные драгоценными каменьями, а по левую сторону от них кресла для патриарха. От ступеней до царских врат постлан был желтый бархат для шествия царей, а для патриарха лазоревый. С правой и с левой стороны от чертожного места до царских врат стояли, покрытые золотыми персидскими коврами, две скамьи, на которых сидели митрополиты, архиепископы и епископы. Принесенные утвари патриарх положил на поставленных на амвоне[92] шести налоях, унизанных жемчугом, и после молебна послал князя Голицына с боярами звать царей во храм. Государи с Красного крыльца пошли к собору. Пред ними шли окольничие, думные дьяки, стольники, стряпчие и дворяне. Протопоп, с крестом в руке, кропил пред государями путь святою водою. За ними следовали бояре, думные дворяне, дети боярские и всяких чинов люди, а по сторонам шли поодаль солдатские и стрелецкие полковники. По правую и по левую руку, от Красного крыльца до самого собора, стояли ряды стрельцов. По прибытии во храм царей начали им петь многолетие. Они приложились к иконам, Спасовой ризе и мощам, и патриарх благословил их. Потом государи и патриарх сели на места свои. Глубокая тишина воцарилась в храме. Государи, встав вместе с патриархом, сказали ему, что они желают быть венчаны на царство по примеру предков их и по преданию святой восточной церкви. Патриарх спросил: как веруете и исповедуете Отца и Сына и Святаго Духа? Государи сказали в ответ Символ веры[93]. После того патриарх начал речь. Вся кровь кипела во мне, когда я слушал исполненные лести и коварства слова этого хищного волка!
– Как, князь, ты называешь святейшего патриарха?
– Хищным волком. Когда я обращу тебя на истинный путь, и ты так же станешь называть его.
Глаза Хованского заблистали. Сложив двуперстное знамение, он поднял руку и сказал с жаром:
– Клянусь, что я изгоню этого волка из стада. Благословение его недействительно: цари в другой раз должны будут венчаться и получить истинное благословение от рук чистых и праведных. В соборе я с трудом скрывал мое негодование; я готов был пред алтарем заколоть этого лжеучителя и ученика антихристова!
Хованский начал ходить взад и вперед по комнате большими шагами. Наконец, успокоившись, спросил Бурмистрова, рассказывать ли ему конец венчания, и, по просьбе его о том, продолжал:
– После речи хищного волка царей облекли в царские одежды. С налоев, стоявших на амвоне, принесли два животворящие креста патриарху: он благословил ими государей. Потом подали ему на золотых блюдах бармы и царские венцы: он возложил их на царей, вручил им скипетры и державы и посадил их на царском месте. Запели им многолетие. Патриарх, митрополиты, архиепископы, епископы и весь собор лжеучителей встали с мест своих, поклонились и поздравили государей. Затем бояре и все, бывшие в церкви, их поздравляли, а хищный волк сказал им поучение. С того поучения есть у меня список. Я прочту его тебе; слушай: «Имейте страх Божий в сердцах и сохраните веру нашу истинную чисту, непоколебиму; любите правду и милость и суд правый; будьте ко всем приступны и милостивы и приветны. От Бога дана вам бысть держава и сила от Вышнего, вас бо Господь Бог в себе место избра на земли, и на престол посади; милость и живот положи у нас. Едина добродетель от стяжания бессмертная суть. Языка льстива и слуха суетна не приемлите цари, ниже оболгателя слушайте, ни злым человеком веры емлите, но рассуждайте все по Бозе в правду. Подобает мудрым последовати, на них же воистину, яко на престоле, Бог почивает. Не тако красная мира вся, яко же добродетель красит царей. Шмате и сами Царя, иже есть на небесех. Аще бо Он всеми печется, сице[94] потребно есть и вам, царем, ничто ж презирати, и аще хощете милостива к себе имети Небесного Царя, милостивы будите и вы ко всем, да и зде добре и благо поживете и да наследники будете небесного царствия. И тогда приимите неувядаемые славы венцы, и против своих царских подвигов и трудов приимите от Бога мзду сторицею». Потом началась литургия[95], в продолжение которой цари стояли на древнем царском месте, находящемся в правой стороне собора. От этого места к царским вратам постлали алый, бархатный ковер, шитый золотом. Цари приблизились к вратам. Наследник антихриста вышел из алтаря. Митрополит принес на золотом блюде, в хрустальном драгом сосуде святое миро. Цари, приложась к Спасову образу, написанному греческим царем Эммануилом, к иконе Владимирской Божией Матери, написанной святым Евангелистом Лукою, и к иконе Успения Богородицы, остановились пред царскими вратами, сняли венцы и отдали их боярам, со скипетрами и державами. Помазав царей миром, патриарх велел двум ризничим[96] и двум диаконам ввести их в алтарь чрез царские врата и подал им с дискоса[97] часть животворящего тела и потир[98] с кровию Христовой: государи, причастившись, вышли из алтаря. Потом патриарх подал им часть антидора[99]; цари надели венцы, взяли скипетры и стали на своем месте. По окончании литургии все поздравляли царей с помазанием миром и с причащением Святых Тайн, а они пригласили на сегодняшний день патриарха и весь собор лжеучителей, также бояр, окольничих и думных дворян, к своему царскому столу. Когда цари в венцах и бармах вышли из собора, сибирские царевичи[100] Григорий и Василий Алексеевичи осыпали их золотыми монетами. Народ, в бесчисленном множестве собравшийся на площади, приветствовал государей продолжительными радостными восклицаниями. Государи по постланному красному сукну пошли к церкви Архангела Михаила, целовали там святые иконы, мощи святого царевича Димитрия, гробницы деда, их государей, родителя и брата, и прочие царские гробницы. Когда они вышли из церкви на паперть, сибирские царевичи снова осыпали их золотом. Потом, приложась к иконам в церкви Благовещения Пречистыя Богородицы, они были еще осыпаны золотом трижды, по выходе из храма теми же царевичами. Оттуда возвратились они чрез Постельное крыльцо в свои царские палаты. Нечего сказать, празднество было славное! Хлопот было много, да жаль, что все понапрасну: царям надобно будет непременно перевенчаться. А это венчанье не в венчанье! Никон[101] был антихрист, а Иоаким его наследник. Я читал тебе поучение этого богоотступника. Слова его исполнены лести и коварства! Так ли говорят и пишут истинные сыны Церкви, которые держатся древнего благочестия? Прочитал ли ты книгу, которую я тебе прислал?
– Еще не всю.
– Дай-ка мне сюда книгу. Разверни любую страницу: сейчас видно, что писали люди не антихристу Никону и не наследнику его, Иоакиму, чета! Прочтем, например, хоть это; слушай: «Священный отец, священнопротопоп Логин Муромский, великий во страдании, во оно же время Никонова новозаконения, такоже исполнися великия ревности по благочестии, учаше убо[102] всюду народы, еже стояти в древнем благочестии твердо и непоколебимо, нового же Никонова нововнесения никакоже приимаше. Сего ради Никон, услышав ревность того, послав воины по блаженного отца, повеле того бесчестно взяти, и тому приведенну во время литургии в соборную церковь, Никону ту сушу, и царю на своем царском месте; тогда священный Логин к вопросам Никоновым с ревностию отвешаваше. Сими изрядными и ревности исполненными глаголы предивного Логина Никон уязвися, обуснев[103] яростию, и весь изменися, ни святого устыдевся, остриже его и не токмо се, но и одежду с него сняти повеле, не токмо едину, но и вторую, и во единой срачице[104] остави его. Благоревностный же Логин начат Никона обличати, порицая того деяния и начинания, ими же смущаше колебая колико российские народы, и распоясався, снем с себе срачицу, верже чрез праг олтарный, Никону глаголя: отъял ecu одежды моя верхния, ругая мя, се и срачицу отдаю ти; не боюся бесчестия, наг изыдох из чрева матере моея, наг и в землю возвращуся. Оттоле наипаче Никон возгоревся гневом, повеле страдальца Логина в железа тяжкая вложити и тако скована ругательно влачити, и метлами бити даже до Богоявленского монастыря; тако того влекоша биюще и ругающеся во ужасный позор всем зрящим, и привлекше священного мужа несвященнии во оной монастырь, еже за торгом, во едину нага затвориша, ни единого человеколюбия показаша, но и воины Никон пристави, еже твердо и неослабно стрещи его, дабы от человек или знаемых никто же посетил его. И понеже страдалец от всех оставлен и презрен бысть, и знаемых страха ради Никона мучителя, и наг в затворении благодарно терпяше; что же творит всесильный и всемогий Бог? Благодатию своею того согревает, во оную нощь невидимо страдальцу посылает одежду теплую и шапку на главу его, да от священного Давида священное исполнится слово: сохранит Господь вся любящия Его. Оно внезапное удивление возвестиша Никону стрегущии. Никон же никако умилися, но разгневася рече: знаю аз оны пустосвяты, и повеле шапку с него сняти, а одежду тому оставити…» Такие ли чудеса найдешь ты в этой драгоценной книге! Священноиерею Лазарю за проповедание древнего благочестия отрезали язык и отрубили руку. У него вырос другой язык, и он начал проповедовать собравшемуся на площади народу древнее благочестие. Ему и этот язык нечестивцы отрубили; но что ж? Лазарь и без языка начал говорить и обличать Никоново новопредание, а отрубленная рука сложила двуперстное знамение, благословила народ и приросла к плечу. Через два года вырос у него и язык, велик и доброглаголив, в котором он, впрочем, не имел большой нужды, потому что и без языка явственно говорил. И это чудо не с одним Лазарем было, а случилось еще с диаконом Федором[105], со старцем Епифанием[106], всекрасною розою благодатного сада, да с дьяконом Стефаном, по прозванию Черным. Все они сосланы были в острог Пустоозерский, близ Ледовитого моря-окияна и полуношных стран лежащий, и там скончались. Что ты на это скажешь? Нельзя без сердечного умиления читать этого сокровища!
Хованский с благоговением поцеловал книгу, перевернул несколько листов и сказал:
– Где, ни открой, везде найдешь премудрые и душеспасительные поучения. Послушай вот это, например: «Многострадальный Иоанн от Великих Лук, от чина купеческого, великую ревность о древнем благочестии показа и множество народа научи православной вере и утверди. В Иове же граде научи некоего купца велъми славна и богата. Сего ради пройде слава и к самому епарху в царствующий град и самодержавному монарху. Оклеветан же бысть от некоего болярина ко царю, яко держится древнего благочестия и отвращает народы, еже к церкви Божией не приходити и нового учения не слушати. Посылает царь гонцы по Иоанна и ят бывает и к судии градскому представиша его. Судия же невероваше, зане[107] возрастом бе Иоанн мал и худозрачен, и возопив гласом велиим: о каковая последняя худость, яко же человеком звати недостойна, таковое и толь великое трясение и ужас людям от твари, и толикия народы прельсти. Отвещав же Иоанн к судии, глаголя: высокоблагородный воевода, не дивися моему малому возрасту и худости, но паче прослави всесильного Бога; ибо и в вашем судищном состоянии таковое нечто показуется мало возрастом и худозрачно. Да веси[108], о воевода! Ты убо аще и главнейший показуешься судия, и всего градского исправления главнейший епарх, но возрастом мал бе, и видением худовиден, еще же единым оком вреден. Удивившеся воевода дивному его ответу, преложися на кротость и повеле убо блаженного вести во узилище[109], дондеже[110] от царствующего града весть приимет». Однако я устал уже читать, да и спать хочется; дочитай сам это житие многострадального Иоанна. До свидания!
Хованский вышел, а Бурмистров начал размышлять о странном положении, в которое судьба его поставила.
II
Я злобу твердостью сотру.
ДержавинНастало третье июля, день, назначенный для свадьбы Василья. В мрачной задумчивости сидел он, облокотясь на стол и устремив взор, выражавший безнадежную горесть, на кольцо, которое Наталья ему подарила. Стук замка у дверей прервал его мучительные размышления. Вошел Хованский.
– Сын мой! – сказал он. – Тебя желает видеть учитель и глава наш, священноиерей Никита[111]. Я говорил ему о тебе, и он, начав пророчествовать, сказал, что ты скоро обратишься от дел тьмы на путь правды и будешь ревностным поборником древнего благочестия. Иди за мною!
Удивленный Бурмистров последовал за Хованским. Они дошли до другого конца чердака и спустились по узкой и крутой лестнице в слабо освещенный одним окном подвал, в котором стояло множество бочек. С трудом пробравшись между бочками, приблизились они к деревянной стене. Хованский три раза топнул ногою, и посередине стены отворилась потаенная дверь. Князь ввел Бурмистрова в довольно обширную комнату. Окон в ней не было. Горевшая в углу перед образами лампада освещала каменный свод, налой, поставленный у восточной стены горницы, и устроенные около прочих стен деревянные скамьи. Человек среднего роста, с бледным лицом и с длинною бородою, благословил вошедших и, обратясь к образам, начал молиться в землю. Бурмистров рассмотрел на нем священническую рясу. Это был Никита. После нескольких земных поклонов он взял за руку Бурмистрова, подвел его к лампаде и, устремив на него быстрый взгляд, спросил:
– Как зовут тебя, заблудшая овца, ищущая спасения?
Бурмистров, не зная, сказал ли Хованский Никите его настоящее имя, посмотрел в недоумении на князя.
– Я говорил уже тебе, отец Никита, – подхватил Хованский, – что его имя должно остаться в тайне до тех пор, пока я не успею обратить его.
– В тайне? У кого отверзты духовные очи, для того не может быть ничего тайного. Его зовут Василий Бурмистров! Не хорошо, чадо Иоанн! Зачем хотел ты передо мною лукавить? Вижу, что ты еще ослеплен земными помыслами! Как мог ты думать, что возможно скрыть что-нибудь пред мысленными очами? Выйди вон и слезами покаяния омой твое прегрешение.
Хованский смутился, хотел что-то сказать в оправдание; но Никита закричал грозным голосом:
– Горе непокоряющемуся грешнику!
Князь, закрыв лицо руками, вышел, и Никита запер за ним дверь.
– Если я не ошибаюсь, – сказал Бурмистров, – я видел тебя однажды в доме покойного сотника Семена Алексеева.
– Я вовсе не знал Алексеева и никогда в его доме не бывал. Но оставим это. Прочитал ли ты книгу, которую тебе князь доставил?
– Прочитал.
– Прояснились ли твои очи, ослепленные силою вражиею; сверг ли ты с себя иго антихристово и обратился ли к свету древнего благочестия?
– Я еще более убедился в истине моего верования и от искреннего сердца пожалел, что между православными христианами вкрались расколы.
– Мы одни можем назваться православными христианами, и не тебе, оскверненному печатию антихриста, судить нас. В нас обитает свет истинной веры, а вы во тьме бродите и служите врагу человеческого рода.
– Истинная вера познается из дел. Исполняете ли вы две главные заповеди: любить Бога и ближнего? Мы ближние ваши, а вы ненавидите нас, как врагов; мы ищем соединения с вами, а вы от нас отдаляетесь и производите там раздор, где должны быть одна любовь и братское согласие.
– Ты говоришь по наущению бесовскому и не можешь говорить иначе, потому что служишь еще князю тьмы. Но я знаю, что ты скоро войдешь в благодатный сад древнего благочестия.
– Почему ты так думаешь?
– Я знаю прошедшее, разумею настоящее и прозираю в будущее. Слушай, сын нечестия: ты стоишь на распутии; две дороги пред тобой: одна ведет в лес, где лежит секира и ползают гробовые черви; другая – в вертоград[112], где есть работа. Ты пойдешь по последней.
– Из слов твоих я вижу, что князь открыл тебе мое положение. Будь уверен, что я не отделюсь от церкви православной и не изменю данной ей клятве, хотя бы мне стоило это жизни.
Никита, нахмурив брови, подошел к налою, взял с него крест и подошел к Бурмистрову.
– Скоро прейдет тьма и воссияет свет; хищный волк изгонится из стада! Сын нечестия! клянись быть с нами, целуй крест: он спасет тебя от секиры, и ты в вертограде найдешь убежище!
Бурмистров поцеловал крест и сказал:
– Повторяю клятву жить и умереть сыном церкви православной!
– Горе, горе тебе! – закричал ужасным голосом Никита, отскочив от Бурмистрова. – Да воскреснет Бог и расточатся враги Его! Сокройся с глаз моих, беги к секире; черви ожидают тебя!
Положив крест на налой, изувер подошел к двери и, отворив ее, позвал Хованского.
Князь вошел с смиренным видом.
– Нехорошо, чадо Иоанн! – возгласил Никита. – Ты хвалился, что приблизил этого нечестивца к вертограду древнего благочестия, и подал мне надежду, что в нем обретем мы делателя; но он не хочет исторгнуться из сетей диавольских.
– Ты сам пророчествовал, отец Никита, что он будет нашим пособником, исцелит от слепоты весь Сухаревский полк, поможет нам изгнать хищного волка со всем собором лжеучителей и воздвигнуть столп древнего благочестия.
– Да, я пророчествовал, и сказанное мною сбудется.
– Никогда! – возразил Бурмистров.
– Сомкни уста твои, нечестивец! Чадо Иоанн! вели точить секиру: секира обратит грешника.
– Не думаешь ли ты устрашить меня смертью? – сказал Бурмистров. – Князь! вели сегодня же казнить меня; пусть смерть моя обличит этого лжепророка! Поклянись мне пред этим крестом, что ты тогда отвергнешь советы этого возмутителя и врага православной церкви, познаешь свое заблуждение, оставишь свои замыслы и удержишь стрельцов от новых неистовств, поклянись, – и тотчас же веди меня на казнь.
– Умолкни, сын Сатаны! – закричал в бешенстве Никита. – Не совращай с пути спасения избранных! Ты не умрешь, и предреченное мною сбудется.
– Ради бога, князь, не медли, произнеси клятву, и я с радостию умру для защиты православной церкви от врагов ее и для спасения святой родины от новых бедствий.
– Не будет тебе смерти, змей-прельститель! Чадо Иоанн, внимай и разумей: пророчество мое сбудется!.. Я слышу глас с неба!.. Завтра ополчатся все воины и народ за древнее благочестие; завтра Красная площадь подвигнется, яко море! Завтра спадет слепота с очей учеников антихриста и процветет древнее благочестие, аки кедр ливанский, и низвергнется в преисподнюю хищный волк и весь собор лжеучителей. Возрадуйся, чадо Иоанн, яко слава твоего подвига распространится от моря до моря и от рек до конца вселенныя! Завтра на востоке взойдет солнце истины, и ты принесешь чрез три дня кровную жертву благодарения; не тельца упитанного, а коснеющего грешника, противляющегося твоему благому подвигу; и грешник, добыча адова, поможет тако воздвигнуть столп веры старой и истинной, – да сбудется пророчество! И секира не коснется до того дня главы змея-прельстителя! Шествуй, чадо Иоанн, на подвиг! Сгинь, змей-прельститель!
Сказав это с величайшим напряжением, Никита упал и начал валяться по полу с страшными телодвижениями.
Хованский, крестясь, вышел с Бурмистровым и повел его в тюрьму. Взяв от него книгу, которою думал его обратить, князь сказал гневно, запирая дверь:
– Завтра восторжествует древнее благочестие, и ты чрез три дня принесен будешь в благодарственную жертву. Готовься к смерти!
Никита по уходе Хованского встал с пола и пошел на чердак в намерении спуститься оттуда по другой лестнице на двор, потому что выход из подвала заложен был кирпичами. На чердаке встретился с ним Хованский.
– Куда ты, отец Никита?
– Иду на подвиг, за Яузу, в слободу Титова полка. Оттуда пойду к православным воинам во все другие полки и велю, чтобы завтра утром все приходили на Красную площадь… Ты мне давеча говорил, что ты был сегодня у хищного волка в Крестовой палате. Что он сказал тебе?
– Я, по твоему приказу, говорил, что государи велели ему выйти на лобное место или пред Успенским собором на площадь, для словопрения о вере; но он, как видно, по наущению лукавого, уразумел, что мы хотим его камением побить, и отвечал, что без государей на словопрение не пойдет.
– Не пойдет, так вытащим! Князь тьмы не исхитит его из рук наших. Поспешу за Яузу. Прощай!
– Отпусти мне, окаянному, сегодняшние прегрешения мои пред тобою!
С этими словами князь, сложив на грудь крестообразно руки, закрыл глаза и смиренно наклонился пред Никитою.
– Отпускаю и разрешаю! – сказал Никита, благословив князя.
Хованский поцеловал у него руку и, пожелав ему успеха в подвиге, проводил его до ворот.
– А мне приходить завтра на площадь? – спросил Хованский.
– Нет! С солнечного восхода начни молиться, да победим врагов наших, и пребудь в молитве и посте до тех пор, пока я не возвещу тебе победы.
Сказав это, Никита надвинул на лицо шапку и вышел за ворота, а князь возвратился в свои комнаты.
III
На площадь всяк идет для дела и без дела;
Нахлынули; вся площадь закипела.
Народ толпился и жужжал
Перед ораторским амвоном.
Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал,
И ритор возвестил высокопарным тоном…
БатюшковНа другой день, еще до солнечного восхода, Никита с ревностнейшими сообщниками своими явился на Красной площади. Посредине ее поставили сороковую бочку[113], покрыли коврами и сбоку приделали небольшую лестницу с перилами. Дневные дела наших предков начинались не так поздно, как в нынешнее время: с восходом солнца народ уже появлялся на улицах. Вскоре около воздвигнутой кафедры собралась толпа любопытных. Отряды стрельцов, шедших без всякого порядка, начали один за другим появляться, и вскоре вся площадь покрылась народом.
Никита взошел на кафедру, поднял руки к небу и долго стоял в этом положении.
Глухой говор народа раздавался, как шум отдаленного моря. Все смотрели с любопытством и страхом на необыкновенное явление.
– Здравствуй, Андрей Петрович! – сказал шепотом Лаптев, увидев брата Натальи, который близ него стоял с своими академическими товарищами.
– А, и ты здесь, Андрей Матвеевич!
– Шел было к заутрене, да остановился. Видишь, какое здесь чудо!
– А меня с товарищами послал из монастыря отец-блюститель: посмотреть, что здесь делается, и ему донести. Сам-то, видишь, страшится сюда идти: ему монастырский служка насказал невесть что. Справедливо сказано, что fama crescit eundo.
– Что, что такое? Фома кряхтит в будни? Ну, что ж, Андрей Петрович! Это еще не беда, иной, горемычный, кряхтит и в праздники. Да что это за Фома?
– Не то, Андрей Матвеевич! Fama crescit eundo значит по-русски: молва растет, шествуя.
– Вот что! разумею!.. Да скажи, пожалуйста, кукла там аль живой человек стоит?
– Какая кукла! Это бывший суздальский поп Никита. Он затеял раскол, потом образумился, а нынче, видно, опять принялся за старое. Его многие называют: Пустосвят. Езоп…
Андрей, забывши басню, которую хотел рассказать, остановился.
– Пустосвят-Езоп? Первое слово я понимаю, – сказал Лаптев, – а второе-то что значит, еретик, что ли?
– Не то, Андрей Матвеевич! Езоп был греческий баснописец.
– Греческий иконописец? Разумею! Смотри-ка, смотри, Андрей Петрович, Никита креститься начал, видно, проповедь сказать хочет. Подойдем поближе, продеремся как-нибудь. Этакая давка, словно за заутреней в Светлое воскресенье!
На площади водворилось глубокое молчание. Никита, поклонясь на все четыре стороны, начал говорить следующее:
– Священнопротопоп Аввакум многотерпеливый, великий учитель наш, ограда древнего благочестия и обличитель Никонова новозаконения, не ял в Великий пост четыредесять дней и видел чудное видение: руки его, ноги, зубы и весь он распространился по всему небеси, и вместил Бог в него небо, и землю, и всю тварь. И, познав тако все сущее, исполнися разум его премудрости. И написа Аввакум дивную книгу и нарече ю Евангелие Вечное; не им, но перстом Божиим писано. Немнозии избрании из сея книжицы познаша истинный путь спасения, его же хощу возвестити вам, народи православнии. Несть ныне истинный церкве на земли, ни в Руси, ни в Треках. Токмо мы еще держим православную христианскую веру и крестимся двема персты, изобразующе в том божество и человечество Сына Божия. А тремя персты кто крестится, той со антихристом в вечной муце будет, то бо есть печать антихристова. Кто же убо и где есть сей антихрист? Мнозии от неведения писания глаголют быти ему во Иерусалиме. Ты же уверися, глаголет пророк, яко от севера лукавство изыдет. Афанасий Великий[114] возвестил Антиоху[115], еже быти антихристу в Скифополии; Скифополь же северна страна, то наша Русская земля. Святый Иоанн Златоуст[116] сказует в Риме ему быти. И сие согласно еже зде быти ему, зане святый Селиверст папа римский[117], егда послан бысть от Бога к Филофею[118], патриарху Царя-града, на нашу Русскую землю благочестия ради, исповедал светлую Россию третиим Римом, а Греческое царство вторый Рим именуется в писаниях. Святый Кирилл[119] глаголет о антихристе, яко ни от царей, ни от рода царска будет; преподобный же Петр Дамаскин[120] сказует о нем же, яко чернец иматъ восстати в северной стране, и всех еретиков ереси подымет. И се согласно зело нынешнему времени. Кирилл святый пишет, яко антихрист церковь древнюю Соломонову[121] с иным богомолием, прелести ради, покусится создати, совершенно же совершити не возможет. И писано о нем, яко льстец во всем хощет быти равен Христу. Кто же построил Иерусалим в северной стране, и реку Истру Иорданом переименовал, и церковь такову, какова во Иерусалиме, построил[122], и около своего льстивого Иерусалима селам и деревням имена новыя надавал: Назарет, Вифлеем и прочая? У кого есть новая Галилейская пустыня? Кто и горам имена новыя дал, и едину из оных Голгофою наименовал? Кто чернецов молодых, постригая, именовал херувимами и серафимами? Имеяй ум да разумеет прелесть Никона антихриста и сосуда сатанинского. Аще не явственен еще льстец, то скажу свидетельство о нем, да на том поставите ум свой, яко на камени крепком. Число зверино[123] явственно исполнися в тот год, егда пагубник Никон свои еретические служебники выдал, а святые прежние служебники, по которым отцы наши угодили Богу, повелел вон из церкви изнести. Блюдитеся, православнии! посещати конские стоялища, еже церквами называют сыны антихристовы. Блюдитеся слушати те льстивые служебники, да не погубите душ ваших. Грядите в Кремль! Воздвигните брань за веру истинную, за древнее благочестие, да изгоним из стада хищного волка, наследника антихристова, с сонмом лжеучителей, и да восставим церковь Божию!
– Восставим церковь Божию! – закричали тысячи голосов. – Врет Пустосвят Никита, хочет нас морочить! Бес в нем сидит! – кричали другие. Вся площадь взволновалась. Никита сошел с кафедры, вынул из-под рясы крест и, подняв его вверх, пошел к Спасским воротам. Более семи тысяч стрельцов и бесчисленное множество людей разного звания, как поток лавы, устремились за Никитою.
Лаптев, видя опасность, угрожающую церкви православной, заплакал. Множество народа, не увлеченного проповедью изувера, осталось на площади. Иной плакал, подобно Лаптеву, другой проклинал Пустосвята.
– О чем плачешь, Андрей Матвеевич? – спросил Борисов, приблизясь к Лаптеву.
– Как не плакать, Иван Борисович! – отвечал печальным голосом Лаптев, отирая рукавом слезы. – Вот до каких времен мы дожили! Еретик не велит в церкви Божии ходить, грозит святейшего патриарха прогнать и навязывает всем православным свою проклятую ересь. Того и гляди, что Сатана ему поможет! Посмотри-ка, сколько за ним народу пошло; и стрельцы с ним заодно.
– Не все же стрельцы, Андрей Матвеевич; тысяч пять не верят еретику, остались в слободах и не хотят в это дело мешаться. Из нашего полка человек пятьдесят дались в обман. Если б Василий Петрович был здесь, и того бы не было. Вчера, перед полуночью, приходил к нам в полк этот проклятый Никита, наговорил с три короба; думал, что всех наших обратит в свою поганую ересь. Да не тут-то было. В других полках ему более было удачи: Титов на его стороне, более половины Стремянного, Тарбеев также почти весь… да что тут считать! Горе берет! Сам ты знаешь, Андрей Матвеевич, что глупых больше на свете, нежели умных; дураков-то не сеют, а сами родятся; не диво, что его сторона сильнее. Я было подговаривал наших молодцов схватить проклятого Пустосвята, да и стащить на Патриарший двор. Побоялись других полков. Жаль, право, что Василья Петровича здесь нет: он бы, верно, вывел этого еретика на свежую воду.
– Да куда девался Василий Петрович? – спросил Лаптев. – Вы оба словно на дно канули; я уж с вами с месяц не видался. Да вот и Андрей Петрович! Бог ему судья – совсем забыл меня!
– Василий Петрович, – шепнул Борисов Лаптеву на ухо, – приказал тебе сказать, что он получил отставку и тайком уехал в деревню своей тетки. Только, ради бога, не говори об этом Варваре Ивановне: неравно дойдет как-нибудь до Милославского – беда!
– Не бось, никому не скажу! Слава богу, что он успел туда убраться. Я чай, поживает себе припеваючи.
– Да, слава богу! А я с полком нашим через неделю пойду в Воронеж.
– Как так?
– Царевна Софья Алексеевна приказала.
– Жаль, жаль, Иван Борисович! Экое, слышь ты, горе! Этак совсем без приятелей останешься, не с кем будет и слова перемолвить!
– И мне идти в Воронеж-то больно не хочется. По крайней мере, я рад, что мой благодетель, Василий Петрович, поживает в добром месте.
Если бы предоставили нам на выбор какую-нибудь радость или печаль, то всякой, без сомнения, избрал бы первую. Но бывают случаи, в которых лучше избирать последнюю. Что лучше было, например, для двух друзей Бурмистрова: радоваться ли, воображая, что он в безопасности, или печалиться, зная, что жизнь его висит на волоске? Конечно, они согласились бы на последнее, если б от них зависело избрать то или другое; потому что и горькая истина предпочтительнее приятного заблуждения. Итак, почтенные читатели, будем всегда поборниками истины и врагами заблуждения, подобно Андрею, который во время разговора Лаптева с Борисовым протеснился к порожней кафедре и взошел на нее с намерением сказать обличительную речь против Никиты. Его ревность к этому подвигу, без сомнения, удвоилась бы, если б он знал, что, мешая успеху Никиты, он спасает жизнь Бурмистрова.
Увидев на кафедре новое лицо, окружавшая ее толпа замолчала. Ободренный тем, Андрей, избрав за образец речь Цицерона против Каталины, которую знал наизусть, принял величественное положение, приличное оратору. Никита в это время приблизился уже к Спасским воротам и с сообщниками своими стучался в них, требуя с криком, чтобы его впустили в Кремль. Андрей, указывая на него, сказал:
– Доколе будешь, Никита Пустосвят, употреблять во зло терпение наше? (– Пустосвят? Ах ты, собака! – заворчало несколько стрельцов Титова полка, стоявших около кафедры. Дай срок: что он еще скажет? Проучим его!) Долго ли скрывать станешь от нас сие твое бешенство? До чего похваляться будешь необузданною твоею продерзостию? Или не возмущает тебя защищение горы Палатинской… то есть Кремля? (Оратор сбился, забывший, что он говорит собственную речь без приготовления, а не повторяет наизусть Цицеронову.) Или не возмущает тебя ни стража около града, ни страх народный, ни стечение всех добрых людей, ни взоры, ни лица собравшихся здесь сен… православных христиан? (Он чуть было не сказал «сенаторов», но, приметив, что около кафедры стоят большею частию мужики, нашелся и счастливо избежал неуместного выражения.) Или ты не чувствуешь, что твои советы явны? Или ты не видишь, что уже все сии сановитые мужи (описав рукою полукружие, он указал на мужиков) только от одной умеренности удерживают свои совести… яснее сказать, руки, и не налагают их на тебя? Кого ты из нас чаешь, кто бы не знал, что ты нынешнею и прошлою ночью делал, где был, каких людей созвал и какие имел советы? (В этом месте оратор последовал в точности Цицерону, не зная, впрочем, откуда взялся на площади Никита. Стрельцы начали шептаться между собою: – Да видно, этот краснобай – лазутчик! Как узнал он, что отец Никита в слободе у нас по ночам скрывался и с нашими старшими советовался? Убьем его!) Чего ожидаешь ты еще, Никита Пустосвят, когда уже ночь злобных твоих сборов покрыть не может, когда уже все ясно и наружу вышло? Перемени свои мысли, поверь мне! Позабудь… о твоей ереси: со всех сторон ты пойман; все твои предприятия яснее полуденного света. (В это время Никита и несколько стрельцов толстым чурбаном старались вышибить Спасские ворота.) Что ты ни делаешь, что ни предприемлешь, что ни замышляешь, – то все я не токмо слышу, но ясно вижу и почти руками осязаю. Вспомни прошедшую ночь, то уразумеешь, что я тщательнее бодрствую для спасения… церкви православной, нежели ты для погубления оной. Здесь, здесь между нами, господа… православные христиане, в сем преименитом и святейшем всего земного круга совете, есть такие люди, которые думают погубить меня и всех нас и, следовательно, всю вселенную. (– Aгa, догадался! – заворчали стрельцы. – Вот мы тебя!) В таких обстоятельствах, Никита Пустосвят, выйди из города: ворота отворены! (Стрельцы оглянулись на Спасские ворота, но увидели, что их еще не выломили.) Выведи с собою всех своих сообщников; очисти город. От великого меня избавишь страха, коль скоро между мною и тобою стена будет! С нами быть тебе больше невозможно. Не снесу, не стерплю, не попущу!
Лаптев, приметив, что стрельцы поднимают каменья и собираются около кафедры, уговорил Борисова и товарищей Андрея стащить оратора и избавить его от угрожающей опасности.
Кончив введение речи, заимствованное из Цицерона, Андрей продолжал:
– Ты говорил, Никита Пустосвят, что протопоп Аввакум ничего не ел четырнадцать дней, распространился по всему небу и вместил в себя всю вселенную, – о верх нелепости! Не говоря уже о том, что без всякой пищи и четырнадцать часов пробыть довольно трудно, исследуем вкратце: может ли поместиться целая вселенная в утробе человеческой? (Смех и громкое одобрение. Сердце оратора забилось от радости.) Может ли…
В это время Борисов и два товарища Андрея схватили его и потащили долой с кафедры.
– Что это значит? Пусти, пусти меня, ради бога, Иван Борисович, дай кончить речь! – кричал Андрей во все горло. – Послушай, Петрушка, я тебя живого не оставлю! Видно, мало я тебя поколотил вчера перед ужином. Да что вы на меня напали, белены, что ли, объелись? Пустите! Куда вы меня тащите? Сенька, мошенник, совсем воротник оторвал, я с тебя твой новый кафтан сдеру!
Несмотря ни на просьбы, ни на угрозы оратора, его стащили с кафедры. Стрельцы, думая, что Борисов и товарищи Андрея хотят поколотить его, просились к ним на помощь, а стоявшие около кафедры мужики кинулись отнимать его у Борисова, чтобы ввести опять в торжестве на бочку для окончания речи. Неизвестно, чем бы кончилось все это; но, к счастию, растворились Спасские ворота, и стрельцы бросились в Кремль, оставив поле сражения за мужиками, защищавшими оратора.
Таким образом, роковая речь Цицерона, поставившая Андрея в Ласточкином Гнезде в неприятное и смешное положение, на Красной площади чуть не навлекла ему побой. Не понимая, куда и зачем тащили его в одну сторону Борисов с товарищами, в другую мужики, а в третью стрельцы, он дивился действию своего красноречия и думал, что его постигнет участь Орфея[124], растерзанного вакханками. Надвинув шапку на глаза, в величайшей досаде пошел он скорым шагом в Заиконоспасский монастырь. Между тем Никита, сопровождаемый бесчисленным множеством народа, вошел в Кремль и приблизился к царским палатам. Боярин Милославский вышел на Постельное крыльцо и от имени царевны Софии Алексеевны спросил предводителя толпы, Никиту, чего он требует.
– Народ московский требует, чтобы восставлен был столп древнего благочестия и чтобы на площадь пред конским стоялищем, которое вы именуете Успенским собором, вышел хищный волк и весь сонм лжеучителей для прения с нами о вере.
– Я сейчас донесу о вашем требовании государям, – сказал Милославский, – и объявлю вам волю их.
Боярин вошел во дворец и, опять явясь на Постельном крыльце, сказал:
– Цари повелели прошение ваше рассмотреть патриарху, он, верно, преклонится ко всенародному молению. А для вас, стрельцы, царевна Софья Алексеевна приказала отпереть царские погреба в награду за ваше всегдашнее усердие к ней и за ревность к вере православной. Она просит вас, чтоб вы в это дело не мешались. Положитесь на ее милость и правосудие. Если бы патриарх и решил это дело неправильно, то на нем от Бога взыщется, а не на вас.
Сказав это, Милославский удалился в покои дворца.
– Здравия и многия лета царевне Софье Алексеевне! – закричали стрельцы всех полков, кроме Титова. – К погребам, ребята!
Никита, видя, что воздвигаемый им столп древнего благочестия, подмытый вином, сильно пошатнулся и что ряды его благочестивого воинства приметно редеют, закричал грозным голосом:
– Грядите, грядите, нечестивцы, из светлого вертограда во тьму погребов, на дно адово! Упивайтесь вином нечестия! Мы и без вас низвергнем в преисподнюю хищного волка!
С этими словами пошел он из Кремля, и вся толпа двинулась за ним.
IV
Враг рек: пойдем, постигнем, поженем,
Корысти разделим! Се жатва нам обильна!
Упейся, меч, в крови…
МерзляковМежду тем Хованский, исполняя приказание пребыть в посте и молитве до возвещения победы, с солнечного восхода молился в своей рабочей горнице не столько об успехе древнего благочестия, сколько о скорейшем прибытии Никиты, потому что давно прошел уже полдень, и запах жареных куриц, поданных на стол, проникнув из столовой в рабочую горницу, сильно соблазнял благочестивого князя. Сын его, князь Андрей, сидел в молчании на скамье, у окошка[125].
– Взгляни, Андрюша, – сказал он наконец сыну, кладя земной поклон, – нейдет ли отец Никита; да вели куриц-то в печь поставить; я думаю, совсем простыли.
– Отца Никиты еще не видно, – отвечал князь Андрей, растворив окно и посмотрев на улицу.
– И подаждь ему на хищного волка победу и одоление! – прошептал старик Хованский с глубоким вздохом, продолжая кланяться в землю. – Да скажи, чтоб Фомка не в самый жар куриц поставил; пожалуй, перегорят!.. Да прейдет царство антихриста, да воссияет истинная церковь, и да посрамятся и низвергнутся в преисподнюю все враги ее!.. Андрюша, эй! Андрюша! скажи дворецкому, чтоб приготовил для отца Никиты кружку настойки, кружку французского вина да кувшин пива.
Молодой князь вышел и, вскоре возвратясь, сказал:
– Пришел отец Никита.
– Пришел! – воскликнул Хованский, вскочив с пола и не кончив земного поклона. – Вели скорее подавать на стол! Где же отец Никита?
– Он здесь, в столовой.
Старик Хованский выбежал из рабочей горницы в столовую и вдруг остановился, увидев мрачное и гневное лицо Никиты.
– Так-то, чадо Иоанн, исполняешь ты веления свыше! Не дождавшись моего возвращения и благовестия, ты уже перестал молиться.
– Что ты, отец Никита! Я с самого рассвета молился и до сих пор пребыл в посте, хотя уже давно пора обедать. Спроси Андрюши, если мне не веришь.
– Ты должен был молиться и ждать, пока я не подойду к тебе и не возвещу победы. Но ты сам поспешил ко мне навстречу и нарушил веление свыше. Ты виноват, что пророчество не исполнилось и древнее благочестие не одержало еще победы; ибо, по маловерию твоему, ослабел в молитве.
Хованский не отвечал ни слова; совесть его сильно смутилась от мысли, что Никита, и за глаза видя глубину его души, узнал, что ею несколько раз овладевали во время молитвы досада, нетерпение и помыслы о земном, то есть о жареных курицах. Никита же, видя смущение князя, тайно радовался, что ему удалось неисполнение своего пророчества приписать вине другого.
Все трое в молчании сели за стол. По мере уменьшения жидкостей в кружках, приготовленных для отца Никиты, лицо его прояснялось и морщины гневного чела разглаживались, а по мере уменьшения морщин слабели в душе Хованского угрызения совести. Таким образом, к концу стола опустевшие кружки совершенно успокоили совесть Хованского, тем более что он и сам, следуя примеру своего учителя, осушил кружки две-три веселящей сердце влаги. После обеда Никита пригласил князей удалиться с ним в рабочую горницу. Старик Хованский приказал всем бывшим у стола холопам идти в их избу, кроме длинноносого дворецкого, которому велел стать у двери пред сенями, не сходить ни на шаг с места и никого в столовую не впускать. Когда князья с Никитою вошли в рабочую горницу и заперли за собою дверь, любопытство побудило Савельича приблизиться к ней на цыпочках и приставить ухо к замочной скважине. Все трое говорили очень тихо, однако ж дворецкий успел кое-что расслушать из тайного их разговора.
– Завтра, – говорил Никита, – надобно выманить хищного волка. Это твое дело, чадо Иоанн; а мы припасем каменья. Скажи, что государи указали ему идти на площадь.
– Убить его должно, спору нет, – отвечал старик Хованский, – только как сладить потом с царевной? Не все стрельцы освободились от сетей диавольских, многие заступятся за волка!
– Нет жертвы, которой нельзя было бы принести для древнего благочестия! Потщись, чадо Иоанн, просветить царевну, а если она будет упорствовать, то…
Тут Никита начал говорить так тихо, что Савельич ничего не мог расслышать.
– Кто ж будет тогда царем? – спросил старик Хованский.
– Ты, чадо Иоанн, а я буду патриархом. Тогда процветет во всем русском царстве вера старая и истинная и посрамятся все враги ее. Сын твой говорил мне, что ты королевского рода?
– Это правда: я происхожу от древнего короля литовского Ягелла[126].
– Будешь и на московском престоле!
– Но неужели и всех царевен надобно будет принести в жертву? – спросил князь Андрей.
– Тебе жаль их! Вижу твои плотские помыслы, – сказал старик Хованский. – Женись на Катерине-то: не помешаем; а прочих разошлем по дальним монастырям. Так ли, отец Никита?
– Внимай, чадо Иоанн, гласу, в глубине сердца моего вещающему: еретические дети Петр и Иоанн, супостатки истинного учения Наталия и София, хищный волк со всем сонмом лжеучителей, совет нечестивых, нарицаемый Думою, градские воеводы и все мощные противники древнего благочестия обрекаются на гибель, в жертву очищения. Восторжествует истинная церковь, и чрез три дня принесется в жертву благодарения нечестивец, дерзнувший усомниться в глаголах духа пророчества, вещавшего и вещающего моими недостойными устами!
Последовало довольно продолжительное молчание.
– А что будет с прочими царевнами? – спросил наконец старик Хованский.
– Не знаю! – отвечал Никита. – Глас, в сердце моем вещавший, умолкнул. Делай с ними что хочешь, чадо Иоанн! Соблазнительницу сына твоего, Екатерину, отдай ему головою, а всех прочих дочерей богоотступного царя и еретика Алексея, друга антихристова, разошли по монастырям.
– А как, отец Никита, быть со стрельцами, которые пребудут во зле и не обратятся на путь истинный? Конечно, все они меня любят, как отца родного, однако ж половина полков еще в сетях диавольских. Можно…
В это время дворецкий, почувствовав охоту чихнуть, большими шагами на цыпочках удалился от двери. Сгорбясь от страха, схватив левою рукою свой длинный нос и удерживая дыхание, он поспешил встать на свое место пред сенями и перекрестился, вздохнув из глубины своих легких, подобно человеку, которого хотели удушить и вдруг помиловали. Сердце его сильно билось. Гладя нос, который был стиснут в испуге слишком неосторожно, дворецкий шептал про себя: «Чтоб тебя волки съели, проклятого; впору нашло на тебя чиханье!» Поуспокоившись, Савельич опять начал поглядывать на дверь рабочей горницы. Прошло более часа. Впечатление испуга постепенно ослабело, и бесенок любопытства, высунув головку из замочной скважины, начал манить дворецкого к двери. Перекрестясь, он стал тихонько к ней приближаться; но благоразумный нос с истинным самоотвержением снова погрозил хозяину обличить его в преступлении, принудил его поспешно возвратиться на свое место и снова был стиснут. Не он первый, не он последний на свете подвергся притеснению за благонамеренное предостережение своего властелина, увлекаемого страстию. Однако ж Савельич вскоре увидел всю несправедливость свою к носу и почувствовал искреннюю к нему благодарность: едва успел он встать перед сенями, как дверь рабочей горницы отворилась, и князья вышли в столовую с Никитою, который, простясь с ними и благословив их, отправился в слободу Титова полка.
– Позови ко мне десятника! – сказал старик Хованский дворецкому.
– Что прикажешь, отец наш? – спросил вошедший десятник.
– Когда пойдешь после смены в слободу, то объяви по всем полкам мой приказ, чтобы вперед присылали ко мне всякий день в дом для стражи не по десяти человек, а по cтy и с сотником. Слышишь ли?
– Слышу, отец наш.
– Да чтобы все были не с одними саблями, но и с ружьями. Пятьдесят человек пусть надевают кафтаны получше; они станут ходить проводниками за моею каретою, когда мне случится со двора ехать. Слышишь ли?
– Слышу, отец наш.
– Еще пошли теперь же стрельца ко всем полковникам, подполковникам и пятисотенным; вели им сказать, что я требую их к себе сегодня вечером, через три часа после солнечного заката. Ну, ступай!
– Про какого нечестивца, – спросил молодой Хованский, – говорил отец Никита?
– Про многих. Ныне истинно благочестивых людей с фонарем поискать.
– Он говорил, что кто-то усомнился в его даре пророчества. Кого он разумел?
– Пятисотенного Бурмистрова, который у меня в тюрьме сидит. Хорошо, что ты мне об нем напомнил. Эй, дворецкий!
– Что приказать изволишь? – сказал дворецкий, отворив дверь из сеней, у которой подслушивал разговор боярина с сыном.
– Есть ли у нас дома секира?
– Валяется их с полдюжины в чулане, да больно тупы, и полена не расколешь!
– Наточи одну поострее. Дня через три мне понадобится.
– Слушаю!
– Приготовь еще телегу, чурбан, столько веревок, чтоб можно было одному человеку руки и ноги связать, и два заступа. Ступай! Да смотри, делай все тихомолком и никому не болтай об этом; не то самому отрублю голову!
– Слушаю!
– А носишь ты еще мед и кушанье с моего стола тому тюремному сидельцу, к которому я посылал с тобою книгу?
– Ношу всякий день, по твоему приказу.
– Вперед не носи, а подавай ему, как и прочим, хлеб да воду. Ну, ступай! Да смотри, если проболтаешься – голову отрублю!.. Пойдем в рабочую горницу, Андрюша, отдохнем немного, мы после обеда еще не спали сегодня. Да надобно с тобой еще кое о чем посоветоваться. Помоги нам, Господи, в нашем благом подвиге!
Вечером собрались в доме Хованского стрелецкие полковники, подполковники и пятисотенные и пробыли у него до глубокой ночи.
V[127]
Ослепли в буйстве их сердца:
Среди крамол и пылких прений,
Упившись злобой и грехом,
Не видят истинных видений.
ГлинкаНа другой день, пятого июля, патриарх Иоаким со всем высшим духовенством и священниками всех московских церквей молился в Успенском соборе о защите православной церкви против отпадших сынов ее и о прекращении мятежа народного.
Между тем Никита и сообщники его, собравшись за Яузою, в слободе Титова полка, пошли к Кремлю в сопровождении нескольких тысяч стрельцов и бесчисленного множества народа. Пред Никитою двенадцать мужиков несли восковые зажженные свечи; за ним следовали попарно его приближенные сообщники с древними иконами, книгами, тетрадями и налоями. На площади пред церковью Архангела Михаила, близ царских палат, они остановились, поставили высокие скамьи и положили на налои иконы, пред которыми встали мужики, державшие свечи. Взяв свои тетради и книги, Никита, расстриги-чернецы Сергий и два Савватия и мужики Дорофей и Гаврило начали проповедовать древнее благочестие, уча народ не ходить в хлевы и амбары (так называли они церкви). Патриарх послал из собора дворцового протопопа Василия для увещания народа, чтобы он не слушал лживых проповедников; но толпа раскольников напала на протопопа и верно бы убила его, если б он не успел скрыться в Успенский собор. По окончании молебна и обедни патриарх со всем духовенством удалился в свою Крестовую палату. Никита и сообщники его начали с криком требовать, чтобы патриарх вышел на площадь пред собором для состязания с ними. Толпа изуверов беспрестанно умножалась любопытными, которые со всех сторон сбегались на площадь, и вскоре весь Кремль наполнился народом.
Князь Иван Хованский, войдя в Крестовую палату, сказал патриарху, что государи велели ему и всему духовенству немедленно идти во дворец через Красное крыльцо. У этого крыльца собралось множество раскольников с каменьями за пазухою и в карманах. Патриарх, не доверяя Хованскому, медлил. Старый князь, видя, что замысел его не удается, пошел во дворец, в комнаты царевны Софии, и сказал ей с притворным беспокойством:
– Государыня! стрельцы требуют, чтобы святейший патриарх вышел на площадь для прения о вере.
– С кем, князь?
– Не знаю наверное, государыня; изволь сама взглянуть в окно. Господи боже мой! – воскликнул Хованский, отворяя окно. – Какая бездна народу! Кажется, вон эти чернецы, что стоят на скамьях, близ налоев, хотят с патриархом состязаться.
– Для чего же ты не приказал схватить их?
– Это невозможное дело, государыня! Все стрельцы и весь народ на их стороне. Я боюсь, чтобы опять не произошло – от чего сохрани, Господи! – такого же смятения, какое было пятнадцатого мая.
– А я всегда думала, что князь Хованский не допустит стрельцов до таких беспорядков, какие были при изменнике Долгоруком.
– Я готов умереть за тебя, государыня; но что ж мне делать? Я всеми силами старался вразумить стрельцов, – и слушать не хотят! Грозят убить не только всех нас, бояр, но даже… и выговорить страшно!.. даже тебя, государыня, со всем домом царским, если не будет исполнено их требование. Ради самого Господа, прикажи патриарху выйти. Я просил его об этом, но он не соглашается. Чего опасаться такому мудрому и святому мужу каких-нибудь беглых чернецов? Он, верно, посрамит их пред лицом всего народа и успеет прекратить мятеж.
– Хорошо! Я сама к ним выйду с патриархом.
– Сама выйдешь, государыня! – воскликнул Хованский с притворным ужасом, – Избави тебя Господи! Хоть завтра же вели казнить меня, но я тебя не пущу на площадь: я клялся охранять государское твое здравие – и исполню свою клятву.
– Разве мне угрожает какая-нибудь опасность? Ты сам говорил, что и патриарху бояться нечего.
– Будущее закрыто от нас, государыня! Ручаться нельзя за всех тех, которые на площади толпятся. Изволь послушать, какие неистовые крики, словно вой диких зверей! Нет, ни за что на свете не пущу я твое царское величество. Пусть идет один патриарх; я буду охранять его. Если и убьют меня, беда невелика; я готов с радостию умереть за тебя, государыня!
– Благодарю тебя за твое усердие, князь. Я последую твоим советам. Иди к патриарху и скажи ему моим именем, чтобы он немедленно шел во дворец.
– Через Красное крыльцо, государыня?
– Да. А мятежникам объяви, что я потребовала патриарха к себе и прикажу ему тотчас же выйти к ним для состязания.
По уходе Хованского София, кликнув стряпчего, немедленно послала его к патриарху и велела тихонько сказать ему, чтобы он изъявил на приглашение Хованского притворное согласие и вошел во дворец не чрез Красное крыльцо, а по лестнице Ризположенской. Другому стряпчему царевна велела как можно скорее отыскать преданных ей, по ее мнению, полковников Петрова, Одинцова и Циклера и подполковника Чермного и объявить им приказание немедленно к ней явиться.
Всех прежде пришел Циклер.
– Что значит это новое смятение? – спросила гневно София. – Чего хотят изменники-стрельцы? Говори мне всю правду.
– Я только что хотел сам, государыня, просить позволения явиться пред твои светлые очи и донести тебе на князя Хованского. Вчера по его приказанию мы собрались у него в доме. Он совещался с нами о введении старой веры во всем царстве и заставил всех нас целовать крест с клятвою хранить замысел его в тайне. Он всем нам обещал щедрые награды.
– И ты целовал крест?
– Целовал, государыня, для того только, чтобы узнать в подробности все, что замышляет Хованский, и донести тебе.
– Благодарю тебя! Ты не останешься без награды. Кто главный руководитель мятежа?
– Руководитель явный – расстриженный поп Никита, а тайный – князь Хованский.
– Сколько стрелецких полков на их стороне?
– Весь Титов полк и несколько сотен из других полков.
– Хорошо! Поди в Грановитую палату и там ожидай моих приказаний.
Циклер удалился. Войдя в Грановитую палату, он стал у окошка и, сложив на грудь руки, начал придумывать средство, как бы уведомить Хованского, что царевне Софии известен уже его замысел. Не зная, которая из двух сторон восторжествует, он хотел обезопасить себя с той и другой стороны, давно привыкнув руководствоваться в действиях своих одним корыстолюбием и желанием возвышаться какими бы то ни было средствами.
Между тем к царевне Софии пришел Чермной.
– И ты вздумал изменять мне! – сказала София грозным голосом. – Ты забыл, что у тебя не две головы?
Чермной, давший накануне слово Хованскому наедине за боярство и вотчину убить царевну, если бы князь признал это необходимым, – несколько смутился; но, вскоре ободрившись, начал уверять Софию, что он вступил в заговор с тем только намерением, чтобы выведать все замыслы Хованского и ее предостеречь. Подтвердив уверения свои всеми возможными клятвами, он сказал наконец царевне, что готов по ее первому приказанию убить изменника Хованского.
Заметив его смущение, София хотя и не поверила его клятвам, однако ж решила скрыть свои мысли, опасаясь, чтобы Чермной решительно не перешел на сторону Хованского.
– Я всегда была уверена в твоем усердии ко мне, – сказала царевна притворно ласковым голосом. – За верность твою получишь достойную награду. Я поговорю с тобой еще о Хованском; а теперь поди в Грановитую палату и там ожидай меня.
Едва Чермной удалился, вошел Одинцов.
– Готов ли ты, помня все мои прежние милости, защищать меня против мятежников? – спросила София.
– Я готов пролить за твое царское величество последнюю каплю крови.
– Говорят, князь Хованский затеял весь этот мятеж. Правда ли это?
– Клевета, государыня! Не он, а нововведения патриарха Никона, которые давно тревожат совесть всех сынов истинной церкви, произвели нынешний мятеж. Этого надобно было ожидать. Отмени все богопротивные новизны, государыня, восставь церковь в прежней чистоте ее, – и все успокоятся!
– Я знаю, что вчера у князя было в доме совещание.
– Он заметил, что все стрельцы и народ в сильном волнении, и советовался с нами о средствах к отвращению грозящей опасности.
– Не обманывай меня, изменник! Я все знаю! – воскликнула София в сильном гневе.
Одинцов, уверенный в успехе Хованского и преданный всем сердцем древнему благочестию, отвечал:
– Я не боюсь твоего гнева: совесть меня ни в чем не укоряет. Ты обижаешь меня, царевна, называя изменником: я доказал на деле мое усердие к тебе. Видно, старые заслуги скоро забываются! Не ты ли уверяла нас в своей всегдашней милости, когда убеждала заступиться за брата твоего? Мы подвергали жизнь свою опасности, чтобы помочь тебе в твоих намерениях. Без нашей помощи не правила бы ты царством.
Пораженная дерзостию Одинцова, София чувствовала, однако ж, справедливость им сказанного и долго искала слов для ответа; наконец сказала, стараясь скрыть овладевшее ею негодование:
– Я докажу тебе, что я не забываю старых заслуг. Докажи и ты, что усердие твое ко мне не изменилось.
Вместе с этими словами София твердо решилась по укрощении мятежа и по миновании опасности при первом случае казнить Одинцова.
– Что приказать изволишь, государыня? – спросил вошедший в это время Петров.
Царевна, приказав и Одинцову идти в Грановитую палату, спросила Петрова:
– Был ли ты вчера у Хованского на совещании?
– Не был, государыня.
– Не обманывай меня, изменник! Мне уже все известно!
Петров был искренно предан Софии. Слова ее сильно поразили его.
– Клянусь тебе Господом, что я не обманываю тебя, государыня! – сказал он. – Я узнал, что князь Иван Андреевич замышляет ввести во всем царстве Аввакумовскую веру, и потому не пошел к нему на совещание, хотел разведать о всем, что он замышляет, и донести твоему царскому величеству.
– Поздно притворяться! Одно средство осталось тебе избежать заслуженной казни: докажи на деле мне свою преданность. Если стрельцы сегодня не успокоятся, то я и без тебя усмирю их, и тогда тебе первому велю отрубить голову.
– Жизнь моя в твоей воле, государыня! Не знаю, чем заслужил я гнев твой. Я, кажется, на деле доказал уже тебе мою преданность: я первый согласился на предложение боярина Ивана Михайловича, когда он после присяги царю Петру Алексеевичу…
– Скажи еще хоть одно слово, то сегодня же будешь без головы! – воскликнула София, вскочив с кресел. – Поди, изменник, к Хованскому, помогай ему в его замысле! Я не боюсь подобных тебе злодеев! Ты скоро забыл все мои милости. Прочь с глаз моих!
Петров, оскорбленный несправедливыми укоризнами, почти решился исполнить приказание царевны и действовать с Хованским заодно. Подойдя уже к дверям, он остановился и, снова приблизясь к Софии, сказал:
– Государыня! у тебя из стрелецких начальников немного верных, искренно преданных тебе слуг, на которых ты могла бы положиться. Один я не был на совещании у Хованского. Сторона его и без меня сильна. Не отвергай верной службы моей и не заставь меня действовать против тебя!
София, думая, что Петров устрашился угроз ее и оттого притворяется ей преданным, но, считая, впрочем, что в такую опасную для нее минуту может быть не бесполезен и тот, кто из одного страха предлагает ей свои услуги, сказала Петрову:
– Ну хорошо, загладь твою измену; я прощу тебя, если увижу на деле твое усердие ко мне.
– Увидишь, государыня, что ты меня понапрасну считаешь изменником.
По приказанию Софии Петров пошел в Грановитую палату.
– Что ж нам теперь делать, Иван Михайлович? – спросила София.
Боярин Милославский, отдернув штофный занавес, за которым скрывался во время разговора царевны с Хованским и с приходившими стрелецкими начальниками, сказал ей:
– Из всего я вижу, что на стороне Хованского не более половины стрельцов и что бояться нечего. Только не должно допустить, чтобы патриарх вышел на площадь для состязания. Если его убьют, то все потеряно. Во всяком злодействе первый шаг только страшен, а я знаю, что Хованский с сообщниками условился начать дело убийством патриарха.
– Я уже велела ему сказать, чтобы он вошел во дворец по Ризположенской лестнице.
– Для чего, государыня, велела ты Циклеру, Петрову, Одинцову и Чермному идти в Грановитую палату? Мне кажется, что ни на одного из них положиться нельзя.
– А вот увидим.
София, кликнув стряпчего, послала в Грановитую палату посмотреть, кто в ней находится.
Стряпчий, возвратясь, донес, что он нашел в палате Циклера, Петрова и Чермного.
– Вот видишь ли! – сказала София, когда стряпчий вышел. – Я не ошиблась: только Одинцов изменил мне и пошел на площадь.
Однако ж София, несмотря на свою проницательность, очень ошибалась, потому что один Петров, на которого она всего менее надеялась, держался искренно ее стороны. Чермной, расхаживая большими шагами по Грановитой палате и мечтая об обещанном боярстве и вотчине, снова решился еще тверже прежнего действовать с Хованским заодно и по первому его приказанию принести Софию в жертву древнему благочестию. Какая вера ни будь, новая или старая, и кто ни царствуй, София или Иван, для меня все равно, размышлял он, лишь бы добиться боярства да получить вотчину в тысячу дворов; а там по мне хоть трава не расти! Циклер с нетерпением ожидал приказаний Софии, чтобы скорее уйти из Грановитой палаты, предостеречь Хованского и, таким образом обманув и царевну, и князя, ждать спокойно конца дела и награды от того из них, кто восторжествует.
– Не знаете ли, товарищи, – спросил Петров, – для чего царевна сюда нас послала?
– Она велела мне ждать ее приказаний, – отвечал Циклер.
– А мне говорила, – сказал Чермной, – что она сама придет сюда.
– Чем все это кончится? – продолжал Петров. – Признаюсь: мне эти мятежи надоели. Хоть мы и хорошо сделали, что послушались Ивана Михайловича и заступились за царевича Ивана Алексеевича, однако ж надобно и то сказать: если б не было бунта пятнадцатого мая, так не было бы и нынешнего. Я с вами говорю как с товарищами. Вы из избы сору не вынесете?
– Стыдись, Петров! – сказал Циклер. – После всех милостей, которые нам оказала царевна Софья Алексеевна, грешно слабеть в усердии к ней. Этак скоро дойдешь и до измены! Что до меня касается, так я за нее в огонь и в воду готов!
– И я также, – сказал Чермной. – Смотри, Петров! Чуть замечу, что ты пойдешь на попятный двор да задумаешь изменять Софье Алексеевне, так я тебе голову снесу, даром, что ты мне приятель. Я готов за нее отца родного зарезать!
– Что вы, что вы, товарищи! Кто вам сказал, что я хочу изменять царевне? Я только хотел с вами поболтать. Мало ли что иногда взбредет на ум; а у меня что на уме, то и на языке, когда я говорю с приятелями.
– То-то с приятелями! – сказал Чермной. – Говори, да не заговаривайся.
Между тем как они разговаривали, София совещалась с Милославским, а Хованский сообщил ее приказание патриарху: идти во дворец чрез Красное крыльцо. Патриарх, предуведомленный стряпчим, согласился, и Хованский, выйдя из Крестовой палаты на площадь, вмешался в толпу.
Афанасий, архиепископ Холмогорский[128], с двумя епископами, с несколькими архимандритами[129], игуменами[130] разных монастырей и священниками всех церквей московских, пошел из Крестовой палаты к Красному крыльцу. Все они несли множество древних греческих и славянских хартий[131] и книг, чтобы показать народу готовность к состязанию с раскольниками.
Вся площадь зашумела, как море. Не видя патриарха, стоявшие у Красного крыльца с каменьями не знали, на что решиться, и шептали друг другу:
– Волка-то нет! Что ж нам делать? Спросить бы князя Ивана Андреевича. Куда он запропастился? А, да вот он!
Хованский, протеснясь сквозь толпу, приблизился к архиепископу Афанасию и спросил:
– А где же святейший патриарх?
– Он уже с митрополитами в царских палатах, – отвечал Афанасий.
– Как! да когда же он туда прошел? Я с Красного крыльца глаз не спускал: все смотрел, чтобы святейшего патриарха не затеснили и дали ему дорогу.
– О святейшем патриархе заботиться нечего, он уж прошел. А вот мы как пройдем сквозь эту толпу? Взгляни, какая теснота у Красного крыльца! Вели, князь, твоим стрельцам очистить нам дорогу.
Вместе с Афанасием и следовавшим за ним духовенством Хованский вошел во дворец.
– Государыня! – сказал он Софии. – Вели святейшему патриарху немедленно идти на площадь: проклятые бунтовщики угрожают ворваться по-прежнему во дворец и убить патриарха со всем духовенством и всех бояр. Я опасаюсь за твое государское здравие и за весь дом царский!
– Я назначила быть состязанию в Грановитой палате, – отвечала София. – Объяви, князь, бунтовщикам мою волю.
Истощив все возможные убеждения и видя непреклонность царевны, Хованский вышел на Красное крыльцо и велел позвать Никиту с сообщниками в Грановитую палату, куда между тем пошли София, сестра ее, царевна Мария, тетка их, царевна Татьяна Михайловна и царица Наталья Кирилловна в сопровождении патриарха, всего духовенства и Государственной Думы, немедленно собравшейся по приказанию царевны. София и царевна Татьяна Михайловна сели на царские престолы, подле них поместились в креслах царица Наталья Кирилловна, царевна Мария и патриарх, потом по порядку восемь митрополитов, пять архиепископов и два епископа. Члены Думы, архимандриты, игумены, священники, несколько стольников, стряпчих, жильцов, дворян и выборных из солдатских и стрелецких полков, в том числе Петров, Циклер и Чермной, стали по обеим сторонам палаты.
Наконец отворилась дверь. Вошел Хованский и занял свое место между членами Думы, за ним вошли двенадцать мужиков с зажженными восковыми свечами и толпа избранных сообщников Никиты с налоями, иконами, книгами и тетрадями; наконец явился сам Никита с крестом в руке. Его вели под руки сопроповедники его, крестьяне Дорофей и Гаврило, за ним следовали чернецы Сергий и два Савватия. На поставленные налои были положены иконы, книги и тетради, и мужики со свечами, как и на площади, стали пред налоями.
Когда шум, произведенный вошедшими, утих, София спросила строгим голосом:
– Чего требуете вы?
– Не мы, – отвечал Никита, – а весь народ московский и все православные христиане требуют, чтобы восстановлена была вера старая и истинная и чтобы новая вера, ведущая к погибели, была отменена.
– Скажи мне: что такое вера и чем различается старая от новой? – спросила София.
– Вера старая ведет ко спасению, а новая к погибели. Первой держимся мы, а второй следуете все вы, обольщенные антихристом Никоном.
– Я не о том спрашиваю. Скажи мне прежде: что такое вера?
– Никто из истинных сынов церкви об этом вопрошать не станет, всякий из них это знает. Я не хочу отвечать на твой вопрос потому, что последователи антихриста не могут понимать слов моих. Не хочу метать напрасно бисера…
– Лучше скажи, что не умеешь отвечать. Как же смел ты явиться пред царское величество, когда сам не знаешь, чего требуешь? Как смел ты надеть одежду священника, когда тебя лишили этого сана за твое второе обращение к ереси, в которой ты прежде раскаялся?
– Хищный волк с сонмом лжеучителей не мог меня лишить моего сана: власть его дарована ему антихристом. Я не признаю этой власти и до конца земного моего странствования не буду ей повиноваться.
– Замолчи, бунтовщик, и встань сюда, к стороне! Что ж, не вздумал ли ты меня ослушаться? Я тотчас же прикажу отрубить тебе голову!
Никита, нахмурив брови, замолчал и отошел к стороне.
– Говорите: зачем пришли вы? – спросила София, обратясь к сообщникам Никиты.
– Подать челобитную твоему царскому величеству! – отвечал чернец Сергий, вынув из-за пазухи бумагу.
По приказанию царевны один из членов Думы, взяв у него челобитную, начал читать ее вслух[132].
Она состояла из двадцати четырех статей и никем не была подписана. В начале было сказано: «Бьют челом святые Восточные Церкви Христовы, царские богомольцы, священнический и иноческий чин и все православные христиане опрично тех, которые новым Никоновым книгам последуют, а старые хулят».
По прочтении каждой статьи начинался спор и, по опровержении ее, приступаемо было к чтению следующей.
Когда дошла очередь до пятой статьи, в которой было сказано, что в новом Требнике напечатана молитва лукавому духу, то Хованский, расхаживая по палате, будто бы для прекращения шума, подошел к Никите и шепнул ему:
– Не опасайся, отец Никита, угроз царевниных и не слабей в святом усердии к древнему благочестию.
Едва Хованский успел отойти от него, как Никита, не дав патриарху окончить начатого им возражения, закричал:
– Сомкни, хищный волк, уста свои, исполненные лести и коварства! Дела ваши обличают вас! Если б вы были не ученики антихристовы, то не стали бы молиться врагу человеческого рода!
– Ты говоришь это потому, что плохо знаешь грамматику! – сказал спокойно архиепископ холмогорский Афанасий. – Пустясь в море богословия, ты у берега не заметил запятой и, наткнувшись на этот подводный камень, сам тонешь, да и других на дно с собою тащишь. В молитве на крещение сказано прежде: «Ты сам владыко Господи Царю прииди»; далее же следует: «Да не снидет со крещающимся, молимся тебе Господи, дух лукавый» и проч. Итак, все сказанное в этой молитве относится к Богу, равно как и слова «молимся тебе Господи». Если б последние относились к духу лукавому, то они не были бы отделены знаками препинания, да и дух лукавый должно было бы поставить в звательном падеже и сказать: душе лукавый.
– Сатана, которому вы молитесь, говорит твоими нечестивыми устами! – воскликнул Никита. – Я смышлю в твое из грамматического художества и знаю, что оно учит не вере истинной, а знакам препинания; оно помогает полагать препинания православным на пути спасения. Оттого-то и антихрист Никон, учитель ваш, любил грамматическое художество, оттого и вы…
– Замолчи! – воскликнула София и велела продолжать чтение челобитной.
По прочтении осьмой статьи, в которой доказывалось, что должно креститься двумя, а не тремя перстами, Никита, не обращая внимания на слова царевны, приказывавшей ему замолчать, начал с жаром читать из тетради, которую взял с налоя, следующее:
«Великие страдальцы Алексий и Феодор, града Ростова, начата обличати Никоново новопредание. Царь же не восхоте сих озлобити, аще и духовнии наступоваху на кровопролитие, но не послуша царь, во изгнание осуждает их в Поморскую страну, во окиянские пределы, близ Кольского острога в монастырь Кандалажский, иде же всякую скорбь и тесноту и скудость приемлюще яко до сорока лет. Сего ради от всюду народи притекающе слышати от них душеполезные словеса, от всея поморские страны. Тогда на Холмогорех новопоставленному архиепископу Афанасию, лютейшу зело завистию Никоновых новопреданий любителю, возвещено быстъ о сих блаженных, яко всю поморскую страну подтверждают еже о древнем благочестии. Архиерей, яростию распалився, воины взяв от воеводы, в Кандалажский монастырь посылает. Тогда взяша страдальцев, в темницу за крепкую стражу посадиша, по сем представиша архиерею, и прежде увещеваху, еже креститися тремя персты и прияти новопечатыне книги. Они же не приемляху, но и приемлющих поношаста. Тогда архиерей повеле бити их и вопрошаше: покоряетелися? Страдальцы же никакого же хотяху, но терпети обещевающеся за древнее благочестие. Недоумеваяся архиерей коим бы хитротворением привлещи к своей воли, повеле их в темницу посадити и гладом морити, хотя сих некими прелестьми одолети. Брашно начат к тем от себе посылати, но прежде нечто действовав над брашны и рукою пятиперстным благословением оградив, посылает. Спящу вседивному Феодору, Алексий брашно приемлет, и егда гладом преклоняем, восхоте Алексий от принесеннаго прияти брашна, восстав Феодор, удержа его за руку и рече: не прикасайся приносимым, не видиши ли змия черного на брашне лежаша? Прежде помолися со слезами и увидиши прелесть. Тогда Алексий начат молитися и виде на всех брашнех змиево лежание. Тогда взем брашно, верзе за оконце на землю. Стрегущии зряху, возвещают сия архиерею. И начаста страдальцы гладом пребывати, от архиерея не приемлюще брашна. И некогда Алексий, жаждою объят быв, повеле стрегущему сосудец принести воды. Стрегущий шед доложися архиерею. Повеле архиерей принести воды и взем к себе нечто действоваше, и рукою оградив пятиперстным сложением, посылает. Но духопрозрительный Феодор, взем сосуд, рече Алексиеви: видиши ли яко змий в сосуде на воде плавает? Таже дивный Феодор глагола ко стрегущему: был где с водою? Оному же отпирающуся, глаголаше старец: само видение воды являет, яко у архиерея был ecu, сего ради змий черный по воде плавает невидимо. И тако взем воду за окно изливает на землю. Преподобный Феодор гладом преставися; многотерпеливый же Алексий девять седмиц[133] без пищи и пития препроводив, преставися, и тако оба скончастася за древнее благочестие».
– Вот дела твои, душегубец! – воскликнул Никита, обратясь к Афанасию. – Вы повелеваете всем креститься тремя перстами, порицая истинное двуперстное сложение, а сами втайне слагаете пять перстов и призываете диавола на пищу и питие для обольщения православных! Горе тому, кто вас слушается! Ваше троеперстное сложение есть печать антихриста, а пятиперстное – знак союза с врагом человеческого рода!
– Душегубцы! богоотступники! дети антихристовы! – закричали все сообщники Никиты, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами. – Так, так должно креститься!
Стрельцы, стоявшие на площади, слыша крик в Грановитой палате, начали громко роптать, вынимая сабли. Народ, ужаснувшись, заволновался на площади.
София с теткою и сестрою и царица Наталья Кирилловна встали с мест своих в намерении удалиться из палаты.
– Если вы попускаете бунтовщиков в нашем присутствии и при святейшем патриархе до таких неистовств, – сказала София Петрову, Циклеру и Чермному, – то ни царям, ни мне, ни всему дому царскому в Москве более оставаться невозможно; мы все удалимся в чужие страны и объявим народу, что вы этому причиною.
– Мы готовы за тебя положить свои головы, государыня! – отвечал Петров и начал умолять Софию переменить ее намерение.
По усильным просьбам его, равно Циклера и Чермного, София опять села на один из престолов, и все заняли прежние места свои.
Когда восстановилось в палате молчание, архиепископ Афанасий сказал Никите:
– Греки, от которых Россия приняла православную христианскую веру при великом князе Владимире, крестятся, слагая три перста. Обычай этот сохраняет греческая церковь по преданию апостольскому. Вы ссылаетесь на Феодорита, епископа кирского, будто бы повелевающего креститься двумя перстами, но вы лжете на Феодорита. Еще в лето миробытия шесть тысяч шестьсот шестьдесят шестое еретик Мартин Армянин учил слагать персты по-вашему и был предан проклятию собором, бывшем двадцатого октября того же года в Киеве. Притом молитва не состоит в одном сложении перстов: должно поклоняться Богу духом и истиною. Если сердце ваше исполнено страсти к раздорам, гордости и ненависти к братиям вашим, если вы не покоряетесь установленным от Бога властям и производите мятеж народный, то, как ни слагайте персты, молитва ваша не будет услышана. Бог внемлет молитвам праведных, которые соблюдают две главные заповеди Его: любить Бога и ближнего, – которые любят даже врагов своих.
– Не тебе учить нас, душегубец! – воскликнул Никита. – Не из любви ли к ближним уморил ты голодом великих страдальцев Феодора и Алексия?
– Ты клевещешь на меня! узнавши, что они учат народ не ходить в церкви, распространяют между ним ересь свою вопреки царскому запрещению, объявленному им при отправлении их еще при патриархе Никоне в Кандалажский монастырь, я потребовал их к себе и старался всеми мерами обратить их к церкви православной. Не моя вина, что на кушанье и питье, которые я им посылал с моего стола, грезились им какие-то черные змеи и что они бросали кушанье и выливали питье за окно. По словам самого Феодора, змей по воде плавал невидимо; как же он видел его? Вольно им было, испугавшись невидимого змея, уморить себя голодом и жаждою. За это нельзя винить меня. Притом нельзя верить твоему повествованию. Кто говорит, что человек пробыл без пищи и пития девять недель, тот явно лжет.
– Ты уморил праведных страдальцев, душегубец! Услышьте моление мое, преподобный Феодор и многотерпеливый Алексий, помогите отомстить смерть вашу. Погибни, сын погибели!..
С этими словами Никита в исступлении бросился на Афанасия и хотел ударить его крестом в висок, но полковник Петров удержал его руку и с величайшим усилием оттащил от архиепископа. Во всей палате произошло смятение.
– Если ты осмелишься еще сойти с твоего места и сказать хоть одно слово, то я, как ослушника царской власти, прикажу казнить тебя! – сказала София Никите.
Когда чтение челобитной кончилось, раздался благовест к вечерне. Начинало уже смеркаться. София встала с престола и сказала раскольникам:
– Теперь уже поздно решить вашу челобитную. Собрание продолжается с десятого часа дня; все устали. Завтра опять будет назначено собрание, и вам явится указ на ваше прошение.
София с теткою и сестрою и царица Наталья Кирилловна удалились в свои покои, и все вышли из Грановитой палаты. Никита и сообщники его посреди бесчисленной толпы народа пошли из Кремля на Красную площадь, подняв правые руки вверх с двумя сложенными пальцами и восклицая:
– Победили! победили! Так слагайте персты! По-нашему веруйте!
Взойдя на лобное место и положив на налои иконы, продолжали они кричать народу:
– По-нашему веруйте! Мы всех архиереев оспорили и посрамили!
После этого сказали они народу поучение, будто бы по царскому повелению, и сошли с лобного места, чтобы удалиться в главное место сборища их, в слободу Титова полка.
Вдруг глаза у Никиты закатились, и он упал на землю в страшных судорогах. Пена била у него изо рта.
Сообщники его остановились в недоумении; толпа стрельцов и народа окружила их.
Наконец Никита пришел в чувство и встал, шатаясь, на ноги.
– Хватайте его! – закричал полковник Петров, бросясь с отрядом стрельцов своего полка к Никите.
– Не тронь! – закричали стрельцы, единомышленники раскольников.
– Хватайте, вяжите его! Крепче, Ванька, затягивай! – продолжал Петров. – Не мешайте нам, дурачье! Что вы за этого еретика заступаетесь, разве не видали вы, как его нечистый дух ударил оземь? От всякого православного дьявол бежит не оглядываясь. Явно, что этот бездельник – колдун и чернокнижник, – и всех вас морочит.
Слова эти произвели на защитников Никиты приметное впечатление. Сообщники его в страхе разбежались, и толпа, шедшая за ним до Тюремного двора, постепенно рассеялась.
На другой день, шестого июля, рано утром вывели Никиту на Красную площадь. Палач с секирой в руке стоял уже на лобном месте. Вскоре вся площадь закипела народом.
Думный дьяк прочитал указ об отсечении головы Никите, если он всенародно не раскается в своих преступлениях и в своей ереси. В последнем случае велено было его сослать в дальний монастырь.
Никита, выслушав указ, твердыми шагами взошел на лобное место.
– Одумайся! – сказал думный дьяк.
– Предаю анафеме антихриста Никона и всех учеников его! Держитесь, православные, веры старой и истинной!
– Итак, ты не хочешь раскаяться? – спросил дьяк.
– Умираю за древнее благочестие!
Перекрестясь двумя перстами, Никита положил голову на плаху. Народ хранил глубокое молчание.
Секира, сверкнув, ударила по плахе. Брызнула кровь, и голова Никиты, отлетев от туловища, покатилась. Все, бывшие на площади, невольно вздрогнули и, вполголоса разговаривая друг с другом, мало-помалу рассеялись.
VI
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.
ПушкинСмерть Никиты сильно поразила и опечалила Хованского. С Одинцовым и с некоторыми другими, самыми ревностными поборниками старой веры, отслужив ночью панихиду по великом учителе своем и включив его в число мучеников, Хованский поклялся идти по следам его и во что бы то ни стало утвердить во всем Русском царстве древнее благочестие. Он начал еще более прежнего потворствовать стрельцам, исходатайствовал у Софии указ[134] о переименовании их, по обещанию ее, Надворною пехотою, и всеми мерами старался их привязывать к себе, чтобы чрез них достигнуть своей цели. Вскоре все стрельцы без исключения начали называть его отцом своим, и всякий из них готов был пожертвовать жизнию за старого князя. Поступки его не укрылись от Софии. Повторяемые уверения Хованского в неизменной преданности считала она по справедливости притворством и была уверена, что он ждет только удобного случая для исполнения замысла, разрушенного смертию Никиты. Основываясь на доносе Циклера, она думала, что вся цель Хованского состоит во введении старой веры в России и что поэтому он опасен не ей самой, а только патриарху и духовенству. Зная приверженность стрельцов к князю, царевна боялась вооружить его против себя, продолжала оказывать ему прежнее доверие и искала случая удалить его под каким-нибудь благовидным предлогом из столицы. Милославский давно смотрел с завистью на возрастающее могущество Хованского и, наконец, поссорясь с ним явно, из друга превратился в непримиримого врага его. Наблюдая за всеми поступками Хованского, он доносил обо всем Софии. Циклер вкрался в доверенность князя, чтобы обезопасить себя и что-нибудь выиграть при новом мятеже, и в то же время помогал Милославскому в наблюдениях за Хованским. Незадолго до первого сентября, месяца через полтора после смерти Никиты, Циклер рассказал Милославскому, что он из некоторых слов Хованского и сына его заметил, что замыслы их не ограничиваются повсеместным восстановлением в государстве древнего благочестия, а простираются гораздо далее. Уведомленная о том София, опасаясь, чтобы Хованский не произвел опять мятежа во время празднования нового года в наступавшее тогда первое число сентября[135], решила удалиться из Москвы с обоими царями и со всем домом царским в село Коломенское. Хованский остался в Москве. Еще девятнадцатого августа, в день крестного хода в Донской монастырь, замышлял он произвести мятеж и предать смерти патриарха, Государственную Думу и весь дом царский и, по избранию стрельцов, сделаться царем московским. Но София с обоими царями приехала в монастырь по прибытии уже туда патриарха, а Хованский, подумав, что она с царями вовсе не будет присутствовать при этом торжестве, отложил исполнение своего замысла до другого удобного времени. По отъезде в село Коломенское София велела объявить царское повеление Хованскому, чтобы он присутствовал при молебствии на дворцовой площади, которое должен был совершать патриарх в день нового года. Повеление это имело две цели: во-первых, под видом особой доверенности к Хованскому поручить ему надзор за порядком при назначенном торжестве и таким образом всю ответственность за нарушение порядка возложить на того человека, которого наиболее должно было в этом случае опасаться; во-вторых, этим средством обезопасить патриарха во время молебствия посреди тех самых стрельцов, которые недавно замышляли убить его, вызвав на площадь.
Хованский, обманувшись в надежде совершить первого сентября то, что не удалось ему исполнить девятнадцатого августа, вопреки царскому повелению пробыл весь день нового года дома, не присутствовал при молебствии и послал вместо себя окольничего Хлопова.
Стрельцы, державшиеся древнего благочестия, не смея без приказания их главного начальника покуситься на беспорядки, ограничились оскорбительными для патриарха восклицаниями во время молебствия и разными неопределенными угрозами, которые навели ужас на всех московских жителей.
Поздно вечером пришли к Хованскому сын его, князь Андрей, и полковник Одинцов и долго совещались с ним наедине в рабочей горнице боярина.
Во время ужина вошел в столовую дворецкий Савельич. Румяный, как вечерняя заря, нос его показывал, что он, несмотря на все свои заботы и хлопоты, не упустил в такой торжественный день сходить на Отдаточный двор и с кружкою в руке заочно поздравить своего господина с наступившим новым годом.
Поклонясь низко князю и пошатнувшись немного в сторону, он оперся о стол обеими руками и сказал довольно внятно, несмотря на то что язык плохо ему повиновался:
– На тот случай, если б ты, боярин, неравно подумал, что я сегодня пьян, пришел я доложить твоей милости, что у меня – хоть к присяге веди – во рту капли не бывало.
– Это видно! – сказал князь Андрей, засмеявшись.
– Пошел вон, дуралей! – закричал старик Хованский.
– Пойти-то я пойду, только надобно прежде доложить еще, что у нас приключилась превеликая беда. Не хотелось бы мне тревожить твою милость в этакой день, да делать нечего, дело важное!
– Что такое? – спросил Хованский, несколько испугавшись.
– А вот изволишь видеть, боярин: давеча, в то самое время, как приезжал к тебе от царевны Софьи Алексеевны гонец, стряслась такая беда, что и сказать страшно, язык не ворочается…
– Вижу, что он не ворочается, пьяница! – закричал Хованский. – Говори скорее: что за беда?
– Этого нельзя сказать тебе при других.
– Каково вам это кажется! – сказал Хованский, посмотрев на сына и Одинцова. – Ты, видно, ум пропил, разбойник! Здесь лишнего никого нет: все сейчас говори!
– Коли ты приказываешь, то я, пожалуй, скажу. А то сам же ты велел мне молчать и грозил отрубить голову, если я проболтаюсь.
– Добьюсь ли я от тебя сегодня толку, мошенник! – закричал князь, вскочив со своего места.
– Секира-то пропала!
– Какая секира, пьяница?
– Воля твоя, боярин, виноват не я. Ты сказал мне тогда, что эта секира понадобится тебе через три дня, и велел ее наточить. Я и наточил ее, вытесал и чурбан, и веревки, и два заступа приготовил и убрал все в чулан, знаешь, в тот, где разный хлам валяется. Я несколько раз тебе докладывал, что надобно купить новый замок к чулану и что твой повар Федотка сущий вор. Ан так и вышло! Как он накануне твоего тезоименитства прошлого года бежал и замок тогда же украл, мошенник; сверх того из погреба бутыль любимой твоей настойки, которую ты сам изволил делать, мой вязаный колпак да еще кой-какие мелочи…
– Что ты за вздор мелешь! Ты что-то болтал про давешнего гонца и про какую-то беду, – говори толком, пьяница, и не ври посторонщины.
– Какая тут посторонщина! Изволь только до конца выслушать. Ты мне на прошлой неделе приказывал купить на Отдаточном дворе вина для настойки. Прихожу я сегодня туда не то чтобы выпить, а чтобы вина купить для твоей милости, – глядь, в углу стоит наша секира! Я спрашиваю у продавца: откуда он взял ее? Он сказал мне, что какой-то-де мужик принес секиру и заложил ее в двух алтынах за кружку вина. Я и смекнул: знать, кто-нибудь стянул у нас секиру из чулана. Что тут за диво, коли замка нет! Эй, вели купить замок, боярин; этак и все растащат! Я, однако ж, беду поправил и секиру выкупил на свои деньги. Стало быть, два алтына за твоею милостью. Ну да ничего, сочтемся.
Одинцов и князь Андрей захохотали.
– Пошел вон, дурачина! – закричал Хованский. – Только для нового года прощаю тебя. Напейся ты у меня в другой раз!
Дворецкий низко поклонился и вышел из комнаты не по прямой, однако ж, геометрической линии, а по ломаной.
– Про какую толковал он секиру? – спросил Одинцов старика Хованского.
– Я велел ее приготовить для Бурмистрова.
– Как, разве он еще жив? Я думал, что ему давно уже голову отрубили. По всей Москве говорили об этом.
Хованский объяснил Одинцову причины, по которым, отсрочив казнь Бурмистрова, решился он тайно содержать его в тюрьме своей, и прибавил:
– Великий страдалец Никита повелел принести его в благодарственную жертву чрез три дня по восстановлении древнего благочестия. Не сомневаюсь, что скоро принесем мы эту жертву. Господь явно по нас поборает. Он поможет нам совершить подвиг наш во славу Божию и истребить с лица земли еретиков, которые пролили кровь праведника.
– Я положил секиру в чулан, – сказал Савельич, войдя опять в комнату, – и привесил к двери замок с моего старого сундука.
– Убирайся вон, бездельник! – закричал Хованский.
– Я купил его лет пять тому назад за четыре алтына; а так как ты не господин наш, а настоящий отец, то я уступаю тебе этот замок, хоть он и новехонек, за три алтына. Стало быть, за твоею милостию с давешними всего пять алтын. Еще забыл я спросить тебя: отцу-то Никите отрубили голову, – кто же теперь будет патриархом? Царем будешь ты, боярин, это уж дело решенное, а патриарха-то где бы нам взять?
– Что это значит? – воскликнул Хованский, вскочив со своего места. Схватив со стола нож, подошел он к дворецкому и, взяв его за ворот, приставил нож к сердцу. – Говори, бездельник, где ты весь этот вздор слышал?
Дворецкий, как ни был пьян, догадался однако ж, что он лишнее выпил и оттого выболтал лишнее. Чтобы выпутаться из беды, решился он прибегнуть к выдумке.
– Помилуй, боярин, за что ты на меня взъелся? – сказал он. – Я все это слышал на Отдаточном дворе.
– Что!!! На Отдаточном дворе? – воскликнул Хованский, изменясь в лице.
– Истинно так! Там все как в трубу трубят, что ты будешь царем и выберешь другого патриарха.
Хованский, стараясь скрыть испуг свой и смущение, сел опять к столу и отер рукою холодный пот, выступивший на лице его.
– Там насчитал я человек с тридцать подьячих, чернослободских купцов и мужиков: все пили за твое государское здравие. Грешный человек, не удержался, и я выпил за здравие твоего царского величества!
– Поди выспись! Если ты скажешь кому-нибудь хоть одно слово о всех этих бреднях, то я велю тебе язык отрезать.
Когда дворецкий вышел, старик Хованский, обратясь к Одинцову, сказал:
– Кто-нибудь изменил нам! Нет сомнения, что царский двор все уже знает, если уж на Отдаточном многое известно. Что нам делать?
– Не теряй, князь, бодрости, – отвечал Одинцов. – Бог видит, что мы подвизаемся за доброе дело; Он наставит нас и нам поможет.
– Однако ж не должно терять времени, – сказал молодой Хованский. – Надобно подумать о мерах предосторожности: могут вдруг схватить нас.
– Всего лучше, – сказал Одинцов, – скрыться в какое-нибудь не отдаленное от Москвы место, созвать туда всех наших сподвижников, посоветоваться и, призвав Бога в помощь, идти против еретиков. В Коломенском войска-то немного.
– Я сам то же думал, – сказал старик Хованский. – Но куда мы скроемся? Что обо мне подумают мои дети, моя Надворная пехота?
– Я объявлю им, чтоб они до приказу твоего оставались спокойно в Москве.
– Можно оставить здесь с ними Циклера, – продолжал старик Хованский, – и поручить ему, чтобы он наблюдал за всеми поступками еретиков и нас обо всем извещал.
– Циклера? Давно я хотел сказать тебе, князь, что он человек ненадежный. Хоть он и притворяется тебе преданным, но я бьюсь об заклад моею головою, что он ищет во всем своей только выгоды и при первой твоей неудаче на тебя восстанет.
– Почему ты так об нем думаешь? Он на деле доказывает свое усердие к древнему благочестию.
– Притворяется! Ведь он перекрещен в нашу веру из немцев, а верно, втайне держится своей лютеранской ереси. Того и гляди, что он нам изменит! Я даже думаю, что никто другой, как он, донес о наших намерениях супостатке истинной церкви Софье и что от него разнеслись по Москве все эти слухи, о которых говорил твой дворецкий. Мне сказывал один из стрельцов, что видел недавно, как Циклер поздно вечером пробирался в дом Милославского.
– Милославского? Точно ли это правда?
– Какая надобность стрельцу лгать на Циклера!
– Благодарю тебя, Борис Андреевич, что ты меня предостерег. Однако ж… Мудрено поверить, чтоб Циклер был изменник. Отчего бы ему так действовать решительно? Мне кажется, он готов голову положить за истинную церковь.
– Он всегда решителен, когда видит, что можно чужими руками жар загрести. Покуда есть опасность, он виляет на ту и на другую сторону, а как начнет одна сторона одолевать, так он к ней как раз и пристанет, тогда в огонь и в воду лезть готов; подумаешь, что он-то все и сделал. Знаю я его! До пятнадцатого мая был он тише воды ниже травы, а как счастье повезло Ивану Михайловичу, наш Циклер так вперед и рвется. За то и поместье ему досталось получше, чем нам, грешным. По мне, так изменник Петров лучше этого Иуды!
– А где Петров? – спросил старик Хованский.
– Уехал сегодня утром в Коломенское.
– Туда и дорога! – сказал князь Андрей. – Мы с ним скоро там увидимся.
Во время последовавшего затем молчания старый князь ходил взад и вперед по комнате, на лице его изображалось сильное душевное волнение.
– Андрюша! – сказал он сыну. – Осмотри нашу стражу: все ли сто человек налицо? Вели всем зарядить ружья. На всю ночь поставить у ворот часовых. Да скажи дворецкому, чтобы подал мне ключ от калитки, что на черном дворе, и чтобы велел оседлать наших лошадей и поставить у калитки.
– Куда ты, князь, собираешься? Теперь уже скоро полночь, – сказал Одинцов.
– Я хочу идти спать. Ночуй у меня, Борис Андреевич, а лошадь твою вели с нашими вместе поставить. Хоть опасаться нечего, однако ж все-таки лучше приготовиться на всякий случай; спокойнее спать будем. Да не лучше ли теперь же нам уехать из Москвы, как ты думаешь?
– К чему так торопиться? Ляжем, благословясь, спать. Утро вечера мудренее. Успеем и завтра уехать. Прежде надобно посоветоваться со всеми нашими сподвижниками, да и их всех взять с собой. Пускай и Циклер с нами едет; а в Москве оставим с Надворною пехотою Чермного, он будет один знать, где мы. Когда придет время подвига, пошлем к нему приказ, чтобы поспешил к нам с войском, и пойдем истреблять еретиков.
В это время вошел в комнату Циклер. Приметив беспокойство старика Хованского и перемену в его обращении с ним, он тотчас подумал: не узнал ли что-нибудь старый князь об его сношениях с Милославским.
– Я пришел к вам с важными вестями, – сказал он. – Слышал ли ты, князь, что Милославский вчера вечером, а Петров сегодня утром уехали в Коломенское?
– Все это знаю, – отвечал старик Хованский. – Знаю и то, что ты по вечерам ходишь в гости к Ваньке Подорванному![136]
– Я только что хотел об этом говорить. По старой дружбе призывал он меня на днях к себе, сулил золотые горы и звал меня с собою в Коломенское. Я и притворился, что держусь стороны еретиков, а он сдуру и выболтал мне все, что на сердце лежало. Уж как тебя трусят еретики! Однако ж ни он, ни супостатка истинной веры Софья ничего не знают о наших намерениях. Не худо бы застать их врасплох! Когда ты, князь, думаешь приступить к делу?
– Мера терпения Божия еще не исполнилась! Господь укажет час, когда должны мы будем извлечь мечи наши на поражение учеников антихриста. Завтра вечером уезжаем мы из Москвы.
– Куда?
– Увидишь куда. Тебе надобно будет ехать с нами. Ночуй у меня. Завтра целый день ты мне будешь нужен, а вечером отправимся вместе в дорогу.
– Очень хорошо! Вели, князь, теперь же послать за моею лошадью. Я пришел сюда пешком, завернувшись в опашень. Милославский велел подглядывать объезжим и решеточным за всеми, кто к тебе приезжает или приходит.
– Так ты его и испугался?
– Есть кого бояться! Я для того только решил приходить к тебе тайком, чтобы этот Подорванный все думал, что я на стороне еретиков. Я хочу на днях побывать в Коломенском. Он мне еще что-нибудь разболтает, а я все тебе перескажу. Я слышал, что он советовал Софье послать в Москву и во все города грамоты с указом, чтобы стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары[137], солдаты, боярские слуги и всяких чинов ратные люди съехались к Коломенскому. Хоть этой сволочи бояться нечего – что она сделает против храброй Надворной пехоты и стройного Бутырского полка[138] – однако ж надобно поразведать: правда ли это? Если в самом деле так, то лучше, не теряя времени, нагрянуть в Коломенское, да и концы в воду. А там изберем царя и нового патриарха; хищного волка низвергнем в преисподнюю и составим новую Думу. Ты наш отец, а мы дети твои. Будешь царем, а мы боярами. Я люблю говорить прямо! Что на сердце, то и на языке!
– Не пленяйся, Иван Данилович, боярством и не прельщай меня царским венцом. Я дожил до седых волос и уверился, что все в мире этом суета сует, кроме веры истинной. Для нее подвизаюсь я, для нее извлекаю меч против обольщенных антихристом еретиков, проливших кровь праведника. Если я и желаю царского венца, то для того только, чтобы ниспровергнуть царство антихриста, восставить древнее благочестие и спасти душу мою. Мне уже недолго осталось жить на свете, пора и о спасении души подумать! Впрочем, да совершается воля Всевышнего со мною; я с верою следую, куда рука Его ведет меня. Если Он судил мне быть на престоле для восстановления в Русском царстве матери нашей истинной церкви, потщусь совершить Его назначение; если же Он повелит мне прославить имя Его моею кровию, секира и плаха не устрашат меня. Великие страдальцы Аввакум сожженный и Никита обезглавленный заслужили уже небесный мученический венец, который славнее всех земных венцов царских. Прославлю Господа, если Он и меня сподобит этого венца!
Сказавши это, Хованский удалился в свою спальню. Одинцов и Циклер в комнате, для них отведенной, легли на ковры и, не сказав друг другу ни слова, заснули, а князь Андрей пошел осматривать стражу и исполнять все другие приказания отца. Когда часовые были поставлены и лошади оседланы, он лег в постель и целую ночь не смыкал глаз, мечтая о браке своем с царевною Екатериною. Будет, думал он, сожалеть, недостойная сестра ее, надменная Софья, что отвергла предложение отца моего. Родственный союз с князьями Хованскими, происходящими от короля Ягеллы, показался ей унизительным! Пусть же погибает она, пусть погибают все ее родственники, кроме моей невесты! По смерти отца я взойду с нею на престол московский. Я докажу свету, что Хованские рождены царствовать: завоюю Литву, отниму у турок Грецию и заставлю трепетать русского оружия всех государей земли; подданные будут обожать меня; я восстановлю правосудие, прекращу все церковные расколы. Не буду слушаться, подобно отцу моему, какого-нибудь расстриженного попа, воля моя для всех будет законом.
Утренняя заря появилась уже на востоке, когда заснул преступный мечтатель.
VII
Исчезли замыслы, надежды,
Сомкнулись алчны к трону вежды.
ДержавинВторого сентября на рассвете преданный Софии стрелецкий полковник Акинфий Данилов пробрался окольною дорогою к селу Коломенскому. Он выехал из Москвы ночью для донесения царевны о всем, что произошло в столице в день нового года. Окна коломенского дворца, отражавшие лучи восходящего солнца, казались издали рядом горящих свеч. Данилов приметил, что вдруг блеск среднего окна исчез, и заключил, что его кто-нибудь отворил. «Неужели царевна уже встала?» – подумал он. Подъехав на близкое расстояние к дворцу, он увидел у окна Софию.
Привязав лошадь к дереву, которое росло неподалеку от дворца, Данилов подошел к воротам. Прибитая к ним какая-то бумага бросилась ему в глаза. Он снял ее с гвоздя и увидел, что это было письмо с надписью: «Вручить государыне царевне Софии Алексеевне». Немедленно был он впущен в комнату царевны. Она стояла у окна. Милославский сидел у стола и писал.
– Что скажешь, Данилов? Что наделалось в Москве? – спросила царевна, стараясь казаться равнодушною.
– Вчерашний день прошел благополучно, государыня. Только во время молебствия раскольники из стрельцов говорили непригожие слова.
– Был Хованский на молебствии?
– Он послал вместо себя окольничего Хлопова, а сам пробыл весь день дома.
– Слышишь, Иван Михайлович? Он явно ослушается моих повелений. Теперь я согласна поступить, как ты сегодня мне советовал… Что это за письмо? От кого?
– Не знаю, государыня, – отвечал Данилов. – Оно было прибито к воротам здешнего дворца.
София, распечатав письмо, прочитала с приметным волнением:
«Царем Государем и Великим Князем Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцем извещают московский стрелец, да два человека посадских на воров, на изменников, на боярина князь! Ивана Хованского да на сына его князь Андрея. На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом девяти человек пехотного чина да пяти человек посадских и говорили, чтобы помогали им доступити царства Московского и чтобы мы научали свою братью Ваш царский корень известь и чтоб придти большим собранием изневесть в город и называть Вас Государей еретическими детьми и убить Вас Государей обоих и Царицу Наталью Кирилловну, и Царевну Софию Алексеевну, и Патриарха, и властей; а на одной бы Царевне князь Андрею жениться, а достальных бы Царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить Одоевских троих, Черкасских двоих, Голициных троих, Ивана Михайловича Милославского, Шереметьевых двоих и иных многих людей из бояр, которые старой веры не любят, а новую заводят; а как то злое дело учинят, послать смущать во все Московское государство по городам и по деревням, чтоб в городех посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян поучать, чтоб побили бояр своих и людей боярских; а как государство замутится, и на Московское б царство выбрали царем его, князь Ивана, а Патриарха и властей поставить кого изберут народом, которые бы старые книги любили; и целовали нам на том Хованские крест, и мы им в том во всем, что то злое дело делать нам вообще, крест целовали ж; а дали они нам всем по двести рублев человеку и обещалися пред образом, что если они того доступят, пожаловать нас в ближние люди, а стрельцам велел наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им стрельцам на все приказы[139]. И мы, три человека, убояся Бога, не хотя на такое дело дерзнуть, извещаем Вам Государем, чтобы Вы Государи Свое здоровье оберегли. А мы, холопы Ваши, ныне живем в похоронках; а как Ваше Государское здравие сохранится, и все Бог утишит, тогда мы Вам Государем объявимся; а имен нам своих написать невозможно, а примет у нас: у одного на правом плече бородавка черная, у другого на правой ноге поперек берца рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».
В тот же день весь царский дом поспешно удалился из села Коломенского в Савин монастырь, и тайно посланы были оттуда по приказанию Софии в разные города царские грамоты, в которых предписывалось стольникам, стряпчим, дворянам, жильцам, детям боярским, копейщикам, рейтарам, солдатам, всяких чинов ратным людям и боярским слугам спешить днем и ночью к государям для защиты их против Хованских, для очищения царствующего града Москвы от воров и изменников и для отмщения невинной крови, стрельцами во время бунта пятнадцатого мая пролитой.
Вскоре после этого царский дом из Савина монастыря переехал в село Воздвиженское. Получаемые из Москвы от Циклера известия то тревожили, то успокаивали Софию. Хованский в течение двух недель оставался в Москве в совершенном бездействии. София приписывала это его нерешительности и придумывала средство силою или хитростию избавиться от человека, столько для нее опасного. Приверженность стрельцов к старому князю всего более препятствовала в этом царевне и устрашала ее.
Между тем Хованский начал тем более чувствовать угрызения совести, чем менее представлялось препятствий к исполнению его замысла. С одной стороны, ложно направленное и слепое усердие к вере, увлекавшее его к восстановлению древнего благочестия и к отмщению за смерть Никиты, с другой стороны, ужас, возбуждаемый в нем мыслию о цареубийстве, которое казалось ему необходимым для достижения цели, указанной, по ложному его убеждению, Небом, производили в душе Хованского мучительную борьбу. Нередко со слезами молил он Бога наставить его на путь правый и ниспослать какое-нибудь знамение для показания воли Его, которой он должен был бы следовать. Однажды на рассвете после продолжительной молитвы старый князь взял Евангелие. На раскрывшейся странице первые слова, попавшиеся ему на глаза, были следующие: «Воздадите кесарева кесареви, и Божия Богови».
Эти слова Спасителя произвели непостижимое действие на князя. Он вдруг увидел бездну, на краю которой стоял до сих пор с закрытыми глазами. Грех цареубийства представился ему во всем своем ужасе. Совесть, этот голос Неба, этот нелицемерный судья дел и помыслов наших, иногда заглушаемый на время неистовым криком страстей, совесть громко заговорила в душе Хованского. Слезы раскаяния оросили его бледные щеки. Он упал пред образом своего ангела и долго молился, не смея поднять на него глаз. Ему казалось, что ангел его смотрит на него с небесным участием, сожалением и укоризною во взорах. В тот же день вечером Хованский с сыном, Циклером и Одинцовым тихонько уехал в село Пушкино, принадлежавшее патриарху. Он твердо решился оставить все свои преступные замыслы, служить царям до могилы с непоколебимою верностию и усердием нелицемерным и просьбами своими со временем склонить царей к восстановлению церкви, которую считал истинною.
Узнавши, что сын малороссийского гетмана едет к Москве, Хованский через Чермного, оставшегося в столице, послал донесение к государям и в выражениях, которые показывали искреннюю его преданность им, испрашивал наставления: как принять гетманского сына? Шестнадцатого сентября Чермной, знавший один место убежища князя, привез к нему присланную в Москву царскую грамоту, в которой содержались похвала его верной и усердной службе и приглашение приехать в Воздвиженское для словесного объяснения по его донесению.
Одинцов и молодой Хованский, зная, что в Воздвиженском все делается не иначе, как по советам Милославского, предостерегали старого князя от сетей этого личного врага его и не советовали ему ехать в Воздвиженское. Оба они тайно осуждали его за нерешительность и трусость, считая их причиною неисполнения его прежних намерений. Как удивились они, когда услышали от старика Хованского, что он оставил все свои замыслы и решился до гроба служить царям как верный подданный.
Молодой Хованский, глубоко огорченный разрушением всех своих мечтаний властолюбия и потерею надежды вступить в брак с царевною Екатериною, немедленно уехал из села Пушкино в принадлежавшую ему подмосковную вотчину на реке Клязьме.
Циклер проводил его туда, дал ему совет не предаваться отчаянию и поскакал прямо в село Воздвиженское.
В селе Пушкине остался со стариком Хованским Одинцов. Он истщил все свое красноречие, чтобы возбудить в князе охладевшую, как говорил он, ревность к древнему благочестию, представлял ему невозможность примириться с Софиею и с любимцем ее Милославским и угрожал ему неизбежною гибелью. Хованский показал ему царскую грамоту, в которой с лаской звали его в Воздвиженское, и сказал:
– Завтра день ангела царевны Софьи Алексеевны. Завтра поеду я в Воздвиженское и раскаюсь пред нею в моих преступных, вероятно ей уже известных, замыслах. Она, верно, меня простит, и я до конца жизни моей буду служить ей верой и правдой. Это не помешает мне подвизаться за церковь истинную. По словам Спасителя, буду я воздавать кесарева кесареви и Божия Богови. Сердце царево в руке Божией! Может быть, я доживу еще до того радостного дня, когда юный царь Петр Алексеевич по достижении совершеннолетия убедится просьбами верного слуги своего и восстановит в русском царстве святую церковь в прежней чистоте ее и благолепии.
Одинцов, слушая внимательно князя, закрыл лицо руками и заплакал.
– Губишь ты себя, Иван Андреевич, и всех нас вместе с собою! Охладело в тебе усердие к вере старой и истинной! Смотри, чтобы Бог не наказал тебя и не потребовал на Страшном Суде ответа, что ты не исполнил воли Его и не довершил твоего подвига! Я своей головы не жалел и не жалею и с радостию умру, если Всевышний так судил мне, за древнее благочестие!
Рано утром семнадцатого сентября боярин, князь Иван Михайлович Лыков с несколькими стольниками и стряпчими и с толпою вооруженных служителей их выехал по приказанию Софии из Воздвиженского. Циклер открыл ей, где скрываются Хованские, и получил за это в подарок богатое поместье.
Приблизясь к селу Пушкину, вся толпа остановилась в густой роще. Лыков послал в село одного из служителей разведать, там ли старый князь.
Сняв с себя саблю, посланный при входе в село встретил крестьянина и спросил его:
– Не знаешь ли, дядя, где тут остановился князь Хованский?
– Где остановился князь Хованский? А господь его знает!
– Нельзя ли как-нибудь поразведать?
– Поразведать… а на что тебе?
– Я к нему прислан из Москвы с посылкой.
– Из Москвы с посылкой… Нешто. Экое горе! – продолжал крестьянин, почесывая затылок. – Сказал бы тебе, где остановился князь Хованский, да не знаю, дядя. Поспрошай у бабы, вон что корову-то гонит, авось она тебе скажет.
Служитель, приблизясь к указанной крестьянке, повторил свой вопрос.
– Почем нам знать, где Хованский! – отвечала крестьянка. – Ну, ну, пошла, окаянная! – закричала она, ударив свою корову хлыстом. – Что рыло-то приворотила к репейнику! экую нашла невидаль!
– У кого бы мне спросить, тетка?
– А у кого хошь!.. Куды тебя черт понес! – закричала крестьянка, пустясь вдогонку за побежавшей коровой. – Экое зелье какое! словно бешеная кляча скачет!
– Эй, дедушка! – сказал служитель, увидевши старика, который вышел из ворот ближней избы. – Где бы мне найти здесь князя Ивана Андреевича?
– Князя Ивана Андреича?
– Да.
– А что это за князь Иван Андреич?
– Хованский, начальник Надворной пехоты.
– А что это за Надворна пихота?
– Ну, стрельцы. Слыхал, я чай, что-нибудь про стрельцов?
– Как не слыхать, вестимо, что слыхал!
– Где же Хованский-то?
– А разве ты не знашь?
– Как бы знал, так и не спрашивал бы.
– Вестимо, что не спрашивал бы! Экое, парень, горе, ведь и я не знаю. Да постой! Спросить было у дочки: она больно охоча калякать со всеми молодыми мужиками и парнями. Пытал я ее журить за то. Я чай, она все знает. Эй, Малашка! – закричал старик, постучав кулаком в окно.
– Что, батюшка? – отвечала дочь крестьянина, высунув заспанное лицо в окно.
– А вот дядя спрашивает: где князь Хованский?
– Хованский?.. Бог его знает. Он с саблей, что ль, ходит?
– С саблей, – отвечал служитель.
– Видела я ономнясь[140], как по грибы в лес ходила, немолодого уж парня с саблей, знаешь, там, под горой, где крестьянские гумна. Никак и шатер там в лесу стоит.
– Где же это? – спросил служитель.
– А вот ступай прямо-то, большой троицкой дорогой, да и поверни в сторону, как дойдешь вон до той избушки, что на сторону-то пошатнулась, а как повернешь, то и увидишь пригорок, а как пригорок-то увидишь, так и обойди его, да смотри не забреди в болото: и не великонько оно, а по уши увязнешь; а как обойдешь пригорок, так и увидишь гумна, а за гумнами лес. Тут-то шатер и есть.
Обрадованный этим сведением, служитель поспешил сообщить свое открытие князю Лыкову. Немедленно со всею толпою князь выехал из рощи и вскоре, миновав указанный пригорок, увидел в лесу шатер, который белелся между деревьями.
В шатре сидел старик Хованский с Одинцовым. Оба вздрогнули, услышав конский топот. Одинцов, вынув саблю, вышел из шатра.
– Ловите! хватайте изменников! – закричал Лыков.
Толпа служителей бросилась на Одинцова и, несмотря на отчаянное его сопротивление, скоро его обезоружила.
Хованский сам отдался им в руки. Его и Одинцова связали и, посадив во взятую из села крестьянскую телегу, повезли.
Когда они доехали до подмосковной вотчины, которая принадлежала молодому Хованскому, то Лыков повелел немедленно окружить дом владельца.
Вдруг из одного окна раздался ружейный выстрел, и один из служителей, смертельно раненный, упал с лошади. В то же время в других окнах появились вооруженные ружьями холопы князя.
– Ломай дверь! в дом! – закричал Лыков.
Раздалось еще несколько выстрелов, но пули ранили только двух лошадей.
Дверь выломили. Сначала служители, а за ними Лыков с стольниками и стряпчими вбежали в дом. Князь Андрей встретил их с саблею в руке.
– Не отдамся живой! Стреляйте! – кричал он своим холопам. Те, видя невозможность защитить своего господина, бросили ружья, побежали и начали прыгать один за другим в окна. Молодого князя обезоружили, связали и, посадив на одну телегу с отцом его и Одинцовым, привезли всех трех в Воздвиженское.
По приказанию Софии все бывшие в этом селе бояре немедленно собрались во дворец. Когда все сели по местам, Милославский вышел из спальни царевны и объявил ее повеление: судить привезенных преступников.
Хованских ввели в залу. Думный дьяк Федор Шакловитый[141] прочитал сначала письмо, которое снял второго сентября с ворот дворца полковник Данилов, а потом приготовленный уже приговор. В этом приговоре Хованские были обвиняемы: в самоуправстве в раздаче государственных денег без царских указов, в самовольном содержании разных лиц под стражею, в потворстве Надворной пехоте с отягощением других подданных и монастырей, в ложном объявлении царских указов, в неуважении к дому царскому и презрении ко всем другим боярам, в покровительстве раскольникам и Никите-пустосвяту, в замысле ниспровергнуть православную церковь, в неисполнении царских повелений об отправлении полков в Киев, в село Коломенское и против калмыков и башкирцев, в неповиновении царскому указу присутствовать при торжестве в день нового года, в ложных докладах царевне Софии и, наконец, в умысле истребить царский дом и овладеть Московским государством. В конце приговора было сказано: «И Великие Государи указали вас, князь Ивана[142] и князь Андрея Хованских, за такие ваши великие вины и за многие воровства и за измену казнить смертию».
Когда думный дьяк прочитал громким голосом эти последние ужасные слова, то старик Хованский, сплеснув руками и взглянув на небо, глубоко вздохнул, а князь Андрей, содрогнувшись, побледнел как полотно.
– Нас без допроса осуждаете вы на смерть! – сказал старый князь. – Пусть явятся наши тайные обвинители! Последний из подданных вправе этого требовать. Допросите нас в их присутствии, выслушайте наши оправдания – и тогда нас судите!
– Твои обвинители – дела твои! – отвечал Милославский.
– Дела мои? Иван Михайлович! не для меня одного будет Страшный Суд!.. Я не пролил столько невинной крови, сколько пролили другие!.. Одной милости прошу у вас, бояре: позвольте мне упасть к ногам милосердой государыни царевны Софьи Алексеевны и оправдаться пред нею. Успеете еще казнить меня!
– Что ж? Почему не согласиться на его просьбу? – начали говорить вполголоса некоторые из бояр.
– Хорошо, – сказал Милославский, – и я согласен. Я спрошу государыню царевну, велит ли она предстать изменникам пред ее светлые очи?
Милославский встал и пошел в спальню Софии. Выйдя из залы в другую комнату, он несколько минут постоял за дверью, опять вошел в залу и объявил, что царевна не хочет слушать никаких оправданий и повелевает немедленно исполнить боярский приговор.
Хованских и Одинцова, который стоял на дворе, окруженный стражею, вывели за дворцовые ворота. Все бояре вышли вслед за ними на площадь.
– Где палач? – спросил Милославский полковника Петрова.
– По твоему приказу искал я во всех окольных местах палача, но нигде не нашел, – отвечал Петров в смущении.
– Сыщи, где хочешь! – закричал гневно Милославский.
Петров удалился и чрез несколько минут привел Стремянного полка стрельца, приехавшего вместе с ним из Москвы. Последний нес секиру.
Два крестьянина по приказанию Петрова принесли толстый отрубок бревна и положили на землю вместо плахи.
– К делу! – сказал стрельцу Милославский.
Служители подвели связанного старика Хованского к стрельцу и поставили его подле бревна на колени.
– Клади же, князь, голову! – сказал стрелец.
Читая вполголоса молитву, Хованский начал тихо склонять голову под секиру. Несколько раз судорожный трепет пробегал по всем его членам, и он, вдруг приподнимаясь, устремлял взоры на небо.
– Делай свое дело! – закричал Милославский стрельцу.
Стрелец, взяв князя за плеча, положил голову его на плаху.
Раздался удар секиры, кровь хлынула, и голова, в которой недавно кипело столько замыслов, обрызганная кровью, упала на землю.
Князь Андрей, ломая руки, подошел к обезглавленному трупу отца, поцеловал его и лег на плаху.
Раздался второй удар секиры, и голова юноши, мечтавшего некогда носить венец царский, упала подле головы отца.
– Теперь твоя очередь, – сказал Милославский Одинцову, который стоял, связанный и окруженный служителями, близ боярина.
Одинцов содрогнулся; кровь оледенела в его жилах и прилилась к сердцу.
– Как? – сказал он дрожащим голосом. – Меня еще не допрашивали и не судили.
– Не твое дело рассуждать! – закричал Милославский. – Исполняй, что приказывают! Эй вы! положите его на плаху.
Служители, схватив Одинцова, потащили его к плахе.
– Бог тебе судья, Софья Алексеевна! – кричал Одинцов. – Так это мне награда за то, что я помог тебе отнять власть у царицы Натальи Кирилловны! Бог тебе судья! Не ты ли обещалась всегда нас жаловать и миловать! Бог тебе судья, Иван Михайлович! Сжальтесь надо мной, бояре: дайте хоть время покаяться и приготовиться по-христиански к смерти; здесь недалеко живет наш священник.
– Руби! – закричал Милославский, и не стало Одинцова.
Тела Хованских положили в один приготовленный гроб и отвезли в находившееся неподалеку от Воздвиженского Троицкое село, Недельное[143], а труп Одинцова зарыли в ближнем лесу.
На другой день, осьмнадцатого сентября, был отправлен в Москву к патриарху стольник Петр Зиновьев с объявительною грамотою об измене и казни Хованских. Милославский, между прочим, поручил ему по приказанию царевны Софии освободить всех тех, которые содержались в тюрьме старого князя; но Зиновьева предупредил комнатный стольник царя Петра Алексеевича князь Иван Хованский, другой сын казненного. Выехав в ночь на осьмнадцатое сентября из Воздвиженского, прискакал он в Москву и объявил стрельцам, что его отец, брат и Одинцов казнены смертию без царского указа и что бояре, находившиеся в Воздвиженском, набрав войско, хотят всех стрельцов, ясен и детей их изрубить, а дома их сжечь. Ярость стрельцов достигла высочайшей степени. В полночь раздался звук набата и барабанов. Вся Москва ужаснулась. Стрельцы немедленно бросились к Пушечному двору[144] и его разграбили. Несколько пушек развезли по своим полкам, другие поставили в Кремле; ружья, карабины, копья, сабли, порох и пули раздали народу; поставили сильные отряды для стражи в Кремле, на Красной площади, в Китай-городе, у всех ворот Белого города и во многих местах Земляного, в котором устроили несколько укреплений, загородили улицы насыпями и палисадами. Жен и детей своих со всем имением перевезли они из стрелецких слобод в Белый город. На всех площадях и улицах Москвы во всю ночь раздавались неистовые крики мятежников, ружейные выстрелы, звук барабанов и стук колес от провозимых телег, пушек и пороховых ящиков. Посреди этого смятения Зиновьев успел въехать в Москву. Приблизясь к Кремлю, увидел он, что ему невозможно туда пробраться для вручения грамоты патриарху, потому что у всех ворот кремлевских стояли на страже толпы мятежников. Он принужден был остаться в Китай-городе в ожидании удобного случая проехать в Кремль и решился покуда исполнить другое поручение Милославского, которое состояло в том, чтобы освободить всех содержавшихся в тюрьме Хованского.
Зиновьев с помощью встреченного им во дворе холопа отыскал дворецкого Савельича, который, испугавшись бунта, скрылся в конюшню, лег в порожнее стойло и велел завалить себя сеном.
– Эй, дворецкий! где ты тут запрятался?
– А вот он здесь! – сказал холоп, разгребая сено. – Иван Савельич! вот к тебе прислан его милость с приказом от царевны Софьи Алексеевны. Ведь ты у нас набольший в доме-то.
Дворецкий высунул из сена голову, напудренную сенною трухою, и, отирая пот с лица, катившийся градом от страха и удушливой теплоты под сеном, уставил глаза на Зиновьева.
– У тебя ключи от тюрьмы князя Ивана Андреевича? – спросил Зиновьев.
– Ключи?.. Кажись, у меня. Батюшки-светы, стреляют! – закричал он, услышавши несколько выстрелов, которые раздались в это время на улице, и снова зарылся в сено.
– Вытащи его оттуда, – сказал Зиновьев холопу.
Тот с немалым трудом исполнил приказанное и поставил на ноги Савельича, у которого нижние зубы стучались о верхние, как в самой сильной лихорадке.
– Давай скорее ключи от тюрьмы! – продолжал Зиновьев. – Царевна Софья Алексеевна приказала выпустить всех тюремных сидельцев.
– Не спросясь князя Ивана Андреича, я не смею дать ключей твоей милости, – отвечал Савельич дрожащим голосом.
– Ну так сходи на тот свет да спросись. Князю отрубили вчера голову за измену и сыну его также.
– Как! – воскликнул дворецкий, сплеснув руками. Он был самый старинный слуга Хованского и искренно был к нему привязан. Сильная горесть вмиг прогнала его трусость. – Ах мои батюшки! – завопил Савельич, обливаясь слезами. – Отец ты мой родной, князь Иван Андреич! Уж не увижу я на сем свете твоих очей ясных! Некому будет меня уму-разуму поучить. Батюшка ты наш! Отрубили тебе твою головушку! Пропали мы, бедные, осиротели без тебя!
Холоп, глядя на дворецкого, также заплакал.
– Ну полно выть! Давай ключи! – закричал Зиновьев.
– Возьми, пожалуй, – сказал дворецкий, продолжая плакать и отвязывая ключи от кушака. – Я уж не дворецкий теперь. Ох, горе, горе! Не найти уж нам, Антипка, такого доброго господина! – продолжал он, оборотясь к холопу. – Сгибли мы, окаянные![145] Из дворецких попадусь я в дворники, а тебя, Антипка, заставят каменья ворочать! Натерпимся горя! Не нажить уж нам такого господина! Пропали наши головушки!
Зиновьев, приказав дворецкому выпустить всех содержавшихся в тюрьме князя, велел им всем встать в ряд на дворе. В числе их находился и Бурмистров. С начала июля всякий день ждал он казни, обещанной Хованским, и давно уже потерял надежду на избавление.
Можно легко вообразить, как удивился он, когда было ему объявлено, что смертельный враг его, Милославский, по приказанию царевны Софии прислал нарочного для его освобождения. Он заключил из этого, что после смерти Никиты и Хованских ни одному человеку в мире не известно, что старый князь, нарушив повеление Софии, сохранил ему жизнь и втайне берег ее, чтобы лишить его жизни тогда, когда восторжествует древнее благочестие. Бурмистров не знал, что еще Одинцову известна была тайна его сохранения, равно не знал и того, что Одинцов унес с собою эту тайну в могилу, потому что Зиновьев объявил только о казни одних Хованских.
В искренней жаркой молитве вознеся благодарность Богу за свое неожиданное освобождение, Бурмистров поспешил прямо в дом к приятелю своему, купцу Лаптеву.
VIII
Добро лишь для добра творить.
Державин– Молись, Варвара Ивановна, молись, не отставай, – говорил Лаптев жене своей, которая при своей дородности давно уже устала вместе с ним класть перед иконами земные поклоны. – Писание велит непрестанно молиться!
– Я чаю, скоро светать начнет, Андрей Матвеич! Не время ли уж и обед готовить!
– До обеда ли теперь! По всему видно, что настали последние времена. Что это? Ну, пропали мы! Кажется, кто-то стучит в калитку. Да, чу! где-то из пушек палят! А колокола-то, колокола-то как воют!
– Господи боже мой! помилуй нас, грешных! – прошептала с глубоким вздохом Лаптева.
Муж и жена начали еще усерднее кланяться в землю.
Вдруг отворилась дверь, и вошел Бурмистров. От долгого пребывания в тюрьме, худой пищи и продолжительных душевных страданий он так похудел и сделался бледен, что не только ночью в горнице, освещенной одной лампадою, но и днем можно было его счесть за мертвеца.
– С нами крестная сила! – воскликнул Лаптев, повалясь на пол и закрыв лицо руками. – Ну, прощай, Варвара Ивановна! Преставление света! Мертвые встают из гробов!
Лаптева, оглянувшись на вошедшего в горницу и рассмотрев лицо его, закричала что было силы и полезла под кровать.
– Что вы, что вы так перепугались! – сказал Василий. – Я такой же живой человек, как и вы. Встань-ка, Андрей Матвеевич, да поздоровайся со мною, мы уж с тобой давно не видались.
С этими словами поднял он своего приятеля с пола.
Лаптев, несколько времени посмотрев пристально в лицо Бурмистрову и уверясь, что перед ним стоит не мертвец, а старинный друг его, заплакал от радости и бросился его обнимать.
– Жена! – кричал он. – Вылезай скорее!.. Господи боже мой! не ждал я такой радости!.. Варвара Ивановна! вылезай!.. Да как это Бог тебя сохранил, Василий Петрович? Я уж давно по тебе панихиду отслужил… Варвара Ивановна! Да что ж ты не вылезаешь!
Лаптева, лежа под кроватью, от сильного испуга расслышала только то, что муж ее кличет.
– Прощай, Андрей Матвеич, прощай, голубчик мой! Пусть уж он тебя одного тащит, а я не вылезу! Приведи меня Господь на том свете с тобой увидеться!
– Авось и на этом еще увидимся! – сказал Лаптев, подходя к кровати. – Помоги мне, Василий Петрович, ее вытащить. Она так тебя перепугалась, что ее теперь оттуда калачом не выманишь. Да помоги, Василий Петрович! Видишь, как упирается! Мне одному с нею не сладить!
Бурмистров, едва удерживаясь от смеха, подошел к Лаптеву, который с величайшим усилием успел уже вытащить сожительницу свою из-под кровати. Василий начал помогать ему, чтобы поднять ее с пола.
Варвара Ивановна в ужасе зажмурила глаза, махала руками и в полной уверенности, что ее тащит мертвец в преисподнюю, кричала жалобным голосом:
– Охти, мои батюшки! помилуй меня, отец родной! отпусти душу на покаяние! Отслужу по тебе сорок панихид; колокол велю вылить, чтобы тебя из аду выблаговестил! Уф! какие холодные руки!
Между тем вошел в горницу Андрей, брат Натальи, и в изумлении остановился у двери. Лаптев и Бурмистров, хлопотавшие около Варвары Ивановны, вовсе его не заметили.
«Что бы это значило? – подумал он. – Каким образом очутился здесь Василий Петрович, которому давно голову отрубили и которого я давно оплакал? Если он не мертвец, то отчего Варвара Ивановна в таком ужасе и для чего и куда он ее ночью тащит? Если же он мертвец, то почему Андрей Матвеевич так равнодушен в его присутствии и почему он с таким усердием помогает ему тащить жену свою?» Вспомнив, что Плиний[146] повествует о явлении мертвеца в одном римском доме, он разрешил свое недоумение тем, что Бурмистров после казни был брошен где-нибудь в лесу и что он явился Лаптеву как Патрокл другу своему, Ахиллесу[147], требуя погребения. При этой мысли Андрей почувствовал пробежавший от ужаса по всему телу озноб, перекрестился и хотел бежать вон из горницы. На беду его, он при входе в светлицу Варвары Ивановны плотно затворил за собою дверь, не зная, что замок этой двери испорчен и что ее нельзя отворить, если она захлопнется. Схватясь за ручку замка, начал он ее проворно вертеть то в ту, то в другую сторону; с каждым безуспешным поворотом ручки ужас его возрастал и достиг высшей степени, когда Бурмистров и Лаптев положили на кровать обеспамятевшую от страха Варвару Ивановну и когда Василий, увидев Андрея, пошел к нему с распростертыми объятиями.
– Чур меня! чур меня! – закричал Андрей во все горло, бросясь опрометью от двери. В испуге перескочил он через Варвару Ивановну, лежавшую на краю постели, приподнял другой край перины, касавшийся стены, и под нее спрятался.
Бурмистров не мог удержаться от смеха; Лаптев также захохотал, схватясь обеими руками за бока.
– Ах ты господи! и смех и горе! – проговорил он прерывающимся от хохота голосом. – Добро моя жена, а то и Андрей Петрович подумал, что ты мертвец. Этак он от тебя бросился, словно мышь от кошки! Ох, батюшки мои! бока ломит от смеху!
– Неужто ты думаешь, Андрей Матвеевич, что я в самом деле испугался? Хе! хе! хе! Я не так суеверен, как ты думаешь, – сказал Андрей, приподняв перину и высунув улыбающееся лицо, на котором не изгладились еще признаки недавнего ужаса. – Мне вздумалось пошутить и насмешить вас. Не правда ли, что я очень удачно притворился и весьма естественно представил испуг и ужас?
– Кто это тут говорит? – спросила слабым голосом Лаптева, которая пришла между тем в память и ободрилась, видя, что и муж и Бурмистров хохочут.
– Это я, Варвара Ивановна! – отвечал Андрей, вылезая из-под перины.
– Господи, Твоя воля! да откуда ты это взялся, Андрей Петрович, вместе со мной на постели? – сказала удивленная Лаптева, оглянувшись на Андрея.
– В самом деле это забавно! Хе, хе, хе! Я пошутил, Варвара Ивановна! – отвечал последний, перешагнув через нее и спрыгнув на пол.
– Осрамил ты мою головушку! – сказала Лаптева, слезая с постели.
По просьбе Андрея, Лаптева и жены его Бурмистров объяснил, отчего прошел по Москве общий слух об его казни и каким образом избежал oн смерти.
Несколько отдаленных пушечных и ружейных выстрелов обратили разговор к ужасному мятежу, который в Москве так неожиданно вспыхнул.
– Что-то будет с нами? – сказал со вздохом Лаптев.
– Признаться, – сказал Андрей, – эта ночь долго не выйдет у меня из памяти. Вчера, утомясь дневными трудами, лег я спокойно в постель. В самую полночь слышу набат, стрельбу на улице из ружей, крик, стукотню и бог знает что!.. Я вскочил с постели и оделся; все мои товарищи также. Мы все словно обезумели. Бегаем из комнаты в комнату и спрашиваем друг у друга: что такое наделалось? Вдруг вбегает к нам подполковник Чермной с саблею в руке, а за ним толпа стрельцов. Выгнали всех нас на улицу и начали раздавать нам оружие: кому саблю, кому пику, кому секиру. Сев на лошадь, Чермной закричал: «Ступайте все за мной на Красную площадь». Пришли мы туда: господи боже мой! Площадь зачерпнулась народом. Шум, крик, беготня, сумятица! У меня голова закружилась. Тут мужик с ружьем, здесь посадский с пикой, там купец с саблей. Чермной подвел меня к толпе мужиков и сказал им: «Вот ваш пятисотенный! Он человек грамотный, даром что молод; слушайтесь его как самого меня; а не то всех велю перестрелять как галок!» Сказавши это, он ускакал. «Что вы за люди?» – спросил я у мужика, стоявшего близ меня с рогатиной. «Мы ямщики, – отвечал он. – Не знает ли твоя милость, зачем нас сюда пригнали?» Я ему ничего не ответил, потому что сам его хотел о том же спросить. Я постоял, постоял, смотрю: в руке у меня сабля. Народ со всех сторон теснит меня как при выходе из церкви. «Что за ахисея! – подумал я. – Не во сне ли я все это вижу? Какими судьбами из учеников академии попал я в пятисотенные!» Вспомнив совет Горация[148]: Nil admirari… et cetera[149], который переведу вам в другое время, я по кратком размышлении бросил саблю и побежал, Андрей Матвеевич, к тебе, чтобы посоветоваться и узнать, что за чудеса у нас в Москве совершаются? У меня и теперь голова не на месте. Мудрено ли, что после такого переполоха я испугался… то есть чрезвычайно обрадовался, когда неожиданно увидел здесь воскресшего из мертвых Василия Петровича, и с радости вздумал пошутить. Недавно я с товарищами, в воскресенье под вечер, ходил в лес, что подле Немецкой слободы, и отыскивал твою, Василий Петрович, могилу. Не помню, кто говорил мне, что тебя там будто бы при его глазах похоронили.
– Что ж мы станем делать? – сказал Лаптев. – Не убраться ли нам поскорее из Москвы подобру-поздорову, например, хоть в поместье к твоей тетушке, Василий Петрович?
– Это невозможно, – отвечал Бурмистров, – на всех заставах стоят отряды мятежников. Они никого не выпускают за город и не пропускают в Москву.
– Экое горе какое!
– Позавидуешь, право, матушке и сестре! – сказал Андрей. – Они, я думаю, ничего не знают, что здесь делается.
– Здоровы ли они? – спросил Бурмистров.
– Я уж месяца три не получал от них никакого известия, – отвечал Андрей, – с тех самых пор, как в конце июня приезжал сюда из Ласточкина Гнезда твой слуга Гришка. Он расспрашивал меня, что с тобой сделалось после того, как схватили тебя в селе Погорелове. Я сказал ему, что о тебе нет ни слуху ни духу. Он заплакал, да с тем и поехал назад.
В это время вбежал в комнату приказчик Лаптева, Иван Кубышкин, и бросился ему в ноги.
– Взгляни-ка, хозяин, как меня нарядили! – воскликнул он сквозь слезы. – Научи меня, глупого, что мне делать! Бунтовщики всучили мне в руки вот это ружьецо, напялили на меня кожаный кушак с этими окаянными пистолетами, да прицепили эту саблю, и велели, чтобы я с ними заодно бунтовал. Не то, де, голову снесем! Я с самой Красной площади бежал сюда без оглядки.
– Господи боже мой! Что ж, гонятся, что ли, они за тобой?
– А мне невдомек, хозяин. Кажись, что погони нет.
– Слава богу! – сказал Лаптев. – Сними-ка скорей саблю и кушак-то, да засунь куда-нибудь и с ружьецом вместе; вот хоть сюда, под кровать, да подальше; или нет, постой! брось лучше всю эту дрянь в помойную яму.
– Для чего бросать? – сказал Бурмистров. – Может быть, эта дрянь пригодится. Подай все сюда. Какой славный карабин! Сними-ка саблю. Это кто тебе надел ее на правый бок?
– Дали-то мне ее бунтовщики, а нацепил-то я сам, – отвечал приказчик, подавая Василью саблю вместе с пистолетами.
– Ого! какая острая! И пистолеты не худы. Жаль, что полк мой далеко от Москвы; с ним бы я что-нибудь да сделал.
Вынув из кожаного пояса две пули и две жестяные трубочки с порохом, заткнутые пыжами, Бурмистров начал заряжать пистолеты. Приказчик, сдав оружие, перекрестился и вышел из комнаты.
Безоблачный восток зарумянился зарею, и вскоре лучи утреннего солнца осыпали золотом струи смиренной Яузы.
Вдруг под окнами дома Лаптева послышался шум. Бурмистров, взглянув в окно, увидел, что несколько солдат тащат мимо дома связанного офицера. Схватив саблю и пистолеты и надев на себя кожаный пояс с зарядами, Василий выбежал из комнаты.
Нагнав солдат, закричал он им:
– Стой! Куда вы его тащите, бездельники?
– А тебе что за дело? – отвечал один из солдат.
– Сейчас развяжите офицера!
Солдаты остановились.
– Да что ты нам за указчик? Знать мы тебя не хотим! – бормотали некоторые из них.
– Что? Вы смеете ослушаться! Вас всех расстреляют!
– Не расстреляют! – сказал один из солдат. – Что вы рты-то разинули, да слушаете этого выскочки! Потащим нашего-то гуся, куда надобно!
– Так умри же, бездельник! – воскликнул Бурмистров и выстрелил в бунтовщика из пистолета. Солдат, раненный в плечо навылет, упал. – Хватайте, вяжите его! – закричал он толпе мужиков, собравшейся около солдат из любопытства.
Охота с кем бы то ни было подраться за правое дело, презрение к опасностям и желание блеснуть удальством составляли и составляют отличительные, врожденные черты русского характера. Мужики по первому слову Бурмистрова, вооружась одними кулаками, бросились на бунтовщиков, вмиг их обезоружили и перевязали.
Офицера, отнятого у солдат, Бурмистров пригласил войти в дом Лаптева, а связанных солдат велел ввести к нему на двор и запереть в сарай.
– Кому обязан я моим избавлением? – спросил офицер, войдя за Васильем в светлицу Лаптевой и поклонясь хозяину, хозяйке и Андрею. – Кого должен благодарить я за спасение моей жизни?
– Без помощи этих добрых посадских я бы ничего не успел сделать, – отвечал Бурмистров. – Меня благодарить не за что.
– Как не за что? Как бы не ты, так капитана Лыкова поминай как звали! Бездельники тащили меня на Красную площадь и хотели там расстрелять.
– Капитан Лыков?.. Боже мой! Да мы, кажется, с тобой знакомы. Помнишь, в доме полковника Кравгофа…
– То-то я смотрю: лицо твое с первого взгляда показалось мне знакомо. Да отчего ты так похудел и побледнел? Как бишь зовут тебя? Ты ведь пятисотенный?
– Был пятисотенным. После бунта пятнадцатого мая вышел я в отставку. Ну, что поделывает Кравгоф? Где он теперь?
– Он через неделю после бунта уехал со стыда в свою Данию. Полуполковник наш, Биельке, умер – вечная ему память! – и майор Рейт начал править полком. Недели на две уехал он в отпуск и сдал мне свою должность, а без него, как нарочно, и стряслась беда. Сегодня в полночь услышал я, что в Москве бунт. «Ах ты, дьявол! – подумал я. – Да будет ли конец этим проклятым бунтам!» Как раз собрал я весь наш полк и хотел из нашей слободы нагрянуть на бунтовщиков, этих окаянных стрельцов… виноват! Из ума вон, что ты сам служил в стрелецких полках.
– Да не угодно ли сесть, господин капитан? Я чаю, твоя милость устала! – сказал Лаптев, поклонясь Лыкову и придвигая для него к столу скамейку.
– Как не устать! Я-таки поработал сегодня: пятерых бездельников своими руками заколол за упрямство. Не пойдем! – кричат – да и только. Меня горе взяло. Ах вы, мошенники! Я вам дам знать не пойдем! Весь наш полк довел уж я из Бутырской слободы до Земляного города. «Ребята! – закричал я. – От меня не отставай! Катай бунтовщиков, чтобы небу было жарко!» Первая рота, нечего сказать, отличилась, молодцы! настоящие русские солдаты: так на вал за мной и лезут. Стрельцы начали было отстреливаться. «Погодите, дружки! Дуй их прикладами!» – закричал я. Струсила хваленая Надворная пехота. Бунтовать – ее дело, а драться – так нет! Побежали, мошенники, врассыпную. Я с вала кричу прочим ротам: «За мной!» А они, подлецы, ни с места! «Провалитесь же вы сквозь землю, поганые трусы! – крикнул я. – Я и с одной храброй ротой раскатаю бунтовщиков. Вперед, ребята! Дадим себя знать этой Надворной пехоте». Спустились мы с валу да стали подчивать приятелей в затылок свинцовым горохом. Бегут себе, не оглядываясь, ну так, что смотреть жалко! «Вперед!» – кричу я своим молодцам, да грехом и насунулся на пушки. Тьфу ты, пропасть! Черт же знал, что у вас, мошенников, и эти чугунные дуры есть. Вижу я, что дело неладно, да уж коли на то пошло: «Бери пушки! – закричал я солдатам. – За мной!» Бросились мы вперед, а нас вдруг как вспрыснут картечью! Нечего сказать: умеючи выстрелили – легло и наших довольно! Вижу я, что делать нечего и что у нас храбрости много, да людей мало, и велел я своим отступать, а чугунные дуры, разозлясь, так на нас и лают да ухают одна за другой! Вышли мы из Земляного города. Я прямо к прочим ротам и начал их ругать на чем свет стоит; а меня, подлецы, схватили, руки назад, затянули веревкой, да и потащили к этому сатане, Чермному, на Красную площадь. Они хотели, спросясь его, меня расстрелять. Тьфу, какая досада! Я бы согласился лучше удавиться! Ведь полк-то наш, кроме первой роты, опять себя опозорил и пристал к этим окаянным бунтовщикам. Срам, да и только! Право, пришлось удавиться с досады!
Лыков от сильного негодования вскочил со скамьи, начал ходить большими шагами взад и вперед по комнате, и слезы навернулись у него на глазах.
– А знаешь ли, что поганые бунтовщики было затеяли? – продолжал он, обратясь к Бурмистрову. – Поймали они стольника Зиновьева, который прислан был из Воздвиженского с царскою грамотой к патриарху, привели его к святейшему отцу и велели грамоту читать вслух. Как услышали они, что Хованские казнены за измену, – батюшки-светы! – взбеленились и заорали в один голос: «Пойдем в Воздвиженское и перережем там всех!» И патриарха-то убить грозились. А как услышали, что царский дом со всеми боярами едет в Троицкий монастырь, что там есть войско, крепкие стены, а на стенах-то чугунные дуры, так и храбрость прошла. Как раз хвосты поджали, бездельники, и объявили, что если из монастыря придет войско к Москве, то они поставят посадских с женами и детьми перед собой и из-за них станут драться. Я думаю как-нибудь из Москвы дать тягу в монастырь. Не поедешь ли и ты вместе со мною?
– Душой был бы рад, – отвечал Бурмистров, – да нет возможности отсюда вырваться. Станем здесь что-нибудь делать.
– А что, в самом деле! Двое-то что-нибудь да свахляем.
– Можно подговорить поболее посадских и других честных граждан. Бунтовщики всем жителям раздали оружие. Нацадем на них врасплох, ночью. Жалеть их нечего!
– Ай да пятисотенный! – воскликнул Лыков, вскочив со своего места и бросясь обнимать Бурмистрова. – Одолжил, знатно выдумал! Поцелуй! поцелуй еще раз!
Лаптев, тихонько дернув Бурмистрова за рукав, повел его из светлицы в нижнюю комнату, затворил дверь и сказал ему шепотом:
– Не во гнев тебе будет сказано, Василий Петрович, мне кажется, что тебе лучше всего спрятаться на несколько дней у меня в доме, а потом при помощи Божьей тихомолком выбраться из Москвы. Если дойдет до царевны Софьи Алексеевны и Милославского, что ты жив, того и смотри, что тебя схватят, отрубят голову али пошлют туда, куда ворон костей не заносит. Милославский, сам ты знаешь, на тебя пуще Сатаны зол и по-своему всеми делами ворочает. Уж он тебя, слышь ты, не помилует да выпытает еще, где Наталья Петровна? Ты и себя и ее погубишь. Милославский ведь не посмотрит на то, что ты бунтовщиков уймешь. Их – Бог милостлив – и без тебя уймут, а Софье-то Алексеевне вперед наука – прости, Господи, мое согрешение! Ее, видимо, Бог наказывает за то, что она обидела царицу Наталью Кирилловну. Как бы не взбунтовала она против нее, нашей матушки, стрельцов, так они и теперь бы против нее самой не бунтовали. Пусть капитан один усмиряет разбойников, а тебе, Василий Петрович, лучше из Москвы подальше убраться. Поезжай с Богом в Ласточкино Гнездо и обрадуй твою невесту. Я чаю, бедненькая, по тебе с утра до вечера плачет. Женился бы и зажил как в раю! Капитану-то можно поусердствовать для Софьи Алексеевны: она, верно, его наградит; а тебе чего ждать от нее?
– Неужели ты думаешь, – отвечал Бурмистров, – что тогда только должно действовать, когда можно ожидать награды? Нет, Андрей Матвеевич, ты любишь читать Священное Писание, вспомни-ка, что там сказано. Велено делать добро, не думая о награде; велено полагать душу свою за ближнего. Если мы делаем добро для того только, чтобы заслужить похвалу, награду или славу, то поступаем нечисто. Тогда только исполняем мы обязанности наши, когда руководствуемся в действиях одною бескорыстною любовию к Богу и ближним. Вот, Андрей Матвеевич, долг всякого христианина. Я прожил уже тридцать лет на свете. Жизнь коротка: не должно терять время на дела нечистые или бесплодные! Кто может назвать будущий день, будущий час – своим? Кто может быть уверен, что он долго еще не предстанет пред Нелицемерным Судией для отчета в делах своих?
– Так, Василий Петрович, истинно так! – сказал со вздохом Лаптев. – Однако ж мне, право, жаль тебя! Ты уймешь бунтовщиков, а тебя положат на плаху или пошлют в ссылку, ты знаешь Милославского-то.
– Знаю, что он злой человек, но уверен в том, что власть, какая бы ни была, лучше безначалия. Например, теперь всякий презренный бездельник, всякий кровожадный злодей может безнаказанно ворваться в дом твой, лишить тебя жизни, разграбить твое имение, может оскорбить каждого мирного и честного гражданина, обесчестить его жену и дочерей, зарезать невинного младенца на груди матери. Милославский как ни зол, но этого не сделает. Если не любовь к добру, то, по крайней мере, собственная польза и безопасность всегда будут побуждать его к охранению общего спокойствия и порядка, которых ничем нельзя прочнее охранить, как исполнением законов и строгим соблюдением правосудия. Может быть, по страсти или злобе окажет он несправедливость нескольким гражданам, но зато целые тысячи найдут в нем защитника и покровителя. Итак, скажи: не лучше ли безначалия власть, даже несправедливыми путями приобретенная? Справедливо, что Бог не оставляет ее долго в руках недостойных. Годунов, при всем своем уме, Лжедмитрий, при всей своей хитрости, вместе с жизнию лишились царских венцов, святотатственно ими похищенных. Прочная, истинная власть даруется Богом помазанникам Его. Не должны ли мы охранять этот священный дар Всевышнего, не жалея последней капли крови? Не должны ли мы считать противниками самого Бога восстающих против власти царской? Какое преступление может быть ужаснее поднятия святотатственной руки на пролитие крови помазанника Божия?
– Так, Василий Петрович, истинно так, и в Писании сказано: «Несть бо власть, аще не от Бога». Она страшна одним злодеям и мошенникам. Писание говорит: «Хощеши же ли не боятися власти, благое твори», и еще сказано: «Противляйся власти, Божию повелению противляется». Святой апостол Петр поучает: «Братство возлюбите, Бога бойтеся, царя чтите». И в другом месте…
– Итак, я надеюсь, что ты не станешь мне советовать, чтобы я оставил свое намерение. Если б даже стрельцы бунтовали против одной Софьи Алексеевны, и тогда бы я стал против них действовать. Но вспомни, что злодеи хотят погубить весь дом царский и царя Петра Алексеевича – надежду отечества. Не клялся ли я защищать его до последней капли крови?
– Эх, Василий Петрович, да мне тебя-то жаль! Подумай о своей головушке; вспомни о своей невесте: ведь злой Милославский, пожалуй, запытает тебя до смерти, чтобы узнать, куда ты скрыл ее?
– Ну что ж? Я умру, но Милославский не узнает ее убежища.
Лаптев хотел что-то еще сказать, но не мог ни слова более выговорить, заплакал и крепко обнял Бурмистрова.
– Да благословит тебя Господь! – сказал он наконец, всхлипывая. – Делай, что Бог тебе на сердце положил, а я буду за тебя молиться. Он посильнее и царевны Софьи Алексеевны, и Милославского. Он защитит тебя за твое доброе дело.
После этого оба пошли в светлицу.
– Ну что, пятисотенный, когда же приступим к делу? У нас есть еще помощник!
– Кто? – спросил Бурмистров.
– А вот этот молодец! – отвечал Лыков, взяв за руку Андрея. – У него так руки и зудят на драку с бунтовщиками! Ей-богу, молодец! Я бы его сегодня же принял в наш полк прапорщиком! Брось-ка, Андрей Петрович, свою академию, возьми вместо пера шпагу да начни писать вместо черных чернил красными.
– Можно владеть и мечом и пером вместе! – отвечал Андрей. – Юлий Цезарь, по другому же произношению Кесарь[150], был и отличный полководец и отличный писатель.
– Чудная охота марать бумагу! Ну да уж пусть так! Оставайся в академии; только теперь помогай нам.
– Пойдем, капитан, и ты, Андрей Петрович, в нижнюю горницу, – сказал Бурмистров, – надобно нам посоветоваться. Не пойдешь ли и ты с нами, Андрей Матвеевич? Я думаю, мы наскучили Варваре Ивановне, верно, ей уж давно пора заняться хозяйством.
– Посоветоваться? Ой уж мне эти советы! – воскликнул Лыков. – Кравгоф был смертельный до них охотник и до того досоветовался, что нас чуть было всех не перестреляли, как тетеревей!
– А нам надобно, – сказал Василий, – посоветоваться для того, чтобы перестрелять бунтовщиков, как тетеревей.
– Право? Вот для этого так и я от советов не прочь!
Лыков пошел с Бурмистровым и Лаптевым в нижнюю горницу. Андрей, восхищаясь, что его пригласили для военного совета, последовал за ними, перебирая в памяти латинских и греческих писателей, которые рассуждали о военном искусстве.
– Да не лучше ли вам здесь посоветоваться? – сказала Варвара Ивановна. – Ведь я никому ничего лишнего не выболтай.
– Нет, жена! Не мешай дело делать, а лучше приготовь-ка обед. Помнишь сеновал-то?
– Да, я чаю, и ты его не забыл! – отвечала Лаптева.
– Ну, ну, полно! Кто старое помянет, тому глаз вон!
IX
Грядою тянутся в наш стан;
Главу повинную приносят.
ЛобановЧерез несколько дней после описанного в предыдущей главе совещания капитан Лыков пришел утром к Лаптеву.
– Не здесь ли Василий Петрович? – спросил он хозяина, который вышел в сени ему навстречу.
– Здесь, господин капитан, в верхней светлице.
– Ну, пятисотенный, – воскликнул Лыков, войдя в светлицу, – все труды наши пропали, все пропало!
– Как! Что это значит? – спросил Бурмистров с беспокойством.
– Да что, братец, досадно! Ведь не удастся нам с тобою потешиться над проклятыми бунтовщиками! Дошел до них слух, что около Троицкого монастыря собралось сто тысяч войска. Я слышал от верного человека, что сто хоть не сто, а тысяч с тридцать. Что же? Ведь собачьи-то дети не знают, куда деваться со страха. Бросились к боярину Михаилу Петровичу Головину, который на днях от государей в Москву приехал, и нутка в ноги ему кланяться. «Нас-де смутил молодой князь Иван Иванович Хованский!» – ревут, как бабы, и помилования просят. Уф, как бы я был на месте боярина, помиловал бы я вас, мошенников! С первого до последнего велел бы вздернуть на виселицу!
– Слава Тебе, Господи! – воскликнул Лаптев, перекрестясь. – Стало быть, бунтовщики унимаются?
– Унялись, разбойники! А, право, жаль: смерть хотелось мне с ними подраться! Вот, потом они бросились от боярина Головина к святейшему патриарху, и тому бух в ноги. Патриарх отправил в Троицкий монастырь архимандрита Чудова монастыря Адриана, а после того еще Илариона, митрополита суздальского и юрьевского, с грамотами к царям, что бунтовщики-де просят их помиловать и обещаются впредь служить верой и правдой. Софья Алексеевна прислала в ответ на эти грамоты приказ, чтобы до двадцати человек выборных из каждого полка Надворной пехоты пришли в Троицкий монастырь с повинною головою. Собрались все, мошенники, на Красной площади и начали советоваться, идти ли выборным в монастырь? Ни на одном лица нет. Ходят повеся голову, как шальные. Я хотел было еще постоять да посмотреть, а как услышал, что затевается у мошенников совет, я и пошел оттуда без оглядки. Терпеть не могу советов!
– Какие чудеса происходят на Красной площади! – сказал Андрей, войдя в светлицу. – Такие чудеса, что и поверить трудно.
– Что, что такое? – спросили все в один голос.
– Сотни две главных бунтовщиков надели на шеи петли и вытянулись в ряд гусем. Перед каждым из них встали два стрельца с плахой, а сбоку еще стрелец с секирой. И Чермной надел на себя петлю. Тут подошли к бунтовщикам жены и ребятишки их, чтобы проститься с ними. Какой начался вой да плач! Оглушили, просто оглушили! Ребятишки-то схватились ручонками за ноги отцов, кричат и не пускают их идти. Хоть они и злодеи, но мне, признаюсь, их жалко стало. Все побледнели как полотно; целуют своих ребятишек, а слезы у самих так градом и катятся. А жены-то, жены-то их! Я не мог смотреть более на эту раздирающую сердце картину. Прощание Гектора с Андромахой[151], если б я был свидетелем этой трогательной сцены, едва ли бы произвело на меня такое впечатление. Я сам заплакал, как дурак, и ушел с площади.
– Есть о чем плакать! Хорошо они сделали, что петли сами на себя надели. Тут же я велел бы всем им шеи-то покрепче перетянуть, разбойникам. Ах да! Хорошо, что вспомнил. Вели-ка, Андрей Матвеевич, моих солдат, что у тебя в сарае сидят, вывести на двор. Я сейчас приду.
– Обедали ль они, Варвара Ивановна? – спросил Лаптев, обратясь к жене.
– Нет еще!
– Как, Андрей Матвеевич! Да неужто ты кормишь этих злодеев?
– Не с голоду же их уморить, господин капитан. И Писание велит накормить алчущего.
– Не стоят они этого. Охота же была тебе кормить десятерых мошенников! Ну да уж пусть так. Что съедено, того не воротишь. Вели же, пожалуйста, их вывести. Я тотчас возвращусь.
Лыков поспешно вышел. Через полчаса привел он на двор Лаптева около тридцати солдат первой роты и поставил их в ряд. Один из них держал пук веревок. Бурмистров, Лаптев и Андрей вышли на крыльцо, а Варвара Ивановна, отворив из сеней окно, с любопытством смотрела на происходившее.
– Ребята! – закричал Лыков солдатам первой роты. – Вы дрались с бунтовщиками по-молодецки! Я уж благодарил вас и теперь еще скажу спасибо и, пока у меня язык не отсохнет, все буду говорить спасибо!
– Рады стараться, господин капитан! – гаркнули в один голос солдаты.
– За Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Будь я подлец, если вам чрез три дня не выпрошу царской милости. Всех до одного в капралы, да еще и деньжонок вам выпрошу, чтобы было чем на радости пирушку задать.
– Много благодарствуем твоей милости, господин капитан!
– А покуда сослужите мне еще службу! Всем этим подлецам, трусам, бунтовщикам и мошенникам наденьте петли на шеи. Я научу вас не слушаться капитана и таскать его по улицам, словно какую-нибудь куклу! Отведите их всех на Красную площадь. Оттуда идут стрельцы в Троицкий монастырь просить помилования; там с ними разделаются: пойдут с головами, а воротятся без голов! Проводите и этих всех бездельников в монастырь. Надевайте же петли-то!
– Взмилуйся, господин капитан! – заговорили выведенные из сарая солдаты.
– Молчать! – закричал Лыков, взошел на крыльцо и, вместе с Бурмистровым, Лаптевым и Андреем войдя в нижнюю горницу, сел спокойно за стол, на котором стояли уже пирог и миса со щами.
Прошло несколько дней. Наконец возвратились в Москву все мятежники, которые пошли в Троицкий монастырь с повинною головою. София объявила им, чтобы они немедленно прислали в монастырь князя Ивана Хованского, возвратили на Пушечный двор взятые оттуда пушки и оружие, покорились безусловно ее воле и ждали царского указа. Патриарх Иоаким послал между тем к царям сочиненный им Увет Духовный, содержавший в себе опровержение челобитной, которую подал Никита с сообщниками, и увещание всем раскольникам, чтобы они обратились к церкви православной. Он получил в ответ царскую грамоту о принятии царями приношения его с благодарностию и о прощении мятежников, если они все то исполнят, что объявлено было тем из них, которые приходили в Троицкий монастырь. Осьмого октября собрались стрельцы и солдаты Бутырского полка на площади пред Успенским собором. По окончании обедни патриарх прочел Увет Духовный и объявил указ, что цари, по ходатайству его, приемля раскаяние бунтовщиков, их прощают. Все, бывшие в церкви, после того целовали положенные на налоях Евангелие и руку святого апостола Андрея Первозванного, изображавшую тремя сложенными перстами крестное знамение. Один Титов полк остался непреклонным, не захотел отречься от древнего благочестия и с площади возвратился в слободу.
На другой день, девятого октября, пришли в Крестовую палату выборные из покорившихся стрельцов, со слезами благодарили патриарха за его ходатайство и просили его донести царям, что они вполне чувствуют их милосердие и клянутся служить им верой и правдой. Патриарх немедленно пошел в Успенский собор. На площади пред церковью стояли ряды стрельцов и Бутырский полк. Раздался звон колоколов, и бесчисленное множество народа собралось во храм.
Отслужив благодарственный молебен, патриарх сказал раскаявшимся мятежникам:
– Людие Божии! Видите сами явленное вам милосердие Творца, иже в руце Своей царские сердца имеет. Творец неба и земли, вложи в сердца благочестивых наших царей помиловати вас и прощение вам даровати. Аз им, государем, о вас во Христе чадех велия прошения сотворих, да оставят вам долги ваши, и оставиша. Сего ради помните сие и мене, суща яко в поручении по вас, не предадите; оставите всякое зломысльство сердец ваших и поживете благо лета многа. И не возмогите навести на мене и на себе злобного и клятвенного порока.
– Да не будет на нас, – воскликнули тронутые стрельцы, – милость Божия и Пречистыя Богородицы, если мы крестное целование и обещание наше нарушим! Да будет на изменниках проклятие Божие!
Патриарх, благословив крестом всех, бывших в соборе, пошел в сопровождении многочислейного духовенства в Крестовую палату. Народ и стрельцы вышли из церкви на площадь. Радость сияла на всех лицах; все славили милосердие государей, обнимались и поздравляли друг друга.
По просьбе стрельцов название Надворная пехота было отнято, столб, в честь них поставленный на Красной площади, был сломан, и находившиеся на них жестяные доски с похвальною грамотою и с именами убитых ими пятнадцатого мая мнимых изменников брошены были в огонь.
После того дом царский вознамерился возвратиться в Москву. Прежде въезда в столицу цари остановились в селе Алексеевском. Патриарх с выборными из стрельцов прибыл в село, и последние со слезами просили государей отпустить им вины их и возвратиться в престольный город. Им подтверждено было прощение, и весь дом царский поехал в Москву. От самого села до столицы стрельцы без оружия стали по обеим сторонам дороги и, при проезде царей падая на землю, громко благодарили их за оказанное им милосердие. Царь Иоанн Алексеевич, бледный и задумчивый, ехал, потупив глаза в землю, и, по-видимому, обращал мало внимания на происходившее. Огненные взоры юного царя Петра, обращаемые на мятежников, выражали попеременно то гнев, то милость. У городских ворот стрельцы поднесли государям хлеб и соль и похвальную грамоту, данную им после бунта пятнадцатого мая, за истребление мнимых изменников, которая по приказанию царей в то же время была уничтожена.
Ивана Хованского сослали в Сибирь. Чермной по ходатайству Милославского получил прощение. Циклеру пожалована была вотчина в триста дворов, а Петрову в пятьдесят, и все многочисленное войско, собравшееся к Троицкому монастырю для защиты царей против мятежников, было щедро награждено и распущено. София, повелев разослать всех непокорившихся стрельцов Титова полка по дальным городам, назначила начальником Стрелецкого приказа думного дьяка Федора Шакловитого и пожаловала его в окольничие.
X
Будь тверд в злосчастные минуты,
Но счастью тож не доверяй!
КапнистПо восстановлении в Москве спокойствия Бурмистров тайно выехал ночью из города. Лаптев, Андрей и капитан Лыков проводили его до заставы. Первый при прощании обещал неусыпно наблюдать за Варварой Ивановной, чтобы она кому-нибудь не проговорилась о том, что Василий жив.
Начинало светать, когда Бурмистров въехал в село Погорелово. Расплатясь с своим извозчиком, он купил в селе лошадь, надел на нее седло и сбрую, взятые им из Москвы, и немедленно поскакал далее. Вскоре увидел он проселочную дорогу, которая вела в Ласточкино Гнездо. Сердце его забилось сильнее. Нетерпение обрадовать свою невесту заставило его погонять лошадь, которая и без того неслась во весь опор. Но так как во всей вселенной нет ничего быстрее мысли человеческой, которая в один миг может перескочить в Камчатку, из Камчатки на Луну, а с Луны спрыгнуть в комнату, где читается эта книга, то почтенные читатели на крылатой мысли без труда обгонят нетерпеливого жениха, прежде него прибудут в Ласточкино Гнездо, и узнают, что там еще за несколько дней до выезда его из Москвы случилось следующее необыкновенное происшествие.
Крестьянин Мавры Савишны Брусницыной, Иван Сидоров, под вечер пошел по ее поручению в Чертово Раздолье, чтобы настрелять дичи. He смея зайти далеко в бор, бродил он между деревьями шагах в двадцати от озера, на берегу которого стояло Ласточкино Гнездо. На беду его, не попалось ему на глаза ни одной птицы до позднего вечера. Заря угасла уже на западе. Бедный охотник того и смотрел, что попадется ему навстречу леший, ростом с сосну, или пустится за ним в погоню Баба-яга в ступе с пестом в одной руке и с помелом в другой. Наконец, с величайшею радостию заметил Сидоров на березе тетерева. «Слава Тебе, Господи! – прошептал он. – Застрелю этого глухого черта, да и домой вернусь! Нет, Мавра Савишна, вперед изволь сама ходить сюда за дичью по вечерам, а уж я не ходильщик – воля твоя!»
Второпях прицелившись в тетерева, Сидоров только что хотел выстрелить, как вдруг услышал позади себя чей-то голос. Руки опустились у него от страха, ноги подкосились, и он, упав на землю, пополз, как лягавая собака, и скрылся под ветвями густого кустарника. Вскоре услышал он, что сухие листья и ветви, покрывавшие землю, хрустят под чьими-то ногами. Шум приближается к нему, и голос, его испугавший, становится явственнее и громче. Прижавшись к земле от страха и творя молитву, Сидоров слышит следующие слова:
– Сядем здесь, на эту кочку. Не знаю, как ты, а я очень устал.
– И я чуть ноги волочу! – говорит другой голос. – Ведь мы целый день бродили. Ну уж лесок! Нечего сказать! Как бы не солнышко, так мы, верно бы, заблудились. Думали ль мы, когда жили в Москве, что нас Господь приведет скитаться в этаком омуте. Злодей этот Милославский! Не дрогнула бы у меня рука воткнуть ему эту саблю в горло по самую рукоять: он погубил нас!
Сидоров, ездивший часто по поручениям своей помещицы в село Погорелово за разными покупками, узнавал от тамошних поселян, а иногда от проезжих обо всем, что происходило важного и примечательного в столице. В последнюю поездку свою услышал он там от одного из знакомцев, что князья Хованские по наговорам Милославского были преданы патриархом анафеме и потом повешены где-то в захолустье на осине. Наслышавшись прежде от достоверных старых людей, что в Чертовом Раздолье кроме нечистых духов, ведьм и леших водятся и мертвецы, Сидоров смекнул, что бесы сняли проклятых патриархом Хованских с осины и перенесли в свое гнездо, в Чертово Раздолье. Жалоба на Милославского, произнесенная голосом неизвестного, навела Сидорова на эту мысль. Он оледенел от страха и начал прощаться с белым светом. Долго лежал он ничком на земле, удерживая дыхание и не смея сквозь ветви кустарника взглянуть на мертвецов, которые, сидя на кочке, неподалеку от него, продолжали разговаривать. Наконец они встали. Сидоров слышит, что они подходят к нему. В ужасе запустил он обе руки в рыхлую и мшистую землю и уцепился за корни кустарника. Если б в это время вздумал кто-нибудь тащить Сидорова, хоть не в преисподнюю, а в его собственную избу, то пришлось бы ему прежде вырвать из земли кустарник – так крепко неустрашимый охотник ухватился за корни. Мертвецы прошли мимо него, приблизились к берегу озера и остановились шагах в пятнадцати от Сидорова, обернувшись к нему спиною.
«Знать, они меня не видали! – подумал он. – Кажись, они ушли. Зевать-то нечего! Встать было, да и бежать отсюда без оглядки домой, покамест они не воротились». Он вытащил тихонько руки из земли, взял лежавшее подле него ружье и, стиснув зубы, которые били тревогу не хуже самого искусного барабанщика, решился взглянуть сквозь ветви кустарника в ту сторону, куда мертвецы удалились.
«Ах вы, дьяволы! – прошептал Сидоров. – Да это, кажись, не мертвецы, на них и саванов нет! Чтоб волк вас съел, окаянные побродяги! Натко! шатаются вечером в лесу, калякают, да добрых людей пугают! Я вам за это всажу по пригоршне дроби в затылки, да еще и пулю в придачу!» Вынув из висевшей у него сбоку сумки пулю, опустил он ее в дуло ружья. «Леший вас знал, что вы живые люди! Кажись, что живые!.. Так и есть! На обоих сабли, шапки да кафтаны стрелецкие. Никак это стрельцы беглые. Погодите, дружки! Видно, вы сюда в лес промышлять пришли. Живых-то я и десятерых не испугаюсь!»
Сидоров, все еще лежа под кустарником, прицеливался в одного из стрельцов, размышляя: «Одного-то я застрелю, а другого пришибу прикладом». Уж он готов был выстрелить, но вдруг опустил ружье: «Да за что ж я ухожу их? – подумал он. – Ведь они не хотели меня настращать, а я сам, по своей охоте, их испугался. Может быть, они и добрые люди. Дай-ка послушаю, о чем они толкуют».
Положив ружье на землю, Сидоров решился подслушать разговор стрельцов. Приблизясь к берегу озера, они долго смотрели на Ласточкино Гнездо, и один из них, продолжая говорить, несколько раз указал на дом Мавры Савишны. Потом оба возвратились к той самой кочке, на которой прежде отдыхали, и сели боком к Сидорову в таком от него расстоянии, что он мог рассмотреть их лица и явственно слышать все слова их.
– Нет, Иван Борисович, не ропщи на Милославского! – сказал один из стрельцов. – Я больше потерял, нежели ты. Я был сотником, а ты пятидесятником. У меня был дом в Москве, а ты, ты жил у приятеля. Конечно, мы всего лишились; однако ж я за все благодарю Господа! Во всем этом я вижу перст Его, указующий мне путь спасения. Девять лет хранил я тайну, которую тебе теперь открою. Теперь могу я возвестить тебе все, что у меня таилось так долго на сердце. Срок, назначенный преподобным Аввакумом многотерпеливым, настал, и я должен исполнить его повеление. В изгнании нашем из Москвы, в лишении нашем всех суетных благ земных, в найденном нами во глубине этого леса убежище, в усердии твоем ко мне, в покорности всех бывших в моей сотне стрельцов – во всем я вижу знамение, что наступило время к совершению дела, возложенного на меня свыше. Я не только не ропщу на Милославского, но считаю его моим благодетелем, желаю ему всякого добра и рад все для него сделать. Теперь все готово для моего подвига. Священнослужителя только недостает нам, но сегодня в полночь пошлет его нам Господь; в этом я не сомневаюсь.
– В последний раз, – сказал другой стрелец, – как ходил я, переодетый крестьянином, в деревню за съестными припасами, расспрашивал я об ней мальчика и узнал, что ее зовут Наталья. Нам легко будет ее похитить. В доме помещицы теперь нет ни одного мужчины. Она была помолвлена. Жених ее жил несколько времени в этой деревне, но с тех пор, как схватили его в селе Погорелове, ни один мужчина к помещице не приезжал. Крестьян у нее также немного, всего человек семь или восемь; что они сделают против десятерых? Я велел всем взять ружья и дожидаться нас у холма, вон там, на берегу этого озера.
Из этого видно, сколь несправедливо мнение, что стремление к просвещению в России началось со времен Петра Великого и что до сего государя русские не радели об оном. Первый государь из дома Романовых покровительствовал уже просвещению.
– Пойдем в деревню ровно в полночь, а покуда отдохнем здесь. В ожидании ночи открою тебе тайну, о которой говорить начал. Ты знаешь, что я учился четыре года в Андреевском монастыре[152]. Прилежанием и добрым поведением заслужил я любовь всех учителей и был одним из лучших учеников, но на двадцатом году случилась со мною странная перемена: я пристрастился к пьянству и был исключен из училища. Все родственники, товарищи и знакомые винили меня; но я вовсе был не виноват. Враг человеческого рода, ходящий по земле и рыкающий, как лев, который ищет добычи, погубил меня. О святках случайно познакомился я с каким-то неизвестным мне человеком. Он выдал себя за новогородского дворянина. Однажды зазвал он меня на Кружечный двор и, несмотря на все мои отговорки, принудил выпить с ним ковш вина. Я приметил, что, принявшись за ковш, он не перекрестился, и, не знаю сам каким образом, принудил и меня выпить оставшееся вино, не дав мне времени сотворить крестное знамение. После этого я с ним никогда не видался, и во мне явилась страсть к вину, которой я не в силах был преодолеть. Иногда предавался я ей в течение целого месяца и более. Я чувствовал, что гублю себя. Все говорили, что я пью запоем, но все очень ошибались. Меня беспрестанно, днем и ночью, смущал и тянул к вину этот новогородский дворянин. Ковш, выпитый мною с ним вместе, не выходил у меня из головы. Я старался думать о чем-нибудь другом, но чем более употреблял усилий, тем сильнее мучила меня неутолимая жажда. Самая молитва мне не помогала. Иногда удавалось мне, однако ж, с неописанными мучениями превозмогать обольщения лукавого, и я вдруг переставал пить. Тогда совесть моя успокаивалась, на сердце делалось легко и весело, и я возносился духом туда, куда обыкновенные люди, преданные суете мира и работающие греху, не имеют доступа. Сколько видений, самых восхитительных и самых ужасных, являлось тогда предо мной! Сколько открывалось пред глазами моими таинств, ни одному смертному не известных. Когда я приходил в это необыкновенное состояние духа, все говорили про меня, что я мешаюсь в рассудке. Я не оскорблялся этим; я чувствовал превосходство свое над обыкновенными людьми, глядел на них с состраданием и из любви к ним желал, чтоб и они могли видеть и постигать то же, что я видел и постигал. Однажды, после победы, одержанной мною над искусителем, вознесся я духом так высоко, как никогда еще не возносился, и шел чрез одно подмосковное село. Вдруг яркое пламя и густой, клубящийся дым поразили глаза мои. Я пошел вперед и увидел, что горит сельская церковь. Поселяне старались гасить пожар, но напрасно: огонь обхватил все здание, крыша и колокольня с треском рухнули. Когда ветер разнес густой дым, столбом поднявшийся над горящими развалинами церкви, один пылающий иконостас с затворенными царскими вратами представился моим глазам. Наконец загорелись царские врата и начали медленно отворяться. Из алтаря блеснуло яркое сияние и осветило дальнюю окрестность. Вдруг приметил я, что за алтарем стоит в белой одежде Аввакум многотерпеливый с пальмовою ветвию и крестом в руке. Выйдя из алтаря, начал он восходить по дыму, который несся к небу с развалин церкви. С дыма святой мученик перешел на белое облако, которое стояло на востоке, и, взглянув на меня, указал в небесной вышине золотую дверь. Я упал на землю и начал молиться. После молитвы увидел я еще три тысячи мучеников, пострадавших за древнее благочестие. Все они, один за другим, вышли также из пылающего алтаря и по черному дыму перешли на белое облако вслед за Аввакумом, и начали все они подниматься к золотой двери, которая сияла ярче звезды. Вскоре потерял я их из виду. Тогда оглянулся я на церковь и что же увидел? Иконостас с царскими вратами и алтарь превратились уже в груду горящих углей, с которых несся синеватый мрачный дым. Вдруг из этого дыма поднимается… кто бы ты подумал?.. новогородский дворянин! Я задрожал. Он указал мне глубокую бездну, на краю которой стоял я, сам того не примечая. На самом дне этой бездны увидел я раскаленную железную дверь. Зеленый пламень, как расплавленная медь, прорывался сквозь щели и замочную скважину двери. Она медленно отворилась, я взглянул в нее – и обмер от ужаса. Я дал обет Аввакуму многотерпеливому никогда и никому не говорить, что я за дверью увидел. Если б я и не дал этого обета, то все бы не нашел слов для описания видения, которое мне представилось. Новогородский дворянин захлопал в ладоши, начал прыгать и запел песню, от которой у меня волосы на голове поднялись дыбом. Преподобный Аввакум сказал мне, что всякий, кого он особенно не охраняет, погибнет навеки, если хоть одно слово услышит из этой песни. Я решился никогда не повторять ее, чтобы не погубить кого-нибудь из ближних. Почему могу я знать, кого многотерпеливый праведник охраняет и кого нет? И начал новогородский дворянин спускаться в бездну к железной двери, а за ним пошли вслед, появляясь один за другим, из синеватого дыма, антихрист Никон и еще три тысячи единомышленников его, которые вместе с ним гнали древнее благочестие. Все они были в черных саванах. Никон, заменивший жезл учителя Петра чудотворца иудейским жезлом со змеями, с головы до ног был обвит черным змеем. Я отворотился от ужасного зрелища. В это самое время кто-то взял меня за руку. Я оглянулся, и невольно благоговейный трепет пробежал по всем моим членам: подле меня стоял Аввакум. «Иди за мною!» – сказал он мне и повел меня из села на какую-то высокую гору, с которой спустились мы в густой лес. «Видел ли ты видение у горящей церкви?» – спросил он меня. «Видел», – отвечал я. «Девять годов храни в сердце твоем все, что ты видел, – продолжал он, – и все, что я еще покажу тебе. В нынешнее антихристово время мир утопает в нечестии; нигде нет истинной церкви; все на земле осквернено и нечисто. Удались в глубину леса, сокройся навеки от мира и восставь истинную церковь, которую покажу тебе. Для этого подвига должен ты приять крещение водою небесною; ибо на земле нет воды неоскверненной. Все моря, озера, реки и источники заражены прикосновением слуг антихристовых». Сказав это, повел он меня далее, в самую середину леса, и, показав истинную церковь, исчез. Меня нашли в лесу дровосеки чуть живого, принесли домой, и я долго был болен горячкою. По выздоровлении страсть к пьянству во мне совершенно исчезла. Девять лет хранил я молчание о моем видении, терпел часто голод и холод и, наконец, по убеждению дяди вступил в стрельцы. В конце прошедшего августа минуло девять лет с тех пор, как я сподобился беседовать с преподобным Аввакумом. Памятуя слово его, удалился я однажды в лес, наломал ветвей, скрепил их тонкими прутьями, древесного смолою и глиною, и устроил купель. В то время шел дождь несколько дней сряду. Когда купель наполнилась до половины небесною водою, я погрузился в нее и принял крещение, мне заповеданное. Возвратясь в Москву, начал я помышлять о воздвижении истинной церкви. Ты знаешь, что потом случилось с нашим полком. Я с радостию услышал весть о нашем изгнании из Москвы, с радостию вышел из этого Содома[153]. Здесь, в этом лесу, скроемся навсегда от служителей антихриста и от всего нечестивого мира, воздвигнем в тайне истинную церковь и достигнем золотой небесной двери.
Вечерняя заря угасла. Стрельцы встали и пошли по берегу озера к холму, у которого их ожидали десятеро сообщников. Сидоров, выслушав весь разговор, вылез из-под куста и побежал без оглядки в дом своей помещицы.
– Ну что, принес ли дичи? – спросила его Мавра Савишна, которую он вызвал в сени.
– Какая дичь, матушка! Я насилу ноги уплел, чуть не умер со страху.
– Ах ты, мошенник! Дуру, что ли, ты нашел; не обманешь меня, плут! Видно, ты и в лес-то не ходил, а весь вечер пролежал на полатях.
– Нет, Мавра Савишна, не греши! Я пролежал не на полатях, а под кустом.
– Что? под кустом? Да ты никак потешаешься надо мной, или с ума спятил! Завтра нечего будет на обед подать! Я тебя научу надо мной потешаться! Видно, борода-то у тебя густа! Смотри, разбойник, вцеплюсь!
– Воля твоя, Мавра Савишна! Изволь над моей бородой тешиться сколько душе угодно, а только уж я в другой раз за дичью под вечер не пойду. Уж лучше утопиться!
– Не белены ли ты объелся? Что на тебя за дурь нашла, мошенник!
– Поневоле найдет дурь, коли душа со страху в пятки ушла! Изволь-ка, Мавра Савишна, выслушать меня, так и гневаться перестанешь.
– Ну что, что такое? говори, плут, скорее.
– А вот изволишь видеть. Бродил я долго по лесу, нет ни одной птицы, хоть ты плачь! Напоследки вижу я: сидит на дереве глухой тетерев. Я как раз прицелился да и услышал голос. Я и смекнул, что дело неладно, и нырнул под куст; и увидел я двух человек. Хованские ль они, стрельцы ли, али лешие какие – лукавый их знает! Сели они неподалеку от меня и понесли такую околесную, что я ни словечка не понял. Болтали они что-то про пожар, про золотую дверь, да еще про железную, про антихриста, про какого-то дворянина, про Милославского, и про всякую всячину! Один, который постарше и с бородавкой-то на щеке, указывал, кажись, на твой дом и болтал, что он прежде пил запоем и что надо сегодня ночью, никак, утащить Наталью Петровну.
– Утащить Наталью Петровну! Да что ты, мошенник, в самом деле меня пугаешь! Ведь как начну со щеки на щеку, так дурь-то и выбью.
– Бей, матушка, Мавра Савишна! Дело наше крестьянское; за всяким тычком не угоняешься; только уж будут к тебе сегодня ночью гости.
Испуганная Семирамида, приказав Сидорову собрать к ней на двор всех крестьян ее с их семействами, побежала в верхнюю светлицу, чтобы сообщить ужасную весть старухе Смирновой и Наталье. Работница Акулина, мимоходом услышав кое-что из разговора Мавры Савишны с Сидоровым, выбежала за ворота и, остановив проходившую мимо дома куму свою, сказала ей несколько слов на ухо. Кума пошла далее и поговорила что-то с другою крестьянкой. Вмиг по всему Ласточкину Гнезду распространилась молва, что Сидоров в Чертовом раздолье встретил лешего и прибежал оттуда без памяти. Другие же, менее суеверные, говорили, что он вовсе лешего не видал, и утверждали, напротив, что из леса выехала в ступе Баба-яга, пустила в Сидорова пестом, чуть-чуть не попала ему в затылок и до самой деревни гналась за ним, без отдыха колотя его в спину помелом.
Вскоре все жители Ласточкина Гнезда собрались на дворе помещицы. Мавра Савишна, посоветовавшись со старухою Смирновою и Натальею, осталась при том мнении, что какая-нибудь шайка воров собирается ограбить ее дом, который стоил ей столько трудов и издержек. Она решилась защищаться до последней крайности, приказала Сидорову зарядить ружье целою пригоршнею дроби, всем же другим крестьянам, женам их, сыновьям и дочерям велела вооружиться топорами, косами, вилами и граблями. Давно известно, что отчаяние может придать и трусливому человеку необыкновенную храбрость. Это случилось и с Маврой Савишной. Принудив старуху Смирнову и Наталью из верхней светлицы переместиться на ночь в баню и уверив их, что опасаться нечего, Семирамида с косою в руке и в мужском тулупе, надетом сверх сарафана, вышла к своему войску.
– Смотрите вы, олухи! – закричала она, – не зевать! Только лишь воры нос высунут, колоти их, окаянных, чем попало!
– Слушаем, матушка, Мавра Савишна! – закричало войско на разные голоса, в числе которых были женские и детские.
Прошел целый час. Войско Семирамиды все еще стояло в боевом порядке. Предводительница для возбуждения своей храбрости удалилась на минуту в чулан и подкрепила себя стаканом настойки; потом, явясь опять перед войском, подняла она косу на плечо, подбоченилась и начала бодро расхаживать взад и вперед по двору. Наконец настала полночь. Большая часть войска, к несчастью, убеждена была, что должно отразить нападение не воров, а Бабы-яги, и совершенно потеряла уверенность в победе, а без этой уверенности в войске ничего бы не успел сделать и сам Наполеон, если б судьба поставила его в трудное положение Мавры Савишны.
Вскоре после полуночи вдруг раздался у ворот стук. Войско Семирамиды вмиг рассыпалось в разные стороны, как груда сухих листьев от набежавшего вихря. Сама предводительница, кинув оружие на землю, опрометью бросилась в курятник, захлопнула за собою дверь и всполошила спавших его обитателей. Петухи и курицы подняли страшный крик и начали бегать и летать из угла в угол как угорелые. Один Сидоров доказал свою неустрашимость. Он подошел к самым воротам, прицелился, выстрелил, влепил всю дробь в ворота и последний убежал с поля сражения. Семирамида, услышав выстрел, упала навзничь и простилась со светом, почувствовав, что ее колют пикою в горло. И никто бы на ее месте не мог в темноте рассмотреть, что уколол ее когтями петух, соскакнувший с насеста к ней на шею. До сих пор историки не разрешили, кто кого более тогда перепугал: петух ли Семирамиду или Семирамида петуха?
История также не объясняет, долго ли пробыла владетельница Ласточкина Гнезда в курятнике. Известно только то, что она, на рассвете войдя в баню, нашла там одну старуху Смирнову, которая горько плакала. От нее узнала она, что два человека, вооруженные саблями, вырвали из рук ее Наталью и, несмотря на крик и сопротивление бедной девушки, унесли ее за ворота.
Нужно ли говорить, что почувствовал Бурмистров, когда приехал в Ласточкино Гнездо и узнал о похищении Натальи? Напрасно расспрашивал он бестолкового Сидорова о разговоре, им подслушанном, и о приметах похитителей его невесты, напрасно искал он ее по всем окрестным местам. Услышав от Сидорова, что похитители упоминали в разговоре не один раз имя Милославского, Василий уверился, что его Наталья попала в руки сладострастного злодея и что он разлучен с нею навсегда. В состоянии близком к отчаянию, простясь с ее матерью и с своею теткою, сел он на коня и поскакал по первой попавшейся ему на глаза дороге. Мавра Савишна стояла на берегу озера и, обливаясь слезами, смотрела ему вслед. Долго еще в отдалении топот копыт раздавался. Наконец все утихло, и Мавра Савишна тихонько побрела к своему дому, чтобы утешать вдову Смирнову, которую Бурмистров поручил ее попечению.
Часть четвертая
I
Бежишь от совести напрасно:
Тиран твой – сердца в глубине;
Она с тобою повсечасно;
Летит на корабле и скачет на коне.
ДмитриевПрекрасный майский день вечерел. Заходившее солнце золотило верхи отдаленных холмов. Поселянки гнали с полей стада свои и при звуке рожка, на котором наигрывал песню молодой пастух, дружно и весело пели: «Ты поди, моя коровушка, домой!»
На скамье под окнами опрятной и просторной избы сидел священник села Погорелова, отец Павел. Вечерний ветер развевал его седые волосы. Пред ним, на лугу, играл мячом лет пяти мальчик в красной рубашке. Задумчивые взоры старика выражали тихое удовольствие, ощущаемое при виде прелестной природы человеком, который, несмотря на седины свои, сохранил еще свежесть чувств, свойственную юности.
Всадник, по-видимому, приехавший издалека и остановивший перед священником свою лошадь, прервал его задумчивость.
– Нельзя ли, батюшка, мне ночевать у тебя? – спросил всадник, спрыгнув с лошади и подойдя к благословению священника. – Лошадь моя очень устала, и я не надеюсь поспеть до ночи туда, куда ехать мне надобно.
– Милости просим, – отвечал гостеприимный старик.
Всадник, привязав лошадь к дереву, которое густыми ветвями осеняло дом священника, сел подле него на скамью.
– Издалека ли, добрый человек, и куда едешь? – спросил отец Павел.
– Еду я в поместье моей родственницы, с которою уже шесть лет с лишком не видался.
– А как прозываешься ты?
– Другому бы никому не сказал своего имени, а тебе скажу, батюшка. Я давно уж знаю тебя.
– Давно знаешь? – сказал священник, пристально вглядываясь в лицо незнакомца. – В самом деле, я, кажется, видал тебя. Однако ж не помню где. Разве давно когда-нибудь? Не взыщи на старике, память у меня уж не та, что в прежние годы.
– А помнишь ли, батюшка, как приезжал к тебе однажды стрелецкий пятисотенный и просил тебя обвенчать его ночью, без свидетелей?
– Да неужто это ты в самом деле? Быть не может! С тех пор прошло около шести лет. Когда ж ты успел так состариться?
– Горесть прежде времени заставит хоть кого состариться, – отвечал незнакомец, которого имя, вероятно, не нужно уже сказывать читателям.
– Не то чтобы ты состарился, а похудел. Видно, был нездоров? Бог милостив, поправишься, так опять будешь молодец. Сколько тебе лет от роду?
– Тридцать четыре года.
– А мне так уж восьмой десяток идет.
В это время подошла к разговаривавшим пожилая женщина с смуглым лицом и, взглянув на приезжего, бросилась его обнимать, восклицая:
– Господи боже мой! да откуда ты взялся, мой дорогой племянник?
– А ты как попала сюда, тетушка? Я ехал к тебе в поместье.
– В поместье? – сказала, вздохнув, женщина. – Было оно у меня, да сплыло! И домик мой, который я сама построила, достался в недобрые руки. Что делать! видно, Богу так было угодно.
– Как, разве ты продала свою деревню?
– Нет, племянничек; давай мне Софья Алексеевна свои палаты за мой домик, не променялась бы я с нею. Выгнали по шее, так делать было нечего. Взвыла голосом да и пошла по миру. Как бы не укрыл нас со старухой, с нареченной твоей тещей, отец Павел – дай Господи ему много лет здравствовать! – так бы мы обе с голоду померли.
– Полно, Мавра Савишна! – сказал священник. – Кто старое помянет, тому глаз вон.
– Нет, батюшка, воля твоя, пусть выколют мне хоть оба глаза, а я все-таки скажу, что ты добрый человек, настоящая душа христианская. Во веки веков не забуду я, что ты приютил нас, бедных. Много натерпелась я горя без тебя, любезный племянничек! Вскоре после того, как ты от нас уехал, Милославский узнал, – знать, сорока ему на хвосте весть принесла, – что невеста твоя жила у меня в доме. Прислал он тотчас за нею холопов; а как услышал, что Наталья Петровна пропала, так и велел меня выгнать в толчки на большую дорогу, а поместье мое подарил, злодей, и с домиком, своему крестному сыну, площадному подьячему Лыскову. Долго мы с твоей нареченной тещей шатались по деревням да милостыни просили. Как бы не батюшка, так бы мы…
– Ну, полно же, Мавра Савишна! – прервал священник. – Что ни заговоришь, а все сведешь на одно.
– Да уж воля твоя, батюшка, сердись не сердись, а я до гробовой доски стану твердить встречному и поперечному, что ты благодетель наш.
Бурмистров, тронутый несчастием тетки и оказанною ей помощью скромным благотворителем, хотел благодарить священника; но последний, желая обратить разговор на другой какой-нибудь предмет, спросил:
– А куда пошла наша старушка?
– Смирнова-то, батюшка? В церковь, отец мой. Сегодня, вишь ты, поминки по Милославском. По твоему совету мы каждый год ходим с нею вместе во храм Божий за его душу помолиться.
– Как, разве умер Милославский? – воскликнул Бурмистров.
– Умер, три года ровно тому назад[154],– отвечал священник. – Боярин князь Голицын да начальник стрельцов Шакловитый мало-помалу пришли в такую милость у царевны Софьи Алексеевны, что Ивану Михайловичу сделалось на них завидно. Он уехал в свою подмосковную вотчину – она верст за пять отсюда – и жил там до самой своей кончины. Он призывал меня к себе, чтоб исповедать и приобщить его пред смертью. Господь не сподобил его покаяться и умереть по-христиански.
– Расскажи, батюшка, племяннику-то, – сказала Мавра Савишна, – как скончался Милославский. Не приведи Бог никого этак умереть!
– Да, – сказал священник, – не в осуждение ближнего, а в доказательство, как справедливы слова Писания, что смерть грешников люта, расскажу я тебе, сын мой, про кончину Милославского. Три года прошло с тех пор, а я как будто теперь еще слышу все слова его и стенания. Молись и ты за его душу. Я знаю, что в жизни сделал он тебе много зла; но истинный христианин должен и за врагов молиться… Ночью прискакал от Милославского за мною холоп его. Я взял с собою святые дары и поспешил в село к боярину. Вошел я в спальню и увидел, что он в жару мечется на постели. Несколько раз приходил он в память. Я хотел воспользоваться этими минутами и начинал исповедь; но он кричал ужасным голосом: «Прочь! прочь отсюда! Кто сказал тебе, что я умираю? Я еще буду жить, долго жить!» Отирая холодный пот с лица, он потом утихал, говорил, чтобы все имение его раздать по монастырям; но после того, как бы вдруг что-то вспомнив ужасное, начинал хохотать. И теперь еще этот судорожный смех у меня в ушах раздается! «Все вздор! – восклицал он. – Я не умру еще! Успею еще покаяться! Голицын и Шакловитый узнают Милославского!» Пред последним вздохом своим подозвал он меня к себе и слабым голосом сказал, чтобы я его исповедовал. На вопросы мои не отвечал он ни слова и все смотрел пристально на дверь. В глазах его изображались тоска и ужас. Думая, что он не в силах говорить, я продолжал глухую исповедь и, кончив ее, хотел его приобщить. «Одинцов! – закричал он вдруг страшным голосом. – Дай, дай мне приобщиться… не дави мне горло… ох, душно!.. уйди прочь!.. не мучь меня!» Помолчав несколько времени, он схватил меня за руку и с трепетом указал мне на дверь. «Батюшка! – сказал он шепотом. – Вели запереть крепче дверь, не впускай их сюда… мне страшно! Зачем они пришли? Скажи им, что меня нет здесь; уговори их, чтоб они меня не мучили. А!.. они указывают на меня в окошко!.. Заприте, заприте, окно крепче!.. Видишь ли, батюшка, сколько безголовых мертвецов стоят у окошка? Кровь их течет к моей постели!.. Видишь ли… вот это Хованские, а это Долгорукий и Матвеев! Не пускайте, не пускайте их сюда!.. Ради бога, не пускайте!» Голос его начал постепенно слабеть, и он умер на руках моих.
– Мы молились сегодня за его душу, помолись и ты, племянник, чтобы… Этакой ты баловень, Ванюша, ведь прямехонько мне в лоб мячом попал!
– Играй, Ваня, осторожнее! – сказал священник мальчику в красной рубашке.
– Что это за дитя? – спросил Бурмистров.
– Он сиротинка, – отвечала Мавра Савишна. – Отец Павел принял его к себе в дом вместо сына. Да уж не кивай мне головой-то, батюшка, уж ничего не смолчу, все твои добрые дела племяннику выскажу.
– Какая холодная роса поднимается! – сказал священник. – Не лучше ли нам в дом войти? Милости просим.
– Вишь как речь-то заминает, – продолжала Мавра Савишна, входя с племянником в дом вслед за священником. – Знаем, что роса холодна, да знаем и то, что у тебя сердечушко куда горячо на добро – дай Господи тебе здоровья и многие лета.
II
Вилась дорожка; темный лес
Чернел перед глазами.
ЖуковскийБурмистров рассказал священнику, своей тетке и возвратившейся вскоре после входа их в горницу старухе Смирновой, что он более шести лет ездил по разным городам, напрасно старался заглушить свою горесть и наконец не без труда решился побывать в тех местах, где был некогда счастлив.
– Мне бы легче было, – говорил он, – если б Наталья умерла; тогда бы время могло постепенно утешить меня. Мысль, что потеря моя невозвратна, не допускала бы уже никогда в сердце мое надежды когда-нибудь снова быть счастливым и не возбуждала бы во мне желания освободить из рук неизвестного похитителя мою Наталью, желания, которое беспрестанно терзало меня, потому что я чувствовал его несбыточность.
– Да, да, любезный племянник! – сказала Мавра Савишна со вздохом. – До сих пор о ней ни слуху ни духу! Да и слава богу!
– Как слава богу, тетушка?
– А вот, вишь ты, Милославский завещал кое-какие пожитки свои крестному сыну, этому мошеннику Лыскову, да и Наталью-то Петровну назначил ему же после своей смерти. Прежний мой крестьянин Сидоров приезжал прошлою осенью сюда и сказывал, что Лысков везде отыскивает твою невесту, что она, дескать, принадлежала его крестному батьке по старинному холопству, что он волен был ее кому хотел завещать и что Лысков норовит ее хоть на дне морском отыскать и на ней жениться.
– Так не Милославский ее похитил? – воскликнул Бурмистров.
– Какой Милославский! – отвечала Мавра Савишна. – Если б тогда попалась она в его руки, так уж верно бы давно была замужем за этим окаянным Лысковым и поживала бы с ним, проклятым, в моем домике. Уж куда мне горько, как я об нем вспомню: ведь сама строила!
Мавра Савишна, растрогавшись, захныкала и начала утирать кулаками слезы.
На другой же день Бурмистров сел на коня и поскакал в Ласточкино Гнездо. Отыскав Сидорова, начал он его снова расспрашивать о приметах похитителей Натальи, о месте, где он их подслушал, и об их разговоре. Ответы Сидорова были еще бестолковее, нежели прежде. Он прибавил только, что недавно, рано утром отправясь на охоту в Чертово Раздолье, видел он там опять несколько человек в стрелецком платье, и между ними того самого, у которого в первую встречу в лесу со стрельцами заметил на щеке черную бородавку.
– Его рожа-то больно мне памятна! – говорил Сидоров. – Он так настращал меня тогда, проклятый, что и теперь еще меня, как вздумаю об этом хорошенько, мороз по коже подирает.
– Не заметил ли ты, куда он пошел из лесу?
– Кажись, он пошел по тропинке, в лес, а не из лесу. Тропинку-то эту я заметил хорошо потому, что она начинается в лесу, за оврагом, подле старого дуба, который, знать, громовой стрелой сверху донизу раскололо надвое, словно полено топором. Да здорова ли, Василий Петрович, Мавра Савишна? Я уж давно в Погорелове не бывал. Чай, ты оттуда?
– Она велела тебе кланяться и попросить тебя, чтоб ты сослужил мне службу. Проводи меня теперь же к той тропинке, по которой стрелец в лес ушел.
– Нет, Василий Петрович, воля твоя, теперь я ни для отца родного в Чертово Раздолье не пойду. Взглянь-ка, ведь солнышко закатывается. Разве завтра утром?
– Я бы тебе дал рубль за работу.
– И десяти не возьму!
– Ну, нечего делать! Хоть завтра утром проводи меня да покажи тропинку.
– Хорошо-ста. Да на что тебе показать-то? Разве ты этих побродяг искать хочешь? Да вот и мой теперешний боярин, Сидор Терентьич, сбирается также послоняться по лесу. Он ездил нарочно в Москву и просил своего милостивца, Шакловитого, чтобы прислал к нему десятка три стрельцов. У меня-де в лесу завелись разбойники. Тот и обещал прислать. А ведь обманул его Сидор-то Терентьич. Он хочет искать не разбойников, а Наталью Петровну. Никак он смекает на ней жениться. Не ехать ли вам в лес вместе? Авось вы двое-то лучше дело сладите. Ты сыщешь этих окаянных побродяг, а он Наталью Петровну. Да ведь и ты в старину к ней никак сватался?
– Отчего Лыскову вздумалось ехать в лес?
– Отчего! Я надоумил его. Поезжай-де, барин, в Чертово Раздолье, авось там клад найдешь. Ну да если и шею сломит, плакать-то я не стану: ведь житья нам нет от него. Авось его там ведьма удавит! Ну, ему ли там отыскать Наталью Петровну! Коли она и впрямь попалась в этот омут, так, я чаю, ее давным-давно поминай как звали!
Ночевав в избе Сидорова, Бурмистров на рассвете оседлал лошадь и поспешил к Чертову Раздолью, сопровождаемый своим путеводителем, который без седла сел на свою клячу. Въехав в лес, они вскоре прискакали к оврагу; слезли с лошадей, осторожно перебрались с ними на другую сторону оврага, увидели расколотый молниею дуб и подле него тропинку, которая, извиваясь между огромными соснами, терялась в глубине бора. Отдавши Сидорову обещанный рубль, Василий накрепко наказал ему ни слова не говорить об их свидании и разговоре Лыскову, сел опять на своего коня и поскакал далее по тропинке. Путеводитель его, несколько времени посмотрев ему вслед, махнул рукою, проворчал что-то сквозь зубы и, вскочив на свою клячу, отправился домой. Чем далее ехал Василий, тем лес становился мрачнее и гуще, а тропинка менее заметною. Часто густые ветви дерев, наклонившиеся почти до земли, преграждали ему дорогу. Иногда принужден он был слезать с лошади, брать ее за повода и пробираться с большим трудом далее. По знакам, вырезанным справа и слева на деревьях, удостоверился он, что едва заметная тропинка, по которой он ехал, давно уже была проложена и вела, вероятно, к какому-нибудь человеческому жилищу. Долго углубляясь таким образом в лес, увидел он наконец довольно широкую просеку и вдали покрытую лесом гору. Приблизясь к горе и поднявшись на нее, Василий взлез на дерево и рассмотрел на вершине горы обширное деревянное здание весьма странной наружности, обнесенное высокою земляною насыпью. Спустясь с дерева, сел он снова на свою лошадь и между мрачными соснами, окружавшими со всех сторон насыпь, объехал ее кругом и увидел запертые ворота. Он начал в них стучаться.
– Кто там? – закричал за воротами грубый голос.
– Впусти меня! – отвечал Василий. – Я заблудился в этом лесу.
Чрез несколько времени ворота отворились. Бурмистров въехал в них и едва успел слезть с лошади, как человек, впустивший его за насыпь, опять запер ворота и, подбежав к лошади Василья, воткнул ей в грудь саблю. Бедное животное, обливаясь кровью, упало на землю.
– Что это значит? – воскликнул Бурмистров, выхватив свою саблю.
– Ничего! – отвечал ему хладнокровно неизвестный. – Волею или неволею ты сюда попал, только должно будет тебе здесь навсегда остаться; уж у нас такое правило. Да не горячись так, любезный, здесь народу-то много: с тобою сладят. Ты ведь знаешь, что с своим уставом в чужой монастырь не ходят. Пойдем-ка лучше к нашему старшему. Да вот он никак сюда и сам идет.
Василий увидел приближавшегося к нему человека в черном кафтане; за ним следовала толпа людей, вооруженных ружьями и саблями. Бурмистров, всмотрясь в него, узнал в нем бывшего сотника Титова полка Петра Андреева. Последний, вдруг остановясь, начал креститься и, глядя на Василья, не верил, казалось, глазам своим.
– Что за чудо! – воскликнул сотник. – Не с того ли света пришел ты к нам, Василий Петрович? Разве тебе не отрубили головы?
– Ты видишь, что она у меня на плечах, – отвечал Бурмистров, приметив между тем на щеке сотника черную бородавку и вспомнив рассказ Сидорова.
– Да какими судьбами ты попал в наше убежище?
– Я рад где-нибудь приклонить голову. Ты ведь знаешь, что Милославский наговорил на меня бог знает что царевне Софье Алексеевне и что она велела мне давным-давно голову отрубить. Я бежал из тюрьмы Хованского и с тех пор все скрывался в этом лесу. Не дашь ли ты мне уголка в твоем доме, Петр Архипович?
– Это не мой дом, а Божий. Все в него входящие из него уже не выходят и не сообщаются с нечестивым миром.
– Я готов здесь на всю жизнь остаться!
– Искренно ли ты говоришь это?
– Ты знаешь, что я никогда не любил лукавить. Я искренно рад, что нашел наконец убежище, которого давно искал.
– Иван Борисович! – сказал сотник, обращаясь к стоявшему позади его пожилому человеку, бывшему пятидесятнику Титова полка. – Отведи Василья Петровича в келью оглашенных и постарайся скорее убелить его.
Бурмистров, обольщаясь слабою надеждою выведать что-нибудь у Андреева о судьбе своей Натальи, решился во всем ему повиноваться и беспрекословно последовал за пятидесятником.
Андреев, подозвав последнего к себе, шепнул ему что-то на ухо и ушел в небольшую избу, которая стояла близ ворот.
Пятидесятник ввел Бурмистрова в главное здание, которое стояло посреди двора, спустился с ним в подполье и запер его в небольшой горнице, освещенной одним окном с железною решеткою. Осмотрев горницу, в которой более ничего не было, кроме деревянного стола и скамьи, покрытой войлоком, Василий нечаянно увидел на стене несколько едва заметных слов, написанных каким-нибудь острием. Многие слова невозможно было разобрать, и он с трудом мог прочитать только следующее: «Лета 194-го месяца июля в 15-й день заблудился я в лесу и… во власть… долго принуждали… их ересь, но я… морили голодом… повесить… через часа смерть… священнический сын Иван Логинов».
Нужно ли говорить, какое впечатление произвела на Василья эта надпись, по-видимому, еще ни разу не замеченная Андреевым, который один был грамотен из всех обитателей таинственного его убежища?
Наступила ночь. Утомленный Бурмистров лег на скамью, но не мог заснуть до самого рассвета. Тогда послышалось ему в верхних горницах дома пение и потом шум, производимый несколькими бегающими людьми. Вскоре опять все затихло, и Василий, как ни напрягал слух, не мог ничего более расслышать, кроме ветра, который однообразно свистел в вершинах старых сосен и елей.
III
От милых ближних вдалеке
Живет ли сердцу радость?
И в безутешной бы тоске
Моя увяла младость!
ЖуковскийВскope после солнечного восхода вошел в горницу Василья бывший пятидесятник Титова полка Иван Горохов. После длинной речи, в которой он доказывал, что на земле нет уже нигде истинной церкви и что антихрист воцарился во всем русском царстве, Горохов спросил:
– Имеешь ли ты желание убелиться?
Бурмистров хотя и не вполне понял этот вопрос, однако ж отвечал утвердительно, потому что к спасению себя и своей невесты, которая, по догадкам его, находилась во власти Андреева, не видел другого средства, кроме притворного вступления в его сообщники. Притом желал он приобресть этим способом доверенность сотника и узнать, не томится ли в убежище его еще какая-нибудь жертва изуверства, которую ожидает такая же участь, какая постигла несчастного, возбудившего в Василии глубокое сострадание прочитанною на стене надписью.
Пятидесятник взял Василия за руку и сказал ему:
– Горе тебе, если притворяешься. Ужасная казнь постигнет тебя, если ты из любопытства или страха изъявил согласие соделаться сыном истинной церкви? Пророческая обедня изобличит твое лукавство.
После этого вывел он его из подполья и, взойдя вместе с ним по деревянной лестнице в верхние горницы дома, остановился пред небольшою дверью, которая была завешена черною тафтою.
– Отче Петр! – сказал пятидесятник. – Я привел к двери истинной церкви оскверненного человека, желающего убелиться.
– Войдите! – отвечал голос за дверью, пятидесятник ввел Бурмистрова в церковь, наполненную сообщниками Андреева. Все стены этой церкви от потолка до полу покрыты были иконами. Пред каждою иконою горела восковая свеча. Нигде не было заметно ни малейшего отверстая, чрез которое дневной свет проникал бы в церковь. Вместо алтаря устроено было возвышение, обитое холстом и расписанное в виде облака, а на возвышении стояла деревянная дверь, увешанная бисером, стеклянными обломками и другими блестящими вещами. Отражая сияние свеч, она уподоблялась яркому золоту.
– Скоро начнется обедня, – сказал Андреев Бурмистрову. – Ты прежде должен покаяться по нашей вере. Встань на колена, наклони голову до земли и ожидай, покуда священник не позовет тебя.
Бурмистров исполнил приказанное, внутренне жалея отпадших сынов церкви и чувствуя невольное отвращение, смешанное с удивлением, при виде нелепых обрядов, столько удалившихся от истинного христианского богослужения.
Все бывшие в церкви запели:
Приидите последнее время, Грядут грешники на суд, Дела на раменах несут! И глаголет им Судия: Ой вы рабушки рабы! Аз возмогу вас простити, И огонь венный погасити.Когда кончилось пение, Бурмистров слышит, что дверь, находившаяся на возвышении, отворилась. Чей-то нежный голос говорит ему:
– Иди ко мне!
Бурмистров встал… и кого же увидел? На возвышении, пред блестящею дверью, стояла в белой одежде с венком из лесных цветов на голове и с распущенными по плечам волосами Наталья. Радость и изумление сильно потрясли его душу. Он долго не верил глазам своим. И бедная девушка, увидев жениха своего, едва не лишилась чувств. Страх обличить его пред изуверами придал ей сверхъестественные силы. С неизобразимым трепетом сердца подала она знак рукою Василию, чтобы он к ней приблизился.
– Поклонись священнику, что ты отрекаешься от прежнего своего нечестия и всякой скверны, – сказал Андреев, – покайся ему во всех беззакониях твоих и скажи, что ты хочешь убелиться.
Все стоявшие близ возвышения удалились от него, чтобы не слышать исповеди Бурмистрова. Подойдя к своей невесте, он по приказанию ее стал пред нею на колени и тихо сказал:
– Наталья, милая Наталья, скажи ради бога, как попалась ты в этот вертеп изуверов? Научи меня, как спасти тебя?
– Да, спаси, спаси меня! – отвечала трепещущим голосом Наталья. – О! если б ты знал, сколько я перенесла мучений от этих извергов!
– Ты бледнеешь, милая Наталья! – прошептал Бурмистров. – Ради бога, собери все твои силы, скрой твое волнение. Во что бы то ни стало я спасу тебя!
– Тише, тише говори, они нас услышат.
– Научи меня, как избавить тебя, я на все готов.
– Отсюда невозможно убежать. Всякого беглеца изверги называют Иудою-предателем и вешают на осине!
– Скажи, что ж нам делать? Я еще не знаю ни правил, ни обрядов этого убежища изуверов. Неужели нет никаких средств к побегу?
– Никаких. Прошу тебя об одном: беспрекословно повинуйся здешнему главе. За малейшее непослушание он сочтет тебя клятвопреступником и закоснелым противником истинной церкви. Пятеро уже несчастных случайно попались в его руки. Я убеждала их исполнять все его приказания, но они, считая меня сообщницею еретиков, не послушались меня, с твердостию говорили, что они не изменят церкви православной, и все погибли.
– И я не изменю истинной церкви. Клянусь спасти тебя и истребить это гнездо изуверов.
– От тебя еретики потребуют торжественной клятвы, что ты волею вступаешь в их сообщество и никогда им не изменишь.
– Я дам эту клятву и ее нарушу. Если бы безумный, бросясь на меня с ножом, принудил меня произнести какую-нибудь нелепую клятву, неужели я должен был бы исполнить ее или упорством заставить его меня зарезать?
– Слова твои успокаивают мою совесть. Меня часто мучило раскаяние, что я, спасая жизнь свою, решилась исполнить все нелепости, которые мне предписывал мой похититель. Много раз решалась я неповиновением избавиться от мучительной жизни, но всегда ты приходил мне на ум. Слабая надежда когда-нибудь спастись из рук моих мучителей и с тобою увидеться воскресала в моем сердце. Для тебя переносила я все мучения и дорожила жизнию.
– Милая Наталья! Сам Бог послал меня сюда для твоего избавления. Положимся на Его милосердие. Я не предвижу еще средств, как спасти тебя, но Он наставит меня!
– Я всякий день со слезами Ему молилась! Кто ж, как не Он, послал тебя сюда? Предадимся Его воле, и хотя спасение наше кажется невозможным, но для Него и невозможное возможно!.. Пора уже кончить исповедь. Глава пристально на нас смотрит. Не забудь моей просьбы исполнять все, что он тебе скажет. Не измени себе и подивись нелепостям, которые ты еще увидишь!
Наталья, положив руку на голову Бурмистрова, сказала:
– Буди убелен!
Андреев и сообщники его подошли к возвышению и начали целовать Бурмистрова.
– Поклянись, – сказал он Василию, – что ты добровольно вступаешь в число избранных сынов истинной церкви. Оборотись лицом к небесным вратам, подними правую руку с двоеперстным знамением и повторяй, что я буду говорить. Никон, антихрист и сосуд сатанинский, бодый церковь рогами и уставь ее стираяй! – отрекаюся тебе и клянуся соблюдати уставы истыя церкве; аще ли нарушу клятву, да буду предан казни и сожжен огнем, уготованным диаволу.
По произнесении клятвы Андреев подвел Бурмистрова к двери, находившейся на возвышении, и сказал ему, чтобы он три раза пред нею повергся на землю. После того все вышли вон из церкви, надели на себя белые саваны и взяли в руки зажженные свечи зеленого воска. Андреев, подавая саван Бурмистрову, приказал ему надеть его на себя и также взять свечу. Когда все возвратились в церковь, Наталья в белой широкой одежде с черным крестом на груди и подпоясанная кожаным поясом, на котором было начертано несколько славянских букв, вышла из небесных врат и стала посередине церкви. Андреев и все его сообщники составили около Натальи большой круг и начали бегать около нее, восклицая, чтобы на нее сошел дух пророчества.
Чрез несколько времени все остановились, и Андреев, встав пред Натальею на колени, спросил:
– Новый сын истинной церкви будет ли всегда ей верен?
– Будет! – отвечала Наталья.
– Нет ли у него в сердце какого-нибудь злого умысла против меня?
– Нет!
– Не грозит ли мне какая-нибудь опасность?
– Не грозит!
– Не буду ли я когда-нибудь схвачен слугами антихриста?
– Не будешь!
Таким образом все сообщники Андреева, один после другого, предлагали вопросы. Нелепость их часто затрудняла Наталью, однако ж она по врожденной остроте ума ее всегда находила приличные ответы.
Наконец дошла очередь до Бурмистрова. Он встал на колени и спросил:
– Не смутит ли меня когда-нибудь враг человеческого рода и не изменю ли я истинной церкви?
– Ты всегда будешь ей верен!
Андреев, услышав этот двусмысленный ответ, ласково взглянул на Бурмистрова.
Когда очередь спрашивать опять дошла до Андреева, то он предложил вопрос:
– Антихрист Никон давно уже пришел и умер; когда же будет кончина мира, и нынешние времена последние или еще не последние?
– Я скажу тебе это чрез три дня, – отвечала Наталья, несколько затрудненная таким вопросом, и пошла из церкви. За нею и все последовали.
Объясним читателям, каким образом Наталья сделалась священником раскольников.
Когда София повелела Титов полк за непокорность разослать по дальним городам, Андреев, которому назначено было идти в Астрахань, отправляясь туда из Москвы со своею сотнею, убил на дороге посланного с ним проводника и пошел окольными дорогами в другую сторону. Случайно проходив близ Ласточкина Гнезда и увидев на берегу озера густой лес, он скрылся в него с пятидесятником Гороховым и со своими стрельцами, почитавшими его за набожность святым, и решился избрать в глубине этого леса место для устроения истинной церкви, которую, по его убеждению, показал ему Аввакум. Церковь эта, без сомнения, была создана бредом воображения его, которое приходило в сильное расстройство после каждого припадка запоя. От последнего избавила его другая сильная болезнь – горячка, но воображение его не излечилось. Найдя удобное место для осуществления призрака, который представился ему в бреду, он увидел однажды Наталью, когда она прогуливалась по берегу озера, подсмотрел, что она ушла в дом Мавры Савишны, и решился ее похитить, потому что в церкви, которую он хотел воздвигнуть, следовало быть священником молодой девушке. Он вовсе не знал, что Наталья была невеста Бурмистрова. Читателям известно все остальное.
Андреев, помня пророчество Натальи о Бурмистрове, начал обходиться с ним ласково и доверчиво, возлагал на него разные поручения и ходил однажды с ним вместе в лес на охоту, которая составляла главный способ пропитания членов воздвигнутой им церкви.
Вечером, накануне дня, назначенного Натальею для разрешения предложенного Андреевым вопроса, он послал Василия в ее горницу, чтобы спросить, в какое время можно будет на другой день служить пророческую обедню? Бурмистров воспользовался случаем, чтобы условиться с Натальею о средствах к их побегу. Долго не находили они никакого, наконец Василию пришла мысль счастливая и решительная. Он сообщил ее с восторгом своей невесте и решился испытать придуманное им средство, хотя и видел ясно всю его опасность.
Наталья назначила служить обедню за три часа до захождения солнца. Бурмистров прежде ухода в свою келью сообщил об этом Андрееву, сказал, что священник для открытия великой тайны о времени кончины мира находит нужным совершить самое торжественное служение, повелевает весь завтрашний день всем поститься и надеется ответить на предложенный ему великий вопрос в ту самую минуту, когда солнце закатится.
И Василий и Наталья целую ночь не смыкали глаз, нетерпеливо ожидая рассвета. Наконец солнце появилось на востоке. Оба думали, что готовит им наступивший день: спасение или гибель?
За три часа до солнечного заката собрались все в церкви, одевшись в саваны и взяв в руки свечи зеленого воску. Когда Наталья в своей одежде стала посредине церкви, началось пение и потом бегание вокруг по-прежнему. В утомлении несколько раз все останавливались и, отдохнув, снова начинали бегать. Поставленному на кровле дома часовому было приказано известить бывших в церкви о минуте, когда солнце начнет закатываться. Все поглядывали на церковную дверь, не исключая Василия и Натальи, хотя они по другим побуждениям, нежели прочие, нетерпеливо ждали вестника. Наконец он вошел торопливо в церковь и сказал:
– Закатывается!
Любопытство еретиков достигло высшей степени. Они перестали бегать и, храня глубокое молчание, устремили взоры на Наталью.
– Я не в силах еще возвестить вам великой тайны, которую вы знать желаете, – сказала Наталья торжественным голосом. – Повергнитесь все на землю и вознесите души ваши к небу. Изгоните из сердец все суетные помыслы. Да не смущает слуха вашего никакой земной звук и да не прельщают зрения никакие суетные призраки этого мира: ни камень, ни дерево, ни вода, ни свет, ни мрак; все земное заражено прикосновением слуг антихриста. Скоро по молению вашему услышите тайну тайн!
Все раскольники с благоговением легли на пол, ниц лицом, зажали уши и зажмурили глаза.
Бурмистров с сильным трепетом сердца тихонько встал с пола и, взяв Наталью за руку, повел из церкви. Бедная девушка едва дышала. Они подошли к двери. Василий начал ее медленно отворять, опасаясь, чтобы она не заскрипела. Наконец вышли они из церкви, спустились с лестницы и, пройдя поспешно двор, приблизились к воротам. Через высокую насыпь перелезть было невозможно, другого же выхода, по словам Натальи, не было. По ее совету Бурмистров вошел в избу привратника, стоявшую близ ворот, и начал искать в ней ключа. Осмотрев все уголки, он в недоумении остановился перед деревянным столом у окошка, не смея выйти к Наталье и сказать ей о безуспешности своих поисков. Он почти уже решился сломать висевший на воротах замок, избегая, сколько возможно, неминуемого при том шума. В эту самую минуту вошла в избу с радостным лицом Наталья, держа ключ в руке.
– Он висел на верее, – сказала она шепотом.
Бурмистров осторожно отворил ворота и вывел невесту свою за насыпь. Оба перекрестились и поспешно начали спускаться с горы к известной уже читателю просеке. Вскоре они достигли ее и побежали к тропинке.
Между тем раскольники, лежа на полу с зажмуренными глазами и заткнутыми ушами, с нетерпением ожидали повеления священника встать для услышания тайны, которая сильно заняла их воображение. Прошло около часа. Андреев, долго лежа на полу наравне с другими, наконец вышел из терпения. Священник истинной церкви не может быть заражен прикосновением слуг антихриста – размыслил Андреев и решился тихонько взглянуть на Наталью. Увидев, что ее посередине церкви нет, он вскочил и закричал ужасным голосом:
– Измена! предательство!
Все раскольники, услышав крик его, вскочили. Вмиг выбежали они вслед за своим главою из церкви, переоделись в стрелецкие кафтаны, схватили сабли и пустились в погоню за беглецами.
Между тем Василий и Наталья, добежав уже до знакомой первому тропинки, поспешно шли по ней к выходу из леса. Видя утомление девушки, Бурмистров принужден был идти потише и, наконец, остановиться, чтобы дать ей время отдохнуть. С трудом переводя дыхание, она села на кочку, покрытую мхом. Вдруг позади их послышался отдаленный шум.
– Побежим, милая Наталья, за нами погоня! – воскликнул Бурмистров.
Оба побежали. Бедная девушка вскоре потеряла последние силы. Схватив Василия за руку и прислонясь к плечу его, сказала она слабым голосом:
– Я не могу бежать далее!
Бурмистров, схватив ее на руки, продолжал бежать по тропинке. Наклонившиеся до земли ветви и широко раскинувшиеся кустарники часто его останавливали. Наконец тропинка пересеклась оврагом, и оставалось уже не более версты до выхода из леса, который приметно редел. Перебравшись через овраг, утомленный Бурмистров остановился для короткого отдыха и посадил Наталью на камень, лежавший между кустами. В это самое время раздался в отдалении голос:
– Вон, вот они! – и вскоре начали один за другим появляться бегущие толпою раскольники с поднятыми саблями.
Василий хотел снова взять Наталью на руки, но она, вскочив с камня, указала ему в ту сторону, куда им бежать было должно, и произнесла голосом, который выражал изнеможение и отчаяние:
– Мы погибли!
Василий, взглянув туда, куда Наталья ему указывала, увидел Лыскова, ехавшего верхом им навстречу в сопровождении конного отряда стрельцов. Сидоров шел подле него, сняв шапку. Оружия с Бурмистровым не было, потому что он бежал с Натальею прямо из церкви. Что оставалось ему делать? На что он должен был решиться: отдаться ли в руки раскольников или же Лыскова? Он стоял в недоумении, поддерживая Наталью за руки. Между тем бегущие раскольники и Лысков к нему приближались. Последний, однако ж, был от него вдвое ближе, нежели первые. Схватив толстый сук с земли, решился он защищать свою невесту до последней крайности и умереть под саблями противников.
– Обоих на осину! – кричал Андреев своим сообщникам. – Не уйдете, предатели! Бегите, друзья, бегите за мной скорее!
– Тропинка уже близко отсюда, барин, вон там, за оврагом, – говорил Сидоров Лыскову, – мы как раз до нее доберемся! Я тебе покажу, куда ехать, а там и ступай все прямо… Господи Твоя воля! – воскликнул он в ужасе.
– Что с тобой сделалось, дурачина? – спросил Лысков. – Чего ты испугался?
Сидоров не мог ничего отвечать от страха и, дрожа, указал на Василия и Наталью. Они стояли неподвижно. Белая одежда их освещена была вечернею зарею, алое сияние которой проникало сквозь ветви дерев и кустарников.
– Что в самом деле за дьявольщина! – воскликнул Лысков, несколько испугавшись и всматриваясь в показанных ему Сидоровым двух человек. – Они как будто бы в саванах! Тут должны быть какие-нибудь плутни! За мной, ребята! Схватим этих мошенников!
Он поехал со стрельцами вперед, а Сидоров пустился бежать из леса с такою быстротою, что гончая собака едва ли бы перегнала его. Прибежав без души в Ласточкино Гнездо, объявил он там прочим крестьянам, что господин их встретил в лесу двух мертвецов и хотел было бежать, но что они его по дьявольскому наваждению потянули к себе со всеми стрельцами.
Прискакав на близкое расстояние к Бурмистрову, Лысков закричал:
– Кто вы таковы? Отдайтесь нам в руки, а не то я велю изрубить вас.
– Прежде размозжу я тебе голову, а потом сдамся! – закричал Бурмистров.
Лысков, услышав знакомый голос и всмотревшись в лицо Василия, содрогнулся и от ужаса опустил из руки повода своей лошади. Он был уверен, что Василию давно уже отрубили голову, и никак не ожидал увидеть его в саване посреди леса. Наталью, вероятно, он не узнал или счел ее за привидение.
– Что ж ты медлишь? – закричал Бурмистров. – Нападай на меня, если смеешь!
Лысков дрожащею рукою начал доставать повода в намерении скакать из леса без оглядки. Лошадь, приметив, что седок на ней ворочается, и ожидая удара поводом, подвинулась еще ближе к Бурмистрову. Стрельцы остались на прежнем месте, в некотором от Лыскова отдалении и, ожидая его приказаний, смотрели со страхом и изумлением на происходившее. Бурмистров заметил ужас Лыскова и тотчас понял причину этого ужаса. В голове его блеснула счастливая мысль.
– Час твой настал, злодей! – закричал он торжественным голосом, бросив на землю толстый сук, который держал в руке. – Никто на свете не спасет тебя! Иди за мною!
Лысков, обеспамятев от страха, спустился с лошади и повалился на землю перед Бурмистровым.
– Позволяю тебе жить на этом свете еще десять лет, если ты сделаешь хоть одно доброе дело, – продолжал Бурмистров. – Схвати этих разбойников, которые бегут сюда, и предай их в руки правосудия.
Лысков вскочил с земли, сел на лошадь, махнул стрельцам и пустился с ними навстречу раскольникам.
Началась между ними упорная драка. Долго раздавались удары сабель и крики сражающихся, долго ни та ни другая сторона не уступала. Наконец раскольники побежали, и Лысков со стрельцами пустился их преследовать. Тем временем Василий и Наталья, выбежав из леса, пошли в Ласточкино Гнездо. Заря уже угасла на западе. Бурмистров решился идти в избу Сидорова, выпросить у него телегу и немедленно ехать с Натальей в село Погорелово, покуда Лысков не возвратился еще в деревню, где почти все жители уже спали.
– Кто там? – закричал Сидоров, услышав стук у дверей своей избы.
– Впусти меня скорее! – сказал Бурмистров.
– Ах! это никак ты, Василий Петрович. Слава Тебе, Господи! видно, ты цел воротился из лесу.
Сидоров, отворив дверь и увидев наряд Василия и Натальи, отскочил от них аршина на три и прижался в переднем углу к стене, под иконами.
– Что ты, что ты, брат! – сказал Василий, входя с Натальей в избу. – Ты, верно, подумал, что к тебе мертвецы в гости пришли? Не бойся, мы тебе ничего не сделаем. Заложи-ка поскорее телегу да ссуди меня каким-нибудь кафтаном и шапкой, а для Натальи Петровны достань где-нибудь сарафан и повязку. Мы теперь же уедем в Погорелово. Приезжай завтра туда за твоим платьем. Да нельзя ли, братец, все это сделать попроворнее? Я тебе завтра дам три серебряных рубля за хлопоты. Только смотри: ни слова не говори Лыскову.
– Да ты никак и впрямь не мертвец! – сказал Сидоров, все еще посматривая с недоверчивостью и страхом то на Василия, то на его невесту. – Да кто вас угораздил этак нарядиться? Святки, что ли, справляете? Раненько запраздновали! До святок-то еще можно сорок сороков тетеревей настрелять.
– У Сидорова все дичь на уме, – сказала Наталья, с улыбкой взглянув на Бурмистрова.
– Однако ж, братец, нельзя ли все поскорее спроворить? – сказал Василий. – Нам дожидаться, некогда. Да одолжи мне, кстати, до завтра твоего ружья.
– Сейчас, сейчас, Василий Петрович. Все мигом будет готово!
Сидоров проворно заложил свою лошадь в телегу, сбегал к замужней сестре своей за сарафаном и повязкой, вытащил из сундука свой праздничный кафтан и шапку, достал из чулана ружье свое с сумкой и подал все Бурмистрову.
Когда Василий и Наталья, переодевшись, сели уже в телегу, Сидоров сказал:
– А кто же будет лошаденкой-то править? Разве мне самому, Василий Петрович, вас прокатить!
Без шапки, сел он на облучке телеги, взял вожжи, приосанился, ударил лошадь плетью и поскакал по дороге к Погорелову, присвистывая и крича:
– Ну, родимая, не выдай! Знатно скачет, только держись.
Еще прежде полуночи он приехал в Погорелово. Нужно ли описывать радость Натальиной матери, которая так неожиданно увидела дочь свою после долгой разлуки? Отец Павел не мог удержаться от слез, глядя на обрадованную старуху и восторг дочери. Мавра Савишна, вскочив со сна, второпях надела на себя вместо своего сарафана подрясник отца Павла и выбежала здороваться с нежданными гостями, а потом от восхищения пустилась плясать, несмотря на свою духовную одежду.
– Мавра Савишна! – сказал, улыбнувшись, отец Павел, – погляди на себя: ты, кажется, мой подрясник надела. Полно плясать-то!
– Ничего, батюшка, на такой радости не грех и в подряснике поплясать – прости Господи мое согрешение! Ай люшеньки люли!
Сидоров, которому Мавра Савишна после пляски поднесла стакан настойки, остался против приказания Василия ночевать в доме отца Павла и, получив свое платье, ружье и обещанную награду, на другой уже день возвратился в Ласточкино Гнездо в полной уверенности, что барина его, Лыскова, утащили лешие и мертвецы в преисподнюю и что никто не спросит его, куда он и с кем ночью ездил.
IV
Не знаешь, как он силен у двора:
Пропал ты, и навек!
КняжинБыло около полудня, когда Сидоров подъехал к избе своей. На беду его, Лысков сидел на скамье перед своим домом под тенью березы, отдыхая после вчерашней безуспешной погони за раскольниками и ломая голову над чудесною встречею его в лесу с Бурмистровым. Увидев Сидорова, махнул он ему рукою. Впустив лошадь свою с телегою на двор, бедняк почувствовал холод и жар в руках и ногах от страха и побежал к своему барину.
– Куда ты ездил, мошенник?
– А в лес за дровами, батюшка.
– Так это ты шатался целую ночь напролет по лесу, а? Говори же, разбойник! Ты и днем боишься в лес ходить!
– Виноват, батюшка! Сглупа мне невдомек, что ночью в лес за дровами не езда.
– Куда же ты ездил? Говори мне, плут, всю правду. Федька, палок!
– Взмилуйся, отец родной, Сидор Терентьич, за что?
– Я тебе покажу, за что. Катай его! – закричал Лысков своему холопу Федьке, которого главная должность состояла в том, чтобы иметь всегда запас палок и чтобы колотить без пощады всякого, кого барин прикажет.
Сидоров повалился в ноги Лыскову и признался, что он ездил в село Погорелово.
– В Погорелово? А зачем? Небось к прежней помещице? Ах ты, бездельник! Она-то вас и избаловала! Федька, принимайся за дело!
– Помилуй, Сидор Терентьич! – продолжал Сидоров, кланяясь в ноги Лыскову. – Я не к помещице ездил.
– Так к черту, что ли, мошенник? Говори мне всю правду, не то до полусмерти велю приколотить.
– Скажу, батюшка, всю правду-истину. Лаптишки у меня больно изорвались, так я и собрался в Погорелово за покупкой. Там кума моя, Василиса, славные лапти плетет.
– Да что ты, бездельник, меня обманываешь! Понадобились лапти, так ночью за двадцать верст за ними поехал! Ах ты, разбойник! До смерти прибью, если не скажешь правды. Привяжи его к этой березе, Федька, да принеси палок-то потолще. Я из тебя выбью правду!
Холоп потащил бедняка к березе.
– Скажу, Сидор Терентьич, все скажу, только помилуй! – закричал крестьянин, вырвавшись из рук холопа и снова упавши в ноги Лыскову. – Я отвез в Погорелово Василия Петровича с Натальей Петровной.
Лысков, несмотря на свое изумление, схватил палку и собственноручно излил гнев свой на бедного крестьянина. Потом велел оседлать свою лошадь и, взяв с собою Сидорова и еще четырех крестьян, вооруженных ружьями, поехал немедленно в Погорелово, решась отнять у Бурмистрова Наталью, которую считал своею холопкою.
Приехав в село, он остановился у дома священника, зная, что у него живет тетка Бурмистрова, и потому полагая наверное, что Наталье более негде быть, как в доме отца Павла.
Лысков вошел прямо в горницу. Мавра Савишна ахнула, старуха Смирнова заплакала, Наталья, побледнев, бросилась на шею матери, а отец Павел, не зная Лыскова, смотрел на всех в недоумении. Бурмистрова не было в горнице.
– Что, голубушка, не уйдешь от меня! Изволь-ка сбираться проворнее. Поедем ко мне в гости, уж и телега у ворот для тебя стоит. Что ж, за чем дело стало? Простись с родительницей, да поедем проворнее.
– Прежде умру! – отвечала Наталья, рыдая и обнимая мать свою.
– Вот пустяки какие! Есть от чего умирать! Да тебе, моя красоточка, будет у меня не житье, а масленица. Ну да ведь если волей нейдешь, так и силой потащат. Эй, Ванька, Гришка, подите все сюда, тащите ее в телегу!
– Хоть я и не знаю твоей милости, – сказал отец Павел, с изумлением и негодованием смотревший на Лыскова, – однако ж, как хозяин этого дома, кажется, могу спросить: по какому праву разлучаешь ты мать с дочерью?
– Ха, ха, ха! По какому праву! Она моя холопка, вот и все тут. Если б сбежала ко мне на двор твоя лошадь или корова, ты бы, я чаю, пришел за нею, и я бы, верно, не спросил: по какому праву берешь ты с моего двора твою корову? Эх, старинушка! дожил до седых волос, а тебя же мне надобно учить. Что ж вы, олухи, ее не тащите! Крику-то, что ли, ее испугались? Ну, поворачивайтесь! Под руки ее, под руки возьмите! Да отвяжись ты, старая ведьма! Этак за дочку-то уцепилась! Ты мать, а я господин. Делать-то нечего! Оттолкни ее, Ванька!
– Это что? – воскликнул Бурмистров, входя в горницу. – Прочь, бездельники! Вон отсюда!
Крестьяне, испуганные грозным голосом Бурмистрова, отошли от Натальи.
– Не лучше ли тебе идти вон? – сказал Лысков. – Я сегодня же донесу царевне Софье Алексеевне, что ты живехонек. Она, не знаю кому-то, голову велела отрубить.
– Доноси, кому хочешь, только убирайся вон! – закричал Василий.
– Да как ты смеешь отбивать у меня мою холопку? Коли на разбой пошло, так я велю защищать себя. Ружья-то у пятерых заряжены. Ты думаешь, что я тебя испугался. Волоском меня тронь, так я стрелять велю! Ты и то шесть лет с лишком у смерти украл. По-настоящему, надобно схватить тебя да отправить в Москву. Хватайте его, ребята, вяжите! Что ж вы, бездельники? У него оружия нет, чего вы трусите? Хватай его, Ванька!
– Как, это ты, Сидоров, на меня нападаешь! Ну, ну, смелее! Попробуй схватить меня!
– Да что ж, Василий Петрович, делать, воля господская: велят, так и на отца родного кинешься!
– Полно, Сидоров! Опусти-ка лучше мою руку, ведь я посильнее тебя. Мне не хочется против тебя защищаться.
– Мошенник ты, Ванюха! – закричала Мавра Савишна, – забыл ты мою хлеб-соль! Ну да бог с тобой!
Бурмистров между тем схватил ружье Сидорова. Последний притворялся, будто старается удержать ружье всеми силами, и между тем шептал Бурмистрову:
– Дай мне тычка, а ружье-то отними!
Другие крестьяне хотели броситься к Сидорову на помощь, но отец Павел остановил их, закричав:
– Грешно, дети, грешно пятерым нападать на одного.
Бурмистров для вида толкнул своего противника и вырвал у него ружье.
– Ой мои батюшки! – закричал Сидоров, упав нарочно на пол. – Этакой медведь какой, никак мне ребро переломил.
Лысков задрожал от злости и закричал крестьянам:
– Стреляйте! Я ответчик за его голову.
Крестьяне, исполняя приказание господина, прицелились в Бурмистрова.
– Застрелите, дети, и меня вместе! – сказал отец Павел, став подле Василия.
Все ружья вдруг опустились.
Бурмистров, прицелясь в Лыскова, сказал:
– Ты хотел меня застрелить как разбойника, а против разбойников по закону позволено защищаться. Сейчас уйди отсюда, а не то посажу тебе пулю в лоб.
– Хорошо, – воскликнул Лысков, задыхаясь от злобы, – я уйду, только уж поставлю на своем. Сегодня же пошлю челобитную к царевне Софье Алексеевне.
– Да уж поздно, хамово поколение, поздно, семя крапивное! – закричала Мавра Савишна, которая вместе с старухой Смирновой старались привести в чувство упавшую в обморок Наталью. – Я уж с племянником сама написала на тебя сегодня челобитную батюшке-царю Петру Алексеевичу!
– Очень рад, – сказал Лысков, – нас царь рассудит.
– Племянник-то мой мне растолковал, что ты в моем поместье не владелец и что Ласточкино Гнездо и с домиком все-таки мое, даром что меня по шее оттуда выгнали!
– Не рассказывай всего тому плуту, тетушка. Убирайся же вон! Чего ты еще дожидаешься?
– Уйду, сейчас уйду, дай только слово сказать. Ты ведь, святой отец, хозяин этого дома. Если укрываешь у себя мою холопку, так и отвечать должен за нее, если она убежит. Тогда я за тебя примусь. Не забудь этого. Прощай! Авось скоро увидимся. Пойдемте, мошенники! Пятеро не могли с одним сладить!
– Если хочешь, тетушка, то прикажи твоим крестьянам остаться здесь, – сказал Василий, – Лысков не помещик их, он завладел твоим имением не по закону, а самовольно. Ты настоящая помещица.
– Коли так, – воскликнула Мавра Савишна, посадив пришедшую в чувство Наталью на скамью, – то я вам всем приказываю не уходить отсюда ни на пядь!
– Слушаем, матушка! – сказали в один голос обрадованные крестьяне.
– Кормилица ты наша! – прибавил Сидоров, бросясь к Мавре Савишне, – дай поцеловать твою ручку! Опять ты наша госпожа! Слава Тебе Господи!
– Врешь ты, разбойник! – закричал Лысков. – Я ваш господин! Осмельтесь не пойти со мною: до полусмерти всех велю батогами образумить.
– Не прикажешь ли, матушка, Мавра Савишна, самого его образумить и проводить отсюда? – спросил Сидоров, сложив кулаки и поправляя рукавицы.
– Вон его толкай, Ванюха! – закричала Мавра Савишна. – Живет мошенник в моем домике ни за что ни про что да еще над моими крестьянами смеет ломаться! Вон его!
– Ребята, не отставай! – закричал Сидоров, выталкивая Лыскова в шею из горницы. – Проводим его милость за ворота, ведь госпожа приказала.
– Прибавь ему, Ванюха, прибавь ему, мошеннику! – кричала Мавра Савишна.
Крестьяне, вытолкав Лыскова за ворота, возвратились в горницу и спросили помещицу, что им еще делать прикажет.
– Пусть они покуда останутся у меня в доме, – сказал отец Павел, – да не велишь ли им, Мавра Савишна, помочь моей работнице, она пошла в огород гряды полоть?
– Слышите, ребята? Ступайте гряды полоть, да смотрите: не пускайте козла в огород. Неравно Лысков сюда воротится, так опять его в шею!
– Слушаем, матушка! – сказали крестьяне и вышли из горницы.
– Ну, племянник, – сказала Мавра Савишна, – потешили мы себя – вытолкали мошенника. Только что-то будет с нами? Ведь разбойник на всех нас нажалуется царевне Софье Алексеевне!
– Так что ж? Пусть его жалуется. Твоя челобитная прежде придет к царю Петру Алексеевичу.
– Разве он, наш батюшка, за нас заступится, а не то бедовое дело: все пропадем как мошки!
– И, полно, тетушка! Правому нечего бояться. Я теперь же поеду в село Преображенское и ударю челом царю.
– Да, да, поезжай скорее, пока нас всех еще не перехватали да не сковали.
V
Ко скипетру рожденны руки
На труд несродный простирал:
Звучат доднесь по свету звуки,
Как он секирой ударял.
Лучи величества скрывая,
Простым он воином служил.
ДержавинКто из русских не знает села Преображенского, этой колыбели величия Петра? Кто не читал или не слыхал про забавы царственного отрока с его потешными на обширных полях, которые это село окружали?
Еще при царе Алексие Михайловиче в Преображенском был устроен Потешный двор, родоначальник русских театров. Там, как повествуют Разрядные записки, в 1676 году была комедия; тешили Великого Государя иноземцы, как Алаферна Царица Царю голову отсекла, и на органах играли немцы, да люди дворовые боярина Артемона Сергеевича Матвеева. Того ж году была другая комедия там же, как Артаксеркс велел повесить Амана, и в органы играли, и на фиолах, и в струменты, и танцевали.
Родитель Петра Великого, царь Алексий Михайлович, особенно любил село Преображенское и часто там отдыхал от забот государственных, предаваясь любимой забаве своей, соколиной охоте. Оно служило приятным убежищем царице Наталье Кирилловне и царю Петру Алексеевичу во время правления Софии. Там юный государь завел, сначала в небольшом числе, потешных из юношей равных с ним лет. Это небольшое войско, служившее к увеселению монарха и получившее оттого свое название, мало-помалу умножилось, и часть этого войска была переведена в село Семеновское. С того времени потешные разделились на Преображенских и Семеновских, и впоследствии из них учреждены были в 1695 году полки Преображенский и Семеновский.
Сначала потешные составляли одну только роту. Капитаном ее был женевец Лефор[155], любимец Петра Великого. Вступив в русскую службу в 1677 году, он отличил себя храбростью в походе против татар и турок. Впоследствии юный царь узнал и полюбил его, начал учиться у него голландскому языку и вступил к нему в роту солдатом. Наравне с сослуживцами своими юный царь спал в палатке, бил зорю, стоял по очереди на часах, возил на тележке землю для устроения крепостцы, словом сказать, подавал собою пример своим подданным воинской подчиненности, и наконец монарх России с великою радостию получил чин сержанта. На слова патриарха, старавшегося, по совету бояр, отвлечь юного государя от несоразмерных с его силами и возрастом трудов, он отвечал: «Труды не ослабляют здоровья моего, а напротив, его укрепляют. Много времени проходит у меня и в пустых забавах, но от них, владыко святой, никто меня не отвлекает».
В 1684 году, в день Преполовения, двенадцатилетний царь, находясь в Москве и осматривая Пушечный двор, приказал стрелять в цель из пушек и метать бомбы. Окружавшие его бояре убеждали монарха не подходить близко к пушкам. Вместо ответа он взял фитиль, смело приложил к затравке – и пушка грянула.
Развивающийся с каждым днем гений юного царя тревожил властолюбивую Софию. В 1688 году, двадцать пятого января, Петр Алексеевич, вместе с царем Иоанном и с царевною, присутствовал в первый раз в Государственной Думе и с тех пор был удаляем от совещаний: царевна увидела, что, допустив влияние Петра на дела государства, она лишит сама себя власти. Несмотря на это, рожденный для престола гений не останавливался на пути своем, и София с беспокойством предугадывала, что юный царь скоро твердою рукой возьмет у нее скипетр, ему по праву принадлежащий.
Солнце поднялось уже до половины из-за отдаленного бора, когда Бурмистров приближался к Преображенскому с челобитною своей тетки. При въезде в село он услышал оклик часового «кто идет?» и остановил свою лошадь.
– Здесь ли его царское величество? – спросил Бурмистров.
– Его царское величество в Москве, – отвечал часовой.
– Как? Мне сказали, что царь Петр Алексеевич здесь, в Преображенском.
– Говорят тебе, что царя здесь нет. Посторонись, посторонись! Прапорщик идет: надобно честь отдать.
Бурмистров увидел приближавшихся к нему двух офицеров. Один из них был лет семнадцати, высокого роста, с открытым, прелестным лицом, на котором играла кровь юношества. Если об это была девица, то все бы влюблялись в нее[156]. Другой был человек также высокого роста, лет тридцати пяти, с привлекательною физиономиею и благородною поступью. Оба разговаривали по-голландски.
Бурмистров, соскочив с лошади и сняв шапку, приблизился к молодому офицеру, стал перед ним на колени и подал ему челобитную.
Офицер, взяв бумагу, спросил:
– Кто ты таков?
– Я бывший пятисотенный Сухаревского стрелецкого полка, Василий Бурмистров.
– Бурмистров?.. Про тебя мне, как помнится, говорила что-то матушка. Не ты ли удержал твой полк от бунта?
– Я исполнил свой долг, государь!
– Встань! Обними меня! Тебе неприлично стоять передо мной на коленях: я прапорщик, а ты пятисотенный.
Бурмистров, встав, почтительно приблизился к царю, который обнял его и поцеловал в лоб.
– Вот, любезный Франц, – сказал монарх, обратясь к полковнику Лефору и потрепав Бурмистрова по плечу, – верный слуга мой, даром что стрелец. А где теперь полк твой?
– Не знаю, государь. Я вышел давно уже в отставку.
– А зачем?
Бурмистров рассказал все, что с ним было. Царь несколько раз не мог удерживать своего негодования, топал ногою и нахмуривал брови, внимательно слушая Василия.
– Отчего Милославский так притеснял тебя? Что-нибудь да произошло между вами?
Бурмистров, зная, что Петр столько же любил правду и откровенность, сколько ненавидел ложь и скрытность, объяснил государю, чем навлек он на себя гонения.
– Так вот дело в чем!.. А где теперь твоя невеста?
– Неподалеку от Москвы, в селе Погорелове. Тамошний священник приютил ее вместе с ее матерью и моею теткою, которая лишена противозаконно своего небольшого поместья. Ее челобитная и головы наши в твоих руках, государь! Заступись за нас! Без твоей защиты мы все погибнем!
Бурмистров снова стал на колени перед Петром.
– Встань, встань, говорю я тебе!
Прочитав челобитную, Петр воскликнул:
– Так этот Лысков отнял имение у твоей тетки да еще и невесту у тебя отнять хочет! Не бывать этому!
– Он поехал в Москву на меня жаловаться.
– Кому жаловаться?
Бурмистров смутился, не смея произнести имя царевны Софии.
– Что ж ты не отвечаешь? Кому хотел он жаловаться? Сестре моей, что ли?
– Он угрожал, что надо мной исполнится приговор по старому докладу покойного боярина Милославского.
– То есть что сестра моя велит этот приговор исполнить? Говори прямо, смелее! Я люблю правду!
– Он надеется на помощь главного стрелецкого начальника, окольничего Шакловитого.
– Пускай надеется! – воскликнул Петр, топнув ногою. – Будь покоен: я твой защитник! Иди за мною.
Бурмистров, взяв свою лошадь за повода, последовал за царем и Лефором. Вскоре вышли они из села на поле, где Преображенские и Семеновские потешные в ожидании прибытия царя стояли уже под ружьем.
– Начни, полковник, ученье, и где стать мне прикажешь? – спросил Петр Лефора.
– У первой Преображенской роты.
– А ты, пятисотенный, – сказал Петр Бурмистрову, – останься на этом месте да посмотри на ученье моих преображенцев и семеновцев. Это не то что стрельцы.
Царь, положив в карман челобитную, которую держал в руке, вынул шпагу и стал на указанное место.
По окончании ученья Петр подошел к Лефору и пожал ему руку.
– Ну что? – сказал государь, обратись к Бурмистрову. – Каково мои потешные маршируют и стреляют? Они успеют три раза залпом выстрелить, покуда стрельцы ружья заряжают. А за все спасибо тебе, любезный Франц! Обними меня!
После этого царь вдруг спросил Бурмистрова:
– Где же была до сих пор твоя невеста? Ты ведь говорил, что Милославский завещал ее Лыскову. Почему ж этот плут только теперь вздумал ее у тебя отнимать?
Бурмистров рассказал, как он освободил ее из рук раскольников.
– Что ж ты мне давеча этого не сказал?
– Я думал, что это не стоит внимания твоего царского величества.
– Нехорошо, пятисотенный, от меня не должно ничего скрывать. Царю все знать нужно.
По коротком размышлении Петр продолжал:
– Я велю дать тебе опасную грамоту[157]. Посмотрим, кто осмелится тронуть тебя и твою невесту. Лыскову прикажу я возвратить немедленно поместье твоей тетке и заплатить ей сто рублей проторей и убытков, чтобы он вперед не осмеливался обижать честных людей… Справедливо ли написана челобитная твоей тетки?
– За справедливость челобитной ручаюсь я моею головою, государь.
– Не забудь слов твоих и помни, кому они сказаны… Полагаясь на жалобу одной стороны, я никогда не действую, но для тебя отступаю от своего правила и потому, что тебе верю, и потому, что дела поправить уже будет нельзя, когда отрубят тебе голову… Ну слушай же еще: я дам тебе роту моих потешных. Исполни прежде все то, что будет написано в грамоте, а потом поди с ротой, схвати всех раскольников, у которых была твоя невеста, и приведи всех в Москву, на Патриарший двор. Я напишу об них святейшему патриарху. Которую роту, полковник, можно будет с ним послать? – спросил Петр Лефора.
– Я думаю, что лучше выбрать охотников.
– Хорошо! Объяви, в чем состоит поручение, и вызови охотников.
Лефор, подозвав к себе всех офицеров, передал им приказание царя. Офицеры, возвратясь на места свои, объявили приказ полковника солдатам.
– Ну кто ж охотники? – закричал Лефор. – Выступите из ряда!
Весь длинный строй потешных двинулся вперед.
– Ого! – воскликнул государь. – Все охотники! Хорошо, похвально, ребята! Но всех вас много для этого похода; пусть идет третья рота. Смотри ж, пятисотенный, я поручаю эту роту тебе. Да не переучи ее по-своему. Не отправить ли с тобой офицера? Или нет: двое только будете мешать друг другу, да и солдат с толку собьете. Следуй за мною: я дам тебе грамоту, а потом ступай в поход. Я надеюсь, что ты не ударишь себя лицом в грязь.
Петр, сопровождаемый Лефором и Бурмистровым, при громком звуке барабанов пошел к селу. Через несколько часов Бурмистров с ротою потешных поспешал уже к селу Погорелову.
В опасной грамоте, данной ему государем, было сказано, что тот, кто убьет Бурмистрова, будет наказан смертию и заплатит семь тысяч рублей заповеди. В конце было прибавлено, что кабала, написанная на Наталью, уничтожается, что Ласточкино Гнездо возвращается прежней помещице и что завладевший этою деревнею подьячий Лысков обязан ей заплатить убытков и проторей сто рублей; если же считает себя правым, то явился бы немедленно в Преображенское с доказательствами.
VI
Все готовились к смерти; никто не
смел упомянуть о сдаче.
КарамзинЧерез несколько дней Бурмистров был уже в Погорелове. Назначив одни сутки солдатам для роздыха и разместив их по крестьянским избам, он пошел к дому отца Павла.
– Ну что, племянник, – воскликнула Мавра Савишна при входе Василия в горницу, – подал ли ты мою челобитную батюшке-царю Петру Алексеевичу?
– Подал, но еще не знаю, чем дело кончится, – отвечал Василий. Он хотел не вдруг объявить тетке о царском повелении, чтобы более ее обрадовать.
Мавра Савишна тяжело вздохнула. Отец Павел, бывший также в горнице, начал ее утешать и советовать, чтобы она, возложив надежду на Бога и царя, не предавалась преждевременно унынию. Вскоре потом вошла в горницу Наталья со своей матерью. Обе начали расспрашивать Василия о последствиях его поездки в Преображенское, но он не успел еще им ответить, как под окнами дома раздался конский топот, и Мавра Савишна, взглянув в окно, закричала:
– Ну! пропали мы!
– Что такое, тетушка? – спросил Бурмистров.
– Мошенник Лысков приехал и с ним ратной силы на конях видимо-невидимо! Ох мои батюшки, пропали наши головушки!
– Ничего, тетушка, будь спокойна!
– Желаю здравия! – сказал Лысков, входя в горницу с злобною радостию на лице. – Я говорил вам в прошлый раз, что мы скоро опять увидимся. Вот я и приехал, да еще и не один – со мною тридцать конных стрельцов. Эй, войдите сюда! – закричал он, оборотясь к двери.
Вошли шесть стрельцов с обнаженными саблями.
– Схватите этого молодца, – сказал он им, указывая на Бурмистрова, – свяжите и отвезите в Москву к благодетелю моему, а вашему главному начальнику.
– Постойте, ребята! – сказал спокойно Василий подошедшим к нему стрельцам. – Еще успеете взять и связать меня, я никуда не уйду. По чьему приказу, – спросил он Лыскова, – хочешь ты отослать меня в Москву?
– Да вот прочти, приятель, эту бумагу – увидишь, кто приказал схватить тебя. Делать-то нечего! Уж лучше покориться, а станешь упрямиться, так худо будет!
Василий, взяв поданную ему бумагу, начал читать ее, а Лысков между тем сказал Наталье:
– А ты, моя холопочка, сбирайся проворнее ехать со мною.
Наталья посмотрела на него с презрением и, обняв мать свою, заплакала. В это время вошел в горницу Сидоров с вязанкою дров, чтобы затопить печь по приказанию Мавры Савишны. Увидев Лыскова со стрельцами, он от страха уронил дрова на пол и, сплеснув руками, остановился у двери как истукан.
– Не плачь, милая Наталья, успокойся! – сказал Бурмистров. – Тебя Лысков не увезет отсюда и меня не отправит в Москву, эта бумага ничего не значит!
– Как ничего не значит! – воскликнул Лысков. – Да ты бунтовать, что ли, вздумал? Разве не прочитал ты повеления царевны Софьи Алексеевны, объявленного мне главным стрелецким начальником? Знать, у тебя от страха в глазах зарябило!
– Нет, вовсе не зарябило. В доказательство я прочту тебе еще другую бумагу. Слушай.
Вынув из кармана грамоту царя Петра, начал он читать ее вслух.
Отец Павел был тронут до слез правосудием государя. Наталья в восторге обнимала мать свою и плакала от радости. Стрельцы вложили в ножны свои сабли и сняли шапки. Лысков то краснел, то бледнел, дрожа от досады, а Мавра Савишна восклицала:
– Что, взял, мошенник? Недолго нажил в моем домике, царь-то батюшка защитил меня, бедную!
Обрадованный Сидоров подбежал к ней и, поцеловав у нее руку, спросил:
– Не прикажешь ли матушка, Мавра Савишна, опять проводить отсюда его милость, Сидора Терентьича?
– Не тронь его, Ванюха! Лежачего не бьют.
– Да он, матушка, не лежит еще, а стоит словно пень какой. Взглянь-ка на него: ведь совсем парень-то ошалел. Позволь проводить.
– Дай срок, и сам уйдет!
В самом деле Лысков, видя, что делать нечего, и не смея ехать в Преображенское, поглядел на всех, как рассерженная ехидна, поспешно вышел из горницы, сел на свою лошадь и поскакал с сопровождавшими его стрельцами в Москву.
На другой день Бурмистров, простясь с отцом Павлом, с Натальею, ее матерью и своею теткою, повел роту потешных в Ласточкино Гнездо. Прибыв туда и остановясь там для отдыха, пошел он потом в Чертово Раздолье и еще прежде солнечного заката достиг горы, на которой находилось жилище Андреева и его сообщников. Он приказал солдатам зарядить ружья и начал подниматься на гору. На площадке, расчищенной перед насыпью в том месте, где были ворота, Василий поставил роту и сам влез на дерево, чтобы взглянуть на насыпь. На дворе не было ни одного человека. Вдруг послышалось в здании, которое стояло посреди двора, пение, и вскоре опять все утихло. Бурмистров приказал одному из солдат выстрелить, чтобы вызвать раскольников из дома и объявить им царское повеление. Гул повторил раздавшийся выстрел, и Бурмистров через несколько времени увидел Андреева и его сообщников, поспешно выходивших из дома. Все они были вооружены саблями и ружьями. Один из них нес стрелецкое знамя: Андреев взошел на насыпь по приставленной к ней лестнице и, увидев роту, закричал:
– Все сюда, за мной!
Бурмистров, спустясь с дерева, встал перед ротою. Все раскольники вслед за своим главою, один за другим, поспешно взобрались на насыпь.
Василий объявил Андрееву цель своего прихода и прибавил:
– Ты видишь, что со мною целая рота храбрых солдат, если станешь нам противиться, мы начнем приступ. Не принудь нас к кровопролитию, лучше сдайся и покорись царской воле.
Вместо ответа Андреев выстрелил в Бурмистрова; пуля, свистнув, ушла в землю подле самого Василия, означив место, куда она попала, взлетевшею пылью и песком.
– Прикладывайся, стреляй! – закричал Василий.
Залп ружей грянул, и несколько убитых и раненых полетело с насыпи.
– Стреляйте! – воскликнул в бешенстве Андреев, махая саблею. Два или три выстрела один за другим раздались с насыпи, но никого не ранили из потешных, которые снова выстрелили в их противников залпом и привели их в совершенное расстройство.
Не слушая крика Андреева, раскольники побежали к лестнице, тесня друг друга.
– На деревья, ребята! – закричал Бурмистров потешным. – Стреляй беглым огнем!
Солдаты проворно взобрались на густые деревья, окружавшие со всех сторон насыпь, и начали стрелять в бежавших к главному зданию раскольников. В густой зелени дерев беспрестанно в разных местах мелькали с треском струи огня. Белый дым клубами пробирался между ветвями к вершинам и рассеивался в воздухе.
Андреев, оставшийся на насыпи, в ярости рубил саблею землю. Когда пальба прекратилась, Василий, стоявший близ ворот, закричал ему:
– Сдайся! Ты видишь, что не можешь нам противиться!
Андреев, заскрежетав зубами, бросил в Бурмистрова свою саблю. Тот отскочил, и сабля, повернувшись на лету, рукояткою ударилась в землю с такою силой, что ушла в нее до половины. Бросясь потом на колени и подняв руки к небу, Андреев вполголоса произнес какую-то молитву и спустился по лестнице с насыпи.
Бурмистров, приказав нескольким потешным остаться на деревьях для наблюдений за действиями раскольников, собрал всех прочих пред воротами, велел устроить перекладину, срубить дерево и вытесать тяжелое бревно, с одного конца заостренное. Повесив на перекладину это бревно на веревочной лестнице, взятой им из Преображенского, приказал он солдатам как можно сильнее бить заостренным концом в ворота. Вскоре они в нескольких местах от сильных ударов раскололись.
– Кто-то вышел из дома и идет к насыпи! – закричал один из потешных, бывший на дереве неподалеку от Василия. – Он восходит на лестницу.
– Бейте сильнее, ребята, в правую половину ворот! – воскликнул Бурмистров, – она больше раскололась.
– Остановитесь! – закричал пятидесятник Горохов, появившийся на насыпи, – не трудитесь понапрасну. Глава наш требует одного получаса на молитву и размышление. Он видит, что вы сильнее, и намеревается без сопротивления сдаться. Не смущайте нас шумом в последней молитве по нашей вере истинной.
– Скажи главе, – сказал Бурмистров, – что я согласен исполнить его требование. Если же чрез полчаса вы не сдадитесь, мы вышибем ворота и возьмем всех вас силою.
Горохов, спустясь с насыпи, возвратился в дом.
Бурмистров велел солдатам отдохнуть. Чрез несколько времени один из потешных закричал с дерева:
– Несколько человек вышли из слухового окна на кровлю дома. Все без оружия, и на всех, кажется, саваны.
– Верно, они хотят молиться, – сказал Бурмистров.
– Что это? – воскликнул потешный. – Двое тащат на кровлю какую-то девушку, и она также вся одета в белом.
– Это их священник, – продолжал Василий.
– Из нижних окон дома появился дым. Господи боже мой! кажется, дом загорается снизу, вот уж и огонь пышет из одного окошка.
– Ломайте скорее ворота, ребята! – закричал Василий.
Между тем все раскольники и глава их в саванах вышли на кровлю дома и запели свою предсмертную молитву. Они решились лучше сжечь себя, нежели сообщиться с нечестивым миром. Жертва их изуверства, несчастная девушка, где-нибудь ими похищенная после освобождения Натальи, громко кричала и вырывалась из рук двух державших ее изуверов, которые, не обращая на жалобный вопль ее внимания, продолжали петь вместе с прочими унылую предсмертную песнь. При шуме пожара Василий расслушал только следующие слова:
Мире нечестивый, мире оскверненный, Сетию антихриста, яко мрежею, уловленный! Несть дано тебе власти над нами, И се стоим пред небесными вратами.Расколотые ворота слетели с петлей, и Бурмистров с потешными вбежал на двор. Из всех нижних окон дома клубился густой дым и лилось яркое пламя. Вбежать в дом для спасения девушки было уже невозможно, приставить к дому лестницу и взобраться на кровлю также было нельзя. Вопль несчастной жертвы, заглушаемый унылым пением ее палачей, которые стояли неподвижно с поднятыми к небу глазами, раздирал сердце Бурмистрова.
– Кто из вас лучший стрелок? – спросил он потешных.
– Мы и все-таки в стрельбе понаторели, – отвечал один из преображенцев, – однако ж всех чаще попадает в цель капрал наш, Иван Григорьевич.
– Эй, капрал, – закричал Василий, – убей этих двух, которые держат бедную девушку за руки.
– Боюсь, чтоб в нее не попасть, пожалуй, рука дрогнет.
– Стреляй только смелее, авось как-нибудь спасем эту несчастную. Если же ее застрелишь, то все легче ей умереть от пули, нежели сгореть.
– Как твоей милости угодно, – отвечал капрал и начал целиться из ружья. Несколько раз дым скрывал от глаз его девушку и державших ее изуверов. – Помоги, Господи! – сказал шепотом капрал и, выждав миг, когда дым пронесся несколько, спустил курок. Один из раскольников опустил руку девушки, схватился за грудь свою обеими руками и упал.
– Славно! молодец! – воскликнул Бурмистров. – Теперь постарайся попасть в другого.
Один из потешных подал ружье свое капралу.
– Ох, батюшки! – сказал он, вздохнув. – Душа не на месте! Рука-то проклятая дрожит.
– Стреляй, брат, скорее, не робей! – закричал Бурмистров.
Капрал, перекрестясь, начал целиться. Сердце Бурмистрова сильно билось, и все потешные смотрели с беспокойным ожиданием на первого своего стрелка.
Раздался выстрел, и другой раскольник, державший девушку, смертельно раненный, упал.
– Слава богу! – воскликнули в один голос потешные.
Девушка, бывшая почти в беспамятстве, побежала и остановилась на краю кровли той стороны дома, которая еще не была объята пламенем. Раскольники, смотревшие на небо и продолжавшие свое погребальное пение, не заметили движения девушки. Продолжая жалобно кричать, она глядела с кровли вниз. Горевшее здание было в два яруса и довольно высоко.
– Ребята! – закричал Бурмистров. – Поищите какого-нибудь широкого холста, на который ей можно было бы броситься. Скорее! Она без тогр убьется!
Потешные рассыпались по двору; некоторые побежали в избу привратника. Один из них увидел стрелецкое знамя, брошенное раскольниками подле насыпи, схватил его и закричал:
– Товарищи, нашел; за мной, скорее!
Подбежав к горевшему дому, потешные сорвали с древка и натянули стрелецкое знамя, которое было вдесятеро более нынешних.
– Бросься на знамя! – закричал Василий девушке.
Страх убиться несколько времени ее останавливал. В это время Андреев побежал к девушке и хотел ее остановить.
– Оглянись, оглянись, он тебя схватит! – воскликнул Бурмистров, и девушка, перекрестясь, бросилась на знамя.
Радостный крик потешных потряс воздух. Девушка после нескольких судорожных движений впала в глубокий обморок, и ее вынесли на знамени за ворота. Бурмистров с трудом привел ее в чувство. Посмотрев на себя и с ужасом увидев, что она еще в саване, девушка вскочила и сбросила с себя свою гробовую одежду.
– Посмотри-ка, красавица какая! – шепнул один из потешных другому. – Какой сарафан-то на ней знатный, никак шелковый.
– Нечего сказать, – отвечал другой, – умели же еретики ее нарядить. На этакую красоточку надели саван, словно на мертвеца!
Девушка была так слаба, что идти была не в силах. Ее опять положили на знамя и понесли с горы. Между тем яркое пламя обхватило уже все здание, и унылое пение раскольников, прерываемое по временам невнятными воплями и заглушаемое треском пылающих бревен, начало постепенно умолкать. Вскоре Василий с ротою достиг просеки и, пройдя ее, остановился для отдыха у известной читателям тропинки. Солнце уже закатилось, и вечерняя темнота покрыла небо. Отдаленное яркое зарево освещало красным сиянием верхи мрачных сосен. Вскоре после полуночи Бурмистров пришел в Ласточкино Гнездо и приказал потешным провести ночь в крестьянских избах. Потом, выслав из дома своей тетки холопов Лыскова, поместил он в верхней светлице спасенную им девушку, а сам решился ночевать в спальне, которую Мавра Савишна приготовила для его свадьбы. Долго еще сидел он у окна и смотрел с грустным чувством на зарево, расстилавшееся в отдалении над Чертовым Раздольем. Наконец зарево начало гаснуть и совершенно исчезло при сребристом сиянии месяца, который, выглянув из-за облака, отразился в зеркальной поверхности озера. Повсюду царствовала глубокая тишина, прерываемая по временам раздававшимся в лесу пением соловья.
«Боже мой, боже мой! – подумал Бурмистров, приведенный в умиление прелестною картиною природы и безмятежным спокойствием ночи. – До чего могут доводить людей суеверие и предрассудки!»
Наконец сон начал склонять Василия; он лег на постель и скоро заснул, с невольным ужасом и состраданием припоминая унылое пение раскольников, прощавшихся посреди огня с жизнию.
На другой день Василий узнал от спасенной им девушки, что она ехала с своим дядею, бедным городовым дворянином Сытиным, из Ярославля в Москву; что ночью раскольники на них напали на дороге, дядю ее убили, а ее увлекли в их жилище и что Андреев долго морил ее голодом и принудил наконец исполнить его волю и принять на себя звание священника устроенной им церкви.
– Господи боже мой! Что будет со мною? – говорила девушка, заливаясь слезами. – После смерти моих родителей дядюшка призрел меня. Злодеи убили второго отца моего! Теперь я сирота беспомощная! Где приклоню я голову?
– Успокойся, Ольга Андреевна! – сказал ей Бурмистров. – Бог не оставляет сирот.
Вскоре после полудня Василий, собрав свою роту, отправился с девушкой в Погорелово и встречен был за воротами восхищенною Натальею, старухою Смирновою, отцом Павлом и Маврою Савишною. Все вошли в горницу. Расспросам не было конца. Когда Василий рассказал, между прочим, как спас он приведенную им с собой девушку от смерти, то Наталья, взяв ее ласково за руку, посадила подле себя и всеми силами старалась ее утешить. Ольга горько плакала.
– Ах, господи, господи! – восклицала Мавра Савишна, слушая рассказ Бурмистрова. – Так это ты, горемычная моя пташечка, осталась на белом свете сиротинкою! Неужто у тебя после покойного твоего дядюшки – дай Бог ему Царство Небесное! – никого из роденьки-то не осталось?
– Никого! – отвечала Ольга, рыдая.
– Не плачь, не плачь, мое красное солнышко: коли нет у тебя родни, так будь же ты моею дочерью. Батюшка-царь защитил меня, бедную. Есть теперь у меня деревнишка и с домиком; будет с нас, не умрем с голоду. Обними меня, старуху, моя сиротиночка!
Ольга, пораженная таким неожиданным великодушием и тронутая нежными ласками новой своей благотворительницы, бросилась на шею Мавре Савишне и начала целовать ее руки. Последняя хотела что-то сказать, но не могла и, обнимая Ольгу, навзрыд заплакала. Все были тронуты.
– Господь вознаградит тебя за твое доброе дело, Мавра Савишна! – сказал отец Павел.
– И, батюшка, не меня вознаградит, а тебя. У кого я переняла делать добро ближним? Как бы не ты, так я бы с голоду померла. Было время, сама ходила по миру!
По общему совету положено было, чтобы Бурмистров свез Ольгу сначала в Преображенское, чтобы представить ее царю Петру, а потом приехал бы с нею в Ласточкино Гнездо, куда Мавра Савишна со старухой Смирновой и Натальею намеревалась через день отправиться.
Приехавши с Ольгою в село Преображенское, Василий пошел с нею ко дворцу; за ним следовала рота потешных. Царь сидел у окна с матерью своей, Натальею Кирилловной, и супругою, Евдокиею Феодоровной[158]. Увидев Бурмистрова, он взглянул в окно и спросил его:
– Ну что, исполнил ли ты мое поручение? А это что за девушка? Верно, твоя невеста?
– Это, государь, племянница дворянина Сытина, убитого раскольниками. Они хотели ее сжечь вместе с собою.
– Сжечь вместе с собою! – воскликнул Петр. – Войди сюда вместе с девушкой.
Бурмистров, войдя во дворец, подробно рассказал все царю.
– Это ужасно, – повторял Петр, слушая Василия и несколько раз вскакивая с кресел. – Вот плоды невежества! Изуверы губили других, сожгли самих себя, хотели сжечь эту бедную девушку, и все были уверены, что они делают добро и угождают Богу.
– Они более жалки, нежели преступны, – сказал Лефор, стоявший возле кресел Петра. – Просвети, государь подданных твоих. Просвещение отвратит гораздо более злодейств и преступлений, нежели самые строгие казни.
– Да, любезный Франц! – воскликнул с жаром Петр, схватив за руку Лефора. – Даю тебе слово: целую жизнь стремиться к просвещению моих подданных.
– Остались ли у тебя родственники после погибшего дяди? – спросила Ольгу царица Наталья Кирилловна.
– Нет, государыня, никого не осталось, – отвечала Ольга дрожащим от робости голосом. – Тетка моего избавителя берет меня к себе в дом вместо дочери.
– Твоя тетка? – спросил Петр Бурмистрова. – Та самая, у которой Лысков отнял поместье?
– Та самая, государь!
– Скажи ей, что если Лысков и кто бы то ни был станет как-нибудь притеснять ее, то пусть она прямо приезжает ко мне с жалобою – я буду ее постоянный защитник и покровитель.
– Отдай твоей новой матери этот небольшой подарок, – сказала царица Наталья Кирилловна, сняв с руки золотой перстень с драгоценным яхонтом и подавая Ольге. – Скажи ей, чтобы она уведомила меня, когда станет выдавать тебя замуж, я дам тогда тебе приданое и сама вышью для тебя подвенечное покрывало.
– Чем заслужила я такую милость, матушка-царица? – сказала со слезами на глазах Ольга, бросясь на колени пред Натальей Кирилловной.
– Можно ли и мне подарить этой девушке перстень? – спросила царя на ухо юная прелестная супруга его. Несколько раз заметив бережливость Петра, она без согласия его не решалась ни на какую издержку.
Петр легким наклонением головы изъявил согласие, и молодая царица, подавши Ольге со своей руки перстень с рубином, до слез была растрогана пламенным и вместе почтительным изъявлением ее благодарности.
– Ну, пятисотенный! – сказал Петр Бурмистрову. – Спасибо тебе за твою службу! Чем же наградить тебя?.. Хочешь ли ты служить у меня, в Преображенском? Да что тебя спрашивать, по глазам вижу, что хочешь. Я жалую тебя ротмистром[159]. Ты, как я заметил, славно верхом ездишь. Здесь есть у меня особая конная рота, ее зовут Налеты[160]. Объяви им, любезный Франц, что назначил Бурмистрова их начальником. Итак, ты остаешься, новый ротмистр, здесь. Ах да, совсем забыл! Прежде тебе надобно жениться. Отвези эту девушку к своей тетке, потом женись и приезжай с твоею молодою женою ко мне в Преображенское. Пойдем, любезный Франц! – продолжал Петр, обратясь к Лефору. – Надобно сказать спасибо солдатам третьей роты и их за поход наградить.
Петр вышел с Лефором из горницы, потрепав мимоходом Бурмистрова по плечу и примолвив:
– Прощай, ротмистр, до свидания!
Обе царицы между тем подошли к растворенному окну, из которого видна была стоявшая пред дворцом третья рота.
Бурмистров и Ольга вышли из дворца и отправились в Ласточкино Гнездо. Мавра Савишна, бывшая уже там с Натальей и ее матерью, выбежала в сени навстречу племяннику. Кто опишет восторг ее, когда Ольга подала ей подарок царицы! Она ничего не могла сказать, упала на колени и, целуя с жаром перстень, навзрыд плакала.
Ольга осталась у своей новой матери, а Бурмистров, рассказав тетке все подробности его поездки в Преображенское, сел на коня и поскакал в Погорелово, чтобы сообщить все отцу Павлу и посоветоваться с ним о своем браке. Тогда наступал июнь месяц, и через день начинался Петров пост, поэтому Василий принужден был отложить на несколько недель свою свадьбу.
VII
К чему нам служит власть, когда, ее имея,
Не властны мы себя счастливыми творить,
И, сердца своего покоить не умея,
Возможем ли другим спокойствие дарить?
Карамзин– Нет, князь, – говорила царевна София ближнему боярину царственной печати и государственных великих посольских дел сберегателю князю Василию Васильевичу Голицыну[161].– Не стану, не могу сносить этого долее! Мальчик смеет мне противиться и мешаться в дела правления! Скажи мне откровенно, какие меры всего лучше принять для отвращения всех этих беспорядков?
– Государыня! Ты знаешь мое искреннее усердие к твоему царскому величеству: я готов исполнить все, что ты мне приказать изволишь; я знаю, что государыня, подобная тебе в мудрости, никогда не повелит верноподданному предпринять что-нибудь несогласное с совестию и его долгом.
– Я требую совета, а не исполнения моих повелений.
– Не смею ничего советовать в таком важном деле, государыня. Одна твоя мудрость может указать то, что предпринять должно. Долг мой, как и всякого нелицемерного слуги твоего, состоит в беспрекословном и ревностном исполнении воли твоей.
– Ты удивляешь меня, князь. Если б я давно не знала тебя и менее была уверена в твоем усердии ко мне, то легко могла бы подумать, что ты, подобно многим другим боярам, держишься стороны моего младшего брата в надежде получить от него более милостей, нежели от меня. Неужели мальчик может лучше меня управлять государством, ценить и награждать заслуги и отдавать каждому свое? Ты еще помнишь, я думаю, что брат мой не хотел пустить тебя на глаза после возвращения твоего из Крымского похода. Я знала, я могла усмотреть истинные причины неудач твоих. Я не уважила голоса твоих завистников и клеветников. Им легко было воспользоваться неопытностию ребенка, которая могла бы погубить тебя, если б я не защитила, не спасла тебя. Вместо опалы, которая тебе грозила, ты получил за Крымский поход награду[162]. Ты не забыл еще, князь, кого ты благодарил за это?
– Скорее солнце пойдет от запада к востоку, нежели я забуду все милости твоего царского величества.
– Отчего же ты так боишься посоветовать мне, как остановить шалости гордого и своенравного мальчика, руководимого советами врагов моих? Поверю ли я, что брат мой, которого до сих пор занимают в Преображенском одни детские забавы, без постороннего влияния мог мешаться в дела правления и причинять мне беспрестанные досады? Ясно, что его именем действуют другие, поопытнее и постарше его. Ты понимаешь меня; тебе хорошо известны мои недоброжелатели.
– Я осмеливаюсь думать иначе, государыня. Царь Петр Алексеевич по дарованиям и зрелости ума своего не похож на семнадцатилетнего юношу. Он любит, чтобы ему в глаза говорили правду, и умеет пользоваться советами. Могу, однако ж, уверить твое царское величество, что, по моим замечаниям, не другие чрез него действуют, а он сам везде первый идет впереди.
– Мудрено поверить!.. Но если б это было и справедливо, то я найду средство остановить его. Он не лишит меня принадлежащей мне власти. Я знаю, что вся цель его состоит в этом.
– Ничего не смею на это сказать, государыня. Права его участвовать в делах правления неоспоримы. Ты сама, государыня, их признала: семь лет тому назад по воле твоей Петр Алексеевич вместе с Иоанном Алексеевичем был венчан на царство.
– Что ж ты сказать этим хочешь? – воскликнула София, гневно посмотрев на князя. – Не думаешь ли ты, что я устрашусь мальчика и решусь погубить Россию, предоставя ему одному управление, для которого он еще и слишком молод, и слишком неопытен?
– Боже меня сохрани от этой мысли! Я только считаю, что всего было бы лучше сблизиться с царем Петром Алексеевичем. Разрыв с ним опасен для твоего царского величества. Уступчивость и ласка гораздо более на него подействуют, нежели пренебрежение к нему и явная с ним ссора. Он будет доволен и самым малым участием в делах правления. Ласковость твоя совершенно его обезоружит.
– Неужели ты думаешь, что я себя унижу до такой степени и стану искать благосклонности моего меньшего брата? Пусть он прежде ищет моей! И чем он может мне быть опасен? Все подданные любят меня, все стрельцы готовы по первому моему слову пролить за меня кровь свою!
– Его потешные, государыня… я давно уже говорил, что…
– Его потешные мне смешны! Они тешат меня более, нежели их повелителя. Пусть забавляется он с ними и с иноземными побродягами в Преображенском. Почему же не позволить ребяческой игры ребенку?
– Окольничий Федор Иванович Шакловитый, – сказала постельница царевны, – просит дозволения предстать пред светлые очи твоего царского величества.
– Позови его сюда.
Шакловитый, помолясь перед образом, висевшим в переднем углу, низко поклонился царевне и подал ей жалобу Лыскова. София, прочитав эту бумагу, покраснела от гнева.
– Прочитай, – воскликнула она, подавая челобитную Лыскова князю Голицыну. – Не посоветуешь ли ты после этого сблизиться с моим братом?
Голицын начал внимательно читать бумагу, а Шакловитый между тем, пользуясь произведенным на Софию впечатлением, начал говорить ей:
– Если и вперед все так пойдет, то немного можно ожидать доброго. Ты повелеваешь, государыня, казнить бунтовщика, а Петр Алексеевич его защищает; ты приказываешь отдать помещику беглую холопку, а меньшой брат твоего царского величества освобождает ее от кабалы да выгоняет еще помещика из деревни и отдает ее какой-то нищей.
– Я прекращу эти беспорядки! – воскликнула София. – Приказываю тебе сегодня же схватить и казнить бунтовщика Бурмистрова; холопку Наталью возвратить Лыскову; отнятую у него деревню также отдать ему. Употреби для этого целый полк стрельцов, если нужно.
– А я бы думал поступить иначе, государыня. Торопиться не нужно. Пусть в Москве поболее об этом деле заговорят, а там будет видно, что всего лучше предпринять.
– И мне также кажется, – сказал князь Голицын, – что осторожнее будет наперед объясниться с царем Петром Алексеевичем: он увидит свою ошибку и, без сомнения, охотно ее поправит.
– Благодарю тебя за твой совет, князь! – сказала София, стараясь казаться спокойною. – Сходи теперь же к святейшему патриарху и скажи ему, чтобы он завтра утром приехал ко мне.
Когда Голицын ушел, то Шакловитый, посмотрев насмешливо ему вслед, сказал:
– Хитростью похож он на лисицу, а трусостью на зайца. Мне кажется, что он держится стороны врагов твоих, государыня.
– Я узнаю это, – отвечала София.
– Зачем, государыня, послала ты его к святейшему патриарху? Неужели хочешь ты с святым отцом в таком деле советоваться? Положись на одного меня. Из всех слуг твоих я самый преданный и усердный. Я доказал тебе это и еще докажу на деле.
– Я уверена в этом. Я удалила Голицына для того только, чтобы поговорить с тобой наедине. Посмотри: нет ли кого за этой дверью?..
– Никого нет, государыня! – отвечал Шакловитый, растворив дверь и заглянув в другую комнату.
Дверь снова затворилась. Часа через три Шакловитый вышел из горницы царевны Софии и поехал к полковнику Циклеру. Возвратясь домой, он велел призвать к себе полковника Петрова и подполковника Чермного. Они ушли от него ровно в полночь.
VIII
Вдруг начал тмиться неба свод —
Мрачнее и мрачнее:
За тучей грозною идет
Другая вслед грознее.
ЖуковскийПетров пост прошел, и наступил июль месяц. Бурмистров в Ласточником Гнезде занемог, и свадьба его была отложена до его выздоровления. Не прежде, как в начале августа, он выздоровел. Спеша исполнить повеление царя, приказавшего ему приехать тотчас после женитьбы на службу в Преображенское, он просил Мавру Савишну как можно скорее сделать все нужные приготовления к его свадьбе. По ее назначению Василий с невестою, старуха Смирнова и сама Мавра Савишна с Ольгою отправились в село Погорелово, чтобы отпраздновать в тот же день сговоры в доме отца Павла; на другой день положено было обвенчать Василья и Наталью, а на третий хотели они отправиться в Преображенское.
Брат Натальи, Андрей, который уже кончил академический курс, купец Лаптев с женою и капитан Лыков приехали по приглашению на сговор Василья. Бурмистрова благословили образом и хлебом-солью Лаптев и жена его, а Наталью – ее мать и капитан Лыков, принявший на себя с величайшим удовольствием звание посаженого отца невесты. Отец Павел, совершив обряд обручения, соединил руки жениха и невесты. Начались поздравления, и Мавра Савишна в малиновом штофном сарафане, который подарил ей племянник, явилась из другой горницы с торжествующим лицом и с большим подносом, уставленным серебряными чарками. Проговорив длинное поздравление обрученным, она начала потчевать всех вином. Андрей, приподняв чарку и любуясь резьбою на ней, сказал:
– Какая роскошь и прелесть! Не знаешь, чему отдать предпочтение: содержащему или содержимому?
– Выкушай, Андрей Петрович, за здравие обрученных! – сказала Мавра Савишна, кланяясь.
– Если б я был Анакреон[163], то написал бы стихи на эту чарку.
– Ну, ну, хорошо! Выкушай-ка скорее, а там, пожалуй, пиши что хочешь на чарке.
Андрей, усмехнувшись, выпил вино и, обратясь к Бурмистрову, спросил:
– Откуда, Василий Петрович, взялись на твоих сговорах такие богатые сосуды? У иного боярина этаких нет.
– Не знаю, – отвечал Василий. – Спроси у тетушки об этом.
– Эти чарки привезены в подарок обрученным их милостью, – отвечала Мавра Савишна, указывая на Лаптева и жену его.
Бурмистров и Наталья, несмотря на все их отговорки, принуждены были принять подарок и от искреннего сердца поблагодарили старинных своих знакомцев.
– Славная чарка! – воскликнул Лыков. – Из этакой не грех и еще выпить; да и вино-то не худо. Кажется, французское?
– Заморское, батюшка, заморское! – отвечала Мавра Савишна, наливая чарку.
– Да уж налей всем, а не мне одному.
Когда все чарки были наполнены, Лыков, встав со скамьи, воскликнул:
– За здравие нашего отца-царя Петра Алексеевича!
– За это здоровье и я выпью, хоть мне и одной чарки много! – сказал отец Павел, также встав со скамьи, и запел дрожащим стариковским голосом: – Многая лета!
Стройный голос Василья соединился с голосом старика. Лыков запел басом двумя тонами ниже, а Лаптев одним тоном выше; жена его и Мавра Савишна своими звонкими голосами покрыли весь хор, а Андрей в восторге затянул такие вариации, что всех певцов сбил с толку. Все замолчали. Одна старушка Смирнова, крестясь, продолжала повторять шепотом:
– Многая лета!
После этого начались разговоры о столичных новостях.
– Как жаль, что тебя не было в Москве осьмого июля! – сказал Лыков Бурмистрову. – Уж полюбовался бы ты на царя Петра Алексеевича. Показал он себя! Нечего сказать! Софья-то Алексеевна со стыда сгорела.
– Как, разве случилось что-нибудь особенное? – спросил Василий.
– Да ты, видно, ничего еще не слыхал. Я тебе расскажу. В день крестного хода из Успенского собора в собор Казанской Божией Матери оба царя и царевна приехали на обедню. После службы, когда святейший патриарх со крестами вышел из Успенского собора, Софья Алексеевна в царском одеянии хотела идти вместе с царями. Я кое-как протеснился сквозь толпу к их царским величествам поближе и услышал, что царь Петр Алексеевич говорит царевне: «Тебе, сестрица, неприлично идти в крестном ходе вместе с нами; этого никогда не водилось. Женщины не должны участвовать в подобных торжествах». – «Я знаю, что делаю!» – отвечала Софья Алексеевна, гневно посмотрев на царя, а он вдруг отошел в сторону, махнул своему конюшему, велел подвести свою лошадь, вскочил на нее да и уехал в Коломенское. Царевна переменилась в лице, сперва покраснела, а потом вдруг побледнела и начала что-то говорить царю Иоанну Алексеевичу. Все на нее глаза так и уставили. Привязалась ко мне, на грех, какая-то полоумная баба, видно, глухая, да и ну меня спрашивать: «Куда это батюшка-то царь Петр Алексеевич поехал?» И добро бы тихонько спрашивала, а то кричит во все горло. Я того и смотрю, что царевна ее услышит, мигаю дуре, дернул ее раза два за сарафан – куда тебе! Ничего не понимает! Я как-нибудь от нее, а она за мной, схватила меня, окаянная, за полу, охает, крестится и кричит: «Уж не злодеи ли стрельцы опять что-нибудь затеяли? Видно, их, воров, царь-то батюшка испугался? Не оставь меня, бедную, проводи до дому, отец родной! Ты человек военный: заступись за меня. Мне одной сквозь народ не продраться. Убьют меня, злодеи, ни за что ни про что!» Ах, черт возьми! Как бы случилось это не на крестном ходе, да царевна была не близко, уж я бы дал знать себя этой бабе, уж я бы ее образумил!
– По всей Москве, – сказала Лаптева, – несколько дней только и речей было, что об этом. Сказывала мне кума, что царевна разгневалась так на братца, что и не приведи господи!
– Молчи, жена! – воскликнул Лаптев, гладя бороду. – Не наше дело!
– Кума-то сказывала еще, что злодеи-стрельцы опять начинают на площадях сбираться, грозятся и похваляются…
– Да перестанешь ли ты, трещотка! – закричал Лаптев.
– Пусть я трещотка, а уж бунту нам не миновать.
– Я того же мнения, – сказал важно Андрей, осушавший в это время пятую чарку французского вина. – Да нет, если правду сказать, то и родственники царя Петра Алексеевича поступают неблагоразумно. Я сам видел, как боярин Лев Кириллович Нарышкин ездил под вечер с гурьбою ратных людей по Земляному городу, у Сретенских и Мясницких ворот ловил стрельцов, приказывал их бить обухами и плетьми и кричал: «Не то вам еще будет!» Сказывали мне, что он иным из них рубил пальцы и резал языки. «Меня, – говорил он, – сестра царица Наталья Кирилловна и царь Петр Алексеевич послушают. За смерть братьев моих я всех вас истреблю!» Такими поступками в самом деле немудрено взбунтовать стрельцов.
– Коли на правду пошло, – примолвил Лыков, – так и я не смолчу. И я слышал об этом. Только говорили мне, что будто не боярин Нарышкин над стрельцами тешится, а какой-то подьячий приказа Большой казны Матвей Шошин. Этот плут лицом и ростом очень похож, говорят, на Льва Кирилловича. Тут, впрочем, большой беды я не вижу. Боярин ли он, подьячий ли, все равно, пусть его тешится над окаянными стрельцами; поделом им, мошенникам.
– Нет, капитан, – сказал Бурмистров, – я на это смотрю другими глазами… Давно ли ты, Андрей Петрович, видел этого мнимого Нарышкина?
– Видел я его на прошлой неделе, да еще сегодня ночью в то самое время, как шел через Кремль от одного из моих прежних учителей к Андрею Матвеевичу, чтобы вместе с ним на рассвете из Москвы сюда отправиться.
– Что ж он делал в Кремле?
– Бродил взад и вперед по площади около царского дворца с каким-то другим человеком и смотрел, как выламывали во дворце, у Мовной лестницы, окошко. Мне показалось это странно, однако ж я подумал: боярин знает, что делает; видно, цари ему приказали. Я немного постоял. Окно выломали, и вышел к Нарышкину из дворца истопник Степан Евдокимов, которого я в лицо знаю, да полковник стрелецкий Петров. Начали они что-то говорить. Я расслышал только, что Петров называл неизвестного человека, стоявшего подле Нарышкина, Федором Ивановичем.
– Это имя Шакловитого! – сказал Бурмистров, ходя взад и вперед по горнице с приметным на лице беспокойством.
– Ночь была довольно темная, – продолжал Андрей, – и они сначала меня не видали. На беду, месяц выглянул из-за облака. Вдруг Нарышкин как закричит на меня: пошел своей дорогой, зевака! Не смей смотреть на то, что мы делаем по царскому повелению. «Нет, нет! – закричал Федор Иванович. – Лучше поймать его. Схвати его, Петров!» Полковник бросился за мной, но не догнал; я ведь бегать-то мастер.
– А где царь Петр Алексеевич? В Москве? – спросил Бурмистров.
– Я слышал, что его ждали в Москву сегодня к ночи, – отвечал Андрей.
– Прощай, милая Наталья! – сказал Бурмистров. – Я еду, сейчас же еду! Дай Бог, чтоб я успел предостеречь царя и избавить его от угрожающей опасности!
Все удивились. Наталья, пораженная неожиданною разлукою с женихом, преодолела, однако ж, свою горесть и простилась с ним с необыкновенною твердостию.
– Да с чего ты, пятисотенный, взял, что царю грозит опасность? – спросил Лыков.
– Я тебе это объясню на дороге. Ты, верно, поедешь со мною?
– Пожалуй! Для царя Петра Алексеевича готов я ехать на край света, не только в Москву. К ночи-то мы туда поспеем.
– И я еду с вами! – сказал Андрей. – Я хоть и плохо верхом езжу, однако ж с лошади не свалюсь и от вас не отстану. Александр Македонский и с Буцефала, правильнее же сказать, с Букефала не свалился. Неужто, Андрей Матвеевич, твой гнедко меня сшибет?
– А меня пусть хоть и сшибет моя вороная, только я от вас не отстану, опять на нее взлезу да поскачу! – продолжал Лаптев. – Прощай, жена!
Все четверо сели на лошадей, простились с оставшимися в Погорелове и поскакали к Москве.
IX
На расхищение расписаны места.
Без сна был злобный скоп, не затворяя ока,
Лишь спит незлобие, не зная близко рока.
ЛомоносовМежду тем прежде, нежели Бурмистров выехал из Погорелова, с наступлением вечера тайно вошло в Москву множество стрельцов из слобод их. Циклер и Чермной расставили их в разных скрытных местах, большую же часть собрали на Лыков и Житный дворы[164], находившиеся в Кремле, и ждали приказаний Шакловитого.
– Мне кажется, – сказал Чермной стоявшему подле него полковнику Циклеру, – что мы и сегодняшнюю ночь проведем здесь понапрасну. Вчера мы с часу на час его ждали, однако ж он не приехал из Преображенского.
– Авось приедет сегодня. Это кто к нам крадется? – сказал Циклер, пристально смотря на приближавшегося к ним человека. – Ба! это истопник Евдокимов! Добро пожаловать! Что скажешь нам, Степан Терентьич? Что у тебя за мешок?
– С денежками, господин полковник. Изволь-ка их счетом принять да раздай теперь же стрельцам. Так приказано.
– Давай сюда! Это доброе дело! Да не видал ли ты нашего начальника? Куда он запропастился? Мы уж давно здесь его ожидаем.
– Теперь он в Грановитой палате. Там хочет он ночевать, если и сегодня не приедет к ночи из Преображенского он-то. Вы понимаете, про кого я говорю?
– Где нам понять! – воскликнул Чермной. – Ох ты, придворная лисица! И с нами-то не смеет говорить без обиняков. Чего ты трусишь?
– Оно лучше, господин подполковник, как лишнего не скажешь! Счастливо оставаться! Мне уж идти пора!
Вскоре после ухода истопника явился Шакловитый. Собрав около себя пятидесятников и десятников стрелецких, он сказал им:
– Объявите всем, что я с часу на час жду вести от полковника Петрова, который послан мною в Преображенское. Если весть придет оттуда хорошая, то на Ивановской колокольне ударят в колокол, и тогда надобно напасть на домы изменников и врагов царевны и всех изрубить без пощады. Вот вам список изменников. Все, что вы найдете в домах у них, возьмите и разделите между собою. Потом ступайте к лавкам торговых людей, которые держат сторону изменников: все товары и добро их – ваши!
В списке, который Шакловитый подал стоявшему близ него пятидесятнику, означены были имена всех бояр, преданных ца-рю Петру Алексеевичу, и многих богатых купцов. В числе последних находился Андрей Матвеевич Лаптев.
Сказав еще несколько слов на ухо Циклеру и Чермному, Шакловитый вместе с ними удалился в Грановитую палату. Вскоре прибыл к нему стрелец, посланный из Преображенского Петровым, с письмом. Шакловитый, от нетерпения узнать скорее содержание письма, вырвал его из рук стрельца и, приказав ему идти на Лыков двор, прочитал вполголоса Циклеру и Чермному:
– «Сегодня в Москву он не будет и ночует в Преображенском. По приказу твоему расставил я, когда смерклось, надежных людей в буераках и в лесу и зажигал два раза близ дворца амбар, чтобы выманить кого нам надобно; но проклятые потешные тотчас сбегались и тушили пожар. Теперь они разошлись уже по избам. Скоро наступит полночь. Когда все в селе угомонятся, я опять зажгу амбар. Авось в третий раз удастся приказ твой исполнить. Тогда я сам прискачу в Москву с вестью». Какая досада! – воскликнул Шакловитый, разорвав письмо на мелкие части. – Он просто трусит! Жаль, что я послал его туда! Не идти ли нам всем в Преображенское?
– Оно, кажется, будет вернее! – сказал Чермной. – Окружим село, нападем на потешных врасплох и разом все дело кончим.
– Не лучше ли подождать немного? – продолжал Циклер. – Может быть, Петров скоро привезет нам добрую весточку.
– Ты, видно, такой же трус, как он! – сказал Шакловитый, сердито посмотрев на Циклера. – Потешных, что ли, ты испугался? Мы вчетверо их сильнее! Поди-ка на Лыков двор и скажи моим молодцам, чтобы все шли на Красную площадь к Казанскому собору, а ты, Чермной, с Житного двора приведи всех стрельцов также к собору, да пошли гонцов и за прочими полками. Оттуда все пойдем к Преображенскому.
Около полуночи на Красной площади собралось несколько тысяч стрельцов. Шакловитый раза три прошел мимо рядов их и ободрял войско к предстоявшему походу. Потом велел он подвести свою лошадь и занес уже ногу в стремя, когда прискакал гонец от Петрова и подал письмо Шакловитому.
Прочитав письмо, злодей побледнел и задрожал.
«Измена! – писал Петров. – Стрельцы Мишка Феоктистов и Митька Мельнов передались на сторону врагов наших и впущены были во дворец. Нет сомнения, что царь все уже знает. Вскоре после полуночи уехал он с обеими царицами и с сестрою его, царевною Натальею Алексеевною, неизвестно куда из Преображенского. Я спешу теперь со всеми нашими окольною дорогою к Москве. У всех у нас руки опустились. Близ Бутырской слободы обогнал нас Бурмистров. Лошадь его неслась как стрела, и мы не успели остановить его. Я его видел сегодня мельком в Преображенском, незадолго до отъезда царя. Верно, он послан к генералу Гордону с приказом привести к царю Бутырский полк, которым этот иноземец правит. Преображенские и Семеновские потешные также выступили куда-то из села и так идут, что за ними и верхом не поспеешь».
– По домам! – закричал Шакловитый, дочитавши письмо. – Никто не смей и заикнуться, что был здесь на площади. Голову отрублю тому, кто проболтается.
Все стрельцы беспорядочными толпами удалились с площади и возвратились в свои слободы, а Шакловитый с Циклером и Чермным поспешно пошел в Кремль. Близ крыльца, чрез которое входили в комнаты царевны Софии Алексеевны, попался Шакловитому навстречу Сидор Терентьич Лысков.
– Слава богу, что я нашел тебя, Федор Иванович! – воскликнул он. – Я обегал весь Кремль. Слышал ты, что он из Преображенского уехал?
– Слышал! – отвечал Шакловитый.
– А знаешь ли, куда? Я уж успел это разнюхать. Он отправился в Троицкий монастырь.
– Ну, так что ж?
– Как – ну так что ж! Там покуда нет еще ни одного потешного. Зачем ты стрельцов-то распустил; нагрянул бы на монастырь врасплох, так и дело было бы в шляпе.
– Ах ты, приказная строка – нагрянул бы! Потешные и Бутырский полк пошли уже давно к монастырю. Теперь и на гончих собаках верхом их не обгонишь!
– И, Федор Иванович! Ты, как я вижу, совсем дух потерял. Дай-ка мне десятка хоть три конных стрельцов. Увидишь, что я прежде всех поспею в монастырь и все дело улажу.
– Бери хоть целую сотню, только меня в это дело не путай. Удастся тебе – все мы спасибо скажем; не удастся – один за всех отвечай. Скажи тогда, что я тебе стрельцов брать не приказывал и что ты сам их нанял за деньги.
– Пожалуй, я на все согласен. Увидишь, что я всех вас выпутаю из беды. А нет ли, Федор Иванович, деньжонок у тебя, чтобы стрельцов-то нанять? Одолжи, пожалуйста. Ведь скажу не то, если попадусь в беду, что я не нанял, а взял стрельцов по твоему приказу.
– На, вот пять рублей. Больше со мной нет, все стрельцам давеча раздал.
– Ладно! Дай-ка мне ручку твою на счастье перед походом. Вот так! Прощай, Федор Иванович!
Лысков побежал к постоялому двору, где оставил свою лошадь, два пистолета и саблю, а Шакловитый ушел во дворец. Чермной и Циклер остались на площади.
– Как думаешь ты, товарищ, – спросил Чермной, – я чаю, царевна отстоит нас? Ведь не в первый раз мы с тобой в беду попались. Притом вина не наша. Неужто нам можно ослушаться, когда Федор Иванович приказывает! Мне, впрочем, сдается, что Лысков уладит дело.
– Я тоже думаю! – сказал Циклер. – Пойдем-ка домой да ляжем спать. Утро вечера мудренее.
Оба пошли из Кремля.
– Дня через три Софья Алексеевна будет уж одна царством править, – продолжал Чермной. – То-то нам будет житье! Уж верно, обоих нас пожалует она в бояре!
– Без сомнения! – сказал Циклер. – Однако ж прощай! Мне надо идти в эту улицу налево, а тебе все прямо. До свидания!
– Да что ты так невесел? Ты и на меня тоску наводишь.
– Напротив, я совершенно спокоен и весел. Мне кажется, что не я, а ты очень приуныл! Не робей и не отчаивайся прежде времени. Что за вздор такой! Не стыдно ли тебе! Ну, до свидания! Завтра увидимся!
Они расстались. Чермной, возвратясь домой, лег в постель, но не мог сомкнуть глаза целую ночь. То чудилось ему, что по лестнице входит толпа людей, посланных взять его под стражу; то представлялось ему, что дьяк читает громким голосом приговор и произносит ужасные слова: казнить смертию. Холодный пот выступал у него на лице. Крестясь, повторял он шепотом: «Господи, помилуй!» – и еще в большее приходил содрогание. В эту минуту готов он был отдать все свое имение, отказаться от всех своих честолюбивых видов, надеть крестьянский кафтан и проливать пот над сохою, только бы избавиться от той мучительной, адской тоски, которая терзала его сердце. Ужасно безутешное положение преступника, когда ожидание заслуженной, близкой казни разбудит в нем усыпленную совесть и когда он, ужаснувшись самого себя, почувствует, что ни в небе, ни на земле не осталось уже для него спасения.
Циклер почти то же чувствовал, что и Чермной. Он вовсе не ложился в постель и всю ночь ходил взад и вперед по своей спальне. На рассвете он несколько успокоился слабою надеждою спастись от угрожавшей ему казни. Едва взошло солнце, он оседлал свою лошадь и поскакал в Троицкий монастырь в намерении доказать правоту свою доносом на участвовавших в преступном против царя умысле, в который сам многих вовлек и примером, и словом, и делом. «Если они станут обвинять меня в соучастии с ними, – размышлял он дорогою, – то мне легко будет оправдаться присягою и уверить царя, что все наговоры их внушены им желанием отомстить мне за открытие их преступления».
На половине дороге нагнал его Лысков с толпою конных стрельцов, спешивший к Троицкому монастырю.
– Ба, ба, ба! – закричал Лысков, увидев Циклера. – Ты также пробираешься к монастырю? Доброе дело! Поедем вместе. Ум хорошо, а два лучше. Ты ведь знаешь, для чего я туда еду?
– Знаю! – отвечал Циклер. – Поезжай скорее и не теряй времени. Жаль, что лошадь моя очень устала: я за тобой никак не поспею. Уж, видно, тебе одному придется дело уладить; тогда и вся честь будет принадлежать тебе одному.
– Видно, ты трусишь, господин полковник! До свидания! В самом деле, мне надобно поспешить. За мной, ребята! – закричал он стрельцам. – Во весь опор!
Циклер удержал свою лошадь, которая пустилась было вскачь за понесшеюся толпою злодеев.
«Если ему удастся – хорошо! – размышлял он. – Я тогда ворочусь в Москву и первый донесу об успешном окончании дела царевне. Если же его встретят потешные, то, без сомнения, положат всех на месте, и я не опоздаю приехать в монастырь с доносом и с предложением услуг моих царю Петру».
X[165]
Ты, Творец, Господь всесильный,
Без которого и влас
Не погибнет мой единый,
Ты меня от смерти спас!
Державин– Вот уж и монастырь перед нами! – кричал Лысков следовавшим за ним стрельцам. – Скорее, ребята! К воротам!
Подъехав к монастырской стене, Лысков начал стучаться в ворота.
– Кто там? – закричал привратник.
– Налеты, – отвечал Лысков. – Его царское величество приказал нам приехать за ним сюда из Преображенского. Здесь, чаю, нет еще никого из наших товарищей. Потешные-то еще не бывали?
– Не пришли еще. Вы первые приехали. Да точно ли вы налеты? Мне велено их одних да потешных впустить в монастырь, и то спросив прежде – как бишь это? Слово-то такое мудреное! Похоже на пароль, помнится.
– Пароль, что ли?
– Да, да, оно и есть. Ну-ка скажи это слово.
– Вера и верность. Ну, отворяй же скорее ворота.
– Сейчас, сейчас!
Ворота, заскрипев на тяжелых петлях, растворились, и Лысков въехал со стрельцами за монастырскую ограду.
Царь Петр Алексеевич с матерью его, царицею Натальею Кирилловною, находился в это время в церкви и стоял с нею близ алтаря. Стрельцы, обнажив сабли, рассыпались в разные стороны для поисков. Двое из них вошли в церковь. Юный царь, оглянувшись и увидев двух злодеев, быстро приближавшихся к нему с обнаженными саблями, схватил родительницу свою за руку и ввел ее в алтарь. Стрельцы вбежали за ним туда же.
– Чего хотите вы? – закричал Петр, устремив на злодеев сверкающий взор. – Вы забыли, что я царь ваш!
Оба стрельца, невольно содрогнувшись, остановились.
Царь Петр Алексеевич между тем, поддерживая одною рукою трепещущую свою родительницу, другою оперся об алтарь.
– У него оружия нет! – шепнул наконец один из стрельцов. – Я подойду к нему.
– Нет, нет! – сказал шепотом другой, удержав товарища за руку. – Он стоит у алтаря. Подождем, когда он выйдет из церкви; ему уйти отсюда некуда.
В это время послышался конский топот, и оба злодея, вздрогнув, побежали вон из церкви. Опасность была близка, но невидимая десница всемогущего Бога сохранила Его помазанника и там, где, казалось, нельзя было ожидать ниоткуда помощи и спасения.
– За мной, товарищи! Смерть злодеям! – воскликнул Бурмистров, въезжая во весь опор с Налетами в монастырские ворота. Лысков, услышав конский топот, с помощию нескольких стрельцов выломил небольшую калитку и выбежал за ограду. Все стрельцы, оставшиеся в монастыре, были изрублены налетами. Двое из них и Бурмистров бросились в погоню за Лысковым, оставив лошадей своих у калитки; потому что она была так низка, что и человеку можно было пройти чрез нее не иначе, как согнувшись. Вскоре нагнал он Лыскова и пятерых стрельцов, которые с ним бежали. Они остановились, увидев погоню, и приготовились к обороне.
– Сдайся! – закричал Лыскову Василий.
Лысков выстрелил в Бурмистрова из пистолета и закричал стрельцам:
– Рубите его!
Пуля со свистом пронеслась мимо, и Лысков бросился на Василья с поднятою саблею; но один из налетов предупредил злодея, снес ему голову и в то же время упал, проколотый саблею одного из стрельцов. На оставшегося налета напали вдруг двое, а на Бурмистрова трое. Налету удалось скоро разрубить голову одному из противников; потом ранил он другого и бросился на помощь к Василью. Раненый между тем приполз к трупу Лыскова, вытащил из-за пояса его пистолет и, выстрелив в налета, убил его; но вскоре сам потерял последние силы и с истекшею кровью лишился жизни. Между тем Василий дрался как лев с тремя врагами. Одному разрубил он голову, другого тяжело ранил; но третий ему самому нанес удар в левую руку и бросился в лес, увидев бежавших к ним от монастыря двух человек.
Василий, чувствуя, что силы его слабеют, правою рукою поднял с земли свою саблю и, опираясь на нее, пошел к монастырю. Вскоре голова у него закружилась, и он упал без чувств на землю.
Через несколько часов Бурмистров пришел в чувство. Открыв глаза, увидел он, что перед ним стоит приятель его купец Лаптев и что он сам лежит на постеле в опрятной избе. Изба эта находилась за оградою, неподалеку от главных монастырских ворот.
– Слава богу! – сказал Лаптев. – Наконец он очнулся! Мы, Василий Петрович, думали, что ты совсем умер. Как бы не подняли мы тебя да не перевязали твоей раны, ты бы, верно, кровью изошел!
– Благодарю вас! – сказал слабым голосом Бурмистров. – Как попал ты сюда, Андрей Матвеевич, с Андреем Петровичем?
– Сегодня на рассвете услышали мы в Москве, что царь Петр Алексеевич ночью уехал наскоро из Преображенского в монастырь и разослал во все стороны гонцов с указом, чтобы всякий, кто любит его, спешил к монастырю для защиты царя против стрельцов-злодеев. Я с Андреем Петровичем и побежал в Гостиный двор, собрал около себя народ и закричал: «Друзья любезные! Злодеи стрельцы хотят убить нашего царя-батюшку. Он теперь в Троицком монастыре: поспешим туда и положим за него свои головы!» – «В монастырь!» – крикнули все в один голос. «Кому надобно саблю, ружье, пику, – закричал я, – тот беги в мою оружейную лавку и выбирай, что кому надобно». Посмотрел бы ты, Василий Петрович, как мы из Москвы-то сюда скакали на извозчичьих телегах: земля дрожала! На каждую телегу набралось человек по десяти. Слышь ты, сотни четыре народу-то из Гостиного двора да из купеческих рядов с нами сюда приехали.
В это время послышался громкий звук барабанов. Андрей, взглянув в окно, увидел, что Преображенские и Семеновские потешные и Бутырский полк с распущенными знаменами, скорым шагом шли к монастырским воротам. Перед полками ехали верхом генерал Гордон и полковник Лефор.
– Ба! – воскликнул Андрей. – Это, кажется, выступает капитан Лыков перед ротою… он и есть!
– Как это полки-то так скоро сюда поспели? – спросил Лаптев, подойдя к окну.
– Видно, на крестьянских подводах прискакали, – отвечал Андрей.
– Этакое войско – молодец к молодцу! – продолжал Лаптев. – Сердце радуется! А это что за обоз там приехал?.. вон, вон, Андрей Петрович, полевее-то! Никак все крестьяне. Ба! да все с топорами, косами и вилами. Эк их сколько высыпало. Кто это впереди-то идет? Господи боже мой! священник, кажется… так и есть! Видишь, крест у него в руке сияет.
Когда толпа крестьян, предводимая священником, приблизилась, то Андрей воскликнул:
– Да это отец Павел идет перед ними. Он, точно он. А это, видно, все крестьяне села Погорелова!
Андрей и Лаптев долго еще смотрели в окно. Со всех сторон беспрестанно спешили к монастырю стольники, стряпчие, дворяне, дьяки, жильцы, дети боярские, копейщики, рейтары. Все бояре, преданные царю Петру Алексеевичу, также прибыли в монастырь. Вскоре в монастырских стенах сделалось от бесчисленного множества народа тесно, и многие из приезжавших останавливались под открытым небом, за оградою монастыря.
Лаптев, оставив с Бурмистровым Андрея, вышел из избы в намерении отыскать отца Павла и спросить его: не приехала ли с ним Варвара Ивановна? С трудом отыскал он его в бесчисленной толпе народа и узнал, что и Варвара Ивановна, и Мавра Савишна с Ольгою, и Наталья с матерью хотели непременно ехать к монастырю и что он с великим трудом отговорил их от этого намерения.
Они не успели еще кончить начатого разговора, как потешные, Бутырский полк, Налеты и все прибывшие в монастырь для защиты государя начали выходить один за другим на поле. Полки построились в ряд, и вмиг разнеслась везде весть, что царь скоро выедет к войску и народу. В самом деле, Петр на белом коне, в прапорщичьем мундире, вскоре выехал из ворот в сопровождении бояр, генерала Гордона и полковника Лефора. Земля задрожала от восклицаний восхищенного народа. Это изъявление любви подданных глубоко тронуло царя. Он снял шляпу, начал приветливо кланяться на все стороны, и на глаза его навернулись слезы.
Бурмистров, услышав крик народа, попросил Андрея узнать причину крика. Тот вышел из избы, вмешался в толпу, увидел вдали царя и вместе со всеми начал кричать во всю голову «ура!».
В это самое время прошла поспешно мимо его женщина в крестьянском кафтане и с косою на плече. За нею следовало человек семь крестьян, вооруженных ружьями.
– Здорово, Андрей Петрович! – сказал один из них.
– Ба! Сидоров! Как ты здесь очутился?
– Мавра Савишна изволила сюда приехать с твоею сестрицею, с матушкою, хозяюшкою Андрея Матвеевича и с Ольгой Андреевной. Они остались вон там, вон в той избушке.
– Куда же вы идете?
– Не знаю. Госпожа приказала нам идти за нею.
Андрей, нагнав Семирамиду Ласточкина Гнезда, которая ушла довольно далеко вперед с прочими ее крестьянами, спросил ее:
– Куда это ты спешишь, Мавра Савишна?
– Хочу голову свою положить за царя-батюшку! Жив ли он, наше солнышко? Не уходили ли его разбойники стрельцы? Впору ли я поспела?
– Вон он, на белой лошади.
– Слава богу! – воскликнула Мавра Савишна и, оборотясь лицом к монастырю, несколько раз перекрестилась. – А матушка-то его, царица Наталья Кирилловна, жива ли, супруга-то его, нашего батюшки? Сохранил ли их Господь?
– Они в монастыре.
– А где же стрельцы-то разбойники? Да мне только до них добраться, я их, окаянных!
– Нет, здесь стрельцам уже не место, Мавра Савишна.
– Кажись, что не место. Да нет ли где хоть одного какого забеглого? Я бы ему косой голову снесла! Да вот, кажется, идут разбойники. Погляди-ка, Андрей Петрович, глаза-то у тебя помоложе. Вон, вон! Видишь ли? Да их никак много, проклятых!
Андрей, посмотрев в ту сторону, куда Мавра Савишна ему указывала, увидел в самом деле вдали приближавшийся отряд стрельцов.
– Что это значит? – сказал Андрей. – Они, видно, с ума сошли: да их здесь шапками закидают.
– Ванюха! – закричала Мавра Савишна Сидорову. – Ступай к ним навстречу. Ступайте и вы все с Ванюхой! – сказала она прочим крестьянам. – Всех этих мошенников перестреляйте.
– Народу-то у нас маловато, матушка Мавра Савишна, – возразил Сидоров, почесывая затылок. – Стрельцов-то сотни две сюда идут; а нас всего семеро: нам с ними не сладить!
– Не робей, Ванюха, сладим с мошенниками. Коли станут они, злодеи, вас одолевать, так я сама к вам кинусь на подмогу.
– Нет, матушка Мавра Савишна, побереги ты себя. Уж лучше мы одни пойдем на драку. Скличу я побольше добрых людей, да и кинемся все гурьбой на злодеев.
Сказав это, Сидоров вмешался в толпу и закричал:
– Братцы! Разбойники стрельцы сюда идут, – проводим незваных гостей!
Толпа зашумела и заволновалась; несколько сот вооруженных людей побежало навстречу приближавшемуся отряду стрельцов! Начальник их, ехавший верхом впереди, не вынимая сабли, поскакал к толпе и закричал:
– Бог помощь, добрые люди! Мы стрельцы Сухаревского полка и спешим в монастырь для защиты царя Петра Алексеевича!
– Обманываешь, разбойник! – закричало множество голосов. – Тащи его с лошади! Стреляй в него!
– Господи боже мой! – воскликнул купец Лаптев, рассмотрев лицо начальника отряда. – Да это никак ты, Иван Борисович!
– Андрей Матвеевич! – сказал стрелец, спрыгнув с лошади и бросясь на шею Лаптеву. – Господь привел меня опять с тобою увидеться!
Они крепко обнялись. Между тем несколько человек окружило их, и многие прицелились в стрельца из ружей.
– Не троньте его, добрые люди! – закричал Лаптев. – Это пятидесятник Иван Борисович Борисов. За него и за всех стрельцов Сухаревского полка я вам порука! Этим полком правил пятисотенный Василий Петрович Бурмистров.
– Коли так, пусть их идут сюда! – закричала толпа.
– А где второй отец мой, Василий Петрович? – спросил Борисов Лаптева.
– Он лежит раненый, вон в той избушке.
– Раненый? Пойдем, ради бога, к нему скорее!
Дорогою Лаптев узнал от Борисова, что Сухаревский полк шел к Москве по приказу Шакловитого; что на дороге встретился гонец с царским повелением, чтобы всякий, кто любит царя, спешил защищать его против мятежников, и что весь полк пошел тотчас же к монастырю.
– Я с своею полсотнею опередил всех прочих моих товарищей, – прибавил Борисов. – Скоро и весь полк наш придет сюда.
– Доброе дело, Иван Борисович, доброе дело! Ну вот мы уж и к избушке подходим. То-то Василий Петрович обрадуется, как тебя увидит. Он часто поминал тебя, Иван Борисович!
Они вошли в хижину. Бурмистров сидел в задумчивости на скамье, с подвязанною рукою.
– Вот я к тебе нежданного гостя привел, Василий Петрович, – сказал Лаптев.
Бурмистров, при всей своей слабости, вскочил со скамьи, увидев Борисова, а этот со слезами радости бросился в объятия Василья. Долго обнимались они, не говоря ни слова. Наконец Лаптев, приметив, что перевязка на руке Бурмистрова развязалась, посадил его на скамью и вместе с Борисовым насилу уговорил его, чтоб он лег успокоиться. Лаптев только что успел перевязать ему снова рану, как отворилась дверь, и вошли неожиданно Наталья с ее матерью и братом, отец Павел, Мавра Савишна с Ольгою, Варвара Ивановна и капитан Лыков.
– Здравия желаю, пятисотенный! – воскликнул Лыков. – Я слышал, что тебя один из этих мошенников стрельцов царапнул саблею. Ну что рука твоя?
– Кровь унялась; теперь мне лучше.
– Признаюсь, мне на тебя завидно: приятно пролить кровь свою за царя!.. Поди-ка поздравь жениха, любезная моя дочка! – продолжал он, взяв за руку Наталью и подведя ее к Бурмистрову. – Не стыдись, Наталья Петровна, не красней! Ведь я твой посаженый отец: ты должна меня слушаться. Поцелуй-ка жениха до пожелай ему здоровья. Ой вы, девушки! Ведь хочется смерть самой подойти, а нет, при людях, видишь, стыдно.
– Что это, господин капитан, – сказала старушка Смирнова, – как можно девушке до свадьбы с мужчиной поцеловаться!
– Не слушай господина капитана, Наталья Петровна, – прибавила Мавра Савишна. – Этакой греховодник, прости господи! Ведь голову срезал девушке, да и нас всех пристыдил.
– Велик стыд с женихом поцеловаться! Это у нас, на Руси, грехом почитается, а в иностранных землях так все походя целуются! – возразил капитан и принудил закрасневшуюся Наталью поцеловаться с женихом своим.
– Ну посмотри, что он завтра же выздоровеет! – примолвил Лыков. – Что, пятисотенный? Ты, я чаю, и рану свою забыл?
– Желательно, чтобы Россия сравнялась скорее в просвещении с иностранными землями, – сказал Андрей, взглянув украдкою на Ольгу. С первого на нее взгляда, еще в селе Погорелове, она ему так понравилась, что он твердо решился к ней свататься.
Наступил вечер. Около монастыря запылали в разных местах костры, и пустынные окрестности огласились шумным говором бесчисленной толпы и веселыми песнями. По просьбе Бурмистрова Лыков растворил окно, и все бывшие в хижине внимательно начали слушать песню, которую пел хор песенников, собравшихся в кружок неподалеку от хижины. Запевало затягивал, а прочие певцы подхватывали. Они пели:
Запевало Волга, матушка-река, Ты быстра и глубока, Хор Ты куда струи катишь, К морю ль синему бежишь? Запевало Как по той ли по реке Лебедь белая плывет. Хор На крутом на бережке Лебедь коршун стережет. Запевало Поднимался он, злодей. Закружился он над ней, Хор Остры когти распускал, На лебедушку напал, Запевало Остры когти вор навел, Грудь лебяжью вор пронзил. Хор Где ни взялся млад орел! По поднебесью летит. Запевало Не каленая стрела Кровь злодейску пролила: Хор Вора млад-орел убил И лебедку защитил. Запевало Не лебедка то плыла, Не она беды ждала; Хор То не коршун нападал; То не млад-орел спасал. Запевало А сторонушке родной Зла хотел злодей лихой, Хор А спасал ее наш царь, Млад надежа-государь!– Лихо пропели! – сказал Лыков стоявшему подле него Лаптеву. – Ба! да у тебя никак слезы на глазах, Андрей Матвеевич! Что это с тобой сделалось?
– Смерть люблю слушать, коли хорошо поют, господин капитан, – отвечал Лаптев, утирая слезы. – Запевало-то знатный, этакой голос, – ну так, слышь ты, за ретивое и задевает.
XI
На зорки они прозорливых
Туманы дымные падут.
Начнут плести друг другу сети
И в них, как в безднах, пропадут.
ГлинкаВскоре дошел слух в Москву о собравшемся в Троицкий монастырь бесчисленном множестве народа. Царевна София немедленно призвала к себе для совещания князя Голицына и Шакловитого.
– По моему мнению, – сказал Голицын, – твоему царскому величеству всего лучше удалиться на время в Польшу. Все верные слуги твои последовали бы за тобою… Я слышал, что полковник Циклер подал подробный донос царю.
– И это ты, князь, мне советуешь! – воскликнула с гневом царевна. – Мне бежать в Польшу?.. Никогда! Это бы значило подтвердить донос презренного Циклера! Я в душе чувствую себя правою и ничего не опасаюсь. Младший брат мне не страшен; другой брат мой такой же царь, как и он. Ты забыл, князь, что я еще правительница!
– Беспрекословным исполнением воли твоей я докажу тебе, государыня, что мое усердие к тебе никогда не изменится, хотя бы мне грозила опасность вдесятеро более настоящей. Я рад пожертвовать жизнию за твое царское величество!
– На тебя одну возлагаем мы все надежду! – сказал Шакловитый. – Спаси всех нас, государыня! Клеветники очернили верного слугу твоего перед царем Петром Алексеевичем. Погибель моя несомненна, если ты за меня не заступишься. Полковника Петрова и подполковника Чермного увезли уже по приказу царя в Троицкий монастырь для допросов.
– Для чего же ты допустил увезти их? – воскликнула София, стараясь скрыть овладевшее ею смущение.
– Я не смел противиться воле царской. Чермной не хотел отдаться живой в руки приехавших за ним стрельцов Сухаревского полка, ранил их пятидесятника, однако ж должен был уступить силе.
София, по некотором размышлении, послала Шакловитого пригласить к ней сестер ее, царевен Марфу и Марию, и тетку ее, царевну Татьяну Михайловну. Когда они прибыли к ней, то она со слезами рассказала им все, что, по словам ее, сообщили о ней царю Петру Алексеевичу клеветники и недоброжелатели. Убежденные ее красноречием, царевны поехали немедленно в Троицкий монастырь для оправдания Софии и для примирения ее с братом. Услышав, что избранные ею посредницы остались в монастыре, царевна пришла в еще большее смущение и послала чрез несколько дней патриарха к царю Петру. Но и это посредничество не имело успеха. Наконец царевна сама решилась ехать в монастырь. В селе Воздвиженском встретили ее посланные царем боярин князь Троекуров[166] и стольник Бутурлин[167] и объявили ей, по царскому повелению, что она в монастырь впущена не будет. Пораженная этим София возвратилась в Москву. Вскоре прибыли туда боярин Борис Петрович Шереметев[168] и полковник Нечаев с сильным отрядом и, взяв всех сообщников Шакловитого, отвезли в монастырь; Шакловитого же нигде не отыскали.
Через несколько дней прибыл из монастыря в столицу полковник Серчеев и объявил, что он имеет нечто сообщить Софии по воле царя Петра Алексеевича. Немедленно был он впущен в ее комнаты.
– Зачем прислан ты сюда? – спросила София.
Серчеев, почтительно поклонясь царевне, подал ей запечатанную царскою печатью бумагу.
София велела бывшему в комнате князю Голицыну распечатать свиток для прочтения присланной бумаги. Князь дрожащим голосом прочитал:
«Великие государи цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцы, указали в своих великих государей грамотах и в Приказах во всяких делах и в челобитных писать свое великих государей именование и титлу по сему, как писано в сем указе выше сего, и о том из Розряду во все приказы послать памяти. Сентября 7 дня 7198 года»[169].
– Они не вправе этого сделать! – воскликнула София. – Моего имени нет в этом указе. Он недействителен!.. Князь! напиши сейчас же другой указ об уничтожении присланного. Объяви, что тот будет казнен смертью, кто осмелится исполнить указ, написанный и разосланный без моего согласия.
– Государыня, ты никогда не отвергала советов искренно преданного слуги твоего. Дозволь ему еще раз, может быть, в последний раз в жизни, сказать откровенно свое мнение. Указ твой не будет иметь никакой силы и действия без имен обоих царей. Если же имена их царских величеств написать в указе без их согласия, то они могут обвинить тебя в присвоении принадлежащей им власти.
– А разве я не имею теперь права обвинить их в отнятии у меня власти, неоспоримо мне принадлежащей? – сказала в сильном волнении София. – В объявлении о вступлении их на престол было сказано, чтобы во всех указах писать вместе с их именами и мое имя. С тех пор власть их соединена нераздельно с моею. Покуда они цари, до тех пор я правительница. Поезжай сейчас же в монастырь, – продолжала она, обратясь к Серчееву, – и перескажи все слышанное здесь тобою. Объяви младшему брату моему, что я решусь на самые крайние средства, если он не отменит этого несправедливого указа.
– Исполню волю твою, царевна! – сказал Серчеев. – Но прежде должен я еще исполнить повеление царя Петра Алексеевича. Он приказал взять Шакловитого и привезти в монастырь.
– Шакловитый бежал из Москвы, и ты напрасно потеряешь время, если станешь его отыскивать.
– Царь повелел мне искать его везде, не исключая даже дворца.
– А я тебе запрещаю это!
– Не поставь меня в необходимость, царевна, оказать неуважение к повелению дочери царя Алексея Михайловича. Дозволь мне исполнить царское повеление, которое я не решился бы нарушить и тогда, если б мне предстояла неминуемая смерть.
С этими словами Серчеев пошел к двери, которая вела в другую комнату.
– Ты осмеливаешься обыскивать мои комнаты! – воскликнула София. – Остановись! Я велю казнить тебя!
В это время вошел князь Петр Иванович Прозоровский[170] и сказал царевне, что царь Иоанн Алексеевич повелел сообщить ей, чтобы она дозволила Серчееву взять Шакловитого, скрывающегося в ее комнатах.
София переменилась в лице, хотела что-то отвечать, но Серчеев отворил уже дверь в другую комнату и вывел оттуда Шакловитого.
– Спаси меня, государыня! – воскликнул последний, бросясь к ногам Софии. – Тебе известна моя невинность!
– Покорись, Федор Иванович, воле царской! – сказал Прозоровский. – Если ты невинен, то тебе нечего бояться: на суде докажешь ты правоту свою. Правый не боится суда. Если же ты станешь противиться, то полковнику приказано взять тебя силою и привезти в монастырь. С ним присланы сто солдат, которые стоят около дворца и ожидают его приказаний. Итак, не сопротивляйся и поезжай теперь же в монастырь.
Шакловитый, ломая руки, вышел из дворца с Прозоровским и Серчеевым.
Когда его привезли в монастырь, то собралась немедленно Государственная Дума. После четырехдневных допросов Шакловитый, Петров и Чермной были уличены в умысле лишить жизни царя Петра Алексеевича и его родительницу и произвести мятеж. Одиннадцатого сентября царь повелел думному дьяку выйти на крыльцо и прочитать всенародно розыскное дело о преступниках. По окончании чтения со всех сторон раздался крик: «Смерть злодеям!» – и Дума приговорила их к смертной казни. Истопник Евдокимов, подьячий Шошин и другие соумышленники Шакловитого сосланы были в Сибирь.
Когда Шакловитого, Чермного и Петрова вели к месту казни, то последний, повторив перед народом признание в своих преступлениях, сказал:
– Простите меня, добрые люди! Научитесь из нашего примера, что клятвопреступников рано или поздно постигает неизбежное наказание Божие. За семь лет перед этим присягнул я царю Петру Алексеевичу, изменил ему, и вот до чего дошел я наконец! Храните присягу, как верный залог вашего и общего счастия.
Чермной, бледный как полотно, укорял Циклера, который шел подле него, ведя отряд стрельцов, окружавший преступников.
– Ты погубил нас всех! – говорил Чермной. – Нашею гибелью хочешь ты прикрыть твои злодейства. Тебе за донос дали награду, а нас ведут на казнь. Не знал я тебя до сих пор, злодея-изменника: давно бы мне тебя зарезать!
– Не укоряй его, Чермной! – сказал Петров. – Я знаю, что Циклер столько же преступен, сколько и мы. Он донес на нас, но я его прощаю. Мы заслуживаем казнь, к которой приговорены. Придет время, ответит и он Богу за дела свои. Берегись, Циклер, чтобы и тебя не постигла когда-нибудь равная с нами участь. Не надейся на хитрость твою, она тебе не поможет, и правосудие Божие совершится над тобою так же, как и над нами, если искренним раскаянием не загладишь твоих преступлений.
– Напрасно стараешься ты, Петров, очернить меня, – сказал Циклер, – тебе не поверят. Если б я был в чем-нибудь виноват, то его царское величество не наградил бы меня ныне поместьем в двести пятьдесят четвертей и подарком в тридцать рублей.
Вскоре после казни Шакловитого и его сообщников боярин князь Троекуров послан был царем Петром в Москву. Он пробыл около двух часов у царя Иоанна Алексеевича и пошел потом в комнаты царевны Софии для объявления ей воли царей. Властолюбивая София принуждена была удалиться в Новодевичий монастырь. Там постриглась она и провела остальные дни жизни под именем Сусанны[171]. Боярина князя Голицына приговорили к ссылке в Яренск.
XII
И мой последний взор на друга
устремится.
Дмитриев– Что это, Андрей Матвеевич, за звон по всей Москве сегодня? – спросила Варвара Ивановна своего мужа, который отдыхал на скамейке в светлице жены. Накануне того дня, тридцатого сентября, возвратился он из Троицкого монастыря в дом свой, уверясь, что никакая опасность не угрожает уже царю Петру Алексеевичу.
– Разве ты забыла, что сегодня праздник Покрова Пресвятыя Богородицы.
– Вестимо, что не забыла; да обедни давно уж отошли, а все-таки звонят на всех колокольнях. Посмотри-ка, Андрей Матвеевич, посмотри! – сказала Варвара Ивановна, подойдя к окну. – Куда это народ-то бежит? Уж не стрельцы ли окаянные опять что-нибудь затеяли?
– Типун бы тебе на язык! Нет уж, матушка, полно им бунтовать, прошла их пора!
– Как, Андрей Матвеевич, ты дома! – воскликнул Андрей, входя в комнату. – Разве не слыхал ты, что сегодня царь Петр Алексеевич въезжает в Москву?
– Неужто! – вскричал Лаптев, спрыгнув со скамейки. – Жена! одевайся проворнее, пойдем встречать царя-батюшку.
Все трое вышли из дома и поспешили к Кремлю. Народ толпился на улицах. На всех лицах сияла радость. От заставы до Успенского собора стояли в два ряда Преображенские и Семеновские потешные, Бутырский полк и стрельцы Сухаревского полка. Даже заборы и кровли домов были усыпаны народом. Взоры всех обращены были к заставе. Наконец раздался крик: «Едет, едет!», и вскоре царь на белой лошади в сопровождении Лефора и Гордона[172] появился между стройных рядов войска. За ним ехали Налеты под предводительством Бурмистрова. Черная перевязка поддерживала его левую руку. Гром барабанов смешался с радостными восклицаниями народа. Когда царь подъехал к кремлевскому дворцу, Иоанн Алексеевич встретил на крыльце своего брата, нежно им любимого. Они обнялись и оба пошли к Успенскому собору. Там патриарх совершил благодарственное молебствие. По выходе из храма цари едва могли достигнуть дворца сквозь толпу ликующего народа. В тот же день щедро были награждены все прибывшие к Троицкому монастырю для защиты царя.
День уж вечерел. Бурмистров, поместив своих Налетов на Лыковом дворе, поспешил к своему дому. При взгляде на этот дом, так давно им оставленный, сердце Василья наполнилось каким-то сладостно-грустным чувством. Сколько воспоминаний приятных и горестных возбудил в Василье вид его жилища! Он вспомнил беспечные, счастливые дни молодости, проведенные вместе с другом его, Борисовым, вспомнил первую встречу свою с Натальею и прелесть первой любви, вспомнил и бедствия, которые так долго всех их угнетали.
Долго стучался он в ворота. Наконец слуга его Григорий, живший в доме один, как затворник, и охранявший жилище своего господина, отворил калитку.
– Барин! – воскликнул он и упал к ногам своего господина, заплакав от радости.
– Встань, встань! Поздоровайся со мной, Григорий, – сказал Бурмистров. – Мы уж давно с тобой не видались.
– Отец ты мой родной! – восклицал верный слуга, обнимая колена Василья. – Не чаял я уж тебя на этом свете увидеть.
Василий вошел в дом и удивился, найдя в нем все в прежнем порядке. Григорий сберег даже дубовую кадочку с померанцевым деревцем, стоявшую в спальне Бурмистрова, – последний подарок прежнего благодетеля его и начальника, князя Долгорукого. Всякий день слуга поливал это деревце, обметал везде пыль и перестилал постель, как будто бы ожидая к вечеру каждого дня возвращения господина.
Когда Василий вышел в свой сад, то, увидев там цветник, над которым он и Борисов часто трудились весною, остановился в задумчивости. Цветы все поблекли, и весь цветник засыпан был желтыми листьями дерев, обнаженных рукою осени.
– Помнишь ли, барин, как Иван Борисович любил этот цветник? Уж не будет он, горемычный, гулять с тобой в этом саду!
– Как, почему ты это говоришь? – спросил Василий.
– Да разве ты не знаешь, барин, что он приезжал в Москву из монастыря со стрельцами и что подполковник Чермной, когда Иван Борисович хотел взять этого злодея, ранил его кинжалом?
– Поведи меня, ради бога, к нему скорее! – воскликнул Бурмистров. – Где он теперь?
– Лежит он неподалеку отсюда, в избушке какого-то посадского. Я его хотел положить в твоем доме, да сам Иван Борисович не захотел. «Где ни умереть, – сказал он, – все равно».
Встревоженный Бурмистров последовал за слугою и вскоре подошел к избушке, где лежал Борисов. Послав слугу за лекарем, осторожно отворил он дверь и увидел друга своего, который лежал на соломе при последнем издыхании. Подле него сидела жена посадского и плакала. Пораженный горестию, Василий взял за руку Борисова. Тот открыл глаза и устремил угасающий взор на своего друга, которого он назвал вторым отцом своим за оказанные ему благодеяния.
– Узнал ли ты меня? – спросил Василий, стараясь скрыть свою горесть. – Я пришел помочь тебе: сейчас придет лекарь и перевяжет твою рану.
– Уж поздно! – отвечал слабым голосом Борисов. – Это ты, второй отец мой! Слава богу, что я с тобой успею проститься!
Бурмистров хотел что-то сказать своему другу в утешение, но не мог, тихо опустил его хладеющую руку, отошел к окну и заплакал.
– Сходи скорее за священником! – сказал он на ухо жене посадского. – Он умирает!
– Я уж призывала священника, – отвечала тихо женщина, – но больной не хотел приобщиться и сказал батюшке, что он раскольник.
– Раскольник! – невольно воскликнул Бурмистров, пораженный горестным удивлением.
Борисов, услышав это восклицание, собрал последние силы, приподнял голову и сказал:
– Не укоряй меня, Василий Петрович! Может быть, я и согрешил перед Богом, но что делать! Я дал уже клятву и нарушить ее не хочу, чтобы больше не согрешить. Без тебя, второй отец мой, некому было меня предостеречь. В Воронеже познакомился я с сотником Андреевым. Все говорили про него, что он святой. Не мое дело судить его, один Бог может видеть его душу. Андреев уговорил меня перекреститься в веру истинную. Он уверил меня…
Глаза Борисова закрылись, он склонил голову и простерся, недвижный, на соломе.
С великим трудом Василий привел его в чувство.
Увидев лежавший подле Борисова небольшой серебряный образ Богоматери, который он снял с шеи, Василий взял этот образ и сказал Борисову:
– Друг мой! Помнишь ли, как ты просил меня, расставаясь со мною, вместо отца и матери благословить тебя этою иконой? Заклинаю тебя теперь: если ты еще не перестал любить меня и верить, что и я люблю тебя по-прежнему, то не упорствуй в заблуждении твоем, присоединись опять к церкви православной, и Бог восставит тебя с одра болезни.
– Нет, второй отец мой, я чувствую, что кончина моя близка. Благослови меня перед смертию этим образом, но отломи прежде это колечко с четвероконечным крестом. Андреев открыл мне, что это печать Антихриста.
– Друг мой! Крест важен не потому, что он четыреконечный или осьмиконечный, а потому, что он напоминает нам распятого за нас Спасителя. Сами раскольники крестятся, изображая крест четыреконечный, и между тем отвергают его, как печать антихристову. На каждом шагу спотыкаются они, не понимая, в чем состоит истинная вера, которая предписывает нам братскую любовь и единомыслие, а не споры и расколы, всегда противные Богу. Изувер Андреев морил людей голодом, убивал их и наконец сжег самого себя, – и ты этого человека допустил обольстить тебя!
– Я верю тебе, второй отец мой; ты никогда не давал мне совета пагубного. Но клятва, которую я дал, меня связывает.
– Клятва, данная по заблуждению, не действительна. Стремиться к истине и отвергать заблуждение – вот клятва, которую должны мы соблюдать целую жизнь.
– Ах, Василий Петрович! Трудно человеку узнать истину! Почему знать, кто заблуждается: вы или мы?
– Христос установил одну истинную церковь на земле. Мы сделались при великом князе Владимире единоверцами греков, и православная церковь процветает с тех пор в нашем отечестве. Раскольники отделились от нее, затеяв споры, от которых апостол Павел повелевает христианам удаляться. Итак, право ли они поступили?
– Боже! Просвети меня и укажи мне путь правый! – сказал Борисов, закрыв лицо руками.
Между тем купец Лаптев, услышав об отчаянном положении Борисова, бросился к отцу Павлу, который вместе с ним из Троицкого монастыря приехал в Москву и остановился в доме своего племянника, также священника приходской церкви. По просьбе Лаптева отец Павел немедленно пошел к Борисову, неся на голове Святые дары. Перед ним, по обычаю того времени, утвержденному царским указом, шли два причетника церковные с зажженными восковыми свечами, а священника окружали десять почетных граждан, в том числе Лаптев. Все они, сняв шапки, держали их в руках. Прохожие останавливались, всадники слезали с лошадей и молились в землю, когда мимо их проходил священник. Царь Петр, случайно попавшийся ему навстречу, также слез с лошади, снял шляпу и присоединился к гражданам, окружавшим отца Павла. Вместе со всеми вошел он в хижину, где лежал Борисов.
– Приступи к исполнению твоей обязанности, – сказал царь тихо священнику и, увидев Бурмистрова, спросил его: – Не родственник ли твой болен?
– Это, государь, пятидесятник Сухаревского полка Борисов. Его ранил Чермной, когда он хотел взять его и отвезти в Троицкий монастырь.
– Злодей! – воскликнул монарх, содрогнувшись от негодования. Потом приблизился он к Борисову, взял его за руку и с чувством сказал: – Ты за меня пролил кровь твою, Борисов. Дай Бог, чтоб здоровье твое скорее восстановилось: я докажу тогда, как умею я награждать верных и добрых моих подданных… Был ли здесь лекарь? – спросил царь, обратясь к Бурмистрову.
– Я послал уже за ним, государь.
– Исповедуй, батюшка, и приобщи больного Святых таин, – продолжал царь. – Мы все покуда выйдем из дома, чтобы не мешать тебе, а потом все вместе поздравим Борисова.
С Борисовым остался один отец Павел. Ревность к истине и любовь к заблудшему ближнему воодушевили старца и придали ему увлекательное, непобедимое красноречие. Борисов познал свое заблуждение, обратился к церкви православной, и луч горней благодати озарил его пред смертью. Старец приобщил его и потом отворил дверь хижины.
– Поздравляю тебя, друг мой! – сказал царь Петр Борисову, взяв его за руку. – Лучше ли ты себя чувствуешь?
– Ах, государь, я умираю; но мне стало легче вот тут! – отвечал Борисов прерывающимся голосом, положив руку на сердце. – Да благословит тебя Господь и да ниспошлет тебе долгое и благополучное царствование!.. Прощай, второй отец мой, прощай, Василий Петрович! Я последовал твоему совету: умираю сыном церкви православной! Благодарю тебя!.. Чермной, бедный Чермной! я тебя прощаю, от искреннего сердца прощаю!.. Благослови меня, батюшка! Да наградит тебя Бог за то, что ты спас меня от вечной погибели!.. Боже милосердый! Ты не отверг и разбойника раскаявшегося, не отвергни и меня! Услышь молитву мою: утверди и возвеличь царство русское и сохрани его от…
Голос Борисова начал слабеть. Он перекрестился, тихо вздохнул, прижал к устам образ, присланный ему матерью, взглянул на Василья и переселился в мир лучший. На спокойном лице его изобразилась тихая, младенческая улыбка.
У Лаптева катились в три ручья слезы. Бурмистров не мог плакать от сильной горести.
На другой день прах Борисова предали земле, и царь почтил память доброго и верного подданного присутствием своим на похоронах его.
ХIII
Ты моя! Блаженный час!
КарамзинНаступил декабрь. Царь Петр с Лефором и Гордоном удалился из Москвы в Преображенское и повторил Василью приказание: приехать туда вслед за ним не иначе, как с молодою женою.
Мавра Савишна в одни сутки сделала в доме своего племянника все нужные приготовления к свадьбе. Когда собрались гости, то она посадила за стол, уставленный кушаньями, Василья с его невестою, и два мальчика разделили их занавесом из красной тафты. Варвара Ивановна, сняв с головы Натальи подвенечное покрывало, начала расчесывать гребнем из слоновой кости прелестные ее кудри. Вскоре прибыл отец Павел, благословил крестом жениха и невесту, и все отправились в церковь. Наталью посадили в богато убранные сани, в которых ехала некогда к венцу Варвара Ивановна. Хомут лошади увешан был лисьими хвостами. С невестою сели жена Лаптева и Мавра Савишна. Василий, капитан Лыков, Андрей и Лаптев отправились в церковь верхом. По возвращении из церкви все сели за стол и не успели еще приняться за первое блюдо, как вдруг отворилась дверь, и вошел царь Петр в сопровождении Лефора. Все вскочили с мест.
– Поздравляю тебя, ротмистр! – сказал царь. – И тебя поздравляю, молодая! Сядьте все снова по местам. Отчего вы все так встревожились? Разве я так страшен? Кажется, дети не должны бояться отца. Мне было бы приятно, если б подданные мои считали меня отцом своим.
– Они и считают тебя отцом, государь! – отвечал Бурмистров.
– Докажите же это мне на деле. Я не хочу смущать вашего праздника. Продолжайте веселиться, как будто бы меня здесь не было. Я теперь не царь, а гость ваш. Садись-ка, любезный Франц, сюда к столу, а я подле тебя сяду. Вот сюда! Проси же, молодая, прочих гостей садиться. Они все-таки стоят.
После стола, за которым царь выпил первый за здоровье молодых, все встали с мест и в почтительном молчании смотрели на Петра, который, подойдя к окну, начал разговаривать с Лефором.
Лаптев, дрожа от восхищения и робости, смотрел на Петра во все глаза.
– Как зовут тебя, добрый человек? – спросил его царь, приблизясь к нему и потрепав его по плечу.
Лаптев вместо ответа повалился в ноги царю.
Петр поднял его и сказал:
– Встань и поговори со мною. Что ты меня так боишься? Разве ты сделал что-нибудь худое?
– Нет, надежа-государь, – отвечал Лаптев, заикаясь, – худа никакого за собою не знаю; но кто пред Богом не грешен, а пред царем не виноват?
– В чем же ты виноват предо мною?
– Во всем, надежа-государь, во всем!
– Я бы желал, чтобы все подданные мои были предо мною виноваты так, как ты, во всем и чтобы не было ни одного в чем-нибудь виноватого. А скажи-ка мне: кто из Гостиного двора и купеческих рядов привел к Троицкому монастырю до четырехсот человек для моей защиты? Ты думаешь, что я этого не знаю?
– Виноват, надежа-государь! Я только скликал народ и объявил твой указ: и старый, и малый – все так и бросились сами к монастырю, а я их не приваживал.
– За эту вину надобно наказать тебя. Приготовь завтра, любезный Франц, грамоту о пожаловании купца Гостиной сотни Лаптева гостем.
Лаптев снова упал к ногам царя и заплакал, не имея сил выговорить ни одного слова.
– Ну полно же, – сказал Петр, – встань! Я знаю, что ты благодарен, за оказанную тебе милость. Старайся торговать еще лучше, веди дела честно и показывай другим собою пример. Я и вперед тебя не забуду. А ты, Лыков, что поделываешь? Бутырский полк не пристал уж в последний раз, как прежде, к стрельцам?
– Бог сохранил от этого позора, государь! – отвечал Лыков, вытянувшись.
– Что ж ты ныне не подрался со стрельцами? Ты ведь однажды с одной ротой, как помнится, чуть не отбил у них пушек в Земляном городе.
– Отбил бы, государь, да народу у меня было мало. Притом мошенники успели нас вспрыснуть раза два картечью. Поневоле пришлось отступить!
– Знаю, знаю, что и храбрые офицеры иногда отступают. А что тебе лучше нравится: идти назад или вперед?
– Вперед, государь, когда можно поколотить неприятеля, и назад, когда должно поберечь и себя и солдат на другой раз. Так мне покойный майор Рейт приказывал.
– Будь же ты сам майором. Я посмотрю: что ты приказывать другим станешь.
– Стану всем приказывать, чтобы шли за мною в огонь и в воду за твое царское величество.
– Ну а ты, ученый муж, что скажешь? – сказал Петр, обратясь к Андрею. – Ты также с Лаптевым приехал к монастырю?
– Точно так, государь.
– Я слышал, что ты большой мастер сочинять и говорить речи. Кто тебе из древних ораторов лучше всех нравится?
– Цицерон, государь.
– Мне сказывали, что ты говорил речь на Красной площади против расстриженного попа Никиты Пустосвята.
– Я успел сказать только введение; договорить же речи не мог, потому что народ стащил меня с кафедры и едва не лишил жизни.
– Договори же речь твою на кафедре в Заиконоспасском монастыре. Я назначаю тебя учителем в академию. Только смотри, чтоб ученики не стащили тебя с кафедры. Ну, прощай, ротмистр! – продолжал царь, обратясь к Бурмистрову. – Я нарочно приехал в Москву, чтобы побывать на твоей свадьбе. Приезжай скорее в Преображенское. Я постараюсь, чтобы ты забыл там все, что перенес за верность твою ко мне. До свидания! Вручи завтра эту грамоту священнику села Погорелова, который привел всех своих прихожан к Троицкому монастырю. Я его назначаю в дворцовые священники. Это ожерелье, которое жена моя носила, надень на твою жену; а ты, молодая, возьми эту саблю и надень не на ротмистра, а на подполковника Налетов.
Вручив Василью драгоценное жемчужное ожерелье, царь снял с себя саблю, подал Наталье и вышел поспешно с Лефором, не дав времени излить пред ним чувство благодарности, которые наполнили сердца счастливой четы.
– Посмотри, милый друг! – сказала Наталья, надевая саблю на мужа своего дрожащими от радости руками. – На рукояти вырезаны какие-то слова.
Василий, вынув из ножен саблю до половины, взглянул на рукоять и прочитал надпись: «За преданность церкви, престолу и отечеству».
В июле 1709 года сидел отставной, за полученными в сражениях ранами, бригадир у окна своего дома и любовался на золотоверхий Кремль, осыпанный яркими лучами заходившего солнца. У другого окна вышивала в пяльцах жена бригадира. Хотя ей было уже за сорок лет от роду, но, судя по сохранившимся прекрасным чертам лица ее и по стройному стану, можно было подумать, что она не достигла еще и тридцатилетнего возраста. На покрытой шелковым ковром скамье, которая стояла у стены, сидели седой как лунь старик с его женою, отличавшейся необыкновенною дородностию, и пожилой человек с важным лицом. Последний рассматривал внимательно ландкарту России, которую держал в руках. На другой скамье, сгорбясь, о чем-то перешептывались две старухи. Они попеременно кашляли; по временам обращались они с вопросами к пожилой красивой женщине, которая стояла у печки. Одна из старух казалась лет семидесяти, другая лет девяноста.
– Что ни говори, – сказал человек, державший ландкарту, сидевшему подле него седому старику, – а дожили мы до трудных времен: того и смотри, что шведский король, этот Юлий Кесарь наших времен, возьмет Полтаву и разобьет наше войско наголову.
– Да разве ты не слыхал, – сказал бригадир, – что царь Петр Алексеевич спешит со свежим войском на помощь к осажденным?
– Слышал; однако ж, откровенно сказать, я дрожу, ожидая развязки этой ужасной борьбы между двумя сильнейшими монархами Севера. Под стенами Полтавы решится участь России. Дай Бог, чтоб счастие было ныне нам, русским, благоприятнее, чем под стенами Нарвы. Право, приходит иногда на ум, что Петр Алексеевич едва ли хорошо сделал, уничтожив стрельцов и заменив их войсками, по-европейски образованными. Под Нарвой-то шведы их порядком поколотили. Подобного поражения и стрельцы никогда не претерпевали.
– Ты удивляешь меня! – сказал бригадир. – Вспомни, сколько раз стрельцы бунтовали, сколько раз жизнь государя и благо отечества подвергались от этого мятежного войска опасности. Мы и теперь бы не наслаждались спокойствием, если б это войско еще существовало. Помнишь ли, в какой пришли ужас все жители Москвы в тысяча шестьсот девяносто восьмом году, когда во время пребывания государя в Вене стрельцы, собравшись из разных мест, двинулись к столице в намерении овладеть ею, ниспровергнуть законную власть и вручить царевне Софии управление царством. Если бы боярин Алексей Семенович Шеин[173] с воеводою Ржевским[174] и генералами Гордоном и князем Кольцовым-Масальским не встретил их у Воскресенского монастыря, за сорок шесть верст от столицы, то она потонула бы в крови. С их стороны было до двадцати тысяч, с нашей не более двенадцати; однако ж их разбили наголову. Можно ли после этого жалеть об уничтожении стрельцов? Они только останавливали государя на каждом шагу в его великих предприятиях. Еще в Вене, когда он получил известие от князя Федора Юрьевича Ромодановского[175] о новом возмущении стрельцов, государь решился их уничтожить. У меня есть список с ответа его Ромодановскому.
Бригадир, встав, подошел к письменному своему столу, который стоял у одного из окон горницы, и, отыскав в ящике список, о котором говорил, прочитал:
«Письмо твое, июня 11 дня писанное, мне отдано, в котором пишет ваша милость, что семя Ивана Михайловича[176] растет. Я прошу вас быть крепким, а кроме сего ничем сей огнь угасить не можно. Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако ж сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете».
– Да! – сказал седой старик. – Это проклятое семя глубоко запало в нашу русскую землю. Как бы не батюшка-царь Петр Алексеевич, так, слышь ты, и ныне были бы от этого семени цветки да ягодки. Чего-то в нашей матушке-Москве не бывало! Много раз и твоя жизнь, господин бригадир, висела на волоске, и меня злодей Шакловитый хотел убить, а добро мое разграбить. Однако ж Господь сохранил всех нас. Недаром сказано в Писании, что и волос с главы нашей не спадет без воли Божией. Вот мы, слава богу, до сих пор живы и здоровы; а где все изменники и бунтовщики? Все погибли!
– Неужто-таки все? – спросила жена старика.
– Да немного их уцелело. Перечтем по пальцам. О казненных говорить уж нечего. Боярин Иван Михайлович Милославский давным-давно умер, и такою смертью, какой не дай бог и злому недругу; племянника его, комнатного стряпчего Александра Ивановича Милославского, убили на дороге разбойники; стольник Иван Толстой пропал без вести; кормовой иноземец Озеров после свадьбы его с постельницей царевны Софьи Алексеевны, Федорой Семеновой, запил с горя, жену свою – видно, хороша была, покойница! – убил и сам удавился. Уцелели только Петр Андреевич Толстой, бывший городовой дворянин Сунбулов да немец Циклер.
– Циклер? – сказал бригадир. – Да разве ты не знаешь, что и этот хитрец наконец попался? Ах да, ведь ты был в тот год по твоим торговым делам в Архангельске, так, верно, и не слыхал об этом. Циклер добился уж в думные дворяне. Царь Петр Алексеевич, узнав его покороче, назвал его однажды собеседником Ивана Михайловича Милославского. Циклер начал с тех пор питать в сердце тайную злобу и наконец вступил в заговор с окольничим Алексеем Соковниным, стольником Федором Пушкиным, стрельцами Васильем Филипповым и Федором Рожиным да донским казаком Петром Лукьяновым. У них было положено лишить государя жизни и избрать Циклера на престол. Царь сам с одним только денщиком поехал вечером в дом Соковнина и нашел там собравшихся заговорщиков. Все они были взяты капитаном Лопухиным, прибывшим по царскому приказу с отрядом Преображенского полка, и четвертого марта тысяча шестьсот девяносто седьмого года всех их казнили смертью.
– Вот что! Так и Циклера наконец Бог попутал! – сказал старик. – А слышал ты, господин бригадир, что царь недавно встретил Сунбулова в Чудове монастыре? Царь, слышь ты, был в соборной церкви того монастыря и приметил, что один чернец после обедни не подошел к антидору. Узнав, что этот чернец был Сунбулов, государь подозвал его к себе и спросил: «Для чего ты нейдешь к антидору?» – «Я-де не смею и глаз на тебя поднять, не только пройти мимо тебя, государь!» – «Почему подал ты против меня голос, когда избирали меня на царство?» – спросил его еще царь. «Иуда предал Спасителя за тридцать сребреников, а я предал тебя за обещанное боярство». Государь, видя его раскаяние, помиловал его и оставил в монастыре.
– Стало быть, только Сунбулов да Петр Толстой, – примолвил человек с ландкартой, – не погибли.
– Толстой, – сказал бригадир, – принял участие в первом стрелецком бунте, когда еще был очень молод. Он вскоре раскаялся и загладил вину свою усердною службою царю Петру Алексеевичу. Из стольников вступил он прапорщиком в Семеновский полк, дослужился до капитанского чина и переведен был в Преображенский полк, а ныне находится в Царьграде послом его царского величества.
В это время вбежал в комнату девятилетний сын бригадира в слезах и бросился к отцу на шею.
– Что с тобой сделалось, Федя?
– В саду играли мы в войну, батюшка, – отвечал мальчик, продолжая плакать, – я был царь Петр Алексеевич, а двоюродный мой братец Алеша – шведский король Карл; мои братцы были русские генералы и солдаты, а его братец и сестрица Маша – шведские. Я начал было делать из прутиков Полтаву, а Алеша не дал кончить и всю Полтаву притоптал ногами.
– Какой шалун! Ты, Олинька, худо за ним смотришь! – сказал человек, державший ландкарту, женщине, которая стояла у печки и разговаривала с двумя старухами.
– Скажи ему, Федя, – сказала женщина сыну бригадира, – чтоб он сейчас же опять построил Полтаву, а не то… Да вот и сам победитель пришел сюда! Зачем ты, Алеша, озорничаешь?
– Я совсем, матушка, не озорничал!
– А зачем ты притоптал Полтаву? – спросил человек с ландкартой.
– Мы играли, батюшка, в войну. Федя, Миша и Вася стали на одну сторону, а я с братцем Гришей и сестрицей Машей на другую. Мы все нарвали с рябины ягод, начали стреляться и условились так: если мы первые попадем Феде в лоб ягодой, то Полтава моя, а если они мне, то я должен идти к нему в плен. Сестрица Маша с первого раза попала Феде в лоб – я и притоптал Полтаву.
– Так зачем же ты понапрасну жалуешься, Федя? – сказал бригадир. – Так ли происходило сражение, как рассказал Алеша? – спросил он у прочих детей, вошедших во время рассказа Алеши в горницу.
– Мы, мы победили! – закричали в один голос брат и сестра Алеши.
– Я ему попала ягодой в самый лоб! – прибавила Маша.
– Не стыдно ли тебе плакать, Федя? – сказал бригадир. – Перестань.
– Да ведь досадно, батюшка! Как бы я был шведский король, да меня победили, так я бы не заплакал.
– Кто это к нам приехал? – сказала жена бригадира, смотря в окно. – Должен быть дорожный: лошади чуть дышат, и повозка вся покрыта пылью.
Все подошли к окну и увидели вышедшего из повозки какого-то генерала, который завернут был в плащ.
Через несколько минут отворилась дверь, и генерал вошел в горницу.
– Боже мой! – воскликнул бригадир, бросясь в объятия генерала. – Вот нежданный гость!
Они крепко обнялись. Генерал, поздоровавшись со всеми бывшими в комнате, сел на скамью.
– Не из армии ли, любезный друг, приехал? – спросил его бригадир.
– Прямо оттуда!
– Ну что, каково идут наши дела?
– Да плоховато! Мошенники-шведы так нас, русаков, бьют, что только держись!
– Быть не может!
– Я тебе говорю! Шведский король задал нам такого трезвону под Полтавой, что и теперь еще в ушах звенит!
– Ах, боже мой! – воскликнули все печальным голосом.
– А где же царь Петр Алексеевич? Неужели в самом деле армия наша разбита? – спросил бригадир.
– Бутырский полк, в котором я прежде служил, весь положен на месте, Семеновский и Преображенский отдались в плен, а все прочие разбежались!
– Господи боже мой! – воскликнул седой старик, сплеснув руками и вскочив со скамьи. – Скажи, ради бога, господин генерал: царя-то батюшку помиловал ли Господь? Уж и он не попался ли в полон к врагам-шведам?
– Не правду ли я сказал, – шепнул человек с ландкартой бригадиру, – что и стрельцов иногда пожалеть можно?
– Ну что уж вас мучить! – продолжал генерал. – Этак я вас всех встревожил! Не бойтесь: все это я налгал, а теперь и правду скажу. Наш царь под Полтавой раскатал шведов в прах!
– Слава богу! – воскликнули все в один голос.
– Сам король едва ноги уплел!
– Ура! – закричали все дети, прыгая от радости и хлопая в ладоши.
– Ура! – затянул дрожащим голосом седой старик, присоединясь к детям и также захлопав в ладоши. – Кричите, детки, кричите громче: ура!
– Ха, ха, ха! Старый да малый раскричались! – сказал генерал, засмеявшись.
– Слава Тебе, Господи! – прибавила одна из старух, сидевших на скамье. – Теперь враги-шведы, чай, уж не придут к Москве! Я того и смотрела, что доберутся, проклятые, до моего поместья, да домик мой сожгут.
– Нет уж, теперь шведов опасаться нечего! – сказал бригадир. – Право, не верится, что русские достигли такой степени славы.
– Посмотрел бы ты, бригадир, – продолжал генерал, – каким орлом летал царь во время сражения. Перед началом битвы стал он пред войском и сказал: «Воины! пришел час, который решить должен судьбу отечества, и вы не должны помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, яко непобедимого, которую ложну быти вы сами победами своими над ним неоднократно доказали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. На Того единого, яко всесильного во бранех, уповайте; и о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия, благочестие, слава и благосостояние ее!» Потом благословил он войско, сотворив знамение креста своею шпагою, и велел начать сражение. Раздалась команда «пали!» – и наши грянули по шведам из пушек, а они в нас из своих. Они бросились к нам, а мы к ним, и как сошлись сажен[177] на двадцать, то и начали вспрыскивать друг друга картечью да ружейным огнем. Наконец дошло дело до штыков. Шведы разрезали было наш фронт и закричали уж «победа!» – нет, любезные, погодите! Царь налетел со вторым баталионом Преображенского полка и всех шведов, пробившихся чрез наш фронт, угомонил. В это время князь Меншиков и генерал-поручик Боур[178] с конницею с двух флангов ударили на неприятельскую конницу. Пустилась, матушка, наутек! А пехота наша, видя то, пошла в штыки; раздалось «ура!» – и шведской армии как не бывало! Во время сражения пуля прострелила на царе шляпу. Бог его помиловал!
– Бог хранит царей, жертвующих собою для счастия вверенных им народов, – сказал бригадир. – Сколько раз избавлял Он царя Петра Алексеевича от опасностей! Ну что ты теперь скажешь? – продолжал он, обратясь к человеку с ландкартой. – Кажется, нельзя жалеть, что победителем Карла Двенадцатого, спасителем и отцом отечества, уничтожены были стрельцы.
Примечания
1
Часы разделялись тогда на дневные и ночные. С восходом солнца начинался 1-й час дня. Счисление дневных часов продолжалось до захождения солнца. После солнечного заката начинался 1-й час ночи. Счисление ночных часов продолжалось до восхода солнца. См. Мейерберга «Путешествие по России». С. 269.
(обратно)2
27 апреля солнце восходит в Москве в 4 часа 12 минут, а заходит в 7 часов 48 минут. Следовательно, царь Феодор умер, по нынешнему счислению часов, в 4 часа 27 минут пополудни, за 3 часа 21 минуту до захождения солнца.
(обратно)3
Купечество разделялось тогда: 1) на гостей, 2) на купцов Гостиной сотни, 3) Суконной и 4) Черных сотен и слобод. Гостям особыми царскими грамотами давались разные преимущества. Они, по свидетельству Кильбургера, были царские коммерции советники. Торговлю производили оптовую, как внутри государства, так и за границею, особенно в Персии. Место, где складывались их товары, называлось Гостиным двором. Купцы Гостиной сотни производили торговлю разными товарами внутреннюю и имели дело с иностранными купцами в Архангельске. Купцы Суконной сотни торговали сукнами и другими шерстяными товарами. Оба сии разряда по особым дозволениям правительства имели право ездить и за границу. Купцы Черных сотен и слобод производили внутреннюю мелочную торговлю, нередко собственными своими изделиями. (Примеч. автора.)
(обратно)4
Подьячий – служащий центральных и местных учреждений России XVI – начала XVIII в. Делились на старых, средней статьи и молодых.
(обратно)5
Царевич Иван Алексеевич(1666–1696) – пятый сын царя Алексея Михайловича от брака с М. И. Милославской. После смерти царя Федора Алексеевича царем первоначально был провозглашен один Петр. В мае 1682 г. после выступления стрельцов царями были объявлены оба брата.
(обратно)6
Царевна Софья Алексеевна (1658–1704) – третья дочь царя Алексея Михайловича от брака с М. И. Милославской. В мае 1682 г. была провозглашена правительницей при малолетних царях Иване Алексеевиче и Петре Алексеевиче. В сентябре 1689 г. после столкновения с Петром I лишена этого титула и поселена в Новодевичьем монастыре.
(обратно)7
Царь Феодор Алексеевич (1661–1682) – третий сын царя Алексея Михайловича и его первой жены М. И. Милославской. Получил европейское образование, владел польским и латинским языками, писал стихи, был любителем математики. Венчан на царство в июле 1676 г.
(обратно)8
Святцы – перечень праздников и святых по дням, в которое отмечается их память.
(обратно)9
7190 от сотв. мира – 1682 по Рожд. Христове
(обратно)10
Держава – эмблема царской власти: золотой шар с крестом наверху.
(обратно)11
Штоф – шелковая плотная ткань.
(обратно)12
До патриарха Иоакима было в России 5 митрополитов. Он умножил число их до 12. (Примеч. автора.)
(обратно)13
Архиепископ – епископ, в ведении которого находится автономная епархия.
(обратно)14
Думный дворянин – дворянин, входивший в состав Боярской думы.
(обратно)15
Думный дьяк – дьяк, входивший в состав Боярской думы (четвертый по значению чин в правительственной иерархии XVI–XVII вв.).
(обратно)16
Патриарх Иоаким (в миру Иван Савелов) (1620–1690) – возведен на патриарший престол в 1674 г. Находился в оппозиции к правительнице Софье и поддерживал партию Нарышкиных. Сыграл важную роль в отстранении Софьи от власти.
(обратно)17
Царица Наталья Кирилловна (1651–1694) – вторая жена царя Алексея Михайловича. От этого брака родилось трое детей: сын Петр и дочери Наталья и Феодора. Второй брак Алексея Михайловича привел к острому соперничеству между Нарышкиными и Милославскими, родственниками первой жены царя.
(обратно)18
Так называли себя патриархи. (Примеч. автора.)
(обратно)19
Милославский Иван Михайлович, князь – родственник первой жены царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны. Возглавлял партию Милославских. Был одним из организаторов стрелецкого выступления в мае 1682 г.
(обратно)20
Долгоруков (Долгорукий) Михаил Юрьевич – служил при дворе царя Алексея Михайловича. Был одним из наиболее приближенных людей царя Федора Алексеевича. После смерти Федора Алексеевича выступил как сторонник партии Нарышкиных. Убит стрельцами 15 мая 1682 г.
(обратно)21
Стольники были придворные чиновники, прислуживавшие при царском столе. В стольники обыкновенно жаловали дворян, стрелецких полковников, которые сохраняли притом и военную свою должность, и детей знатных отцов. Стряпчие были также придворные чиновники, заведовавшие платьем царя и имевшие смотрение за съестными припасами, заготовлявшимися для царского стола. Они одевали государя, ходили и ездили за ним и исполняли разные мелочные его поручения. Звание дворянина жаловалось особыми царскими указами, лично, а не потомственно. Жалованья дворяне не получали, а содержались доходами с поместий. Обязанность их была являться ко двору в праздничные дни в светлом платье, для умножения придворного великолепия. Они употреблялись также для военной и гражданской службы. Московские дворяне считались выше городовых. Последними имели право распоряжаться в мирное время главные городские начальники. Дьяки были секретари разных приказов. Жильцами назывались молодые люди из детей боярских, детей дворян, стряпчих и стольников, служившие по наряду в столице. Они составляли московское охранное войско, развозили указы царские и употреблялись для разных посылок. Во время мира они жили в Москве по три месяца и потом сменялись другими своими товарищами. Дети боярские составляли конное земское войско. Для содержания их жаловались им от казны поместья. Название свое получили они оттого, что в походах и сражениях находились при боярах и их охраняли. (Примеч. автора.)
(обратно)22
Чепрак – подстилка под седло, поверх потника.
(обратно)23
Подсокольничий – помощник сокольничего.
(обратно)24
Бергман называет его Самбуловым, вероятно, следуя Голикову; Галем Сумбуловым, а Сумароков Сунбуловым. Сия последняя фамилия встречается в XII томе «Истории Государства Российского». В разных летописях, описывающих бунты стрельцов, означенный дворянин назван Сунбуловым. (Примеч. автора.) Сунбулов Михаил Исаевич – думный дворянин. Сторонник партии Милославских.
(обратно)25
1 Скипетр – атрибут царской власти в виде жезла.
(обратно)26
Верея – столб, на который навешивается створка ворот.
(обратно)27
Площадные подьячие были чиновники, которые записывали и свидетельствовали разные акты частных лиц. Они помещались обыкновенно на площадях и оттого получили свое название. (Примеч. автора.)
(обратно)28
Объезжих можно сравнить с полицеймейстерами конца XIX – начала XX в., а решеточных приказчиков с квартальными надзирателями. В Кремле, в Китай-городе и в Белом было по два объезжих. Они ездили день и ночь по городу с несколькими решеточными приказчиками, взятыми с Земского двора, и стрельцами. С каждых 10 дворов и 10 лавок объезжие назначали по человеку в десятники и в уличные сторожа. Зажиточные люди и каждые 5 дворов, принадлежащих людям небогатым, должны были иметь кадки с водою, ведра, рогатины, топоры и водоливные трубы. Во всех улицах и переулках расписаны были объезжими решеточные приказчики, десятники и уличные сторожа. Они ходили день и ночь и смотрели, чтобы зажигательства, бою, грабежу, корчмы, табаку и инаго какого воровства не было; чтобы никто весною, летом и осенью в теплые и ясные дни домов и мылен не топил и поздно вечером с огнем не сидел. Печь хлеб и готовить кушанье позволялось с 1-го часа дня до 4-го, в особых поварнях или в печах, устроенных на огородах или на дворах не близко домов и прикрытых от ветра лубьем. Для больных и родильниц позволялось топить печи в домах с разрешения объезжих один раз в неделю, равно позволялось всем топить печи в воскресенье и четверток в холодную и ненастную, но не ветреную погоду. Тот, по чьей оплошности или небрежению происходил пожар, наказывался смертию. Священнослужители и причетники церковные состояли в ведомстве особых объезжих, назначавшихся с патриаршего двора. Вот полная картина тогдашнего устройства полиции в Москве. (Примеч. автора.)
(обратно)29
Ефимками платили иностранцы таможенную пошлину. На них ставили рублевое клеймо и пускали в обращение внутри государства. (Примеч. автора.)
(обратно)30
Оправдаться присягою от обвинения в каком-нибудь преступлении называлось отцеловаться. (Примеч. автора.)
(обратно)31
Кабаки в Москве были еще при царе Алексие Михайловиче уничтожены. Вино продавалось на казенном Кружечном дворе, который в 1681 г. переименован был Московским отдаточным двором. Пойманные с купленным корчемным вином платили в первый раз пеню (ј рубля), во второй раз вносили двойную пеню, а им отсчитывали батоги; в третий раз взыскивалась с них пеня вчетверо, и наказывали их кнутом. (Примеч. автора.)
(обратно)32
Многие в то время давали на себя кабалы за 3 и даже за 2 рубля и, не заплатив в срок денег, делались холопами заимодавцев. Цена рубля равнялась тогда голландскому червонцу. В рубле содержалось 20 серебряных денег или 100 серебряных копеек. (Примеч. автора.)
(обратно)33
Плащ с длинными рукавами. (Примеч. автора.)
(обратно)34
Царь Феодор Алексеевич 28 декабря 1681 г. указал боярам, окольничим и думным дворянам ездить летом в каретах, а зимой в санях, на двух лошадях; боярам в праздники на четырех лошадях, а на сговоры и свадьбы на шести; спальникам, стольникам, стряпчим и дворянам зимой в санях на одной лошади, а летом верхом. (Примеч. автора.)
(обратно)35
Таков был обыкновенный наряд боярских слуг. (Примеч. автора.)
(обратно)36
Клобук – головной убор монахов.
(обратно)37
Кормовыми иноземцами называли тех из иностранцев, которые, вступив в русскую службу и не получив поместий, содержались жалованьем, производившимся им от казны. Должно полагать, что Озеров был иностранец и поступил в русскую службу, в новгородские дворяне. Что значило в то время сие звание – объяснено выше в примечании на с. 19. Настоящая фамилия его, без сомнения, была другая. Озеровым он, вероятно, был назван уже в России; тогда все иностранные фамилии переделывали на русский лад. Циклера называют наши летописи: Цыкляр. Даже имена посланников были изменяемы. Например: в записках государственного московского архива Гораций Кальвуччи назван Торацыуш Калюцыуш. (Примеч. автора.)
(обратно)38
Стольник – придворный чин, пятый по значению после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.
(обратно)39
Толстой Иван Андреевич – старший брат П. А. Толстого. Активно действовал на стороне Милославских в событиях мая 1682 г. Толстой Петр Андреевич – сын А. В. Толстого от брака с кн. Милославской, сестрой И. М. Милославского. С 1676 г. – стольник. Принял активное участие в событиях 1682 г. на стороне Милославских. Отличался жестокостью, беспринципностью и коварством. Был одним из руководителей кровавого следствия по делу царевича Алексея. После смерти Петра I – один из первых лиц в руководстве страны. В мае 1727 г. был арестован вследствие конфликта с А. Д. Меншиковым, приговорен к лишению чинов, должностей, графского достоинства и к ссылке.
(обратно)40
Циклер Иван Елисеевич – службу начал в 1671 г. Являясь подполковником стрелецкого Стремянного полка, принял активное участие в событиях 1682 г. на стороне партии Милославских. В феврале 1697 г. арестован по обвинению в заговоре против Петра I и казнен.
(обратно)41
Пятисотенный Чермной – Чермной Кузьма Иванович, в 1689 г. в действительности пятидесятник стрелецкого Дементьева полка. Арестован в августе 1689 г. по обвинению в намеревании убить царицу Наталью Кирилловну и оскорбительном высказывании в ее адрес. Казнен 12 сентября 1689 г.
(обратно)42
Царевич Димитрий – сын Ивана Грозного и его седьмой жены Марии Нагой, погиб в Угличе 15 мая 1598 г.
(обратно)43
Матвеев Артемон Сергеевич – сын дьяка. Подростком попал во дворец, воспитывался вместе с будущим царем Алексеем Михайловичем, был одним из главных его советников, позднее возглавил руководство внешней политикой страны. После воцарения Федора Алексеевича был отстранен от руководства Посольским приказом, лишен чинов и отправлен в ссылку по обвинению в колдовстве. После смерти Федора Алексеевича возвращен в Москву. Убит стрельцами 15 мая 1682 г.
(обратно)44
Постельница – прислужница по спальне.
(обратно)45
Спасские.
(обратно)46
Паперть – площадка перед входом в церковь.
(обратно)47
Богоявленская вода – обладающая целебными свойствами вода, освященная в праздник Богоявления 6 (19) января.
(обратно)48
Просвира – белый хлебец особой формы, употребляемый в христианском богослужении.
(обратно)49
В то время во всей Москве были только две аптеки: одна называлась Старою, другая Новою. Первая находилась в Кремле и назначена была исключительно для двора; вторая помещалась в гостином дворе, выстроенном по приказанию царя Алексея Михайловича. (Примеч. автора.)
(обратно)50
Шерсть – клятва. Так в старину называли иностранные вероисповедования. Выражение сие встречается даже в Уложении. (Примеч. автора.)
(обратно)51
Аввакум (Петров) – протопоп, один из виднейших деятелей раннего старообрядчества. За активные выступления против церковной реформы в 1653–1664 гг. был в ссылке в Восточной Сибири. В 1666 г. расстрижен и сослан в Пустозерск, где создал автобиографическое «Житие», являющееся одной из вершин русской литературы XVII в. Был сожжен в Пустозерске 14 апреля 1682 г.
(обратно)52
Правежом назывался утвержденный старинными законами нашими татарский обычай взыскания долгов. Должник, присужденный к платежу долга и не имеющий чем оный заплатить, был выводим разутый перед приказ в то время, как судьи собирались. Пристав во все время заседания приказа бил должника прутом по ноге, не причиняя ему боли, если получал от него какой-нибудь подарок. В противном случае должник подвергался ужасному истязанию, в особенности когда пристав получал подарок от истца. За долг в 100 рублей должно было стоять на правеже месяц. От сего не освобождались и дворяне. Петр Великий отменил сей варварский обычай. (Примеч. автора.)
(обратно)53
Стрельцы, по данным им преимуществам, а нередко и против закона, занимались торговлею и разными промыслами, имели лавки, бани и т. п. (Примеч. автора.)
(обратно)54
Нарышкин Иван Кириллович (1658–1682), старший брат царицы Натальи, боярин. При царе Федоре из-за интриг Милославских был сослан в Рязань, но в 1682 г. возвращен в Москву. По требованию стрельцов он был им выдан и после пытки казнен.
(обратно)55
Бутырский полк принадлежал к числу так называвшихся Солдатских полков. Они состояли из русских солдат и были образованы по-европейски иностранцами. Полковники, подполковники и майоры этих полков были иностранцы, а все прочие офицеры русские. При царе Алексие Михайловиче было семь таких полков. В царствование преемника его, царя Феодора Алексеевича, число их постепенно уменьшилось. (Примеч. автора.)
(обратно)56
Старинная народная песня.
(обратно)57
Даниил фон Гаден, из польских евреев. В 1657 г. он приехал в Москву, поступил в 1659 г. в царскую службу цирюльником и перекрестился в греческую веру. В 1672 г. царь Алексей Михайлович произвел его в докторы медицины. Он пользовался доверенностию двора и был любим боярином Матвеевым, который в письмах и челобитных своих называет его доктором Стефаном. Сие имя дано было ему при крещении в греческую веру. (Примеч. автора.)
(обратно)58
В сем состояли главные преступления, за которые Матвеев был лишен боярства и всего имения и отправлен в ссылку. В челобитной его, посланной в 1677 г. к царю Феодору Алексеевичу из Пустозерска, он оправдывается, говоря, между прочим: 1) что карло его, Захар, не мог слышать его разговора с Гаденом, так как, по его собственному показанию, он в то время спал за печкой и храпел; 2) что он во время сна не мог слышать: храпел ли он или нет; да и спать не мог за печкой, потому что она поставлена у него, боярина, в комнате, где он разговаривал с доктором, у самой стены; 3) что карло не мог видеть нечистых духов, потому что духи, добрые и злые, невидимы; 4) что доносчики, лекарь Давид Берлов и холоп его, Матвеева, карло Захар, сбились в показаниях, потому что сначала говорили, что в комнате был во время явления духов боярин, Гаден и карло, а потом показывали, что был еще в комнате Николай Спафарий (переводчик Посольского приказа, родом из Молдавии, отправленный в 1657 г. посланником в Китай); 5) что два ребра переломил карлу не он, Матвеев, а посадский Иван Соловцев во время игры с карлом и несколькими ребятами; 6) что нечистые духи кричали, по показаниям лекаря и карла: есть у вас в избе третий человек, и 7) что поэтому неизвестно, кто из них очелся, или в счете помешался, и палаты с избою не познали, духи ль проклятые и низверженные, или воры Давыдко и карло четырех человек считают за три, а палату называют избою. (Примеч. автора.)
(обратно)59
Нарышкин Кирилл Полуектович (1623–1691) – отец царицы Натальи Кирилловны. Был стрелецким головой в Смоленске, воеводой, думным дворянином, окольничим, а затем боярином. В мае 1682 г. по требованию стрельцов пострижен в монахи и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь.
(обратно)60
Ромодановский Григорий Григорьевич – князь. Участник русско-польской войны 1654–1656 гг. В 1656 г. пожалован в окольничие, воевода в Белгороде, боярин. Проявил себя как выдающийся военачальник, умелый администратор. Убит стрельцами 15 мая 1682 г.
(обратно)61
Черкасский Михаил Алегукович – князь. Воевода в Новгороде, Казани. Во время событий 15 мая 1682 г. принимал участие в уговорах стрельцов. В 1680-х гг. примыкал к партии Нарышкиных, пользовался большим доверием Петра I.
(обратно)62
Рында – телохранитель.
(обратно)63
Комнатными стольниками назывались те из стольников, которые служили при столе царском не только в торжественные, но и в обыкновенные дни. Вообще название комнатный прибавлялось к разным тогдашним чинам для отличия и для значения особенной милости и доверенности государя. (Примеч. автора.)
(обратно)64
Табак запрещено было курить даже и иностранцам. Полковник фон Деллен, по обвинению патриарха Никона, был наказан кнутом за употребление табака. (Примеч. автора.)
(обратно)65
Английское восклицание, соответствующее французскому «morbleu!».
(обратно)66
Царевна Марфа Алексеевна – имеется в виду Марфа Матвеевна, вторая супруга царя Федора Алексеевича.
(обратно)67
Голицын Борис Алексеевич (1654–1714) – князь. Служил при дворе царей Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Один из руководителей партии Нарышкиных, наставник Петра I. Сыграл важную роль в отстранении правительницы Софьи.
(обратно)68
Впоследствии пруд сей назван был Чистым. (Примеч. автора.)
(обратно)69
Гудменш, приехавший в Россию при царе Алексее Михайловиче из Голландии. О нем пишет Scheltema. Рихтер неправильно называет его: Гутменш. (Примеч. автора.)
(обратно)70
Глаголь – церковнославянское название буквы «г».
(обратно)71
Хованский Иван Андреевич – воевода в Туле, Вязьме, Могилеве, Пскове. Военачальник в русско-шведской 1656–1658 гг. и русско-польской 1658–1666 гг. войнах. В 1682 г. поначалу активно поддерживал партию Милославских. Пользовался большим авторитетом у московских стрельцов, в дальнейшем после конфликта с Софьей был арестован и казнен в сентябре 1682 г. по обвинению в попытке убийства царской семьи и патриарха.
(обратно)72
Указом 17 декабря 1682 г. они были опять переименованы стрельцами. Надворною пехотою назывались они менее пяти месяцев. (Примеч. автора.)
(обратно)73
Каждому стрельцу дано было 10 рублей. Выше замечено, что цена рубля равнялась в то время голландскому червонцу. (Примеч. автора.)
(обратно)74
В Москве было в то время два главных сада: Государев сад подле Кремлевской стены, близ Боровицких ворот, и Царев сад, на Васильевском лугу, в Белом городе, подле окружавшей этот город стены, неподалеку от Яузских ворот. (Примеч. автора.)
(обратно)75
Аталанта – в греческой мифологии охотница. Всем потенциальным женихам предлагала состязаться в беге и, выигрывая, убивала их. Меланион победил Аталанту хитростью: на бегу он бросал золотые яблоки, Аталанта поднимала их и не смогла догнать жениха.
(обратно)76
Платон (428/427—348/347 до н. э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа.
(обратно)77
Сократ (470/469—399 до н. э.) – древнегреческий философ. Умерщвлен по несправедливому приговору афинян.
(обратно)78
Диоген (Синопский, ок. 404–323 до н. э.) – ученик основателя философской школы киников Антисфена.
(обратно)79
Китайка – плотная хлопчатобумажная ткань синего, реже красного цвета без рисунка, первоначально вывезенная из Китая.
(обратно)80
Позумент – золотая, серебряная или мишурная тесьма; золототканая лента, оторочка.
(обратно)81
Катилина Луций Сергий (ок. 108—62 до н. э.) – римский политический деятель. За организацию заговора по захвату власти был изгнан из Рима.
(обратно)82
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) – древнеримский политический деятель, оратор, писатель.
(обратно)83
Семирамида – вавилонская царица Шаммурама (конец 9 в. до н. э.).
(обратно)84
Зороастр – древнегреческая форма имени иранского пророка, огнепоклонника Заратустры.
(обратно)85
Царь Феодор Алексеевич в 1681 г. указал в Китай-городе и Белом строить непременно домы каменные и вместо деревянных заборов по большим улицам ставить также каменные. (Примеч. автора.)
(обратно)86
Так называли в то время арестантов. (Примеч. автора.)
(обратно)87
Читатели прочтут далее выписки, без перемены слога, из собрания старообрядческих рукописей, которое принадлежало предку автора.
(обратно)88
В сей грамоте было сказано: «Божиею милостию Мы, Великие Государи Цари и проч. (Имя Софии не упомянуто.) В нынешнем 190 году Мая в 15 день изволением Всемилостивого Бога и Его Богоматери Пресвятые Богородицы в Московском Российском Государстве учинится побиение за дом Пресвятыя Богородицы, и за Нас, Великих Государей, и за все наше Царское Величество, от великих к ним налог и обид и от неправды в царствующем граде Москве Бояром…» (Следует перечисление убитых мятежниками.) Далее в грамоте запрещено называть стрельцов бунтовщиками и изменниками и их наказывать без царских именных указов. Потом сказано, что они никакого злого умышления не имели и никого не грабили; сверх того, освобождались они от разных служеб и повинностей, предоставлялись им разные денежные пособия и льготы, равным образом право судиться с кем бы то ни было в Стрелецком приказе и приводить в этот приказ всякого, кто в каком-нибудь воровстве объявится. Велено было во всех приказах дела их вершить безволокитно, и наконец поставить на Красной площади столб, и кто за что побит подписать. Столб этот поставлен был у лобного места с четырьмя по сторонам жестяными (в другой летописи сказано: медными, в третьей: железными) досками. На них написана была означенная грамота и имена убитых стрельцами. Так как доски сии впоследствии, по разрушении столба, были брошены в огонь, то и представляется важный и трудный вопрос антиквариям: из какого металла они были сделаны. (Примеч. автора.)
(обратно)89
Голицын Василий Васильевич (1643–1714) – служил при дворе царя Алексея Михайловича. С 1676 по 1680 г. командовал войсками на южной границе России. Сторонник партии Милославских. После прихода к власти царевны Софьи – руководитель внешней политики страны. В сентябре 1689 г., после прихода к власти Петра I, был лишен чинов, должностей, имущества и сослан.
(обратно)90
Бергман, Галем, Голтсов и другие пишут ошибочно, что венчание царей было 23 июня. Оно совершено 25 июня 1682 г. (Примеч. автора.)
(обратно)91
Мономах Владимир Всеволодович (1053–1125) – став великим киевским князем (1113), объединил под своей властью до ѕ территории русского государства и прекратил княжеские междоусобия. Бармы – часть парадной одежды московских князей и царей: широкое оплечье с нашитыми на него изображениями и драгоценными камнями.
(обратно)92
Амвон – круглое или полукруглое возвышение на солее напротив царских врат в православном храме.
(обратно)93
Символ веры – перечень исповедания основ или всей сущности веры.
(обратно)94
Сице – так.
(обратно)95
Литургия – богослужение, при котором совершается таинство святого причастия; обедня.
(обратно)96
Ризничий – священник, заведующий церковным имуществом.
(обратно)97
Дискос – блюдо с подставкой, на которое во время богослужения кладут вынутую из просфоры часть, называемую агнец.
(обратно)98
Потир – чаша, в которой во время литургии помещаются святые дары – хлеб и вино, символизирующие тело и кровь Христовы.
(обратно)99
Антидор – остатки просфоры, из которой извлечен агнец – средняя часть, вынимаемая для совершения Евхаристии (причастия).
(обратно)100
Сибирские царевичи – потомки правителей Сибири, перешедших в XVI в. в подданство России.
(обратно)101
Патриарх Никон (1605–1681) – на патриарший престол был возведен в 1652 г. Под руководством Никона была осуществлена церковно-обрядовая реформа. Выступал против попыток вмешательства государства в дела церкви, что стало одной из причин конфликта с царем, лишения его сана патриарха и ссылки в монастырь.
(обратно)102
Убо – итак, так, в таком случае.
(обратно)103
Обуснев – отпустив бороду и усы.
(обратно)104
Срачица – сорочка, нижнее белье.
(обратно)105
Федор – дьякон Благовещенского собора Кремля. За выступления против церковной реформы расстрижен и отправлен в северный Никольский монастырь, где принес раскаяние.
(обратно)106
Старец Епифаний – был иноком Соловецкого монастыря, выступал против церковной реформы. Долгое время жил отшельником в скитах Поморья. В 1667 г. по урезании языка сослан в Пустозерск. Сожжен в апреле 1682 г. вместе с Никоном и Федором.
(обратно)107
Зане – так как, потому что.
(обратно)108
Веси – знай.
(обратно)109
Узилище – тюрьма, темница.
(обратно)110
Дондеже – пока не.
(обратно)111
Никита Пустосвят – Добрынин Никита Константинович. Священник. В марте 1666 г. арестован за создание и распространение сочинений в защиту старых обрядов и сослан в северный Угрешский монастырь, где принес раскаяние. Главный участник диспута 5 июля 1682 г. со стороны старообрядцев. Казнен 11 июля 1682 г.
(обратно)112
Вертоград – сад.
(обратно)113
Сороковая бочка – бочка в 40 ведер.
(обратно)114
Афанасий Великий (298–373) – архиепископ Александрийский, автор многих богословских сочинений, считается отцом православия.
(обратно)115
Антиох – монах палестинской лавры святого Саввы, около 620 г. написал «Пандекты» – сокращенное изложение Священного Писания и трудов отцов церкви.
(обратно)116
Иоанн Златоуст (между 344 и 354–407) – константинопольский патриарх. Блестящий оратор, один из св. отцов восточнохристианской церкви.
(обратно)117
Папа Сильвестр (Селиверст) I (314–335); по преданию, крестил императора Константина, причислен к лику святых.
(обратно)118
Филофей (Коккин) – патриарх Константинопольский.
(обратно)119
Св. Кирилл (315–386) – епископ Иерусалимский.
(обратно)120
Петр Дамаскин – священномученик, ученый инок, живший во второй половине XII в. в Дамаске. Особенно почитался старообрядцами, так как, по их мнению, учил двуперстному сложению.
(обратно)121
Соломон (Шеломо), третий царь Израильско-Иудейского государства (ок. 965–928 до н. э.).
(обратно)122
Патриарх Никон в Воскресенском монастыре, им построенном в 1654 г., за 40 верст от Москвы, на реке Истре, и названном царем Алексеем Михайловичем за красоту здания и местоположения Иерусалимом, соорудил соборную церковь по подобию Иерусалимской. (Примеч. автора.)
(обратно)123
Звериное число – апокалипсическое число 666, под которым скрыто имя зверя, олицетворяющего антихриста.
(обратно)124
Орфей – в греческой мифологии поэт и музыкант. Бог Дионис разгневался на Орфея за то, что тот почитал не его, а Гелиоса (Аполлона), и наслал на певца вакханок, которые растерзали Орфея на части.
(обратно)125
Сын боярина Артемона Матвеева, граф Андрей Матвеев*, в своей летописи между прочим пишет о Хованском, что отец человек трусливый, а сын легкомысленный и высокомерный. Раупах** в прекрасной трагедии «Die Fьrsten Chawansky» описал князя Андрея героем; но трагедия его основана большею частию на вымысле. Из наших летописей видно, что главное действующее лицо во время мятежа раскольников был старый Хованский. Сын боярина Матвеева оправдывает обоих князей, говоря, что обвинение их в умысле против царского дома, патриарха и бояр было следствием личной злобы и коварства боярина Милославского. Он ссылается в том на догадку старожилых людей, тогдашних политиков московских. Но догадка эта весьма сомнительна, хотя ей и поверил Бергман. Означенные выше политики полагали, что Милославский решился погубить Хованских посредством клеветы по двум причинам: первая, по их мнению, состояла в боязни его, чтобы чрез Хованских, приобретших особенную любовь стрельцов, не открылось участие его, Милославского, в бунте 15 мая; вторая – в опасении, чтобы Хованские, пользуясь влиянием своим на стрельцов, не приобрели слишком большой силы. Чтобы оценить достоверность этих причин и повествования Матвеева, должно не упустить из виду: 1) что Милославский погубил боярина Матвеева, отца летописца; 2) что посему нельзя вполне полагаться на беспристрастие последнего, когда он все возможные злодейства приписывает Милославскому, которого называет скорпионом; 3) что Милославский был друг старого Хованского, и по его стараниям последний сделан был начальником Стрелецкого приказа; 4) что Милославскому нечего было опасаться, чтобы Хованский не открыл участия его в бунте 15 мая; потому что Софья очень хорошо знала об этом участии, которое послужило к возведению ее в правительницы государства. По всем этим причинам мы решились следовать в описании мятежа раскольников не столько повествованию Матвеева, сколько летописи монаха Медведева*** и другим источникам, с этою летописью согласным. (Примеч. автора.)
* Матвеев Андрей Артемонович (1666–1728) – воспитывался при дворе, был товарищем детских игр Петра I. В 1691–1693 гг. – воевода двинский и архангельский. В 1692 г. пожалован в окольничие. Долгие годы находился на дипломатической службе. Летопись – это написанные им воспоминания о Стрелецком мятеже 1682 г.
** Раупах Эрнст Вениамин (1784–1852) – драматург, ординарный профессор немецкой литературы (1816–1819).
*** Летопись монаха Медведева – Медведев Семен Агафонникович (в монашестве Сильвестр) (1641–1691) – подьячий, монах, редактор Печатного двора, автор ряда богословских трудов. Поддерживался царевной Софьей, после отстранения которой от власти был обвинен в намерении убить патриарха и казнен.
(обратно)126
В общем гербовнике* Российской империи сказано, что род князей Хованских происходит от Гедимина, великого князя литовского, а род сего последнего от великого князя Владимира. (Примеч. автора.)
* Гербовник – книга, содержащая изображение и описание дворянских гербов.
(обратно)127
1 Описанные в сей главе происшествия изображены Голиковым и другими неполно и неверно. Он ввел в ошибку не только своих читателей, но и гравера, который вырезал на меди большой эстамп, изображающий прение духовенства с раскольниками в Грановитой палате и геройский поступок юного Петра (который вовсе не был в то время в этой палате). Голиковым принята была в основании «Летопись российская и последование царств от Рюрика до кончины Петра Великого». Бергман (часть 1, с. 120) сомневается в справедливости описания Голикова, говоря, между прочим, о речи, сказанной будто бы при сем случае с Петром: «Так как мы не знаем, сколько принадлежит из-сей речи юному царю и сколько его историку (на немецком сказано: Bewunderer) [восхищающий. – А. Р., Д. С.], то лучше согласиться, что царь ничего при сем случае не сказал». Неверность описания Голикова доказывается многими неопровержимыми историческими источниками, которыми мы воспользовались. Вот они: 1) Увет Духовный, сочинение патриарха Иоакима, который был одним из главных действующих лиц во время описанных Голиковым событий; 2) летопись монаха Сильвестра Медведева, также современника и очевидца происшествий; 3) Третие послание митрополита Игнатия; 4) Розыск св. Димитрия Ростовского; 5) Полное историческое известие о старообрядцах протоиерея Андрея Иоаннова и 6) старообрядческие рукописи, о коих сказано в конце четвертой части, в показаниях источников, на коих роман основан. (Примеч. автора.)
(обратно)128
Афанасий, архиепископ Холмогорский (в миру Алексей Артемьевич Любимов) (1641–1702) – в молодости был сторонником старообрядчества, затем отошел от него. Был игуменом, состоял при патриархе Иоакиме, принимал участие в переводах с греческого языка сочинений отцов церкви. В 1682 г. назначен архиепископом Холмогорской епархии. Активный участник диспута со старообрядцами 5 июля 1682 г. в Грановитой палате. Во время Северной войны 1700–1721 гг. принял активное участие в организации обороны Беломорья, в строительстве Новодвинской крепости, обеспечившей безопасность Архангельска.
(обратно)129
Архимандрит – настоятель большого или древнего монастыря; высшее звание черного духовенства.
(обратно)130
Игумен – настоятель мужского монастыря.
(обратно)131
Хартия – рукопись, грамота.
(обратно)132
Для любителей старины выписываем содержание сей челобитной. Раскольники писали следующее: 1) В новой книге «Скрижаль» иподиакон* Дамаскин повелевает православным христианам ходить без крестов, по-татарски, и пишет: какая польза или добродетель носить крест на раме своем? 2) Он же именует безгрешного Сына Божия Грешным. 3) В книге Иоанна Дамаскина**, называемой «Небеса», сказано: «Всяк убо не исповедуя Сына Божияго и Бога во плоти пришествовати, Антихрист есть». Слова эти означают, что Сын Божий не приходил еще, а придет. 4) Новые книги во многих местах не проповедуют воскресения Сына Божия, как то: в служебниках на литургии, в триодях*** в Великую субботу, в тропаре «Благообразный Иосиф», в тропаре Женам Мироносицам и в кондаке «Иже бездну затворивый». 5) В новом Требнике помещено моление лукавому духу. 6) Над умершими вместо помазания святого масла велено сыпать пеплом. Это срамно не только творити, но и глаголати. 7) Нововводители животворящий крест, из neвгa, кедра и кипариса делаемый, оставили и возлюбили крыж**** латинский. 8) В новых книгах велено креститься не двумя, а тремя перстами, против предания святых отцов. 9) В нынешние последние времена проповедники новой веры стали очень горды и немилосерды: за одно неугодное им о вере слово мучат и хотят предать смерти. 10) В новых книгах велено говорить аллилуия трижды. Но это латинская ересь, ибо должно говорить дважды, по преданию цареградского патриарха Иосифа. 11) Нововводители неизвестно для чего в молитве Иисусовой «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нac!» сделали перемену и велят говорить:. «Господи Иисусе Христе Боже наш» и проч. 12) В новых книгах в Символе веры вместо несть конца сказано: не будет конца. Так поступили униаты*****, присоединясь к Риму. 13) В тех же книгах напечатано: «И в Духа Святого Господа животворящаго». В старых же книгах после слова Господа сказано еще истинного. 14) В новых книгах Символ веры изменен еще тем, что в слове Иса (Иисуса) прибавлена буква и. Нововводители отделяют этим Сына Божия во ин состав от Божества. 15) В новых книгах на Троицкой вечерне отменена эктения большая и молитва Святому Духу. Притом ныне молятся стоя, по-римски, на коленях и глав не преклоняют. 16) В новых книгах на отпуске Троицкой вечерни напечатано: «иже от отчиих и божественных недр истощивый себе», а в старых сказано: «излияв себе». 17) В новых служебниках архиерейские молитвы пред литургиею отменены, а в Соловецкой обители находятся служебники, писанные за 500, за 600 лет и более, в них есть архиерейские молитвы. Эти древние служебники с Никоновыми разнятся. 18) В старых служебниках велено служить над семью просвирами, а не над пятью, да и на просвирах нововводители ставят вместо прежнего истинного осьмиконечного креста четвероконечный крыж латинский. 19) В новых книгах напечатано в тропаре «Во гробе плотски, и на престоле был ecи», а в старых сказано беяше, а не был eси. 20) Никон завел вместо жезла святителя Петра Чудотворца святительские жезлы со змеями, заняв сие от жидов. 21) Новые учители иноческий чин совершенно исказили: ходят в церковь и по площадям без мантий, как иноземцы; клобуки переменили и носят подклейки, как женщины, поверх лба, не по преданию святых отцов. 22) В новом Требнике не велено возлагать мантий на постригаемых в иноки. 23) Новые учители в Московском государстве греческими книгами православную веру истребили до того, что и следа нет православия, и учат нас новой вере как мордву и черемису, будто бы совсем не знающих Бога и истинной православной веры. 24) По установлению Никона архиереи благословляют, осеняя народ обеими руками, по-римски.
В сочинении патриарха Иоакима «Увет Духовный» содержится полное опровержение сей челобитной. (Примеч. автора.)
* Иподиакон – священник младшего чина, помогающий диакону при совершении архиерейской службы.
** Иоанн Дамаскин (ок. 675–753) – один из крупнейших византийских богословов, автор догматического труда «Богословие».
*** Триодь – собрание молитвенных трехпесенных канонов.
**** Крыж – крест.
***** Униаты – последователи церковной унии (объединение православной и католической церкви под властью папы римского с сохранением православной церковью своих обрядов и богослужения на родном языке).
(обратно)133
Итого 63 дня. (Примеч. автора.)
(обратно)134
28 июля 1682 г. (Примеч. автора.)
(обратно)135
В древности считали в России новый год с весны, от первого новолуния по равноденствии. После принятия христианской веры начали счислять время с сотворения мира и праздновать церковный год 1 марта, а гражданский 1 сентября. При митрополите Феогносте собор, бывший в Москве, решил как церковный, так и гражданский год начинать 1 сентября. В 1700 г. Петр Великий указал праздновать новый год 1 генваря и счислять время от Рождества Христова. (Примеч. автора.)
(обратно)136
Прозвище, которое было присвоено простым народом Милославскому. (Примеч. автора.)
(обратно)137
Копейщики составляли небольшое пехотное войско, размещенное по городам для охранения внутренней безопасности. Они вооружены были только копьями и оттого получили свое название. Рейтарами назывались конные полки, утвержденные царем Алексеем Михайловичем вместе с солдатскими. (Примеч. автора.)
(обратно)138
Летописи наши называют иногда солдатские полки стройными. Слово это хорошо выражает иностранное название регулярный. (Примеч. автора.)
(обратно)139
Полки назывались также приказами. (Примеч. автора.)
(обратно)140
Опомнясь – недавно.
(обратно)141
Шакловитый Федор Леонтьевич – по происхождению из провинциальных дворян. С 1673 г. – подьячий, дьяк, думный дьяк. В декабре 1682 г. был поставлен во главе Стрелецкого приказа. Сторонник Софьи. Арестован в сентябре 1689 г. по обвинению в намерении убить Петра I и царицу Наталью Кирилловну и казнен.
(обратно)142
Хованский Иван Иванович (Меньшой) – князь, четвертый сын боярина И. А. Хованского. Служил при дворе царя Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. В сентябре 1682 г. был схвачен и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Якутск. Возвращен в Москву после 1689 г. Ум. 4 марта 1726 г.
(обратно)143
Так сказано во II томе Полного собрания законов Российской империи на с. 467. В 6-й части Записок Туманского на с. 95 в напечатанной летописи село сие названо Городец. (Примеч. автора.)
(обратно)144
Арсенал. (Примеч. автора.)
(обратно)145
Холопы разделялись на полных, или старинных, и кабальных. Первые по смерти господина доставались его наследникам, а вторые получали свободу с обязанностью закабалить себя в холопство кому-нибудь другому, по их избранию, или же наследникам умершего. (Примеч. автора.)
(обратно)146
Плиний Старший (23/24—79) – автор монументальной научной компиляции «Естественная история» в 37 книгах.
(обратно)147
Патрокл и Ахилл(ес) – персонажи древнегреческой мифологии, друзья и побратимы, герои Троянской войны.
(обратно)148
Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.) – римский поэт, автор од, сатир и «Науки поэзии».
(обратно)149
Ничему не следует удивляться… и так далее (лат.).
(обратно)150
Кесарь (Цезарь) Гай Юлий (100—44 до н. э.) – знаменитый римский полководец и диктатор. Убит заговорщиками-республиканцами.
(обратно)151
Гектор и Андромаха – персонажи «Илиады» Гомера.
(обратно)152
В сем монастыре, находившемся в то время за городом, на Москве-реке, положено было при царе Алексее Михайловиче в 1665 г. основание Славяно-Греко-Латинской академии, стараниями окольничего Федора Михайловича Ртищева*. Царь Феодор Алексеевич в 1679 г. перевел эту академию в Китай-город, в Заиконоспасский монастырь, называвшийся Старый Спас, и дал академии в 1682 г. привилегию, которою, между прочим, был пожалован Андреевский монастырь того училища блюстителю и учителем на довольное и лепотствующее препитание и нужных исполнение. Еще прежде того при царе Михаиле Федоровиче заведена была Греко-Латино-Славянская школа на Патриаршем дворе. Олеарий** осматривал ее в 1639 г. Он пишет, что патриарх Филарет*** с согласия царя хотел устроить подобные училища во многих местах. (Примеч. автора.)
* Ртищев Федор Михайлович (1626–1673) – по происхождению из провинциальных дворян. Был одним из наиболее приближенных лиц к царю Алексею Михайловичу, возглавлял различные учреждения, был воспитателем наследника престола царевича Алексея Алексеевича.
** Олеарий Адам (1599–1671) – служил при дворе герцога Шлезвиг-Голштинского Фредерика и его преемника Христиана Альбрехта. В 1633–1643 гг. был секретарем посольств Голштинии в Россию и Персию. Выдающийся лингвист и географ, составил «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно».
*** Патриарх Филарет (в миру Федор Никитич Романов) (1553–1633) – приходился племянником царице Анастасии, первой жене царя Ивана Грозного. С 1587 г. – боярин, митрополит, в июне 1619 г. возведен на патриарший престол. Приходясь отцом ставшему в 1613 г. царем Михаилу Федоровичу, назывался, как и он, «великим государем» и фактически управлял страной.
(обратно)153
Содом – город, жители которого, согласно ветхозаветному преданию, погрязли в распутстве и были за это испепелены небесным огнем.
(обратно)154
Боярин Милославский умер в 1686 г. С 22 мая 1680 г. управлял он Приказом Большой Казны, Московскою Таможнею, Померною и Мытною избою, городовыми таможнями и всякими денежными доходами. Пред кончиною стал он удаляться от дел и жил большею частию в своих вотчинах. (Примеч. автора.)
(обратно)155
Лефор (Лефорт) Франц Яковлевич – род. 2 января 1656 г. в Женеве. Первоначально занимался торговлей. С 1674 г. на военной службе в Голландии, а затем в России. Участвовал в Крымских походах, был одним из руководителей первой осады Азова. Генерал-майор, а затем, будучи произведенным в адмиралы, командовал русским флотом во время Второго Азовского похода. Ближайший сподвижник Петра I. Ум. в марте 1699 г.
(обратно)156
Слова Кемпфера, который во время аудиенции видел Петра Великого, когда сему государю было 16 лет от роду. (Примеч. автора.)
(обратно)157
Когда кто-нибудь угрожал убить другого, то по челобитной сего последнего государю выдавалась просителю опасная грамота с большою заповедью. В грамоте сей означалось, что если тот, кто на другого похвалился смертным убивством, исполнит свою угрозу, то заплатит заповедь (от пяти до семи тысяч рублей и более). Если кто после этого совершал убийство, тот наказывался смертию, и родственники убитого получали из имения убийцы половину написанной в грамоте заповеди, другая же половина взыскивалась в казну. (Примеч. автора.)
(обратно)158
Царь Петр Алексеевич вступил в брак 27 генваря 1689 г. с Евдокиею Феодоровной Лопухиною. (Примеч. автора.)
Царица Евдокия Федоровна (1670–1731) – первая супруга Петра I. В этом браке был рожден сын Алексей (1690 г.). После сближения Петра с Анной Монс в 1698 г. по его приказанию Лопухина была отправлена в Покровский девичий монастырь в Суздале, а в 1718 г., по обвинению в участии в заговоре против Петра I, была переведена в один из северных монастырей, а затем в Шлиссельбургскую крепость. В 1727 г. после воцарения Петpa II, своего внука, освобождена из заключения, вновь получила права царицы.
(обратно)159
Ротмистр – офицерское звание в кавалерии. Соответствовало чину капитана в пехоте.
(обратно)160
В то время были две особые роты: одна называлась Налеты, другая Нахалы. Первая набрана была из охотников и боярских слуг, вторая составлена была из людей, отданных в военную службу их господами. В 1694 г. во время маневров, известных под именем Кожуховского похода, они находились под командою князя Ромодановского со стороны потешных, сражавшихся против стрельцов. В «Опыте трудов Вольного Российского Собрания» в IV части сказано, что Нахалы были конные, а Налеты – пешие; но нет сомнения, что это показание должно понимать наоборот. Самое название Налеты доказывает, что они составляли конную роту, а Нахалы, следственно, пешую. (Примеч. автора.)
(обратно)161
Многие из летописей наших и некоторые писатели, как русские, так и иностранные, приписывают князю Голицыну разные преступные умыслы против Петра Великого, но самый приговор, состоявшийся об этом боярине, его оправдывает. Он обвинен был только в том, что угождал царевне Софии, докладывал ей дела без ведома обоих царей и писал в грамотах и других бумагах имя Софии вместе с именами государей. Еще была ему поставлена в вину безуспешность Крымского похода. Он был наказан лишением боярства и имения и сослан сначала в Яренск, а потом в Пустозерск. Де ла Невиль (см. De la Neuville. Relation curieuse et nouvelle de Moscow, ala Haye, 1699), живший несколько времени в Москве, в доме князя, описывает его человеком великого ума. По свидетельству его, он был самый образованный из всех тогдашних бояр, знал латинский язык и вообще отличался любовию к просвещению. (Примеч. автора.)
(обратно)162
Голицын получил за Второй Крымский поход в награду кубок золоченый с кровлею, кафтан золотой на соболях, денежные придачи 300 рублев да вотчину в Суздальском уезде село Решму и Юмохонскую волость. См. Полное Собрание законов Российской Империи. Т. III. С. 25. (Примеч. автора.)
(обратно)163
Анакреон (Анакреонт) (ок. 570–478 до н. э.) – древнегреческий поэт, воспевавший чувственную любовь, вино, праздную жизнь.
(обратно)164
Лыков двор – принадлежавший боярину Лыкову. Житный (Житенный) двор – склад для хранения зерна, поступавшего из дворцовых владений.
(обратно)165
Описанное в сей главе происшествие в Троицком монастыре разнообразно рассказано многими нашими и иностранными писателями. Штелин и Сепор относят его к первому возмущению стрельцов, Галем ко второму, которое было после казни Хованских; то же сказано в некоторых учебных русских книгах. Но Петр Великий и царица Наталья Кирилловна во время первого бунта, по свидетельству современных летописцев Медведева и Матвеева, находились в Москве. Во второй бунт весь царский дом из села Воздвиженского уехал в Троицкий монастырь. Но означенное происшествие и тогда не могло случиться. Из наших летописей видно, что стрельцы после казни Хованских произвели возмущение в Москве и приходили, правда, в монастырь, но для того только, чтобы просить помилования; потому что там собралось многочисленное войско для защиты царского дома. Посему всего вероятнее, что происшествие это случилось в 1689 г., при Шакловитом; тогда Петр Великий с родительницею, супругою и сестрою поспешно спасся из Преображенского от стрельцов в Троицкий монастырь ночью (см. Полное собрание законов Российской империи, том III, с. 36 и 63). Злодеи, следовательно, могли его тогда преследовать и ворваться в монастырь, предупредив войско, которое вскоре прибыло для защиты царя. (Примеч. автора.)
(обратно)166
Троекуров Иван Борисович, князь, – в 1670-х гг. возглавлял различные приказы, был воеводой в Киеве. Приближен к царю Алексею Михайловичу в последние годы его царствования. Пользовался расположением Петра I. С 1689 г. назначен руководителем Стрелецкого приказа.
(обратно)167
Бутурлин Иван Иванович (1661–1738) – спальник, затем стольник юного Петра I. Участвовал в Азовских походах 1695 и 1696 гг. С 1713 г. – генерал-поручик. 24 июня 1718 г. в числе других судей подписывает смертный приговор царевичу Алексею Петровичу. Один из тех, кто встал на сторону Екатерины I после кончины Петра.
(обратно)168
Шереметев Борис Петрович (1652–1719) – боярин, граф, генерал-фельдмаршал. После падения Софьи присоединился к Петру. Проявил себя в военных действиях против крымских татар, в Северной войне, возглавлял русскую армию в Прутском походе 1711 г.
(обратно)169
1689 г.
(обратно)170
Прозоровский Петр Иванович – князь. С 1674 г. воспитатель царевича Иоанна Алексеевича, а затем Петра Алексеевича. После воцарения Петра заведовал приказом Большой казны и Большого приходу, возглавлял Оружейную палату.
(обратно)171
Она скончалась 3 июля 1705 г. в этом монастыре, где и была погребена.
(обратно)172
Гордон Патрик (Петр Иванович) – род. 31 мая 1635 г. в Шотландии. Служил в шведской, польской армиях. В 1661 г. был принят на русскую службу. Дослужился до чина генерал-лейтенанта. В событиях 1689 г. встал на сторону Петра I. В июне 1696 г. командовал войсками, подавившими выступление стрельцов. Ум. в 1699 г.
(обратно)173
Шеин Алексей Семенович (1662–1700) – служил при дворе царя Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Боярин, в 1680–1685 гг. воевода в Тобольске, Курске, командующий армией в Первом и Втором Крымских походах. Первоначально выступил на стороне царевны Софьи, но в дальнейшем пользовался доверием Петра I. Возглавлял правительственные войска, нанесшие поражение восставшим стрельцам.
(обратно)174
Ржевский Алексей Иванович – с 1662 г. комнатный стольник, затем думный дворянин, окольничий. С 1678 г. воевода в Вятке, Самаре.
(обратно)175
Ромодановский Федор Юрьевич – князь. Ближний стольник при царях Алексее Михайловиче, Феодоре, Иоанне, Петре Алексеевичах. Начальник Преображенского приказа и главный начальник Москвы; Пресбургский король.
(обратно)176
Милославского. (Примеч. автора.)
(обратно)177
Сажень – мера длины, равная 2,134 м.
(обратно)178
Боур (Баур) Родион Христианович (1667–1717) – генерал от кавалерии. В чине ротмистра шведской армии перешел под Нарвой на сторону русских. Командовал крупными соединениями русской армии в Северной войне.
(обратно)

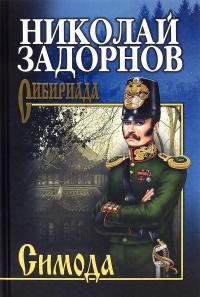


Комментарии к книге «Стрельцы», Константин Петрович Масальский
Всего 0 комментариев