Александр Лавров Ренегат
© ЗАО «Мир Книги Ритейл», оформление, 2011
© ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Часть I На далекой чужбине
1. Вместо пролога
Двое суток бушует шторм.
Бешеные шквалы ревут, свищут, воют, как сотни выпущенных из неведомых бездн чудовищ. Валы что горы – один другого выше, со слепой, безумной яростью гонятся друг за другом, наскакивают один на другой, грохочут, как гигантские пушки в отчаянном бою, разбиваются друг о друга, на миг покрываясь зеленовато-бурой пеной, и на миг рассыпаются среди тысяч мелких волн, чтобы через мгновение снова подняться над безднами новыми горами и опять бешено мчаться друг за другом…
Неба не видно. Его сплошь закрыли лохмотья сизо-серых туч, мчащихся по воле безумного ветра совсем низко над разбушевавшимся морем. Шквалы рвут эти грязные лохмотья в клочья и несут, несут неведомо куда, словно гордясь своей силою и потешаясь их бессилием…
Три ночи и два дня без перерыва бушует шторм… Заунывный вой, похожий на рев гигантских сирен, грохот сталкивающихся валов – все слилось вместе в хаотическую массу звуков. И сила шквала не умаляется, а растет. Море словно вступило в неистовую борьбу с небом и стремится хлестнуть в него, в его тучи своими валами, и тучи как будто рвутся к морю, чтобы засыпать его своими бесчисленными клочьями, слиться с ним в одном отчаянном, злобном, все сокрушающем объятии и навеки уничтожить эту могучую силу, доселе покорявшуюся только одной воле, воле человека…
Бесится шторм, все выше и выше вздымаются валы… Но что это чернеет на зеленоватой пене волн? Уж не обрывок ли тучи упал, сорвавшись под натиском бешеного шквала? Нет! На этих волнах виден плот, большой, связанный из десятков огромных деревьев плот, и положительно чудо, что шквалы не разорвали между ними скреп, не развеяли один по одному этих бревен, очутившихся в страшный шторм среди пучин свирепого Японского моря…
Плот носится по волнам туда, куда гонят его безумные шквалы. Иногда он, как волчок, кружится среди грохочущих валов. Водяные горы опрокидываются на него, поднимают его на свои вершины, низвергают в свои бездны, но плот все-таки держится среди этого хаоса, как будто знает, что вместе с ним погибнет нечто драгоценное – три человеческие жизни…
На плоту трое неподвижных людей. Они прикрутились к его бревнам веревками, и так крепко, что даже шквалы не могут оторвать их. Живы ли люди? Кто знает! Они неподвижны. Все трое лежат ничком; не слышно их голосов, не видно ни одного движения. Они как бы слились с этими бревнами, составили с ними нечто целое, и никакая стихийная сила не может разлучить их…
Живы ли несчастные? Кто знает!.. Нет, живы, живы! Если не все живы, то жив по крайней мере один из троих…
Внезапно среди дикого хаоса разбушевавшегося шторма настала тишина. Смолкли грохот, рев, жужжанье, гуденье. Не притомилось ли таившееся в морских безднах чудовище? Не обессилело ли оно в этой безумной борьбе? Или, быть может, кто-то всесильный, всемогущий разом утишил слепую ярость стихий? Все смолкло! Не небо ли победило море? Лохмотья туч вдруг сдвинулись, слились в один непроницаемый покров; свет, вернее слабые отблески дневного света, сразу иссяк; сумрак разлился над морской пустыней… Что еще готовится новое? Или победитель небо последним ударом хочет доконать побежденное им море?..
Так и есть! Ослепительно-яркая молния прорезала покров туч и огненной змеей пробежала между них, скрывшись в плывших над морем громадах так же быстро, как и появилась она. И тотчас же сперва слабо дребезжащий, потом обратившийся в оглушительный грохот удар грома разразился, как залп тысячи невидимых пушек, над затихшим морем… Переливаясь, дребезжа, грохоча пронесся этот удар – и на мгновение опять все затихло.
Удар словно разбудил одного из несчастных на плоту. Лежавший неподвижно человек пошевелился, поднял голову и бессмысленным взором осмотрелся.
– Господи! – вырвался у него не то стон, не то жалобный вопль. – Заступи, спаси, помилуй нас!
Эти слова несчастный проговорил на чистом русском языке. Он даже попытался поднять руку, вероятно, для того, чтобы совершить крестное знамение, но донести ее до головы не мог, рука бессильно упала, приподнявшаяся было голова опустилась, человек замер опять в глубоком обмороке.
Раскат удалявшегося грома дребезжал уже далеко, но не успел еще он стихнуть совсем, как новый громовый удар с еще более ужасающей силой разразился над морем и вдруг вслед за ним хлынул ливень.
Словно скрытое доселе тучами море опрокинулось с поднебесной выси над разбушевавшимися валами. Ливень шел сплошной стеной. Будто два огромных водовместилища – земное и поднебесное – соединились теперь в одно, слились между собою в дружеском объятии, как два родных брата, слились – и затихли…
Да, затихли…
Огненные змеи-молнии еще кое-где резали тучи, но блеск их уже не был ослепительно-ярок. Громовые раскаты звучали все глуше и глуше, лохмотья и обрывки туч расплывались во все стороны, словно тая в ливне; уже была видна синева далекого неба, и вдруг откуда-то прорезался и заиграл, словно улыбка радостных небес, солнечный луч…
Буря уносилась в ливне, море стихало, водяные горы становились все ниже и ниже…
Плот на волнах уже не кружило и не кидало, движения его стали более равномерны, утлая неповоротливая махина скользила по волнам, подгоняемая ими куда-то, к каким-то берегам…
Умчался и ливень. Он сделал свое дело: укротил ярость морских бездн. Наступила тишь, с неба лились уже потоки лучей, даль вся так и засеребрилась под ними.
Люди на плоту лежали неподвижно. Даже тот, который поднимал голову, и тот не двинулся ни единым членом, хотя глаза его, будто в последнем напряженном борении, то открывались на мгновение, то опять смыкались…
Он был жив, этот несчастный… Но зачем была ему жизнь?
Смерть зорко сторожила его. Безумная стихия не погубила этого человека, но лишь затем, чтобы головой выдать его на муки еще более горшие, чем те, что были пережиты.
Смерть для него была невыразимым счастьем в сравнении с тем, что теперь сулила ему жизнь. Мертвецы не страдают, они не чувствуют ни голода, ни жажды, ни отчаяния. У уцелевшего несчастного все это было впереди. Кругом была вода, но ни одной каплей ее он не мог бы утолить жажду; в воде хранились огромные запасы пищи, а нечем было бы вытащить на плот даже самую ничтожную рыбу. Море не безбрежно, где-нибудь да есть у него берега, но где? Близко? Далеко? Откуда было знать это бедняге? Голод, жажда, отчаяние уже стерегли его. Муки страшные, ни с чем не сравнимые поджидали только того мгновения, когда к несчастному возвратится сознание.
Но прежде физических мук несчастного поджидал еще ужас: один среди беспредельного моря с двумя мертвецами! Один без всякой надежды на спасение! Действительно, смерть являлась для уцелевшего бедняка величайшим благом…
Однако жизнь не хотела покинуть измученное, обессилевшее тело. Тяжело приподнимались веки, и мутные глаза страдальца устремились удивленным взором в синевшее над ним небо… Возвращалось сознание, начинались адские мучения…
2. Фриско
Сердито рокоча, плещутся волны Великого океана у западного побережья американского материка… Рокот их не ласковый, не кроткий… Словно сердятся эти мутные валы, что две цепи могучих великанов-гор преградили им путь и не дают им воли кинуться в глубину этой суши, где копошатся эти всемогущие черви-люди, ничтожные, жалкие, бессильные, но сумевшие одною только мощью своего разума покорить себе и свою мать-родительницу – землю, и беспредельного титана – море, и все сокрушающий ветер, и далекие полные всяких тайн небеса…
Две горные цепи, вернее, горная гряда Сьерра-дель-Монте-Диабло, а за ней горная цепь – Сьерра-Невада заграждают сушу от Тихого океана вблизи знаменитого, на весь мир прославленного Калифорнийского полуострова.
Калифорния – страна золота. Недавно еще минуло время, когда сюда хлынули авантюристы всего мира, жаждавшие быстрого обогащения. Каким-то путем создалась легенда, что стоит только явиться в Калифорнию, как сейчас же золото и в виде песка, и в виде громадных самородков само набьется в карманы счастливчиков. Много, много людей приманила в этот благодатный край сулившая все блага мира легенда. И легенда оправдывалась, блестяще оправдывалась. В Калифорнии обогащались…
Однако обогатившиеся счастливчики помалкивали, что счастье улыбалось лишь единицам, тогда как сотни гибли, принося сами себя в жертву заманчивой легенде…
Но как бы то ни было, край быстро заселялся и быстро расцветал… Людей всегда манит красивый мираж. Жаждущие наживы кинулись в Калифорнию за золотом и не обратили внимания, что и без золота эта страна сама по себе – золотое дно.
Прекрасный климат, плодороднейшая в мире почва, густейшие леса, полные всякой дичи, океан с его неистощимыми водными богатствами, наконец, самое расположение как раз напротив только что пробуждавшейся от векового сна Японии и всего восточного побережья Азии – все это делало эту страну и без золота богатейшей на всем земном шаре.
Североамериканцы – большие практики. Они верно угадали, в чем именно заключаются истинные богатства Калифорнии. Когда охватившая было весь материк «золотая лихорадка» унялась, да и золото поистощилось в изрытой по всем направлениям почве, Калифорния не обратилась в пустыню, а расцвела еще пышнее, стала еще богаче и народу в ней расселилось во много раз больше, чем было в то время, когда весь мир манило сюда лишь всесильное золото.
Время пышного расцвета длилось и длится даже до сих пор. Жалкие рыбачьи поселки на побережье океана, едва заметные у подножия великанов-гор, быстро обратились в великолепные города. Всюду зацвела высшая культура, рельсовый путь соединил берега Тихого океана с берегом Атлантического. Старый Нью-Йорк, смотревший со своей равнины в сторону Европы, протянул руку молодому, пылкому Фриско, зорко смотревшему на все, что делается среди желтолицых азиатов Китая, Японии и… в беспредельных русских пустынях, на берегах Охотского и Японского морей.
Фриско – так зовут американцы ради сокращения столицу американского Запада, «Неаполь Тихого океана» – Сан-Франциско, залегший по обеим сторонам одноименного с ним заливчика у подножия Сьерра-дель-Монте-Диабло, или прибрежной цепи.
В практичной, не гонящейся ни за какой красотой Америке нет города красивее Сан-Франциско. От самой воды он поднимается квадратами по пологим надбрежным высотам. По квадратам, взбирающимся все выше и выше, видно, как наслаивался этот город-скороспелка. Улицы его прямы и правильны, но местами, чтобы устроить дороги, выступы гор срезаны и дома здесь висят ярусами один над другим. Пышность, великолепие, пестрота строений, сочетание в них изящества с полнейшим безвкусием свидетельствуют, что в создании этого города участвовали самые разнообразные по духу люди. Толпа на улицах самая разнообразная. Здесь как будто азиатский Восток сошелся с далеким европейским Западом, с неграми черного материка. На главной улице Франциско Корни-стрит целый день толпятся, снуют, гуляют, кричат, смеются и длиннокосые китайцы со своими словно застывшими физиономиями, и степенные, все высматривающие, во все вникающие желтолицые японцы с физиономиями, похожими на плохо испеченный русский блин, запачканный руками нечистоплотной кухарки: здесь и каштаново-красноватые индийцы, и их могущественные повелители – важные, спесивые, всегда надутые сыны туманного Альбиона; здесь и стройные красавцы из Мексики, из центральных республик, из Чили, Перу, Боливии, Аргентины. Эти полудикие потомки завоевателя Кортеса и его свирепых воинов резко выделяются среди пестрой толпы своей красотой, изяществом манер, гордым, независимым видом, живописностью своих костюмов, хотя бы это были просто лохмотья. Иногда среди них мелькают монументальные фигуры пришедших с севера, из Канады, скваттеров, неустрашимых охотников по пушному зверю, последних потомков первых пионеров Европы в девственных лесах Северной Америки. Здоровые, мускулистые, словно из стали вылитые молодцы, широколицые, бородатые, медлительные в движениях, они производят впечатление богатырей, явившихся посмотреть, что делается на белом свете, давно ими покинутом. Иногда среди них появится американец, горбоносый, с медно-красным лицом, с жесткими волосами, в которые непременно воткнуто какое-нибудь перо. Американец также величаво медлителен в своих движениях. Он не забыл и забыть не может, что весь этот край, пока в нем не явились «бледнолицые», принадлежал ему, что он свободно охотился в беспредельных прериях, бродил в девственных лесах. Все это сгинуло потому, что Великий Дух – владыка всего, он повелевает всем, с ним ли бороться его слабым детям? И американец со спокойствием философа покорился своей участи. Он без злобы, но с презрением смотрит на худощавых, подвижных, наглых янки, захвативших у него землю; американец вымирает без слез, без жалоб, уничтожаемый алкоголем с большей скоростью, чем уничтожило его прежде, несколько десятков лет тому назад, оружие его врагов-пришельцев. Янки тоже сравнительно редок на улицах Фриско. Этот продукт своеобразной североамериканской культуры изобилует на востоке, у вод Атлантики; здесь же, на западе, он тоже пришелец, но тем не менее он и здесь чувствует себя, как дома. Южноамериканцы все изысканно вежливы, безукоризненно корректны даже в ссоре, грозящей смертью; янки самодоволен, груб, бесцеремонен. Он идет и сталкивает, сбивает с ног тех, кто попадается ему на пути; никакая брань у него на вороту не виснет, а если ему надоест слушать ее, то у него всегда есть в кармане револьвер, заряженный на все гнезда. Но, несмотря на все эти недостатки, янки – человек изумительной энергии. Это дитя, за которым никогда не ходила нянька, и он, выросши на свободе, сам умеет справляться с жизнью и подчинять ее своей воле. Он борец, и борец неутомимый; потому-то янки симпатичен, симпатичнее, пожалуй, корректных, но коварных, лукавых, хитрых и лживых своих земляков с юга. Для янки закон один: «я хочу – я могу», и все делается так, как ему угодно. Негры, эти пасынки американской свободы, ирландцы, вечно полупьяные, вечно носящиеся с идеей независимости своей жалкой родины, матросы всех национальностей с бесчисленных кораблей-пароходов, стоящих в заливе у «Золотых ворот», красивые, удивительно сохранившие все особенности славянского типа поляки и не менее их сохранившие свой тип евреи дополняют пеструю толпу, кишащую с утра до ночи на улицах Фриско. Все здесь весело оживлены, все чувствуют себя вполне свободными. Здесь ведь нет миллионов всяких неприложимых в жизни циркуляров, обязательных постановлений и пр.; здесь городовые не учат профессоров правилам вежливости и благочиния; здесь все свободно и жизнь кипит, цветет и человек счастлив и близок к совершенству. Вечно голубое небо, благодатная прохлада с океана, умеряющая жар и зной, благоухание лесов, окружающих Фриско и с севера, и с востока, усугубляет общее довольство…
Но что это? Крик, брань, да еще какая! Русская!.. Откуда?
Толпа на мгновение стихла и опрометью бросилась к месту, откуда доносились крики…
3. Ветром занесенные
Кричал, находясь, очевидно, в сильно возбужденном состоянии, действительно русский человек. Это был среднего роста, сутуловатый, кряжистый, с добродушным красивым лицом парень, одетый, как одеваются в России зажиточные мещане: в неуклюжий, плохо сидевший пиджак, брюки навыпуск и кругленькую шапочку-татарку. Он был не один в этой весело гоготавшей вокруг него толпе. Около него стоял, стараясь его успокоить, товарищ, высокий, тоже молодой блондин с интеллигентным лицом и мягкими манерами, одетый, хотя так же просто, но более прилично и к лицу.
– Да перестань же ты, Василий, – с нетерпеливой досадой говорил блондин.
– Как это можно перестать, Андрей Николаевич? Как можно перестать, ежели я собственной моей законной справедливости добиваюсь?
И вдруг, подняв голову кверху и закатив под лоб глаза, Василий необыкновенно сочно, словно это доставляло ему величайшее удовольствие, воскликнул:
– Гор-о-о-до-вой! Кар-а-а-ул!
Крик его был непонятен толпе, вид курьезен, кругом раздался взрыв смеха.
– Говорят тебе, перестань! – сердился Андрей Николаевич. – Как не стыдно! Все смотрят, смеются…
– Пусть их! – махнул рукой Василий.
– Как это пусть? Здесь не мать Рассея…
– То-то вот оно самое, Андрей Николаевич, и есть, что не мать Рассея, мать Рассея, мать рассейская земля! – возразил Василий. – Ни на грош переломленный порядка и благочиния… Спихнул меня какой-то американец паршивый с панели, мозоли отдавил и хоть бы что! Я городового кличу, а он себе идет своей дорогой, как будто так и следует. Даже и «пардон» не сказал!.. Разве так можно? Разве это – общественная тишина и порядок? То ли дело у нас… Ежели ты одет барином – иди где хочешь, хоть по первой улице Песков, хоть по Коломне, хоть по Колченогой улице в Гавани – все тихо, вежливо, все дорогу уступают… А почему? А потому, что везде у нас оные городовые расставлены. Стоят себе на посту, семечки шелушат и порядок наблюдают… Чуть что – сейчас честью попросят не безобразить: одному – по зубам, другому – под дыхание, третьему – в ухо, что ли, к примеру сказать, и общественный порядок мигом восстановлен; а если ты недоволен и с прокестом каким-нибудь там обратишься: шебаршить, стало быть, учнешь, так и в участок за милую душу сволокут, прокестуй, значит, так на свободе в пьяной камере, а не то за решеткой! Вот это я понимаю! Я хотя и рабочий человек, а что есть свобода, мне известно… У нас, брат, на Обуховом-то заводе, народ ученой, всякую тонкость в политике прошли и на всякий дипломатический манер судить могим… А то свобода! Нет, пусть меня, Ваську Иванова, спросят про это, так я им расскажу…
Парень говорил все это быстро, сопровождая свои слова отчаянной жестикуляцией. Говоря, он обращался то в одну, то в другую сторону, указывал рукой на толпу, ударял себя кулаком в грудь и в довершение ни с того ни сего снял свою шапчонку и принялся раскланиваться направо и налево.
Его, конечно, не понимали. Тем не менее собравшаяся толпа внимательно прислушивалась к вылетавшим непонятным звукам, стараясь сообразить, в чем тут дело.
– Этот человек произносит речь! – важно проговорил оборванный загорелый золотоискатель из Калифорнии, кутаясь в лохмотья своего плаща. – Но кто он? Какой это язык?
– Я долго плавал в северных водах, – ответил ему сосед, низкий, приземистый моряк с обветрившимся серым лицом, – и могу поклясться, что он говорит по-русски.
– По-русски? – удивился калифорниец. – Россия, русские, – это где-то там далеко, не то у полюса, не то за Клондайком… страна бояр и белых медведей!
– Что он говорит, я не понимаю, – продолжал моряк, – я слышу только знакомые звуки, но, очевидно, он жалуется… Ведь русским плохо живется на своей родине… О, да, это – правда! Однако они уходят.
Действительно, недовольный вниманием, какое выказала толпа его говорливому товарищу, Андрей Николаевич нетерпеливо махнув рукой, пошел вперед.
Заметив это, Василий Иванов немедленно последовал за ним.
– Андрей Николаевич, а, Андрей Николаевич! – кричал он, размахивая на ходу руками, как ветряная мельница крыльями. – Да погодите же вы меня-то! Ведь вам хорошо, вы вон какой тощий да поджарый, а я – что шар на курьих ножках… Андрей Николаевич! Господин Контов!..
– Слушайте, Иванов, – остановился и обернулся к нему его молодой товарищ, – даю вам честное слово, что я вас брошу, если вы не перестанете гаерничать…
– Ну, бросьте, бросьте меня! – притворно захныкал Василий. – И что из оного, выражаясь по-питерски деликатно, воспоследует? Я погибну во цвете юных лет и вдали от родины, а вы… вы влюбитесь в какую-нибудь канашечку из здешних и повеситесь у нее на белоснежной шейке… Вы посмотрите, сколько их здесь… У-у… зимбобошки! – обернулся и потянулся Иванов в сторону толпы, среди которой виднелись смазливые женские личики. – Глазами-то так вот и стреляют, словно на Петропавловской крепости пушки в полдень… Взгляните, вон та чернявочка, – бесцеремонно указал он пальцем.
– Ну, вот шут гороховый, – засмеялся Контов, – на вас и сердиться нельзя…
– Нельзя, родной мой, вот, ей-боженьки, нельзя! Уж хотя бы потому, что, пока вы меня слушали, я вас без вреда для собственного здоровья догнать успел… Что? Чем я не дипломат?
Теперь они пошли рядом.
Контов был по-прежнему сдержанно серьезен, а Иванов продолжал болтать без умолку:
– Нет, вы только посудите, Андрей Николаевич, разве это так можно? Идем мы чинно, благородно и вдруг долой с панели… Можно или нет? А?
– Стало быть, можно, если так вышло… Каждому здесь время дорого, а вы идете – ворон считаете…
– Каких же ворон? – обиделся Василий. – Нешто здесь есть вороны? Ворона – птица российская… Ей здесь быть не полагается…
– Перестаньте!.. Точно вас первый раз с панели столкнули… Кажется, в Нью-Йорке не то еще бывало… Прямо под ноги лошадям летали…
– Так то в Нью-Йорке! Там все толкаются, и мужчины, и бабы – все… Там, значит, таковое толкательство, можно сказать, законом установлено… А здесь… Тряслись мы, тряслись на их машине-попрыгунье: и под облака на горы взбирались, и в пропасти по рельсам съезжали – все претерпел… Чего лучше? Сказано: «Претерпевы до конца спасется!». Приехали, гляжу – господи ты боже мой! – куда это я попал?.. Ежели по грязи судить – совсем Россия, а по народу – столпотворение вавилонское: и белые, и серые, и красные, и черные… самоварного цвета даже есть… желтые!
– Да что вы мне, Иванов, об этом говорите? – перебил его Контов. – Какой мне интерес вас слушать, когда я и сам все это вижу?
– Душу, миленький Андрей Николаевич, отвожу, душу, родной вы мой, вот что!.. А вы спросить мне дозвольте… так, вопросик маленький…
– Спрашивайте…
– Что? И на дашине такое же озорство будет?..
– На каком дашине? Что за дашин?
– Ну, как его там, по-ихнему-то? Васин, петин, дашин, машин…
– Митинг?..
– Вот, вот! Он самый – митинг! И я-то что – дашин! Откуда взял… Так на митине эти самые американы так же озоровать будут?
– А уж я этого не знаю! – усмехнулся Контов. – Думаю, что собрание себя будет вести прилично… Шум, конечно, может выйти…
– Так, так! Ну а теперь дозвольте вас спросить, что от нас этой образине надобно?
– Какой образине?
– Да вон той, что за нами по пятам следует… С утра, подлый, не отстает.
Андрей Николаевич быстро обернулся. Улица, в которую они свернули с главной улицы Корни, была широка и красива, но малолюдна. Контов сейчас же заметил в некотором отдалении позади себя низкорослого господина, одетого по-европейски, но с желтоватым отливом кожи на лице и руках. Скошенные книзу, к переносью, узкие, как щелки, глаза, черные и несколько блестящие, приплюснутый нос со слегка приподнятыми ноздрями, мясистые, красные губы длинного рта, а главное – заметно выдававшиеся под глазами скулы прежде всего обличали в нем азиата, а затем давали возможность без ошибки сказать, что это – японец.
Японец нисколько не скрывал того, что следит за обоими русскими. По крайней мере хотя он и остановился, как только перестали идти Контов и Иванов, но смело и непринужденно устремил на них свой взгляд и даже улыбнулся, когда увидел, что Андрей Николаевич смотрит на него.
– Плюнуть разве ему в физиономию? – громко воскликнул неукротимый Иванов. – Или милостыньку подать?
– За что? Ведь этот человек не делает нам ничего худого!
– А зачем смотрит?.. Ишь, буркалы-то… Словно у змеи-гадюки.
– Оставьте его, Иванов, не обращайте внимания, если он вам не нравится.
Однако толстяк-парень не унимался и шел, что-то ворча себе под нос. Впрочем, и эта воркотня, и все его грубоватые выходки носили отпечаток несомненного добродушия. Пожалуй, он нисколько и не сердился, а просто, видя себя предметом внимания, ударился в столь свойственное всем вообще русакам балагурство, которым они любят прикрывать свое смущение.
Смущаться, конечно, было от чего. Новые места, новые люди, новая жизнь – все было и дико, и ново. Все было так необычно, так разнилось от того, к чему привыкал с малолетства Иванов, что каждая случайность и поражала, и угнетала его. Притом же Василий Иванов совершенно не знал английского языка и был уверен, что и по-русски никто не знает здесь. Последним, пожалуй, более всего и объяснялась его развязность. Иванов балагурил, паясничал и был вполне доволен эффектом, какой производили его шутовство и никому не понятные речи.
Японец, следовавший за русскими, был тих и спокоен. Однако это преследование не то чтобы раздражало Василия Иванова, а скорее подзадоривало его к новым и новым выходкам, от которых его еле-еле сдерживал его молодой, но более спокойный товарищ.
– И чего ходить? – ворчал Василий. – Что, на нас узоры разноцветные нарисованы или нос выше лба вырос?
Иванов остановился и, дав Контову время несколько пройти вперед, вдруг круто повернулся и, шагнув к японцу, спросил по-русски:
– Вам, собственно говоря, что от нас надобно?
Однако смутить своего преследователя ему не удалось… Японец вежливо приподнял шляпу и произнес по-русски:
– Я имею честь говорить с господином Ивановым из Санкт-Петербурга?
4. Знакомство
Иванов с минуту стоял, неестественно выпучив глаза на улыбавшегося прямо в лицо ему японца, видимо, очень довольного произведенным им эффектом. Наконец, смущение, изумление и даже испуг начали проходить.
– Вы, господин хороший, – обрел вновь дар слова Василий Иванович, – кто же такой?
Японец приподнял шляпу и вкрадчивым голосом произнес:
– К вашим услугам: Аррао Куманджеро, негоциант.
– Так, так! – погладил свою бородку Иванов. – А что же вам, собственно говоря, угодно?
– Только иметь счастье познакомиться с вами.
– Ну, уж и счастье! – смутился русский рабочий.
– Именно счастье! – подтвердил японец. – Вы, то есть, собственно, вы и ваш товарищ – русские и притом еще недавно из России. Здесь, во Фриско, если есть русские, то большей частью грубые, полупьяные матросы.
– Мы от них тоже не бог весть как далеко ушли, – пробормотал Иванов.
Куманджеро заулыбался во весь свой широкий рот.
– Что вы, что вы! – замахал он руками. – Я знаю Россию, я часто бывал на вашем северо-востоке; подолгу жил во всех крупных торговых техническо-заводских центрах и привык любить все русское. Я уважаю русских людей, как своих соотечественников.
– Ой ли! – воскликнул Иванов и поманил Контова: – Андрей Николаевич, а, Андрей Николаевич!
Контов, издали наблюдавший за этой сценой, поспешил подойти.
– Вот послушайте-ка, что выходит. Я-то бесновался, я-то гневался, а вот они совсем по-хорошему познакомиться с нами желают и говорят, что мать Рассею обожают до крайности!
Пока он с поспешностью выбрасывал одно за другим эти слова, Контов и Куманджеро познакомились.
Теперь они все трое образовали на пустынной улице прибрежного города странную, резко бросавшуюся в глаза группу. Высокий, статный, с красивым румяным лицом Контов составлял поразительный контраст с маленьким, сутуловатым желтолицым Куманджеро, смотревшим на него снизу вверх с подобострастно заискивающей улыбкой. Рядом с ним широколицый, почти безбровый, с гунявыми, похожими на кудель волосами, кряжистый, с широкими плечами, высокой грудью, несоразмерно длинными руками и короткими ногами Иванов выглядел, как дополнение к общему их карикатурному виду.
– Вы не сердитесь на мою назойливость! – ласково продолжал говорить на хорошем русском языке Куманджеро. – Она объясняется лишь чувством радости при виде любезных моему сердцу русских людей.
– Благодарю вас, – коротко и в достаточной мере сухо ответил Контов, – но чему мы обязаны тем, что обратили на себя столь лестное ваше внимание?
– О, – воскликнул японец, – это объясняется очень просто: тем, что мы живем под одной и той же кровлей, то есть в одной и той же гостинице.
– Но я вас до сегодняшнего утра никогда не видал! – пожал плечами Андрей Николаевич.
– В этом ничего не может быть удивительного, – возразил Куманджеро, – так как я приехал с востока только сегодня ночью.
– Вы из Нью-Йорка?
– Нью-Йорк, Бостон, Новый Орлеан, вообще северо-восток и юго-восток – вот мои пункты… И везде русские, в особенности недавно приехавшие из России, редки. Живущих же здесь подолгу я не могу считать за русских… О, ваш народ чрезвычайно склонен к ассимиляции. Немец, попадая в Штаты, остается немцем, француз – французом; национальность заметна даже в их детях, родившихся уже здесь, и разве третье поколение превращается в янки, но русский, русский…
– Что русский?
– Через три, четыре, много – пять лет русского не отличить от природного янки… Замечательный народ – ваши компатриоты!
– Это не утешительно! – заметил Андрей Николаевич.
– Я констатирую факт… Поляки, литовцы, чехи, вообще славяне, даже ваши малороссияне, держатся дольше… О, я уже сделал выводы из своих наблюдений!
– И, конечно, прискорбные для нас, русских?
– Нет, нисколько… Может быть, несколько своеобразные – это да…
– Господа хорошие! – вмешался, перебивая их, Иванов. – Мы здесь, в Америке, без году неделя и, стало быть, в американов пока не обратились, а остались, как были, русаками.
– И что же из сего следует? – заулыбался в его сторону Куманджеро.
– Из сего следует, что ради первого знакомства необходимо выпить и закусить, и потом оный маневр повторить.
Контов недовольно поморщился.
– Да, да, да! – словно восковая фигура из бродячего музея диковинок, закивал головой японец. – Это будет очень хорошо! Мне это милое предложение так напоминает Россию…
– Да уже там, раз кто знакомится, без этого никак нельзя, – объявил Иванов, – сам не пьешь, так все-таки выставить должен: угощайтесь, дескать, милые друзья, на доброе здоровье!
– Это очень добрая, милая привычка, свидетельствующая о добродушии. Ничто не вызывает так дружбы, как доброе вино! – ответил японец. – И я приемлю на себя смелость предложить, господа, позавтракать вместе.
Японец с самой убеждающей улыбкой на своем желтом лице протянул обоим русским свои руки.
– Дело доброе! – воскликнул Иванов. – Мы, русские, от хлеба-соли не отказываемся!
– А вы? – обратился Куманджеро к Контову, умоляюще смотря на него.
– Я тоже не прочь! – согласился и тот, добродушно улыбнувшись.
– Прекрасно! – обрадовался японец. – Идемте же, господа. Но посмотрите, однако, что за чудный вид открывается пред вами!
Действительно, перед ними была величественная картина. Беспредельной водной пустыней стлался, серебрясь своею гладью на лучах солнца, океан. Даль была ясна до того, что были видны тянувшиеся чуть заметными струйками дымки пароходов. В гавани вырос целый лес мачт собравшихся в тихую, покойную пристань кораблей; около них, как тысячи трудолюбивых муравьев, и на берегу, на бесчисленных грузовых шлюпках, перевозивших товары, суетились рабочие и матросы. Было что-то живое, что-то величественное, подавляющее в этой картине, и не только Контов невольно любовался ею, но даже далеко не чувствительный к красотам природы Василий Иванов пришел в восторг.
– А, право! – воскликнул он. – Ежели у нас, в Питере, да из Чекуш на взморье смотреть, так и то не лучше будет!
Но кто пришел и в восторг, и в умиление, так это – Куманджеро.
– Там, – воскликнул он в упоении, протягивая вперед свою руку, – там, за этим океаном, лежит моя родина, мой Ниппон… О, как полна моя душа ею!.. Родина, милая родина! Чувствуешь ли ты, как бьется любовью к тебе сердце твоего сына?.. Все тебе, тебе одной: каждый помысел, каждый вздох… Кровь до последней капли, жизнь до последнего вздоха – все тебе, тебе одной!
– Вы – патриот, господин Куманджеро! – заметил Андрей Николаевич.
– Мы все такие! – словно пробуждаясь от забытья, ответил японец, – Тем и могуча наша страна, что все ее дети безумно любят ее, свою великую мать.
– Неужели же все? – с чуть заметным оттенком недоверия в голосе спросил Контов.
– Все! – резко отчеканил Куманджеро. – Божественный микадо и самый жалкий из нищих готовы на все ради своей страны… на все жертвы…
– Ну, пожалуй, эта ваша очень похвальная любовь скоро растает!
– Почему?
Японец строго посмотрел на Андрея Николаевича.
– Европейские влияния… Космополитизм, ну и прочее, и прочее…
Куманджеро тихо засмеялся.
– Пойдемте, господа, позавтракать, – сказал он, – а за мою родину не бойтесь. Европейские влияния нам не страшны, наш народ слишком умен, чтобы не знать их цены…
5. Заманчивое предложение
Контову не понравился такой ответ их знакомого. В душе молодого русского скользнуло какое-то странное чувство; не то ему стало досадно на этого обезьяноподобного человека, не то он позавидовал ему. Андрею Николаевичу вспомнилась покинутая родина, и вдруг бесконечно дороги, милы стали ему и серовато-мглистое русское небо, и беспредельный, но унылый русский простор, и бедные жалкие деревушки с их детски-наивными, с детски-чистыми сердцем обитателями, и города с напыщенно-жалкой так называемой «интеллигенцией». Все это вдруг стало ему так дорого, мило, что, если бы каким-нибудь волшебством из-под земли пред молодым человеком вырос типичный держиморда, русский околоточный, или не уступающий ему в профессиональных доблестях урядник, Андрей Николаевич не задумался бы кинуться к ним с объятиями и расцеловать их…
Увы! Все это оставалось далеко, далеко… Водная пустыня Атлантического океана и целый материк отделяли все это от русского человека, заброшенного не столько волею судьбы, сколько своею собственной прихотью в чужой край…
Андрей Николаевич, несколько поотставший, взглянул на шедших впереди него Иванова и японца. Казалось, эти люди сразу сдружились. Слышен был их оживленный разговор, прерываемый то вспышками смеха, то отдельными восклицаниями. Они шли под руку и не обращали внимания на Контова, предоставляя его самому себе. Андрей Николаевич был отчасти рад этому. Он чувствовал необходимость поразобраться в мыслях, вызванных столь внезапным знакомством с японцем. Что-то подсказывало молодому русскому, что это знакомство вовсе не случайность и вовсе не вызвано любовью Куманджеро к России. Вместе с тем и подозревать что-либо Андрей Николаевич тоже не мог. Мысли его двоились, троились, дробились, и ни одна из них не приводила к какому-либо определенному выводу, в конце концов Контов решил только наблюдать и вывести заключение лишь тогда, когда в достаточной мере накопится наблюдений.
«Это все сказывается Русь-матушка во мне! – думал он. – Ведь у нас, русских, все так: кто с нами вежлив, деликатен, обращается по-человечески, ни в карман, ни в физиономию не залезает, тот, стало быть, скрывает что-нибудь… Так у нас всегда… Только и чувствуем мы, русаки, доверие к тому, кто нас покрепче придавить может… Врожденное это… наследственное и веками воспитанное!»
Молодой человек сердился на себя и в то же время чувствовал, что никак не может подавить чувство невольного недоверия к японцу. Он завидовал своему товарищу, очевидно, не испытывавшему ничего такого, что могло бы смущать его покой.
Иванов между тем успел с болтовни перейти и на более серьезную тему.
– Странствуем мы с Андреем Николаевичем, – рассказывал он Куманджеро, – быдто у нас своего угла нет! Быдто ветром нас каким кидает из стороны в сторону. Разные края объездили, где только не побывали, себя не показали, людей не посмотрели!
– Это удивительно! – восклицал японец. – Насколько я замечал, у вас, русских, вовсе не развита страсть к путешествиям. Вот англичане – о, те да!
– И диво бы у нас капитала было много, – продолжал Иванов, – а то насчет этого самого презренного металла, откровенно говоря, в одном кармане заря загорается, а в другом – уж смеркается…
– О-о, – протянул Куманджеро, – я думал, напротив…
– Чего там, напротив! – не удержался от каламбура веселый толстяк. – Ни напротив, ни позади – ничегошеньки…
– Может быть, вы нуждаетесь в деньгах? – перебил его японец.
Иванов опешил, хотя этот вопрос был предложен ему самым серьезным, деловым тоном.
– В деньгах? – пробормотал он. – Нет…
– Или, может быть, в работе?
– Гм! – оправился парень от замешательства. – От работы не отказались бы…
Куманджеро ничего не ответил на это признание.
– Скажите, – тихо и серьезно спросил он, – что заставило вас покинуть вашу родину? Политика?
– Политика? – переспросил недоуменно Иванов. – Какая политика?
– Я знаю, что в России не дозволяется никому из русских обсуждать внутренние дела своей родины и высказывать протест против того, что в этих делах замечается неправильного. Может быть, вы и ваш товарищ протестовали, активно или пассивно – это все равно, – и должны были во избежание строгой кары за это покинуть свое отечество?.. Я прошу вас сказать мне это, но если вы не пожелаете ответить, то я настаивать и не буду! Так? Ошибся я или нет?
– Понял, понял, про что вы! – замахал на японца руками Иванов. – Нет, от этого бог миловал… Ни в чем таком ни Андрей Николаевич, ни я не замешаны… То есть синя пятнышка на нас нет и пачпорта наши в строжайшем порядке… Другое тут… Хуже!
– Что же? – так и навострил уши японец, готовясь выслушать признание.
– Хуже, говорю! – повторил Иванов. – Как тут и сказать – не знаю…
Он оглянулся и посмотрел на шагавшего порядочно далеко от них Контова.
– Андрей-то Николаевич мой, – склоняясь к самому уху японца, зашептал он.
– Что? Что? – вытянулся тот на цыпочках.
– Влюбимшись он – вот что! – выпалил Иванов и отпрянул.
– Влюбимшись? Любить? – с новым явным недоумением проговорил Куманджеро и поспешил перевести этот русский глагол на все известные ему языки: – Любить – aimer, lieben! Да, да! Понимаю… Это болезнь, которой нередко страдают европейцы… Любить! Да, я понимаю теперь…
– Вот именно, что страдают! – подхватил его выражение Иванов. – Только ты, мил человек, – вдруг перешел он на фамильярность, – слышь, Андрею Николаевичу о том, что я тебе сказал, ни гу-гу! Понял?
– О, конечно! – улыбнулся Куманджеро. – Это сердечная тайна, и постороннее вмешательство в нее неделикатно.
– То-то! Зачем парня обижать! Он, Андрей-то Николаевич, господин Контов, хороший… Ты, душа, не смотри, что он такой сумрачный; это у него от любовной дури, а не будь оной – так такой миляга.
– Неужели это было причиною того, что вы покинули родину?
В голосе японца прямо звучало недоверие.
– Только и всего. Тебе чего же еще больше хотелось? Эта, брат, любовная дурь как наскочит да заберет, только держись наше мужское сословие. Ежели кто попроще – вот как я, – так тот сейчас в трактир «под машину»: «Прислужащий! Полбарыни с красной головкой и на закуску бутерброд с ветчиной да еще пару пива „Старой Баварии”. – Ну, зальешь это душу казенной да пивным лачком покроешь – оно и легче. Сейчас безобразить пойдешь. «Под шары» угодишь – и дурь, и обиду как рукой снимет. А у них, у бар-то, не так. У них все по-благородному! – Иванов склонился опять к уху своего желтолицего собеседника и зашептал: – Как Андрею-то Николаевичу папаша с мамашей евойного предмета нос натянули и карету подали, так он стреляться хотел… Насилу я его отговорил… Зачем местному участку беспокойство причинять? Им это тоже не по нраву… Ну, унял кое-как, а то пострадал бы парень!
Японец вряд ли понимал всю эту своеобразную тираду своего собеседника, но тем не менее слушал внимательно, изредка покачивая головой.
– Мы с ним, как говорится, молочные братья, – продолжал разоткровенничавшийся Иванов, – моя матка его своим молоком кормила и меня вместе с ним… Тут, брат-япоша, одно такое дело есть, о коем я тебе впоследствии расскажу, ежели мы знакомы будем…
– Будем, непременно будем! – закивал головою, как фарфоровый болванчик, Куманджеро. – Я вам предложу одно дело потом.
– Спасибо. От чего другого, а от дела прочь не побежим.
– Скажите, ведь вы отсюда в Нагасаки собрались?
– А ты уже и знаешь?
– Знаю… У вас и билеты уже на пароход до Нагасаки взяты, я справлялся!
– Эк тебя любопытство проняло! С чего бы, кажись?
– Я уже говорил, что люблю русских… При всем том я говорил, что я негоциант, а теперь прибавлю, что я арматор. Мои пароходы ходят и во Владивосток, и в Чемульпо, и в Дальний, и в Порт-Артур, и в Чифу, и в Шанхай. О, у меня очень много пароходов!
– Так что же ты хочешь-то? К чему желаешь приспособить нас?
Теперь Иванов был вполне серьезен, хотя и не оставил своего фамильярного обращения с японцем.
– Мне хотелось бы, – отвечал Куманджеро, – чтобы у меня в каком-нибудь русском порту был свой доверенный человек.
– Понимаю: приказчик?
– Не совсем так… нет, нет, только не приказчик!
– Кто же тогда? Доверенный? Ну, конечно же, приказчик…
Куманджеро отрицательно закачал головой.
– Я не знаю такого русского слова, которое точно и ясно передало бы мою. мысль… Мне нужно, чтобы такой человек, которому я верю, наблюдал за всем, за моими контрагентами и комиссионерами, поверял бы их.
– Контролер! – воскликнул Иванов.
– Вот нужное мне слово! – воскликнул японец. – Контролер… да, да! Наблюдал бы за всем, и не только за тем, как торгуют мои агенты, но и за тем, что нужно в указанном мною месте, какой товар скорее пойдет. Вот вы представьте себе, в ваш Порт-Артур ожидают прибытия нового полка, сейчас вы меня – конечно, секретно – уведомляете об этом, я запасаюсь всем, что может пригодиться прибывшим войскам: сукно для мундиров и шинелей, пуговиц, да мало ли что! Я узнаю это, посылаю пароход со всем, что необходимо. Русским не нужно хлопотать, искать, выписывать из России. У них все является как бы само собою, я же получаю торговый процент. Что? Я делюсь с моим, как вы назвали, контролером своею прибылью, кроме которой я назначаю хорошее жалованье ему. Видите, тут несомненная выгода для всех: и для ваших соотечественников, и для вас, если мои предложения будут приняты, и для меня. Что? Что вы скажете?
– Заманчиво! – ответил простодушный Иванов. – Деньжищ тут можно кучи загребать, а торговля – дело чистое. Это, значит, говоря по-нашему, вы своим конкурентам ножку задумали подставить?
Куманджеро приторно заулыбался в ответ.
6. Сближение
Позади послышались торопливые шаги нагонявшего их Контова.
– Я попрошу вас, – шепнул японец Иванову, – пока ничего не говорите вашему товарищу из того, что я сказал, пусть пока все это будет между нами.
– Ладно, ладно! – быстро ответил ему тот. – Умрет в глубине моей души, а там видно будет.
В это время их нагнал Андрей Николаевич.
– Вы, господа, кажется, стали неразлучными друзьями? – улыбаясь, сказал он.
– О да! – согласился Куманджеро. – Ваш друг – такой милый человек.
– И между вами, несмотря на короткое знакомство, завелись уже секреты?
На лице Куманджеро ясно отразилось беспокойство.
– Почему вы так думаете? – спросил он, пытливо устремляя свой взор на Контова.
– Я видел, как вы шептались… вот сейчас и несколько ранее…
Куманджеро захихикал, но мелко, рассыпчато, делано.
– А, вот вы про что! – проговорил он. – В этот секрет мы можем посвятить и вас… Видите ли, «тайны Фриско» показались интересными вашему другу, он меня и спрашивал о них.
– Тайны? Какие еще?
– Ну, ну… У каждого большого города есть свои тайны, и ваш друг в достаточной степени молод, чтобы интересоваться ими.
– Вот вы про что!.. Ну, Вася, – обратился Контов к Иванову. – Не ожидал, признаюсь откровенно, от тебя такой прыти!
Василий Иванович виновато потупился.
– В Нью-Йорке он был совсем скромен… Да что ты прячешь глаза-то?
– Господа, – засуетился японец, – беседуя, мы прошли наш путь совершенно незаметно. Вот наш отель… поспешим…
Они были около довольно трущобного вида двухэтажного дома, над которым развевался какой-то фантастического соединения цветов и фигур флаг. С улицы дом казался совершенно пустым, но, когда русские и японец, взойдя на крыльцо, прошли в темноватый и грязный зал, где в разных углах дремали двое слуг-негров, перед ними, как из-под земли, вырос толстый, неряшливо одетый человек, хозяин этой трущобы, и с заметным немецким акцентом проговорил:
– Иностранцы, я вижу, вы хорошо погуляли, поэтому вам следует выпить.
– Благодарю вас, – вежливо ответил за всех Куманджеро, – мы непременно последуем вашему совету, но не откажемся, если вы предложите нам позавтракать.
– Если у вас есть деньги, чтобы заплатить за кусок мяса, превосходно изжаренного в собственном соку, – последовал ответ, – то вы можете не сомневаться, что я с большим удовольствием предложу вам его.
Контов посмотрел на говорившего с негодованием.
– Мы, кажется, платили вам за все, что требовали, – воскликнул он, – и не давали повода сомневаться в нашей порядочности.
– Иностранец! – хладнокровно ответил трактирщик. – Я третий день вижу ваше лицо, но ни одной минуты не видел, чтобы вы работали. Кто не работает, тот не имеет денег, а что вы – не капиталист, за это я готов прозакладывать голову. Я прав был, предупреждая вас. Таков обычай. Мы в свободной стране, и никто не посмеет заставить свободного гражданина не говорить того, что он желает.
– Мы вполне соглашаемся с вами, – поспешил вмешаться Куманджеро, заметив, что глаза Контова загорелись гневом, – мои друзья…
– Они русские, это я знаю! Я знаю, что такое Россия, и сегодня пойду непременно на митинг, где будут говорить о России и русских, но до этого я подам вам мясо, ибо вы сказали, что у вас есть деньги.
Последние слова трактирщик проговорил уже в пространство. Куманджеро увлек к столу Андрея Николаевича и Иванова, не понявшего разговора на английском языке.
– Не гневайтесь на него! – умиротворяющим голосом убеждал японец Контова. – Этот митинг всем здесь вскружил головы.
– Я буду на нем! – справляясь с раздражением, ответил Андрей Николаевич.
– Не советую! – махнул рукой японец.
– Почему?
– В Штатах всюду существует предубеждение против вашего отечества. На митинге будут говорить о событии в Кишиневе, – с некоторой запинкой произнес название злополучного города Куманджеро, – вы рискуете услышать много неприятного для своего национального самолюбия.
– Тем более причин идти мне туда! – воскликнул Контов.
– Вероятно, я выразился неясно… Вы меня не поняли…
– Нет, понял! Вы дали мне понять, что на митинге, о котором я уже слышал и на который собирался еще до встречи с вами, будут говорить про мою родину всякие гадости… В качестве русского я должен опровергнуть их…
– Ага, и вы патриот! – вскричал Куманджеро.
– Если желание правды – патриотизм, то да.
Они замолчали. Весь этот короткий разговор происходил между ними по-английски, и Василий Иванович опять принужден был сидеть молча.
– А ты, Вася, как? – прервал молчание Контов. – Со мной на митинг?
– Это, Андрей Николаевич, в каком же смысле? – удивился Иванов.
– Да вот господин Куманджеро объявил, что ты собираешься куда-то с ним…
– Пустяки! – пробормотал Василий Иванов. – Мало ли что говорится!
– Как ты хочешь, я тебя не держу, – продолжал Андрей Николаевич. – Тебе будет скучно, ведь ты ничего не поймешь…
– Зато погляжу, что это за митинг такой!
– Соберутся разные люди, – вмешался в их разговор японец, – и будут говорить о том, чего не знают… Ведь в сущности что могут знать здесь о вашей родине? Только то, что пишут в газетах… В газетах же всегда преувеличения, часто нелепости, и вот, приняв такие газетные сообщения за неопровержимую правду, и будут делать из них выводы… каждый свое…
– Что же? Это хорошо! – усмехнулся Андрей Николаевич.
– Несомненно. Право человека высказывать то, что он думает, и я уверен, что ораторы будут искренни. Но, – пожал плечами японец, – я предпочел бы, чтобы почва для речей была более твердая. Во всяком случае у нас никто не станет говорить о том, чего не знает, или по крайней мере в чем не убежден.
– Оставим-ка это! – уже весело воскликнул успокоившийся Контов. – Вон сам хозяин несет дымящееся блюдо… Я уверен, что мясо и в самом деле превосходно и в особенности после такой прогулки, какую сделали мы с моим другом.
Трактирщик, очевидно, переменивший свое мнение о посетителях, сам поставил блюдо на стол. Слуги-негры уже принесли жестяные стаканчики, можжевеловую водку, воду к ней и стояли в почтительных позах у стола.
– Господи, благослови! – первым начал Иванов.
Он, не разбавляя можжевеловой водки водою, налил стаканчик до краев, выпил залпом, молодецки крякнул и произнес:
– Дымком малость попахивает, а впрочем, ничего: для нашего брата заводского как раз в раз!
– Он пьет виски без воды! – не то с испугом, не то с изумлением восклицал трактирщик.
Негры тоже издавали какие-то восклицания.
Контов и японец отказались от напитка, но Иванов повторил прием и поспешил налить еще третий стаканчик.
– Так по душам насквозь пошло! – объявил он. – Но что этот американец на меня уставился? Узоров, кажись, на мне нет.
– Он удивляется, что ты пьешь виски без воды, – пояснил ему Контов.
– А зачем вода?
– Здесь все так пьют. Они считают виски крепчайшим спиртным напитком.
– Ну и пусть их считают! Наша казенка лучше, да и покрепче, пожалуй! Ну-ка, без троицы дом не строится, – опрокинул Иванов в рот и третий стакан.
– О, варвар! – пробормотал трактирщик. – Он еще жив, он еще не умер!
– Это он что же? – по тону понял Иванов смысл восклицания. – Дивится?
– Да… Он удивляется, что вы живы после такого огромного приема! – объяснил ему Куманджеро. – Сегодня вечером здесь много будет разговоров про вас.
– Пусть поговорят! – со снисходительной небрежностью ответил Иванов. – У нас от этого не убудет… Еще, что ли, выпить? Пусть американы видят, какова мать Рассея, мать рассейская земля.
– Оставь, Вася, – отодвинул виски Контов, – довольно… Нехорошо, если напьешься…
– Я-то напьюсь? – запротестовал Иванов. – Да никогда в жизни…
– Все-таки оставь! Мне вот мысль в голову пришла поговорить с господином Куманджеро.
– В таком разе и в самом деле довольно… Говорите, Андрей Николаевич, только уже по-нашенски… а то залопочете по-английскому, и сиди, как сова, глаза выпуча, ничегошеньки не разумея…
Контов не слушал его и повернулся к обратившемуся в слух японцу.
– Раз мы познакомились, господин Куманджеро, – заговорил он, улыбаясь, – то я не буду скрывать, что рад случаю, сведшему нас…
– И я также очень благодарен ему! – поклонился Куманджеро.
– Не будем обмениваться комплиментами… Мы знакомы часа два, не более, а у меня уже есть на вас виды… и немалые.
Куманджеро весь насторожился.
– Я весь к вашим услугам, – опять склонился он, – все, что в моих силах…
– Видите, я с тем и приехал сюда, в Сан-Франциско, чтобы перебраться на ваши острова…
– Удивляюсь, зачем вы избрали путь через океан, когда ваше правительство построило прекрасную железную дорогу?
– У меня были свои причины… Суть не в том… Скажите, господин Куманджеро, в вашем отечестве живут русские?
– Русские? Конечно… Очень много…
– Я спрашиваю не о тех, которые наезжают к вам как путешественники, негоцианты, дипломаты… Мне хотелось бы знать, есть в Японии переселенцы из России… ну, понимаете, в силу чего-нибудь им пришлось уйти из своего отечества, бежать, что ли… вот они поселились у вас, приняли ваше подданство…
– Понимаю, – серьезно ответил японец, – есть и такие… и немало их… Знаете, к нам близок Сахалин, наше прежнее достояние, недалека и ваша Восточная Сибирь… У многих, кто попал туда не по своей охоте, есть стремление покинуть эти края… Но нет, назад им возврата быть не может. Вы о таких ваших земляках спрашиваете?
– Вот, вот! Именно о таких…
– Есть они, и очень много, в изобилии… Один из ваших таких переселенцев к нам был у нас в числе правительства и принес много пользы Японии. Японский народ свято чтит его память. Потом предместье Нагасаки – Иноса – все заселено акклиматизировавшимися в моей стране русскими выходцами. В этом местечке вы даже редко наш язык услышите – все говорят по-русски… Почему вас это интересует?
– Я сейчас расскажу вам одну историю, – ответил Контов, – история правдивая, и, выслушав ее, вы поймете мое любопытство…
7. Туманный рассказ
– Опять за старые бредни принялись! – пробормотал Иванов при последних словах Андрея Николаевича.
– Молчи ты! – прикрикнул тот. – Иди спать лучше…
– Чего молчать? И сами вы встречному и поперечному историю-то эту расписываете… вчерашнего дня ищете…
– Василий!
В голосе Контова задрожали нотки гнева.
– Ладно, ладно! – поднялся тот с места. – И в самом деле, пойти всхрапнуть… – Он поискал глазами образ и, не найдя его, перекрестился, глядя в угол, а потом сказал, зевая: – Бог напитал, никто не видал, а кто и видел, да не обидел… Пойду и такого храповицкого задам, что берегись, все американы и американихи!
– Славный парень, честный, добрый, – проговорил ему вслед Контов, – одна беда: груб, а потому иногда страшно надоедлив.
– О-о! Это ничего, это вполне понятно, – поспешил ответить японец. – Это сказывается непосредственность девственной натуры… Но ваш рассказ?
– Вы не боитесь соскучиться после критических замечаний моего друга?
– Нет, нет… Я чувствую, что в вашем рассказе будет играть роль и моя страна!
– Да…
– Тогда мой интерес удваивается, утраивается, если хотите!
– Тогда я начинаю! – усмехнулся Контов и на минуту погрузился в молчание, как бы собираясь с мыслями.
Куманджеро воспользовался этим и, подозвав одного из прислуживавших негров, сказал ему несколько слов.
– Я знаю привычку русских, – обратился он к Контову, – пить во время разговора и приказал подать нам пива… японского пива! Его привозят сюда из Йокогамы, и здесь его умеют удивительно сохранять… Вот несут, несут любимейший напиток моего народа.
Негр поставил перед собеседниками большой глиняный кувшин и два жестяных стакана несколько большего размера, чем поданные для виски.
Японское пиво оказалось тепловатой мутной жидкостью, в которой плавали какие-то подозрительные сгустки. Контов пригубил стакан и, брезгливо поморщившись, отставил его.
– Видите ли, – заговорил он медленно, не глядя на своего собеседника, – вы говорили, что бывали в России…
– Да, да! В Санкт-Петербурге, в Риге, в Ревеле, в Москве, Лодзи, Одессе… о сибирских городах, о Порт-Артуре и Владивостоке я не говорю…
– Так что вы знаете, что Россия – страна своеобразная…
– Очень своеобразная, другой такой нет…
– Так вот по стране, и мы – народ своеобразный; большинство русских верит в справедливость, и не только в высшую – небесную, но имеет наивность верить и в земную справедливость… Потом еще мы как-то странно все обособлены и не питаем друг к другу ни малейшего доверия, а если случаются такие простаки, то они жестоко платятся за то, что выделяются из общего правила… После этого маленького предисловия перехожу к рассказу. Лет двадцать пять тому назад в России, в Петербурге, жил некий простак, вот из той самой породы наивных людей, о которых я только что говорил. Честности он был идеальной, душа его была, как у нас говорят в России, кротости голубиной. При этом он был небогат, но и не беден; в довершение всего он был женат на красавице, которую любил без ума, без памяти… У них был ребенок, сын, – пояснил Контов с грустной улыбкой.
– Я что-то начинаю понимать, – задумчиво проговорил Куманджеро.
– Погодите немного!.. – остановил его Контов. – Как и огромное большинство в России, он был человек служащий на… скажем лучше, в одном коммерческом учреждении – все равно каком… У начальства своего он был на хорошем счету…
– Вы сказали – у начальства? – перебил Контова японец.
– Ну… у главы своего учреждения, у своего патрона! – раздраженно воскликнул Андрей Николаевич. – Это для моего рассказа безразлично… Дело в том, что жена простака, о котором я рассказываю, понравилась его патрону. Она оказалась… не буду ничего дурного говорить о ней!.. Она… она, как видно, не любила своего мужа… и… поощряла намерения… негодяя! – выкрикнул, задыхаясь, Контов.
– Не волнуйтесь! – протянул ему руку Куманджеро. – Ведь это было так давно.
– Что давно? – сурово посмотрел на него Андрей Николаевич.
– А случай, о котором вы рассказываете… не правда ли?
– Да, давно…
Контов провел рукою по волосам и продолжал более спокойно:
– Атаки этого человека на легкомысленную молодую женщину начались чуть ли не сразу после свадьбы мое… молодого супруга. Беременность молодой дамы не остановила их… О, тот человек, о котором я говорю, рассчитывал, что пока длится неудобное для любви состояние молодой дамы, он так или иначе успеет освободить ее от брачных уз… Начались придирки, притеснения… наконец, мо… этот служащий был обвинен в присвоении, вернее, в краже каз… то есть наличных сумм того учреждения, где он служил… Он был не повинен ни в чем… да его и не обвиняли, его только заподозрили… Жена воспользовалась этим и под влиянием советов и настояний своего будущего любовника с презрением отвернулась от мужа… от мужа и отца своего ребенка, тогда уже родившегося… Опозоренный, оставленный любимой женщиной, он узнал, какое хитросплетение было направлено против него, против его чести, его счастья… Он узнал, что его ребенок отброшен матерью, как щенок какой-нибудь, прочь – отдан в деревню, на грудь первой встречной бабе; он узнал, что женщина, на которую он молился, в которой не чаял души, ушла к своему любовнику и вступила с ним в открытую связь… Услужливые друзья, скорее подлые враги, словно нарочно, старались бередить страшную рану, дразнить на все лады изъязвленное самолюбие, осквернять своим мнимым участием тяжелое горе… Он пошел к своему оскорбителю…
– И убил его? – быстро спросил Куманджеро.
– Нет!..
– Напрасно… Зачем же он тогда к нему пошел?
– Шел он, чтобы убить его… Но для нас, европейцев…
– Позвольте, тот, о ком вы рассказываете, был русский?
– Да!.. Что же?
– Вы отделяйте русских от европейцев… Это совсем другой народ… Я предугадываю: у обиженного дрогнула рука?..
Контов кивнул головой в знак согласия.
– Ну, вот видите! У европейца, если бы он решился убить соперника, рука не дрогнула бы… А русские, русские… слишком добродушный народ.
– Желаете вы слушать? – мрачно спросил Контов. – Или позволите кончить?
– Простите, – спохватился Куманджеро, – я так сочувствую несчастному герою вашего рассказа, что невольно волнуюсь сам… Простите, прошу вас, продолжайте…
– Он, этот мой несчастный герой, ранил его, – усмехнулся при последнем слове Контов, – не легко ранил – пуля вышибла этому негодяю глаз. Последствия понятны: он был осужден, и тяжко осужден, ибо дело повернули так, что на суде вышло, будто мой герой мстил не за свою поруганную честь, а из злобного чувства на начальника, открывшего его преступление… Пощады тут не дали… Доказана была и предумышленность преступления. Его сослали…
– Конечно, на Сахалин?
– Да… Что только должен был перенести этот человек!
– Действительно!.. А дальше что? Не думаю, чтобы здесь был конец рассказа.
– Он бежал. Я имею сведения, что он бежал не один, но с двумя или тремя товарищами. Еще одно знаю: этот человек жив до сих пор.
– И это достоверные сведения?
– Думаю, что да… Видите ли, несчастный действительно заранее обдумал свой выстрел и все последствия его. Прежде чем совершить свою месть, он собрал все, что имел, все имущество обратил в деньги и отдал их одному старому испытанному другу, обязав его клятвою позаботиться о несчастном малютке. Тот свято исполнил все. Он воспитал мальчика, дал ему некоторое образование – словом, поставил на ноги, сделал человеком. Этот ребенок скоро остался, кстати сказать, круглым сиротой. Судьба, быть может, и в самом деле является мстительницею. Эта женщина отправилась вместе со своим раненым любовником за границу. В нескольких десятках верст от Петербурга произошло крушение поезда. Она погибла во время этой катастрофы. Смерть ее, говорили мне, была ужасна. Вся изломанная, истерзанная, обожженная, она умирала более суток…
– А ее возлюбленный?
Контов усмехнулся и произнес:
– Он уцелел…
– Сын, когда вырос, отомстил за отца? – спросил Куманджеро.
– Нет! – рассеянно протянул Андрей Николаевич. – Не отомстил… Его воспитатель скрывал тайну его родителей вплоть до своей смерти… Только умирая, он открыл ее своему воспитаннику… а он… он… Да, вы правы: мы, русские, не европейцы! Нас даже такое сильное чувство, как месть, не может захватить так, чтобы мы отдались ему всем своим существом. Сын не смог найти в себе озлобления к виновнику всех бед своего отца; этому есть особые причины… Не буду их касаться… Но вот что… Несчастный, о котором я вам говорю, жив и доселе… то есть был жив около года тому назад… Один из тех людей, с которыми он бежал с Сахалина, возвратился в Россию, но, конечно, в качестве натурализовавшегося американца. Давность покрыла его преступления, и он был хорошим другом человека, воспитавшего бедного ребенка. Я думаю, что он в этом случае только исполнял просьбу своего старого товарища и писал ему все, что удавалось узнать о сыне. Он умер за месяц, кажется, до смерти другого старика-воспитателя и передал ему письмо. Письмо было написано в туманных выражениях; из него можно было понять, что беглец с Сахалина живет не то в Соединенных Штатах, не то в вашей Японии; по некоторым выражениям можно судить, что последнее вернее. В Штатах этот человек вел коммерческие дела, ради которых и приезжал сюда, на материк.
– И молодой человек отправился отыскивать своего отца? – спросил Куманджеро.
Контов не успел ответить на этот вопрос.
С улицы, через широко раскрытые окна, к ним донесся оглушительный и беспорядочный бой барабанов, невыносимо нестройные звуки труб, крики и даже выстрелы.
– Это что? – вскочил Контов.
– О, не беспокойтесь, – остановил его Куманджеро, – это обычное здесь напоминание о митинге.
– Ах да! – вспомнил Андрей Николаевич. – Разве уже пора?
– А вы все-таки пойдете?
– Я уж так наметил себе…
– Не смею задерживать! – пожал плечами японец. – Но вы, кажется, хотели что-то спросить у меня?
– Я вам рассказал всю печальную историю в надежде, что вы, может быть, слыхали уже ее, но теперь я уверен, что она вам неизвестна.
Куманджеро ответил не сразу.
– Вы завтра отправляетесь в мою страну, я тоже. Мы во всяком случае встретимся на пакетботе, и у нас будет достаточно времени поговорить обо всем… Если вы позволите, то на островах моей родины я буду вашим Вергилием[1].
– Благодарю, благодарю вас! – вскричал Контов.
– О, не благодарите! – скромно возразил японец. – Вспомните, что я человек коммерческий и главною целью жизни ставлю выгоду, а на вас я имею некоторые небескорыстные виды.
8. На митинге
Барабаны, трубы и гомон раздались под самыми окнами кабачка. Андрей Николаевич подошел к окну и выглянул в него. Под окнами он увидел то, что в России обыкновенно называется «процессией». Двое рослых парней несли на длинных шестах флаги; впереди них бежала гурьба мальчишек и подростков, оглашая воздух неистовыми криками. Между флагами шли четверо негров – двое с барабанами, двое с трубами – и производили посредством своих инструментов невозможный шум. За ними следовала толпа всякого люда, очевидно, не знавшего, куда девать свое время.
У дверей гостиницы вся эта толпа с музыкантами во главе остановилась, и вперед выскочил высокий сухощавый янки в помятом цилиндре и сильно поношенном фраке, из-под которого был виден не менее грязный жилет со звездами вместо цветов на груди.
– Джентльмены! – хриплым, надорванным голосом заорал он. – Все на митинг! Спешите, спешите! Вам предстоит счастье услыхать речи лучших ораторов Запада о некоторых событиях, одна весть о которых обледенила ужасом ваши кроткие сердца. Спешите, спешите! Вы можете высказывать свое мнение сами, вы присоедините и свои голоса к громовому протесту всех свободных граждан великой североамериканской унии. Спешите, спешите! Вы должны идти, это ваш святой долг, ваша священная обязанность. На митинг! На митинг!
Проорав все это одним духом, джентльмен в цилиндре махнул рукой неграм, и те сейчас же подняли свой прежний шум. Затем процессия повернула и пошла далее.
– О, чтобы их нелегкая растрепала! – услыхал за собой Контов.
Он обернулся. Позади него стоял Иванов, заспанный, взлохмаченный, зевающий, сердитый.
– Проснулся, Вася? – ласково спросил его Андрей Николаевич.
– Уснешь разве? Только было хороший сон начал грезиться, а тут вот тебе и на!
Иванов совсем разворчался.
– Ну уж и страна, ну уж и хваленые американы! Да у нас бы за эдакое нарушение общественной тишины всех на Казачий отправили… а тут хоть бы что… Как будто так и следует… А где же япошка? – спохватился он. – Сгинул, нечистая сила? Верно, тоже на митинг побег…
Куманджеро не было в зале кабачка, и Контов не слыхал, как он ушел.
– Что, обманул он тебя? – засмеялся Андрей Николаевич.
– Оммануть не омманул, а все-таки как будто так и не следует…
– Увидитесь еще… на одном корабле поедем…
– Знаю, говорил он… А ведь какой привязчивый, желтая морда! Теперь что же, Андрей Николаевич, мы будем делать? Выпить разве да опять спать завалиться? Эй, прислужащий!
Негр понял, что хотел показать ему несколькими своеобразными жестами этот иностранец, и притащил виски.
Андрей Николаевич только плечами пожал, но не сказал ни слова. Он поспешил пройти в свою комнату и переменил костюм. Митинг интересовал его. В своих скитаниях по штатам Контов никогда не упускал случая побывать на таких собраниях.
Он воображал, что все они являются истым выражением гражданской свободы, упивался казавшимися ему необыкновенно смелыми речами ораторов и даже не замечал, что эти речи в огромном большинстве случаев состояли только из трескучих фраз, обильно приправленных патетической жестикуляцией. Перед тем как перебраться на американский материк, Контов побывал и в Берлине, и в Брюсселе, и в Париже, и в Лондоне. В берлинских пивных ему пришлось слышать ораторов социал-демократической партии, призывавших немецких рабочих к ожесточенной борьбе с капиталистами; в Брюсселе Контов бывал на сходках рабочих, совершенно спокойно обсуждавших условия еще предстоящих только стачек. На этих сходках мирно говорили один после другого представители из рабочих и их хозяев-капиталистов. Крайние мнения как-то странно уживались друг подле друга, и Контов с удивлением поглядывал на полицейского инспектора, мирно похрапывавшего в то время, когда оратор с кафедры призывал свою аудиторию чуть ли не к террору. Собрания парижан поражали Контова обширностью поставленных на их обсуждение вопросов. Пылкие французы не ограничивались своими профессиональными или даже национальными интересами, а поднимали мировые вопросы и с восхитительной легкостью раздавали направо и налево то порицания, то одобрения могущественным государствам Европы.
В Лондоне Контову приходилось присутствовать на митингах под открытым небом. Здесь англичане поражали молодого русского своей крайней несдержанностью. Он привык думать, что островитяне Северного моря – самый корректный народ в мире, что ко всякому мнению они относятся с величайшим уважением, и вдруг ему пришлось увидеть, что в собраниях этого «корректного народа» наиболее убедительным аргументом частенько являются палки, камни, кулаки, пускаемые в ход тогда, когда не побеждает слово…
В северо-восточных штатах великой американской унии митинги отличались от английских лишь тем, что в качестве аргумента выставлялся нередко револьвер и выстрелы глушили выводы речей, неугодных собранию ораторов.
Теперь Андрею Николаевичу предстояло побывать на митинге американского Запада.
Для Контова этот митинг представлялся особенно интересным потому, что на нем должны были обсуждаться некоторые внутренние русские дела.
«Что они могут здесь знать о нас, о нашей жизни? – размышлял не раз Контов. – Ведь Россия здесь для них вполне terra incognita[2]. Даже в их учебниках географии, по которым учатся их дети, нагорожено столько нелепостей, что уши вянут… Читать можно только ради того, чтобы вдоволь посмеяться над несообразностями… И вдруг эти невежды, эти мнимокультурные люди собираются произносить свой приговор над Россией!»
Контову становилось и грустно, и смешно, когда он раздумывал на эту тему. Слова Куманджеро, отговаривавшего его от посещения митинга, только подзадорили Андрея Николаевича. Он решил идти и выслушать все, что будут говорить.
«Стерплю, смолчу, – думал он, – но все-таки хочу знать, в чем провинилась перед всеми этими господами моя родина!»
Наскоро умывшись и переодевшись, он спустился вниз.
Иванов не терял времени: как ни коротко было отсутствие Контова, а графинчик с виски был почти пуст.
– Эх! – сокрушенно махнул на него рукой Контов. – Оставайся ты лучше да спи!
– А что?
– Как что?.. Пьян…
– Я-то? Да разве я могу быть пьяным?
– Все-таки оставайся… еще на неприятность с тобой нарвешься…
Иванов помотал головою.
– Нет уж, я с вами! – не совсем твердым голосом возразил он. – Как я вас без своего глаза отпустить могу? Не ровен час, приключится что, а не то изобидят… Кто за вас заступится?
Контов, не слушая Василия, поспешил выйти из гостиницы. Иванов, допив оставшееся в графине, последовал за ним. Идти приходилось порядочно далеко – совсем в противоположную часть Сан-Франциско. Русские шли не торопясь, гуськом. Впереди шел Андрей Николаевич, старавшийся не обращать внимания на своего спутника, двигавшегося несколько поодаль за ним. Иванов шел твердо, не качаясь, но настроение его было самое радужное. Он всю дорогу бормотал себе под нос и даже принялся было петь русскую песню, но оборвал, вспомнив, что хотя в Америке и полная свобода, но американские городовые общественную тишину охраняют от всяких покушений на нее даже ретивее русских. Поэтому Иванов ограничился лишь тем, что по-русски выбранил вслух и свободу, и полицию, конечно, американскую, и вместо пения принялся бормотать сам с собой.
Так они дошли до обширной поляны, посреди которой стоял огромный деревянный балаган, расцвеченный множеством флагов и флажков. Перед балконом была поставлена эстрада, на которой поместилось несколько чернокожих трубачей и барабанщиков. Когда они кончали свой оглушительный концерт, на эстраде появлялся ходивший с ними по улицам долговязый парень в цилиндре и фраке и произносил коротенькую речь, в которой восхвалял ораторов митинга. У входа в балаган толпилось множество самого разнообразного люда: белые, цветные, черные. Все они страшно галдели, смеялись, гоготали, перекидываясь приветственными восклицаниями, бранились. Внутрь балагана допускали за плату, правда, очень небольшую. Тем, кто платил, предоставлялось право сидеть на скамейках; когда все места были заняты, пускали уже без платы всех, кому только угодно было пройти. Контов, а за ним Иванов ухитрились, несмотря на страшную давку, пробраться в первый ряд и занять места на одной из передних скамеек. Прямо перед ними была устроена высокая эстрада, на которой стояли наскоро сколоченный из досок стол, а за ним такая же скамья. Это были места для президента и устроителей митинга, ораторов и особенно почетных посетителей.
Здесь Контов увидел людей, одетых чуть не в лохмотья. Только двое янки из северо-восточных штатов были одеты в сюртуки, наглухо застегнутые под самым подбородком, и в традиционные высокие, как труба, цилиндры. Кое-кого из остальных Контов знал или скорее видел в той гостинице, где он остановился в ожидании отхода пакетбота к берегам Японии. Тут были двое золотоискателей, про которых говорили, что они в Клондайке в несколько недель стали чуть не миллионерами и в несколько дней спустили свое богатство во всевозможных трущобах Фриско. Теперь они снова были бедняками, но это вовсе не мешало всему Фриско относиться к ним с уважением, ибо оба золотоискателя уже объявили о своем намерении возвратиться в Клондайк и найти там такое месторождение драгоценного металла, что новой добычи могло бы им хватить уже не на дни, а на недели веселой жизни. Последнее еще более возбуждало к ним почтение, ибо многие из коммерческих предпринимателей Фриско заранее были уверены, что большая часть добытого молодцами золота непременно попадет в их карманы.
Рядом с золотоискателями сидел за столом свирепого вида мужчина в шляпе с огромными полями. Это был один из богатейших гуртовщиков, сгонявший на бойни Фриско многие тысячи голов рогатого скота для отправки его на судах в разные уголки и Америки, и противолежащей Азии. Далее сидели арматоры, то есть хозяева товарных пароходов, лесовщики, банкиры, содержатели бесчисленных игорных домов рядом с пасторами и благочестивыми представителями религиозных общин. Все эти люди были между собой в наилучших отношениях. Их непринужденный хохот то и дело покрывал гул голосов. Они нещадно дымили сигарами и трубками. Около золотоискателей и гуртовщика стояли стаканы, из которых они то и дело прихлебывали, звучно смакуя каждый хлебок.
Они, эти богатые, не обращали ни на кого никакого внимания, и на них тоже никто не взглядывал. На скамейках разместились пастухи, золотоискатели, матросы, сплавщики леса, силачи-скваттеры – все пришлый люд в этом удивительном городе. Горожан не было заметно – они были, но они как-то затерялись в этой шумной, бесцеремонной толпе. Ни черных, ни медно-красных, ни китайцев совсем не было видно – эти прямо боялись появиться среди всегда враждебно настроенных против них белолицых. Однако Контов, оглядывая зал, заметил в первых рядах, совсем близко от себя, несколько японцев. Они были одеты очень чистенько, в европейское платье. Их манеры выдавали в них людей лучшего общества, чем собралось в балагане, а молодцеватая выправка, высоко поднятые головы, привычка держать руку у бедра прямо показывали, что эти люди принадлежат к числу военных. Трое из них были серьезные, сосредоточенные пожилые люди, один типичный старик с безобразно изрытым оспою и опухлым лицом, а четверо – совсем молодежь, веселая, приветливая, с блещущими смехом, черными, как угли, глазами.
В числе последних Контова поразил один юноша. Ничего японского в чертах его лица не было, и только едва заметный желтоватый отлив кожи выдавал его происхождение. Юноша был высок ростом, широк в плечах, волосы на его голове были не жесткие, черные, торчащие щетиной кверху, а волнистые, русоватые, старательно расчесанные и приглаженные.
«Метис, наверное! – почему-то подумал Андрей Николаевич, разглядывая этого желтокожего юношу. – Европейская кровь так и брызжет под этой желтой кожею; что он – японец, это несомненно, что он военный, также… Вот с кем интересно бы познакомиться!»
Страшный гвалт перебил мысли Андрея Николаевича.
Митинг начинался.
Собранию предстояло выбрать председателя, и тут вдруг вспыхнули страсти. Одни голоса требовали председательского места для пастора, другие выкрикивали имена золотоискателей из Клондайка. Каждый выкрикивал своего кандидата, и собравшиеся никак не могли прийти к какому-нибудь соглашению. Разгоревшийся спор внезапно для всех разрешил гуртовщик. Он поднялся со своего места, энергично постучал по доскам стола рукояткою револьвера и голосом, каким он привык покрывать рев стада, заорал:
– Джентльмены! Вам нужен председатель, и вы не можете избрать его. Я предлагаю в председатели себя. Кто не согласен с моим предложением, прошу встать, и мой браунинг, – потряс гуртовщик револьвером, – моментально убедит, что по этому вопросу двух мнений быть не может!
Гвалт на мгновение стих, и вслед за тем вся эта бесновавшаяся толпа вдруг разразилась неистовыми рукоплесканиями. Бесцеремонная выходка понравилась всем этим людям, уважавшим в другом только смелость и силу. Единогласное избрание гуртовщика было обеспечено, и он, как ни в чем не бывало, занял пустовавшее дотоле председательское место.
Воцарилась тишина, митинг начался.
9. Под властью порыва
Как бывает всегда и со всяким началом, сперва митинг шел вяло. Ораторы не разошлись, вопросы не имели жгучего общего интереса. Первые речи слушали лишь немногие. Большинство громко, без всякого стеснения болтало; сигары дымились всюду, стук, шум, кашель не смолкали ни на мгновение.
Наконец наступили первые моменты оживления; один из ораторов сумел затронуть поставленный на обсуждение вопрос с такой стороны, что вызвал громкий свист одной части слушателей и рукоплескания другой. Он пообождал, когда все это кончится, и продолжал речь, оснащая ее весьма странными перлами американского красноречия. Когда нужно было подтвердить высказанное положение, а убедительных аргументов не хватало, он начинал клясться самыми страшными клятвами, желал самому себе, если он говорит неправду, провалиться сквозь все земные пласты и утонуть в лаве, кипящей в ядре земного шара. В его речи были места, сплошь состоявшие из клятв и пожеланий самому себе всяких бед. Такая манера выражаться, очевидно, нравилась слушателям, ибо гром аплодисментов встречал и провожал все эти перлы красноречия. Около Контова перешептывались о том, что митинг примет резолюцию в том смысле, какой предложит оратор, но совершенно непредвиденный случай вполне изменил течение мыслей всего собрания.
Случилось, что, как раз когда оратор самым медоточивым голосом и в самых привлекательных красках начал расписывать преимущество отстаиваемого им положения и собрание, увлеченное его ораторским искусством, слушало его затаив дыхание, вдруг, и как раз в самом патетическом месте речи, раздался богатырский храп. Трубоподобные звуки пронеслись, модулируя среди внезапно наступившей тишины (даже оратор смолк, услыхав их). В следующий момент взрыв гомерического хохота, смешавшись с неистовыми рукоплесканиями, потряс стены балагана. Храп прекратился, и перед собранием появилась сутуловатая фигура сконфуженного Иванова. На русского добряка подействовали выпитая можжевеловая водка, духота и непонятная ему речь. Последняя убаюкала Иванова, и он заснул, не будучи в силах бороться с дремотой…
Страшно сконфузившись, он не нашел ничего лучшего, как поскорее выбраться вон. Для этого ему нужно было пройти вдоль всего балагана. Василия Иванова нелегко было смутить, но на этот раз он и сам чувствовал себя в очень неловком положении. На него были устремлены сотни насмешливых взглядов. Рукоплескания и крики «браво» не смолкали. К ним присоединились и другие выражения внезапно овладевшей собранием веселости. В массе людей, наполнявшей балаган, кто пел петухом, кто мяукал по-кошачьи, кто лаял собакой, блеял козою, ревел по-ослиному. Безумная веселость овладела даже теми, кто сидел на эстраде. Председатель-гуртовщик раскатисто хохотал, держась обеими руками за живот, соседи его – двое негров, стоявших на той же эстраде в ожидании приказаний, – тоже поддавшись общему настроению, принялись танцевать какой-то своеобразный танец. Контов готов был сквозь землю провалиться. Он и себя считал виновником всего этого «скандала», как он мысленно называл все происходившее, не зная, что подобного рода сцены происходят почти на каждом митинге пылких южан. Но еще более он смутился, когда Иванов, добавшись до дверей балагана, остановился, повернулся и, комически разведя руки в обе стороны, воскликнул по-русски:
– Уж не судите, господа честные: ничего тут не поделаешь… развезло!
Чуждые звуки сразу вернули некоторую серьезность собравшимся.
– Кто он? Что он сказал? – раздались со всех сторон восклицания.
– Это не по-немецки, – кричали с одной стороны.
– И не по-французски, и не по-итальянски, – отвечали кричавшим.
– Это, быть может, по-татарски? – крикнул кто-то из особенно догадливых.
– Это по-русски! – крикнул кто-то с передней скамьи, и, к своему удивлению, Андрей Николаевич увидел, что крикнувший был так понравившийся ему молодой японец.
– Русские, здесь русские! – сливаясь в общем крике, орала толпа. – Долой русских!
Гуртовщик опять загрохотал своим револьвером по столу и только этим кое-как водворил относительную тишину.
– Джентльмены! – воскликнул он. – Угодно вам дослушать столь неожиданно прерванного оратора и постановить резолюцию?
– К черту его! – заревели в один голос все. – Он говорит так, что под его речи только спать можно! Пусть убирается! Пусть даст место другим.
– Тогда мы перейдем к другому, более важному вопросу! – объявил председатель.
Опять гром рукоплесканий покрыл это заявление, и неудачный оратор был принужден уступить свое место юркому человечку резко выраженного семитского типа. Этого оратора сменил другой – массивный англичанин с физиономией недокормленного бульдога, потом появились еще ораторы, и каждого из них толпа прерывала и провожала бессмысленно восторженным ревом, бурею криков, топаньем ног.
Андрей Николаевич слушал и то краснел, то бледнел. Странный слепой гнев закипал в его душе. Все то, что достигало его ушей, казалось ему неистовым поруганием самого священного дара природы человеку – свободного слова. Обсуждались известные печальные кишиневские события[3], но обсуждались с такой страстной предвзятостью, что Контов начал думать, не в больницу ли умалишенных он попал. Явная ложь являлась в качестве неопровержимых доказательств, фантастические извращения выдавались за вполне подтвердившиеся факты. Сыпались градом невозможные обвинения даже на таких лиц, которые по роду и месту своей деятельности никоим образом не могли быть прикосновенны к печальным событиям.
Контов слушал, кипел и, наконец, не выдержал.
– Это гнусная ложь! – крикнул он, когда с эстрады раздалось нелепейшее обвинение одного из государственных людей в подстрекательстве.
Все стихло.
– Кто сказал слово «ложь»? – возвышая голос, спросил председатель.
– Я! – звонко выкрикнул Контов, вскакивая со своего места. – Я сказал.
– Вы чужестранец? – последовал новый вопрос.
– Да, да! Я чужестранец, – захлебываясь словами, отвeчал Андрей Николаевич, – мало того, – я русский, понимаете ли, русский, я из той страны, которая нагло оклеветана здесь. Я был бы подлецом, если бы не вступился за нее, слыша те гнусности, которыми осыпали ее негодные болтуны, жалкие невежды, отчаянные глупцы, взявшиеся говорить о том, о чем они не имеют понятия.
– О-го-го! – пронеслось по балагану, но в этом восклицании слышалось только любопытство.
Однако звучавший гневом и вместе с тем неподдельной искренностью голос Контова, а может быть, и самое благородство этого заступничества, где один шел вразрез со всеми, произвели впечатление.
– Когда я стремился сюда, я думал, что иду в страну свободы, правды, в страну, где выше всего свободный разум, а вместо этого встретил только пустую болтовню без всякой примеси оживотворяющего человеческое слово ума. Как можно осмеливаться судить о том, чего не знаешь? Это дерзость, это наглость! То, что произошло в России, в Кишиневе, подлежит суду. Он разберет правых и виноватых, и не вам судить это дело. Вы негодуете, что в Кишиневе неистовствовала чернь, жалкие подонки общества, а молчите о том, что сами вы вешаете, сжигаете живыми людей только за то, что у них кожа не такая, как у вас. Ваши лучшие граждане собираются любоваться на линчевание вами негров, ваши женщины поджигают облитые нефтью лохмотья на несчастных, и вы рукоплещете этим мегерам. Вы с фарисейским лицемерием объявили чернокожих равноправными с собой, но смотрите на них, как скверных животных. Да одни ли негры лежат на вашей душе? Вы осмелились обвинить в преступлении жалкого отребья весь великий почти полуторастамиллионный народ, а давно ли у вас были массовые избиения китайцев? Что? Вы испугались их конкуренции, вы оказались бессильны в трудовой борьбе с ними и прибегали к отвратительным насилиям… А истребление вами, пришельцами, коренных обитателей этого материка? Вы охотились за ними, как за дикими зверями, избивали женщин, детей. Здесь осмеливались приводить из истории примеры мнимого порабощения Россией разложившихся государственных организмов, осужденных самою судьбою на гибель, но ведь, помимо других соображенией, это было давно, когда переустраивалась Европа, когда весь этот материк был колонией жадной Великобритании, вы поднимаете старину и взываете ко всему цивилизованному миру о возвращении свободы мнимопорабощенным, а сами вы рукоплескали английским победам в Южной Африке – победам над народом, никогда не находившимся в таком положении, в каком находилась до 1783 года Америка. Знаете, русский баснописец сказал – передам его слова так, чтобы вы могли их понять: вместо того, чтобы судить других, лучше всего пересчитать свои преступления. Вот вы так и поступайте, а России моей не троньте до тех пор, пока не узнаете ее; разным брехунам, наговаривающим вам нелепицы, не верьте, и тогда я про вас, пожалуй, скажу, что вы умный народ…
Контов вдруг оборвал свою речь и смолк, оставшись стоять перед этой заметно озлобленной толпой.
Около минуты царило молчание, но потом вдруг, как взрыв мины, пронеслось:
– Вон русского! Вон… Убейте его! Как он смеет наносить оскорбления?!
Все повскакали со своих мест. Андрей Николаевич, бледный, как полотно, стоял, скрестив на груди руки, готовый ко всему.
– Повесить его! Убить, как бешеную собаку! – раздавалось со всех сторон.
В толпе засверкали ножи. Как раз в это мгновение щелкнул револьверный выстрел. Это председатель, не видя возможности одним только стуком по столу привлечь к себе внимание всего этого обезумевшего человеческого стада, выстрелил в воздух.
Такое средство подействовало, гвалт и угрозы несколько стихли.
– Джентльмены! – выкрикнул, воспользовавшись затишьем, гуртовщик. – Я вполне понимаю ваше негодование, но все-таки считаю своею обязанностью сказать вам, что молодой чужестранец поступил так, как должен был поступить, как поступил бы я на его месте, как поступил бы и каждый из вас. Он заступился за свое отечество, о котором здесь было сказано много нелестного.
– Ты прав, друг! – выступил вперед здоровенный скваттер. – Молодой чужестранец поступил благородно, и, кто вздумает коснуться его, тот будет прежде иметь дело со мной.
– И я то же думаю! – крикнули один за другим оба золотоискателя из Клондайка, спрыгивая с эстрады и становясь около Контова.
– Благодарю вас, джентльмены, – с чувством произнес последний, протягивая им руки. – Мне несказанно дорого ваше доброе сочувствие.
– Что касается меня, – прокричал гуртовщик, – то я беру его под свою защиту, здесь мои молодцы, и я надеюсь, они разделяют мои убеждения.
Несколько рослых широкоплечих пастухов выделились из общей массы.
Все вместе – скваттеры, золотоискатели и пастухи – представляли собой внушительную силу, и один вид их сразу отрезвляюще подействовал на остальных.
– Пусть он уходит! – раздался одинокий голос.
– И пусть другой раз не появляется там, где он не может быть солидарен с большинством.
– Друг, пойдем, – взял Контова за руку скваттер, – тебе здесь более нечего делать.
Андрей Николаевич и сам сознал, что должен уйти.
– Благодарю вас, джентльмены, – проговорил он, – я уйду с лучшим мнением об американцах, чем был еще так недавно. Прошу извинить меня, если я обидел вас…
– Идем! – уже почти строго проговорил скваттер.
Они тронулись к выходу; в балагане теперь стояло гробовое молчание. Сотни пар глаз следили за русским, но ни одного слова не раздалось, пока он не вышел за двери.
Следом за Контовым и скваттером вышла и японская молодежь.
– Друг, – произнес скваттер, останавливаясь уже в некотором отдалении от балагана, – позволь мне дать тебе, чужестранцу, один совет.
– Пожалуйста… Я буду обязан вам! – смутился не столько от слов, сколько от тона, которым они были произнесены, Андрей Николаевич.
– Жизнь хороша, а ты так молод, – продолжал скваттер, – посмотри, как ярко светит солнце, как сияет далекое небо!» Всемогущий Творец создал человека, чтобы он жил и наслаждался творениями его духа… Если ты хочешь жить, если тебе не угодно лежать в земле, поспеши убраться из Фриско…
– Разве мне грозит смерть? – спросил Контов.
– Я не скажу тебе этого, друг, но на митинге были молодцы, которым удар ножом из-за угла доставит только удовольствие. Поспеши! Ты только выиграешь, если последуешь моему совету. Впрочем, как тебе угодно.
– Я уезжаю завтра в Японию, – пожал плечами Андрей Николаевич.
– Тогда у тебя уже приобретены билеты на пакетбот и ты можешь взойти на него немедленно. Я думаю, что ты здесь проездом, а на пакетботе тебе не страшна никакая месть оскорбленных людей.
– Вы сами, однако, признали, что я был прав!
– Я этого не говорил, друг; я сказал только, что ты поступил хорошо, а это еще не значит, чтобы я говорил, что ты прав. Прощай, друг! Вон идет твой товарищ, – указал он на подходившего вместе с Куманджеро Иванова, – это ничего, что он заснул. Но я вижу, что с тобой также хотят говорить молодые чужестранцы… Прощай и будь счастлив!
Скваттер пожал Контову руку и медленной, тяжелой походкой пошел к балагану. Отойдя несколько шагов, он обернулся, поднял правую руку кверху и крикнул:
– Уезжай, перейди сегодня же на пакетбот!
Контов пропустил это восклицание мимо ушей. Куманджеро и Иванов были еще порядочно далеко, но к нему большими шагами подходил так понравившийся ему юноша-японец. Он приветливо улыбался, и Контов понял, что эти улыбки относятся к нему.
10. Новое знакомство
Контов сам с улыбкой смотрел на приближавшегося к нему юношу, и при каждом взгляде на него симпатия в душе русского все росла и росла.
– Вы поступили вполне великодушно! – подойдя к Андрею Николаевичу, сказал молодой японец. – И я рад пожать вам руку… Вы поступили, как должен был поступить каждый честный и уважающий себя человек.
С этими словами он протянул Андрею Николаевичу почти белую, лишь с легчайшим желтоватым отливом руку. Его товарищи стояли в некотором отдалении и с любопытством следили за ним во все время разговора его с русским.
– Я ненавижу Россию всеми силами моей души, – продолжал японец, – когда начнется война, я буду в числе первых явившихся в отобранные вашим народом у Китая и Японии земли, но эта ненависть не мешает мне относиться справедливо к тому, что я вижу…
– Благодарю вас, и благодарю главным образом за вашу откровенность! – с чувством ответил, пожимая руку молодого японца, Контов. – Честный, открытый враг всегда достоин всякого уважения… Я уверен, что ваша ненависть имеет свои причины.
– Да, – коротко проговорил юноша и добавил: – Я Александр Тадзимано, младший лейтенант флота его величества императора Японии. Вы чем-то удивлены?
– Вы сказали «Александр»?..
– Да… Вы этим удивлены? Тогда я вам скажу, что моего старшего брата зовут Петр, сестру, которая младше меня, – Елена, а нашего отца – Николай.
– Но ведь это же не японские имена и в вашем произношении они звучат совсем как русские…
Юноша улыбнулся и довольно небрежно заметил:
– Если бы вы были в Японии, вы не удивлялись бы этому…
– Как раз отсюда, и даже не далее как завтра, я отправляюсь на ваши острова.
– К нам? Жалею, что нам не придется ехать вместе… Впрочем, если вы проживете подольше у нас, то или я по возвращении постараюсь отыскать вас, или вы сами посетите мое семейство… Мы живем в Токио, имя мое вам теперь известно.
Контов понял намек и поспешил назвать себя.
– Будем знакомы, – еще раз пожал ему руку Тадзимано, – я сказал, что ненавижу Россию, но это не мешает мне, повторяю, любить в отдельности достойных уважения людей, кто бы они ни были… Если вы завтра отправляетесь в Нагасаки с очередным пакетботом, то встретитесь там с моим соотечественником, майором Тадео Хирозе; он долго жил в России, и у вас в изобилии найдутся темы для бесед… Это сократит вам время скучного плавания… Теперь мы должны расстаться, я должен спешить к моему адмиралу!.. Мой адмирал Хейкагиро Того строг и взыскателен и щадить своих подчиненных не любит. Итак, до свидания в Токио!
Тадзимано еще раз пожал руку Андрею Николаевичу и отошел к своим товарищам.
«Милый, симпатичный юноша! – повторял про себя Контов, с восторгом глядя вслед отходившему японцу. – Сколько в нем привлекательного! Непременно проеду в Токио и познакомлюсь с его семьей… Интересно посмотреть на его родителей»…
Его размышления были прерваны подошедшими Куманджеро и Ивановым.
– Что же вы здесь стоите? – выкрикивал первый еще издали. – Пойдемте, пойдемте…
– Куда? – равнодушным взглядом скользнул по его фигуре Контов.
– Все равно куда, только подальше отсюда… Митинг, должно быть, скоро кончится.
– Пойдемте, – пожал плечами молодой русский, – мне все равно…
– Я говорю вам, потому что слышал, что случилось… Право, я друг вам…
– Благодарю вас!
– И я не желаю, чтобы с вами что-нибудь случилось…
– Вы уже говорили о причинах вашей заботливости… Что, Василий Иванович, присмирел? – обратился Контов к Иванову. – Так тебе и надо! Напился, как стелька…
– Что же? Ругайте меня! – забурчал Иванов. – Только вспомните, я ведь заснул только, а вы сами-то эвона какой дебош устроили… Самого честью к выходу попросили, а он с прекенциями…
Во время этого разговора они уже порядочно отошли от балагана, где происходил митинг, и теперь шли по безлюдным окраинным улицам Сан-Франциско.
– Я жалею, что не попал на митинг, – говорил Куманджеро, – но то, что я слышал, в достаточной мере раскрывает мне все происшедшее.
– Но каково же ваше мнение? – спросил Контов.
– Такое, что вам нужно как можно скорее перебраться на пакетбот… Здесь вы не будете в безопасности. Есть много горячих голов, за которых нельзя поручиться.
– Я все это слышал…
– Тем лучше для вас: вы предупреждены и знаете, что может грозить.
– В самом деле, – как-то не то виновато, не то просительно произнес Иванов, – уберемся-ка мы с вами, Андрей Николаевич, из сих мест подобру-поздорову.
Контов засмеялся.
– И ты труса празднуешь! – сказал он.
– Труса не труса, а береженого Бог бережет, – запротестовал Иванов, – и, ежели дельно говорят, отчего не слушать.
– Вы, кажется, познакомились с одним из моих соотечественников, – перебил его Куманджеро, обращаясь к Андрею Николаевичу.
– Да, – поспешил ответить тот, – этот милый юноша подошел ко мне и заговорил… Вы знаете его?
– Нет, то есть немного… Это военно-морская комиссия, с адмиралом Хейкагиро Того во главе. Вам ничего не говорит это имя?
– Нет. Но, судя по вашему вопросу, это какой-нибудь ваш народный герой?..
– Того отличился в войне с Китаем… когда он командовал крейсером «Нинива». Помните тысяча восемьсот девяносто четвертый год? Об адмирале отзываются с похвалой и называют одним из способнейших вождей-моряков. Он явился сюда, в Америку, для приемки вновь построенных на верфях – не помню каких – судов… Моя страна весьма заботится о своем флоте. Флот – ее гордость…
– Так и подобает островитянам… Англия тоже если и сильна, то только одним своим флотом! – рассеянно заметил Контов. – А кто этот молодой Тадзимано?
– Его зовут Тадзимано? – представился удивленным Куманджеро. – О, тогда я не понимаю его поведения.
– В каком смысле?
– Видите ли, эта семья вся – страшные русофобы. Старик Тадзимано и его дети – все христиане, и даже, я сейчас удивлю вас, они христиане вашего, русского толкования этой религии!
– Православные? – удивленно воскликнул Контов.
– Да… Кажется, русские так называют себя в религиозном отношении.
– И Тадзимано ненавидят Россию?
– Вероятно, на это у них – по крайней мере у главы семьи – есть свои причины…
– Это странно! – задумчиво произнес Контов. – Я, право, познакомлюсь с этим семейством.
Куманджеро ничего не ответил и, обратившись с легким смехом к Иванову, сказал:
– Ну, что же, мой друг, как мы проводим наш вечер сегодня?
– Я-то не прочь, да вот как Андрей Николаевич? – потупясь, ответил тот.
– Это вы куда же собираетесь? – спросил Контов, заинтересованный самою таинственностью этих переговоров.
Они были уже почти у той гостиницы, где нашли себе приют по приезде в Сан-Франциско и где завтракали в это утро с японцем.
Андрею Николаевичу пришлось повторить свой вопрос. Иванов смущенно молчал, Куманджеро слегка улыбался и тоже не говорил ни слова.
– Ну, что же, господа, или это ваш секрет и вы его собираетесь хранить в строжайшей тайне? – спросил, сам улыбаясь, Контов.
– Да нет! Какой там секрет! – возразил Василий Иванович. – А ведь мил человек, – указал он на японца, – говорит, что здесь счастье попытать можно…
– Счастье? Каким это образом?
– А таким, что либо пан, либо пропал!
– Это еще что значит? Брось, Вася, загадки и говори прямо. Что такое вы задумали?
– Да я не знаю, как это по-здешнему называется… У нас в Питере в вертушку играли, чет-нечет, орла и решку, мне всегда дюже везло… Бывало, скажешь: «решка», никогда орел не выйдет…
– Ага, теперь я понимаю, – сообразил, в чем дело, Контов, – ты задумал отправиться в игорный дом, здесь их, говорят, очень много.
– И могу засвидетельствовать, что игра идет вполне честно, – вступился Куманджеро. – Да иначе и быть не может… С тем, кого заметят в нечестной игре, расправа коротка: револьвер или нож быстро научат честности любого негодяя… Расчеты тоже правильны… За этим всегда следят десятки глаз… Поэтому ваш товарищ может рискнуть без опасения проигрыша наверное.
Контов подозрительно поглядел на японца.
«Уж не подманиваешь ли ты моего Васятку? – подумал он. – Да нет! Васька – добыча незавидная… Что мы за знатные иностранцы? Этот желтый проныра прежде всего должен бы осведомиться о состоянии наших карманов, а там нельзя сказать, чтобы была особенная густота»…
Он опять испытующе устремил взор на Куманджеро. Тот безмятежно улыбался, не переставая болтать с Ивановым.
– Играют в кости, – говорил он, – это очень старинная игра… ее в особенности любят моряки. Потом играют, конечно, в карты…
– А знаете что? – перебил его Контов. – Пойду-ка и я с вами!
– Вы? – скользнул по нему взглядом Куманджеро.
– А что же? Вася уйдет, сидеть одному, право, скучно. Все интереснее провести вечер на людях…
Куманджеро пожал плечами.
– Я предпочел бы, чтобы вы провели этот вечер на пакетботе, – заметил он.
– Ну, – беззаботно засмеялся Контов, – это вы опять за прежние советы! А я вам скажу, что у нас, русских, есть пословица: «Двум смертям не бывать, одной не миновать». К тому же я немножко фаталист и потому не боюсь таких случайностей.
– Вот вы все, русские, такие! – в тон ему засмеялся японец.
– Какие такие?
– Малоблагоразумные, беспечные… Вы львы в минуты наступившей опасности и дети, когда она подходит.
– Уж какие есть, такие есть! – ответил, смеясь, Контов.
– Я достаточно приглядывался к вам! Сколько раз я видел, что вы – конечно, в смысле русского народа – могли бы легко избежать бед, если бы только дали себе труд подзаняться ими, когда они еще в зародыше, а вы нет! Когда раздастся удар грома, вы только тогда об опасности от молнии думать начинаете, не замечая, что гроза уже бушует вокруг…
– Андрей Николаевич, слышите? – воскликнул Иванов. – Это он по-своему нашу любимую русскую пословицу докладывает.
– Слышу, слышу! – отозвался Контов. – Что же? Господин Куманджеро, пожалуй, и прав… Есть у нас это…
– Не только есть, а хоть отбавляй, – вдруг воскликнул развеселившийся Иванов, а затем повернулся к японцу и фамильярно похлопал его по спине, приговаривая: – А и шельма же ты, Куманджерка! Ишь, как ловко ты по-нашенски насобачился… Веди нас за это туда, где в кости играют! Рискую на все медные, и никаких больше!
Японец, очевидно, ничего не имел против такого способа выражения мыслей. Он заулыбался еще более и в знак своего согласия протянул Иванову свою желтую руку.
11. На борту «Наторигавы»
Времени было много – Куманджеро посоветовал идти в игорный дом попозже, так как крупнейшие и наиазартные игроки собирались только к вечеру, даже ночью.
Поговорив между собой, оба русских решили перевезти свои вещи на почтовый пароход и вечером явиться прямо на него, так как пароход отходил с рассветом и уже поэтому им не стоило оставаться в гостинице.
– Что, Вася, ведь не мы одни столь практичны! – сказал Контов, когда они очутились на пароходе, сдали там свои вещи, заняли место в каюте, устроенной на четверых пассажиров, и заявили капитану, что явятся непременно к отходу. – Взглянь-ка, дружище!
– И то гляжу, Андрей Николаевич… Все макака на макаке! – поспешил отозваться Иванов, оглядываясь во все стороны.
Пароход принадлежал японской компании и носил имя «Наторигава». Он был порядочно грязноват и скорее казался грузовым транспортом, чем пакетботом. Капитан был типичный японец, его штурман также; матросы и прислуга тоже были японцы. В кают-компании было неуютно – слишком резко кидалась в глаза неумелая подделка под европейский комфорт, столь обычный не только на европейских, но даже и на американских трансокеанских пароходах. Все-таки было довольно чисто, и путешественники, направлявшиеся в порты Японского и Желтого морей, пожалуй, ни на что лучшее и претендовать не могли бы.
Одно представлялось удивительным.
«Наторигава» был пассажирский, даже почтовый пароход, а между тем всюду на нем были видны приспособления к боевым действиям. Пушек не было, но замаскированные порты[4] для них были; были заметны даже намеки на защитные башни; экипаж пакетбота прямо-таки поражал своей военно-молодцеватой выправкой.
Молодые русские были поражены этим воинственным видом обыкновенного коммерческого парохода, но они вспомнили, что Япония, эта Страна восходящего солнца, после своей китайской войны 1894 года и в особенности после общеевропейского похода на Пекин в 1900 году усугубила у себя военную организацию и даже ничтожные мелочи переделала на военный лад. Воинственный вид парохода они, по крайней мере Контов, приписали именно этому стремлению японского правительства усугубить свой милитаризм и скоро забыли и думать о той обстановке, в которой им приходилось совершать свое путешествие.
– Ну-с, мы теперь здесь покончили, – объявил после осмотра парохода Контов, – пойдем теперь, Вася, куда нас влечет судьба!..
– Уж и сказали: судьба! Экое ведь слово-то, надобно, чтобы мы в пух и прах продуваться пошли.
– Эге! Никак на попятный?
– Вовсе нет. А вы смотрите-ка, этот давишний японский мальчишка здесь…
В самом деле, в группе японцев, очевидно, пассажиров, тоже заблаговременно перебравшихся на борт пакетбота, стоял Александр Тадзимано и делал приветственные и призывные знаки Андрею Николаевичу.
Контов, ласково улыбаясь, поспешил подойти к симпатичному юноше.
– Вот познакомьтесь, господа, – заговорил с юношеской торопливостью Тадзимано, – это Контов, русский турист, он намеревается посетить наши острова, а это, господин Контов, мои друзья: Чезо Юкоки и Тейоки Оки, писатель и военный. Сожалею, что нет здесь Хирозе – он остался на берегу с адмиралом, – но не сомневаюсь, что в самом непродолжительном времени вы перезнакомитесь и передружитесь… Хирозе вам будет особенно интересным собеседником. Он долго жил в Петербурге, говорят, что он даже командовал там русскими солдатами, последнее не утверждаю, но знаю, что у него был там роман… несчастный роман… Увы нам, желтолицым!.. Нас могут любить белые девушки, но их отцы всегда против нас, а отец возлюбленной Хирозе, как он сам говорил, был большой русский адмирал…
– Жалею вашего друга, – заметил Контов, – сочувствую ему.
В голосе его дрогнули нотки тяжелого горя. Тадзимано пристально посмотрел на него и произнес:
– Ну, не будем говорить о романах… Вот мои друзья, вы с ними также нескучно проведете время, но предупреждаю, что они большие спорщики… Они не любят вашего отечества и мечтают только о том, когда Японии и России придется сойтись на поле брани.
– Ну, это еще не скоро будет! – засмеялся Андрей Николаевич.
– Кто знает! – загадочно ответил ему Тадзимано и, обращаясь к прежней теме, добавил: – Итак, вы предупреждены – если услышите от моих друзей что-нибудь резкое, не гневайтесь и смотрите на все с точки зрения принципа.
– Хорошо! – согласился, любуясь юношей, Контов. – Я буду помнить, что ваши друзья – русофобы.
– Здесь нет русофобов, – перебил его молчавший дотоле Юкоки, взглядывая исподлобья, – среди японского народа нет ни одного русофоба…
– А есть только патриоты! – докончил его фразу Оки.
– Не буду с вами спорить, господа, – поспешил ответить обоим японцам Контов, – но я надеюсь, что во время пути вы не откажетесь просветить меня относительно истинного значения этих двух слов…
– Мы к вашим услугам! – полупоклонился Юкоки.
– А теперь позвольте спросить вас, дорогой господин Тадзимано, – обратился к молодому японцу Андрей Николаевич, – не можете ли вы сообщить мне какие-нибудь сведения о вашем соотечественнике, некоем Куманджеро?..
– Куманджеро? – протянул с видимым замешательством Тадзимано.
– Аррао Куманджеро из Кобе? – вопросительно произнес Оки.
– Из Кобе, из Осаки, из Киото – право, не помню! – воскликнул Контов. – Но из вашего вопроса вижу, что эта личность не совсем безызвестная… Скажите, он действительно негоциант, арматор?
Японцы переглянулись друг с другом.
– Да, да! – поспешно ответил за всех Оки. – Куманджеро – негоциант и арматор… У него дела в Маньчжурии…
– В особенности в Порт-Артуре и Владивостоке! – подтвердил со своей стороны Оки и с внезапным порывом воскликнул: – О! В Порт-Артуре у него очень большое и полезное для Ниппона дело!
Андрей Николаевич с удивлением посмотрел на японца, недоумевая, что может значить его порыв.
– Теперь я нисколько не сомневаюсь, – произнес он, – что этот господин, с которым я имел честь случайно познакомиться, не только небезызвестен, но даже, напротив того, пользуется большою известностью…
– О да, очень популярен! – подтвердил Оки и, сухо поклонившись, отошел в сторону.
Чезо Юкоки последовал за ним.
– Не рассердились ли ваши друзья на меня? – спросил Контов у оставшегося около него Тадзимано.
– Нет, за что же? – улыбнулся тот. – Оба они – славные люди… Один – военный, другой – талантливый писатель, хотя в то же время он и… военный тоже.
– Удивительное сочетание! – засмеялся Андрей Николаевич. – Перо и меч в одной и той же руке…
– Они оба – великие патриоты! – убежденно и торжественно ответил юноша. – Когда придет время умереть за отечество, они умрут, не дрогнув, счастливые и радостные… Так умрет каждый из нас, – докончил он, но в голосе его теперь слышался оттенок тихой грусти.
Контову хотелось говорить без конца с этим симпатичным ему юношей, но Тадзимано вдруг заторопился, распрощался со своим новым знакомым и легкою походкою спустился в подпалубную каюту.
К Контову сейчас же подошел Иванов.
– Соскучился, друже? – спросил его Андрей Николаевич.
– Нет, какое соскучился! – отвечал тот, зачем-то надувая щеки. – Здесь не соскучишься! Есть с кем по душам поговорить…
– С кем это? – удивился Андрей Николаевич.
– А матросики-то? Славные ребята… Это ничего, что у них рыло желтой краской, под лимон отполировано.
– Да ведь это японцы!.. Как же это ты ухитрился с ними по душам-то разговаривать? Ведь они по-нашему ни в зуб!
– Какое ни в зуб! Есть два или три мастака, что по-нашему, по-рассейски, так и жарят… Право! И где они так насобачиться только могли? Спрашиваю – не говорят… Гогочут, а не говорят…
Андрей Николаевич покачал головой.
«А наши-то, наши! – с тоскливым чувством подумал он. – И по-своему правильно говорить не умеют… свою речь осмыслить не в состоянии»…
– Что же, Андрей Николаевич, – перебил его Иванов, – идти, так идем… Небось Куманджерка заждался…
– Фу, как ты его! – поморщился Контов. – Куманджерка! Все равно, как собачонку какую…
– А он ласковый господин, не обижается… Вот поступлю к нему на службу, так по имени-отчеству величать буду или там как еще… а теперь, брат, ау: вольный еще казак, как хочу, так и величаю.
– Ты уже и на службу к нему думаешь?
– Вместе с вами!.. – несколько запнулся Иванов.
– Со мной?
– А то как же? На то мы оба два – разлучать негоже!
Андрей Николаевич знал способность своего друга ко всевозможным фантазиям и пропустил мимо ушей его слова. Зато Иванов как-то особенно посмотрел на него и даже нашел нужным зачем-то подмигнуть ему.
– Идемте же! – потянул он после этого за рукав Андрея Николаевича.
Вечер наступил быстро, как и всегда под этими широтами. Свет гас, как будто кто-то где-то торопливо тушил огромный фонарь, доселе освещавший и беспредельный океан, и этот красавец-город, приютившийся около его неизмеримой глади, и громады гор, казавшихся теперь, в наступающей тьме, гигантами, сторожившими засыпавшую землю от ее яростного врага-океана.
Оба русских в молчании перебрались на берег.
Куманджеро поджидал уже их.
– Идемте, господа, идемте! – восклицал он. – Однако вас долго задержали на борту «Наторигавы».
– Я заговорился с вашим соотечественником, – ответил Контов.
– С лейтенантом Тадзимано?..
– Да, он был там, потом были еще господа Юкоки и Оки…
– Ага! Знаю, майор Чезо Юкоки и поручик Тейоки Оки… Они?
– Да!
– Это все пламенные патриоты! – заметил Куманджеро. – Но не советую с ними близко сходиться…
– Отчего? Они отнеслись к нам очень хорошо!
Японец засмеялся, но не ответил ни слова и только повторил свое предложение:
– Идемте же, господа!..
12. В игорном доме
Куманджеро повел своих русских знакомцев по таким улицам, переулкам и проулкам, что Андрей Николаевич, приглядывавшийся к дороге, вряд ли смог бы вернуться один обратно.
Он не боялся и шел смело. Приключение на митинге как-то улетучилось из его памяти. Угрозы и предостережения вроде тех, какие ему пришлось услышать от старого скваттера, потом от Тадзимано, как-то не останавливали на себе его внимания. Он был уверен, что находится в стране культурной, в стране, где основанием всего являются право и правда, где никакие произвол и насилие немыслимы, и потому шел беззаботно, насвистывая сквозь зубы какой-то мотив.
Иванов не менее беззаботно болтал с японцем, и в темноте то и дело были слышны вспышки его грубоватого смеха.
Чем дальше они шли по темным излучистым переулкам, тем больше появлялось людей, направлявшихся по одному с ними направлению. Были всадники, велосипедисты, промчалось несколько моторов; пешеходов было сравнительно немного.
– Что это, все туда? – спросил Андрей Николаевич у Куманджеро.
– Вы угадали! – кивнул тот головой. – Все, кому не хочется спать, у кого бряцает золото в кармане и кто желает попытать счастья, приходят сюда.
– И много здесь таких учреждений? – полюбопытствовал русский.
– Много! – односложно протянул Куманджеро.
Они в это время уже подходили к ярко освещенному зданию, сквозь окна которого виднелись силуэты множества человеческих фигур.
– Игра еще не в разгаре, – заметил японец, – мы пришли рано…
– Зато и уйдем пораньше! – отвечал Андрей Николаевич и, обращаясь к Иванову, спросил: – Что, Вася, не трусишь?
– Я-то? Да чего мне: я, слава те господи, пудовой гирей крещусь, – ответил тот, – это вам потрухивать следует.
– Мне-то чего?
– Да накостылять могут… за давишнее.
– Авось гроза мимо пройдет! – засмеялся Андрей Николаевич и зажмурился.
Они уже входили в зал, и переход от ночного мрака к ослепительно-яркому электрическому свету ослепляюще действовал на глаза.
Когда Контов разомкнул веки, перед ним открылась картина, которую доселе он видел лишь в музеях на полотнах знаменитых мастеров.
Огромный зал до тесноты был переполнен всевозможного вида людьми. Здесь рядом с лохмотьями были видны безукоризненные европейские костюмы. Белые, мулаты, метисы, желтокожие – японцы и китайцы-матросы, золотоискатели, гуртовщики, охотники, англичане, американцы-северяне и южане-французы, немцы, итальянцы, датчане, шведы, норвежцы – все толпились, говорили зараз вместе, не слушая друг друга, кричали, бранились, смеялись, клялись, грозили – словом, в этом зале, оказавшемся тесным для той толпы, какая набралась сюда, царил невозможный хаос звуков, еще больший, чем стоял в балагане во время митинга. Особенно тесно было около столов, где шла игра. Таких столов было несколько. За одними щелкал шарик рулетки, за другими кидали из большого оловянного бокала кости. Играющих в карты было меньшинство. Около банкометов, отливая благородным блеском, лежали груды золотых монет. На всех лицах был написан азарт, владеющий всеми, даже теми, кто не играл сам, а только любовался игрою. Золото так и звенело всюду, прорываясь сквозь невообразимый гул голосов. Грудки его так и двигались, переходя то от партнеров к банкомету, то обратно. По временам раздавались громкие восклицания и слышался взрыв рукоплесканий. Это случалось тогда, когда партнер срывал с банка особенно крупную ставку. На счастливчика устремлялись сотни завистливых взглядов. Его имя с чувством и уважения и зависти повторялось на разные лады во всех уголках зала. Зато несчастного игрока преследовали оглушительный хохот, насмешки. Бедняка никто не жалел, и каждый более крупный проигрыш приводил весь зал в самое веселое настроение.
Атмосфера стояла невыносимо удушливая, насквозь насыщенная запахом пота, табачного дыма, можжевеловой водки. Контов не пробыл и пяти минут здесь, как уже почувствовал головокружение. Глаза его начал застилать какой-то странный туман. И атмосфера, и гул, и звон золота пьянили его. Андрей Николаевич взглянул на Иванова. Тот был бледен и поглядывал вокруг себя широко раскрытыми, выражавшими удивление глазами. Несмотря на всю свою непосредственность, апломб и смелость, парень казался растерянным, уничтоженным. Он, как ребенок, ухватился за руку Андрея Николаевича и так и ходил, не выпуская ее.
– Деньжищ-то, деньжищ-то какая уйма! – лепетал он. – Да ежели бы нам полстолька – вот бы закутили-то!
Контов даже и не ответил ему, весь погрузившись в созерцание новой для него картины.
Вдруг кто-то грубо толкнул его.
Андрей Николаевич живо опомнился, весь словно встряхнулся и огляделся вокруг.
Прямо перед ним стоял высокий, красивый молодой человек, южанин, судя по мелким, но выразительным, энергичным чертам лица. В этом человеке, вызывающе смотревшем на него, Андрей Николаевич сразу узнал одного из тех крикунов, которые особенно неистово бесновались на митинге, когда он дал отпор сыпавшимся на его родину несправедливостям. Не говоря ни слова, Контов остановился и спокойно устремил глаза на калифорнийца, ожидая, чтобы тот начал говорить первый.
Калифорниец не выдержал спокойного, пристального взора.
– Вам, вероятно, что-нибудь от меня нужно, – спросил он, – или вы принимаете меня за кого-нибудь из своих друзей?
– Нет, у меня нет таких друзей, которые забывают правила вежливости и не извиняются, задев незнакомого человека, – спокойно ответил Андрей Николаевич.
Калифорниец весь так и вспыхнул.
– Вы не собрались ли меня учить? – вскричал он и, расхохотавшись, прибавил: – Теперь я узнаю вас: вы тот русский, который сорвал сегодня митинг.
– Что было с митингом после меня – не знаю, – выдерживая тон, ответил русский, – но что вы были здесь невежливы в отношении меня, это – да!
– Оставь русского, Джо, – подбежал к калифорнийцу другой такой же, как и он, молодой человек, – успеешь рассчитаться с ним и после. Спеши, а то твое место будет занято.
Грубиян прокричал какое-то ругательство, погрозил в сторону Контова кулаком и кинулся вслед за своим приятелем. Контов закусил губу, пожал плечами и пошел далее.
– Это он что же вам говорил, ферт-то этот? – спросил Иванов.
– Так, пустяки! – ответил ему Андрей Николаевич. – А где этот твой Куманджеро?
– Кулаком еще вздумал грозиться! Дать бы ему хорошего раза! – заворчал пришедший в себя Иванов. – А Куманджеро где? Да кто его знает… Отстал, как только мы пришли… Андрей Николаевич, взгляните-ка!
– Куда? Что еще?
– Да вы поглядите только! – Иванов весь так и кипел. – Ведь самая что ни на есть родная! Уж извините, я не смогу стерпеть!
Он выпустил руку Контова и, вприпрыжку подбежав к небольшому столу, около которого стояла реденькая кучка игроков, громко, чуть ли не на весь зал заорал:
– На орла – доллар ставлю!
Контов тоже поспешил подойти и, к величайшему своему удивлению, увидел, что за этим столом играют в самую простейшую русскую орлянку.
Банкомет был типичный еврей с хитрым лисьим выражением лица. Игроки кругом были тоже не такие, как за другими столами. В большинстве лиц или ясно был выражен, или только чувствовался славянский тип. Когда Андрей Николаевич прислушался к раздававшемуся здесь говору, то сообразил, что эти люди были поляки, белорусы, литовцы, переброшенные злодейкой-судьбой через океан.
Все они были не столько увлечены самой игрой, сколько возможностью собраться вместе, поговорить на родном языке. Игра велась слабо, без оживления, и внезапное появление Иванова внесло в нее оживляющую струю.
– Доллар! – радостно и по-русски воскликнул банкомет. – Отчего же не два? Отчего не три, не пять? На доллар скучно играть, банку нет никакой от этого выгоды.
– Ладно, ладно, открывай знай! – нетерпеливо крикнул Иванов. – Сказано – на орла!
Банкомет потряс в руке три монеты и швырнул их на стол. Вышли «орлы», то есть монеты легли стороною, противоположной той, где была обозначена их стоимость, и Иванов выиграл.
– На квиты – решка! – повторил он и опять выиграл.
Банкомет, очевидно, знавший русские термины и приемы игры, схватил из небольшой грудки монет столько, сколько могло поместиться их под ладонью, и, выдвинув вперед, крикнул:
– Под рукой!
– Идет, орлы! – закричал начинавший приходить в азарт Иванов.
Ладонь приподнялась, «орлов» под нею оказалось больше, и Иванов потащил к себе все монеты, громко объявляя:
– Вот как у нас по-заводски-то!
– А вы давно из России? – спросил банкомет.
– Я-то?
– Кажется, вы, если я вас спрашиваю!
– А как приехал, так с тех самых пор… решки!
Иванову положительно везло: он выиграл опять.
– Чет – нечет? – отделил банкомет большую часть оставшихся монет.
– Нечет! – последовал ответ, и опять счастье не изменило Василию Ивановичу: монет оказалось нечетное число, и весь куш перешел к нему.
– Да с вами играть нельзя! – заговорил, стараясь шутить, еврей. – Уж нет ли у вас веревки от удавленника?
– Толкуй ты там, «веревки»! А вот не хочешь ли по банку?
– Идет! Что? – кинул монеты банкомет.
– Решки!
– Сорван, банк сорван! – раздался кругом шепот.
– Ну и играете! – воскликнул банкомет. – Вы русский?
– А то нет, что ли?
– Эмигрант?
– Нет, заводской… Я, брат, у себя за Невской рубль семь гривен в пустые дни зарабатывал… А что?
– Так я знаю, у вас есть пословица о том, кому везет счастье.
– Ладно! Говори там! Этим, брат, меня не проймешь! Слыхали! Продулся, да еще сердится. Андрей Николаевич! Где вы там запропастились-то?.. С выигрыша выпить бы надо…
Контова не было. Иванов, увлеченный игрой, не видел, как Андрей Николаевич отошел прочь. Пока он распихивал по карманам свой выигрыш, внимание его было привлечено страшным шумом, раздававшимся в другом конце зала.
«Никак дерутся? – промелькнула у парня мысль. – Пойти посмотреть, смерть люблю такие общеполезные развлечения!»
Он не торопясь двинулся в тот край, где происходила свалка.
– Василий, Вася! Ко мне! – услыхал он хорошо знакомый ему голос Андрея Николаевича.
– Что? Андрюша страдает? – приостановился он, тревожно вглядываясь в толпу.
– Долой русских! – ревели кругом десятки голосов. – Вон их, вон! Убейте их!
К Иванову, уже очутившемуся около самой свалки, кинулся было, вертя перед собой по всем правилам бокса кулаками, какой-то быкообразный американец, но в тот же момент тяжело грохнулся на пол, сбитый с ног страшным ударом русского кулака.
В это мгновение потухло электричество и кромешная темнота покрыла собою всю эту безобразную сцену. Но это не успокоило разыгравшихся страстей. Послышались выстрелы, раздались стоны, звон рассыпанных монет, и опять все звуки смешались в один невообразимый хаос.
Кто мог, кто успевал, спешил выбраться из зала. На воздухе было несколько светлее и тьма казалась не столь непроглядною.
Свалка внутри здания еще продолжалась, когда в некотором отдалении от него показались четыре человека, осторожно несшие пятого. Впереди их поджидал еще один, сейчас же остановивший их.
– Удалось? – спросил по-английски.
– Дело сделано! – ответил ближний. – Вы, мистер Куманджеро, недаром заплатите нам деньги.
– Жив?
– Оглушен только… без чувств…
– Да… а другой, его товарищ?
– Мы его не имели в виду, потому и не знаем, что с ним…
– Хорошо, несите же скорее. Здесь неподалеку ждет экипаж…
Тот, кого несли, был Контов. Орлянка для него была нисколько не привлекательна, и, заметив, что Иванов выигрывает, он отошел прочь, удивляясь, что нигде не видно Куманджеро. Проходя по залу, он натолкнулся на молодого калифорнийца, затевавшего с ним ссору. Контов хотел пройти мимо, сделав вид, что не замечает его, но тот преградил ему дорогу и кинул прямо в лицо оскорбительную для него и как для человека, и как для русского фразу. Андрей Николаевич не смог стерпеть и на оскорбление ответил оскорблением. Теперь вспыхнула уже серьезная ссора; калифорниец, которого окружили его друзья, выхватил револьвер. Тогда Контов крикнул и в тот самый момент, когда погас свет, получил тяжелый удар чем-то по голове. Удар настолько был силен, что молодой человек сразу лишился чувств.
Когда он пришел в себя, то долго не мог понять, где он и что с ним. Он лежал на узенькой койке в каком-то небольшом, низком и тесном помещении. Кругом раздавался глухой шум, как будто где-то поблизости работала паровая машина, за стеной слышалось страшное шуршание и в то же время чувствовалось легкое покачивание.
«Да ведь я на корабле сейчас! – сообразил Контов. – Как же это я успел сюда попасть? Где же Василий?»
Он приподнялся, несмотря на страшную ломящую боль в голове. Теперь, после осмотра, он уже не мог сомневаться, что находится в каюте «Наторигавы» – эту каюту он уже видел при посещении пакетбота перед тем злополучным вечером, когда он попал в игорный дом.
13. В море
– Наконец-то вы пришли в себя, мой дорогой друг! Как я рад! – услыхал Андрей Николаевич гнусавый, с пришепетываниями голос, по которому сейчас же узнал Куманджеро.
Сделав усилие, Контов сел на своей койке.
– Господин Куманджеро, где вы? – крикнул он.
– Здесь! – опять послышался голос.
Только теперь Андрей Николаевич разглядел небольшие ширмочки, отгораживавшие койку у противоположной стены. За ширмами послышались движения, и из-за них выбрался Куманджеро в спальном костюме и ночном колпаке.
– Очень рад, – повторил он, – однако я советовал бы вам снова лечь и постараться заснуть… Еще очень рано.
– Что случилось? – не обращая внимания на его совет, спросил Контов.
– Я предостерегал вас, вы не пожелали послушать моих предостережений – только и всего…
– На меня напали?
– Не то чтобы напали, а произошла ссора, и вы были оглушены.
– Как же я очутился здесь?
– За это благодарите меня, – с легким смехом ответил японец, – я успел подоспеть вовремя и кое-как увез вас сюда, на «Наторигаву»… Теперь мы выбрались за Львиные столбы и континент остался позади.
– Но Иванов… Он здесь?
– Увы, нет!
– Где же он?
– Он остался там, на континенте, во Фриско.
– Как остался? – забывая все на свете, вскочил с койки Андрей Николаевич. – Остался там? А я здесь, я бросил его?..
– О, вы не беспокойтесь за него, – поспешил успокоить его Куманджеро, – ваш товарищ арестован, а это самое лучшее в его положении. Под арестом он находится в полной безопасности, закон сумеет охранить его…
– Но что же он сделал?
– Ваш товарищ – совсем Геркулес, – засмеялся японец, – но, очевидно, никогда не соразмерял силы с тем, в какой мере ею необходимо пользоваться. Ничего серьезного не произошло, несколько граждан великой унии недосчитываются зубов, лечат проломленные головы.
– Что же мне делать, что же мне делать? – дважды воскликнул Контов, в отчаянии опускаясь на прежнее место. – Неужели невозможно возвратиться назад?
– «Наторигава» уже в океане! – заметил Куманджеро.
– Но, может быть, встречный корабль, пароход, простая шлюпка, наконец… Ведь нельзя же, черт возьми, бросать человека в таком положении!
Андрей Николаевич волновался не на шутку. Лицо его все покрылось пятнами, сам он весь вздрагивал.
– Я сейчас пойду к капитану и буду просить его помочь мне возвратиться…
– Друг мой, – с кротостью, сильно отдававшей скрытой иронией, возразил Куманджеро, – ваша просьба будет смешна почтенному моряку.
– Но ведь должен же я что-нибудь предпринять… Как я могу бросить там Иванова?
– Повторяю вам, будьте за него покойны. Прежде всего американские законы чрезвычайно снисходительны к чужестранцам, это раз, затем, ваш товарищ действовал обороняясь. Это очень важный шанс. Далее, я просил оставшегося во Фриско лейтенанта Тадзимано позаботиться об арестованном…
– И вы думаете, что этот юноша поможет Иванову?
– О, конечно…
– Но ведь вы сами же говорили, что вся эта семья ненавидит русских?
– Прошу заметить, я сказал – Россию, но не русских, Россию, как известного рода мировой организм, с весьма своеобразным устройством, как разноплеменный конгломерат, угрожающий соседям поглощением; но чтобы Тадзимано ненавидел русских в отдельности от их родины, этого я не говорил.
Контов почувствовал, что на душе у него стало легче, когда он услыхал фамилию симпатичного ему юноши-японца.
– И вы думаете, что все обойдется благополучно? – еще раз спросил он.
– Не думаю, а уверен, – подтвердил Куманджеро, – а вы сделаете самое лучшее, если ляжете, повторяю свой совет… Притом указываю, во Фриско есть и русские… консул, кажется… ваш друг получит защиту.
С этими словами японец удалился за свои ширмы.
Андрей Николаевич, сознавая, что столь внезапно создавшееся положение исправить нельзя, что капитан ради него одного ни за что не повернет «Наторигаву» назад, в гавань Сан-Франциско, опустился на койку. Теперь его голова болела не так сильно. Он ощупал свой череп – нигде не было ни пролома, ни поранения.
«Уцелел я, – промелькнула у него мысль, – вот тебе и страна свободы, страна уважения к праву! Видно, кулак да нож здесь предписывают все законы… Нет, у нас в России куда лучше!.. Черта ли мне в такой свободе, если у меня от нее и затылок, и темя болят!»
Контов в эти мгновения сердился, даже гневался на всех и все, но больше на самого себя. Он никак не мог простить себе легкомыслие, с каким согласился идти после стольких предупреждений в игорный дом. Но опять-таки он сознавал, что делать нечего и приходится волей-неволей покориться создавшемуся положению… Таким образом, то, что недавно еще и мучило, и гневало его, явилось теперь успокоительным средством. Андрей Николаевич невольно покорялся необходимости и смирялся. Однако спать он уже не мог и, наскоро одевшись, вышел на палубу.
«Наторигава» шла полным ходом. Две огромные трубы ее выкидывали волны дыма, стлавшиеся, как гигантские змеи, в утреннем воздухе. Было тихо, тепло. Океан раскидывался во все стороны своею беспредельной гладью, вдали виднелись чуть заметным абрисом береговые горы, но они уже тонули в массе воды, казалось, поглощавшей их. Легкий, чуть заметный ветерок играл вокруг шедшего полным ходом судна; запахи моря лились в грудь молодого человека, жадно вдыхавшего их. Солнце уже поднялось, хотя и не на высоту. Лучи его серебрили водную даль. В океане было пусто – на горизонте не замечалось ни паруса, ни пароходного дымка. Андрей Николаевич стоял, как очарованный, у борта и не спускал взора с морской дали, как будто надеялся увидеть там нечто новое, что-то такое, что должно сразу появиться перед его глазами.
Легкое прикосновение к плечу сразу вывело его из задумчивости.
Андрей Николаевич быстро обернулся. Позади него стоял низкорослый японец в морской форме.
Он улыбнулся.
– Я майор Тадео Хирозе, – произнес он. – Мой друг Александр Тадзимано говорил мне о вас и поручил передать, что он по возможности все устроит в интересах вашего бедного товарища.
Хирозе говорил по-русски без запинки, даже без акцента, хотя его говор был скорее книжный, чем обыденно-русский.
– Будем знакомы! – закончил он свою фразу и протянул Контову руку.
– Я рад! – с искренней радостью воскликнул тот. – Право, в эти минуты я так нуждаюсь в сочувствии, в ободрении, что бесконечно счастлив, что вы снизошли ко мне.
– Полноте! – весело рассмеялся Хирозе. – Вот, как я заметил, все русские так! Вам непременно нужно ободрение со стороны!.. Это черта вашего национального характера… Простите! – спохватился он, заметив, что тень не то тоски, не то неудовольствия скользнула по лицу Контова. – Я вовсе не хочу сказать что-либо дурное для России и русских, я просто подмечаю некоторую черточку, отсутствующую везде, кроме русского характера…
– Я не обижаюсь! – возразил Контов. – В критике не может быть обиды…
– Я думаю! – подхватил его фразу Хирозе. – Итак, покончим с этим вопросом… Скажите, как вы себя чувствуете?
Тень опять набежала на лицо Андрея Николаевича.
– Я очень сожалею о происшедшем! – просто сказал он. – Сожалею и за себя, и за своего друга.
Хирозе усмехнулся и лукаво посмотрел на Контова своими маленькими глазами.
– Вы, кажется, фаталист? – спросил он. – Верите, что судьба управляет вами?
– Пожалуй, если хотите, это так! – согласился Контов. – А что?
– Я слышал, что вас предупреждали…
– Да!
– И вы все-таки пошли?
– Вот и я скажу теперь вам, что презрение к опасности – тоже одна из национальных черт нашего русского характера.
– Может быть…
Хирозе произнес эти слова так, что в тоне его голоса слышалось скорее сожаление, чем восхищение или даже симпатия.
– Вот видите ли, – после минутного молчания заговорил он, – презрение к опасности есть храбрость. Храбрость же, в особенности если она является национальной чертой, великое дело… Но неужели, если вы будете знать, что около вас бродит тигр, вы не запасетесь хотя бы столь ничтожным оружием, как кинжал? Неужели вы предпочтете пойти на тигра с голыми руками?.. Нет, простите мне, пожалуйста, это не будет храбростью.
– А что же это будет?
– Беспечность в самом лучшем случае…
Контов ничего не ответил. Слова Хирозе он относил непосредственно к самому себе и не мог не сознавать всей справедливости их. Японец тоже молчал, очевидно, заметив, какое впечатление произвели его слова на собеседника.
– Скажите, – заговорил, наконец, он, вероятно, для того, чтобы, не прерывая разговора, изменить его тему, – вы не удивлены?..
– Чему? – обрадовался перемене разговора Контов.
– Тому, что вы слышите свой родной язык из уст типичного японца?
– Я уже привык к тому, что все ваши земляки свободно говорят по-русски.
– Действительно, на наших островах ваш язык в большом употреблении.
– Только он?
– Нет, еще английский… но английский не так распространен.
– Тогда я могу радоваться за успехи моего языка.
Хирозе пожал плечами.
– Тут главным фактором является наше соседство, – сказал он.
– Да, я уже это слышал… Но вот вы? Вы вряд ли ведете с Россией коммерческие дела и вряд ли для вас что-нибудь значит это соседство…
– Я был прикомандирован к нашему посольству в Петербурге, – отвечал Хирозе, – мне пришлось даже слушать лекции в вашей военной академии, а это без знания языка страны невозможно!
– Вы жили в Петербурге?
– Да, и сравнительно долго… У меня там осталось много знакомых.
Контов вспомнил, что ему уже говорили о Хирозе и о его петербургском романе.
«Адмиральская дочь!» – проскользнуло у него в памяти, но, не желая будить воспоминания, бередить сердечную рану своего нового знакомца, он ограничился лишь тем, что протянул ему руку и с чувством произнес:
– Я понимаю… Я слышал, сочувствую…
Японец смутился и хотел что-то сказать, но Контов с жаром заговорил:
– То, что испытали вы, мне понятно… понятно и близко мне… Я сам переживал и переживаю все муки оскорбленной любви… Но что делать? Что делать? Приходится покоряться, терпеть, какие бы страдания все это ни причиняло…
Хирозе ничего не ответил, но как-то особенно посмотрел на Контова и, сухо поклонившись ему, отошел в сторону.
«Что это? Уж не обиделся ли он на меня? – удивился Контов. – За что бы, кажется?»
Однако долго раздумывать ему не удалось.
– Вот и вы, как я вижу, совершенно оправились после вашего припадка, – подошел к нему с обычной для всех японцев улыбкой на устах командир «Наторигавы», капитан Ямака, – рад, очень рад.
Андрей Николаевич смутился и пробормотал несколько слов.
Ямака говорил с ним по-английски, но говорил не так чисто, как все остальные японцы, которых до того приходилось встречать Контову. Тем не менее голос его звучал с ласковою приветливостью, и молодой русский почувствовал, что эти оттенки в интонации подкупающе действуют на него.
– Я тоже рад, – воскликнул он, – что, наконец, покинул эти берега!
– Отчего же? Если вы говорите о Фриско, то там живется нехудо…
– Скажите, – вдруг перебил Ямака Контов, – вы, вероятно, знаете многое, если не все, о тех пассажирах, которые находятся на борту вашего судна.
Ямака польщенно заулыбался:
– О да! За исключением разве что европейцев, но их немного…
– Тогда скажите откровенно, что за человек – ваш земляк Аррао Куманджеро.
Ямака характерно поморщился, немного подумал и спросил:
– Почему вы находите нужным спрашивать меня об этом?
Контов помолчал и задумчиво сказал:
– Видите ли, с господином Куманджеро я только что еще познакомился… Сначала мне показалось даже, что он усиленно ищет знакомства со мною… Может быть, я и ошибался – не знаю! Но вот в чем главное: господин Куманджеро почему-то вдруг возымел ко мне великое благорасположение. Он оказывает мне множество услуг, и я, право, не знаю, чем объяснить себе подобное внимание.
Капитан ответил не сразу, словно ответ на поставленный Контовым вопрос был ему труден.
– Аррао Куманджеро, – произнес он, наконец, – человек, во всем преследующий свою выгоду. Если он любезен с вами, стало быть, он видит в будущем какую-то для себя пользу от вас. Не было бы этого, он не обратил бы на вас внимания. Да вот и он сам выходит на палубу, и мы сделаем лучше, если оставим этот разговор.
14. Предложение
Аррао Куманджеро действительно только что показался на палубе.
Еще у самого каютного люка он закивал головой Контову и Ямака, приветствуя их с наступлением этого радостного, веселого утра.
– Мы уже далеко ушли от этого проклятого Фриско, дорогой капитан, – кричал он, – с каким наслаждением я вдыхаю этот радостный воздух!
– Это воздух наших родных островов, – серьезно заметил ему Ямака.
– Да, да! Но вот между нами иностранец… Как кажется мне, и он испытывает то же чувство… Не правда ли, наш дорогой русский друг?
– Только оно омрачается воспоминанием о вчерашней истории… – заметил Контов.
– Оставьте думать про вчерашнее! – замахал на него руками Куманджеро. – Вы взгляните только на эту беспредельную гладь… Право, океан так величествен, что подавляет собой нас, ничтожных людей… Вот дорогой капитан уже привык его видеть перед собой постоянно, но я уверен, что океан и на него производит то же впечатление… Не так ли, милый Ямака?
Моряк кивнул в ответ головой и отошел в сторону, завидя подходившего помощника.
– Смотрите, – продолжал Куманджеро, не обращая внимания на удаление моряка, – палуба «Наторигавы» начинает оживляться… Все досужие иностранцы, которых, впрочем, в этот рейс не особенно много, начинают выползать из-под дека, чтобы полюбоваться на действительно восхитительный восход солнца… Вы, кажется, о чем-то беседовали с майором Хирозе? – совершенно неожиданно перескакивая с одного на другое, спросил Куманджеро.
– Да, мы познакомились, – ответил Контов, несколько удивленный этим переходом.
– Хирозе – милый, обязательный человек, – заговорил Куманджеро, – он прекрасный патриот, но в то же время чересчур идеалист…
– Разве быть идеалистом – преступление?
– Для японца – почти да. Идеалист – непременно мечтатель. Сознайтесь, что идеалы существуют только в мечтах… Наш же народ мечтать не смеет, перед ним всегда жестокая действительность.
Контов ничего не ответил; он стоял, опершись о решетку борта, думал теперь обо всем, что случилось с ним, и перед ним сама собой вставала даже не жестокая, а жесточайшая действительность. В самом деле, он очутился в тяжелом, не имевшем, казалось, выхода положении. Проездной билет у него был, вместе с билетом было обеспечено для него заранее внесенной платой и все необходимое – завтрак, обед, чай, утренний и вечерний, но, помимо этого, Контов не мог располагать ничем: все его деньги, все до последней медной монеты исчезли во время ночного приключения, и он положительно не знал, что будет с собою делать, когда очутится на твердой земле.
Контов, хотя и недолго был вне России, но уже в достаточной степени ознакомился с нравами и европейцев и американцев. Он уже знал, что вне России живут по русской пословице: «Каждый сам за себя, один Бог за всех». На сострадательную помощь нечего было бы надеяться, к благотворительности чуждой страны молодой русский никогда не решился бы прибегнуть, а получить работу для иностранца, да еще так скоро, как это было необходимо Андрею Николаевичу, нечего было и думать. Впереди перед Контовым уже рисовался призрак голодной смерти, когда он вдруг вспомнил, что Иванов довольно ясно намекал ему, что Куманджеро намерен предложить им обоим какую-то работу. Тогда, когда это было сказано, Андрей Николаевич даже внимания не обратил на слова товарища, но теперь вспомнил о них и ухватился за них, как утопающий хватается за соломинку.
Однако ему не хотелось высказывать перед японцем свою беспомощность, и он решил подождать, пока Куманджеро сам не обратится к нему с предложением того или иного заработка.
Но прошел день путешествия по морю; Аррао Куманджеро был безукоризненно вежлив с русским, но даже и не заикался о какой бы то ни было работе.
Контова давно уже начинало одолевать нетерпение. С удивлением он заметил, что и Хирозе, и Оки, и Тейоки, очутившись вместе с ним на борту «Наторигавы», как-то отдаляются от него. Если он пробовал заговаривать с ними, они отделывались малозначащими ответами и старались не вступать в продолжительный разговор. Даже добродушный Ямака, и тот почти не отвечал ему на многочисленные вопросы. Один только Куманджеро оставался безусловно ласков с русским и положительно ни на шаг не отходил от него. Контову сначала даже надоедало это постоянное присутствие японца, но потом он привык к нему и решил, если Куманджеро сам не заговорит с ним о работе, обратиться к нему и вызвать его на этот разговор.
Вечером на другой день плавания Андрей Николаевич, наконец, решился.
Выбрав такое время, когда на палубе вблизи них никого не было, он заговорил с Куманджеро по-русски – в первый раз после того, как очутился на борту «Наторигавы», заговорил издалека, рисуя ему свое материальное положение на родине.
Куманджеро слушал или делал вид, что внимательно слушает Контова.
Андрей Николаевич говорил, что он не обладает крупным состоянием, но все-таки на родине у него есть кое-что обеспечивающее его существование. Потом он перешел к несчастному случаю с ним в Сан-Франциско и откровенно признался, что в настоящее время у него совершенно нет денег.
Глаза Куманджеро блеснули, когда Андрей Николаевич высказал свою мысль.
– Отчего же вы не сказали мне об этом ни слова? – воскликнул он. – Хотите, я вам сейчас же дам денег!.. Много – нет, но достаточно, чтобы доехать до банка, при посредстве которого вы можете все легко устроить.
– Благодарю вас! – отозвался Андрей Николаевич. – Но здесь я ни в чем не нуждаюсь.
– Тогда о чем же идет речь?
– Я думаю о будущем…
– Именно?
– О том времени, когда я сойду на берег… Там я вполне беспомощен…
Куманджеро, ни слова не говоря, протянул ему руку.
– Я сочувствую вам!.. – произнес он после рукопожатия. – Действительно, ваше положение не из завидных… в особенности на наших островах…
– Почему же «в особенности» у вас? – спросил Андрей Николаевич.
– Потому что после девяносто четвертого года… вы помните эту нашу войну с Китаем, полную побед и совершенно проигранную по результатам?
– Но я при чем же? Ведь я не дипломат и даже не солдат!..
– Совершенно верно, но на вас как на русского падает часть народного озлобления. Знаете что? Позвольте мне подать вам искренний дружеский совет!
– Пожалуйста… Я был с вами откровенен и жду именно доброго совета.
– Вместо Японии поезжайте в Порт-Артур…
– В Порт-Артур? Но что же я там буду делать?
– Там скорее найдется для вас дело, чем у нас… Наконец, вы скорее встретитесь там с вашим приятелем, этим Ивановым: ведь его вернее всего отправят как русского в Порт-Артур… Наконец, там все-таки свои для вас, там ваши земляки. Среди них вам будет, несомненно, легче поправить свое положение. Порт-Артур – город с большою будущностью, и смелые молодые люди нужны там…
Контов поник головой; ему даже показалось, что в словах Куманджеро сквозит насмешка.
– Порт-Артур, Порт-Артур! – с некоторым раздражением проговорил он. – Право, это не то, что мне нужно.
Лицо Куманджеро приняло хитрое, лукавое выражение.
– Простите, дорогой мой друг, – вкрадчиво проговорил он, – вы не сказали мне, что вам, собственно, нужно… Мой совет касается лишь общего вашего положения.
– Да я не знаю, как вы этого не понимаете! – уже вспылил Контов. – Мне прежде всего нужна честная работа, которая обеспечивала бы мне существование хотя бы на первое время… Вот что мне нужно.
– Позвольте! – воскликнул Куманджеро. – Я к этому именно и клоню свою речь. Вы ищете работы? Я вам говорю, что ее легче всего найти в Артуре и почти невозможно на наших островах. Это первый вопрос. Второй вопрос: как и где найти ее, эту необходимую вам работу? Здесь я опять мог бы прийти вам на помощь. Я уже составил кое-какие планы, но они, конечно, нуждаются в вашем одобрении… Я давно хотел высказаться.
– Говорите теперь, я буду слушать, – с любопытством проговорил Контов.
15. Кошка и мышка
Куманджеро посмотрел на Контова своими узкими глазками, в которых так и сверкали огоньки торжества, а затем заговорил, но заговорил не сразу.
Сперва он как будто хотел ослепить своего слушателя обширностью своих коммерческих предприятий, разветвленностью их по всему дальневосточному побережью. Шанхай, Чифу, Артур, Дальний, Чемульпо с Сеулом, Владивосток с Сахалином не сходили у него с языка. Везде оказывались у него конторы, склады, агентства, за всем нужно было следить зорко, бдительно и притом так, чтобы это выслеживание оставалось в полнейшей тайне. Мало-помалу Куманджеро, только в нескольких иных выражениях и с несколько большими подробностями, рассказал Андрею Николаевичу то, что он уже говорил в Сан-Франциско Иванову. Говорил он быстро, так что Контов едва мог уследить за его мыслью. Речь Куманджеро то и дело пересыпалась всякого рода цифрами, свидетельствовавшими об обширности его предприятий, о доходности каждого из них. На основании этих цифр он выводит процент, который мог бы получить молодой русский, если бы пожелал вступить в эти дела, и сумма этого процента была так велика, что у Контова невольно кружилась голова.
– Постойте, – воспользовался он секундным перерывом в речи Куманджеро, – и вы все это предлагаете мне?
– Да, вам, если вы согласитесь на мое предложение.
– Но почему же мне? Именно мне? Разве у вас нет людей?
Куманджеро рассмеялся сухим, дребезжащим смехом.
– О, как это может быть, чтобы у нас не было людей! – воскликнул он. – Людей много…
– Но почему же ваш выбор падает на меня?
– Прежде всего потому, что вы лицо, совершенно неизвестное в Артуре.
– В Артуре? Вы желаете, чтобы я был там?
– Да, другие пункты уже имеют своих надежных агентов.
– Хорошо. Не будем спорить о месте, но все-таки мне непонятна эта таинственность. Как я понял, вы желаете, чтобы я жил, положим, в Артуре, тайно следил за всем, что там происходит, и сообщал вам.
– Так. Это именно то, что мне нужно. Прибавлю только, что ваши соображения должны касаться мельчайших подробностей и притом сами вы должны держать наши сношения в строжайшей тайне.
– Повторяю свой вопрос: к чему такая таинственность?
– Сейчас видно, что вы не коммерсант, – с легким смехом ответил Куманджеро. – Прежде всего у каждого народа свои приемы коммерции, а стало быть, и борьбы с возрастающей конкуренцией. Конкуренция же огромна. С нами конкурируют, и очень сильно, англичане и американцы, немцы тоже стараются не упускать своего. Весь вопрос в том, кто узнает весть о требующемся в данный момент товаре ранее других. А это можно лишь тогда, когда есть в данном пункте лицо, которое может быть точно осведомлено о всем вокруг него происходящем, и притом лицо, действующее в полной тайне. Вы, на мой взгляд, вполне являетесь таким лицом, вас никто… нет, не никто… но об этом потом… в Порт-Артуре не знает, вы русский человек, вполне свободный, а, извините, русские там, где совершается какое-нибудь дело, серьезное дело, у деловых людей во внимание не принимаются. Создалось убеждение, что они – еще раз простите, пожалуйста! – ни на что серьезное не пригодны.
– Но как же вы решаетесь обратиться ко мне? Ведь я русский!
– Отчего не произвести опыта? Удастся – хорошо, не удастся – что же делать?
– Однако ваше мнение о нас, русских, совсем не лестное…
– Что поделать, мой дорогой друг! – охватил за талию Контова Куманджеро. – Вы не должны обижаться, в данном случае я говорю как деловой человек. Недаром я путешествовал по вашей родине, недаром я близко знаком со многими вашими коммерсантами. Приемы вашей коммерции невозможно грубы. И знаете что? Это приемы не серьезных коммерсантов, а детей, играющих в коммерцию. Ваши коммерсанты еще недостаточно развиты, чтобы уметь учитывать живую силу. Они забывают, ваши коммерсанты, что труд и капитал, капитал и труд один без другого ничто. Почему так? Потому что ваши коммерсанты – все новые люди, недостаточно напрактиковавшиеся в деле коммерции; как новые люди, они не любят своего дела, им не дороги ни его рост, ни существование; они смотрят на него как на средство наживы и поэтому неразборчивы в способах эксплуатации. Ваши коммерсанты не желают работать над своим делом, не желают заставлять трудиться свой мозг над тем, чтобы совершенствовать его. Оттого-то ваши коммерческие дела все недолговечны. Они – колесо, которое пущено во весь мах и которое вертится, пока не остановится, и стоящие у колеса люди не желают потрудиться, чтобы давать ему время от времени поддерживающие вращение толчки. Именно от этого ваша коммерция не приносит всей той пользы, какую она могла бы приносить, именно от этого ваши коммерсанты богаты только призрачно, а ваши работники – нищие в действительности, именно от этого на шее у вашего правительства масса пролетариата, то есть отбросов, в которых таится яд смертного разложения.
– Позвольте, позвольте, – запротестовал Контов, – какое же отношение имеет ваша речь к вашему предложению, сделанному мне?
– Огромное. Мы, японцы, несмотря на мнимую молодость нашего народа, молодость – только с европейской точки зрения, конечно, – верно постигли тайну коммерции. Колесо не будет вращаться, если не будут зорко наблюдать за его вращением и не будут давать ему вовремя пускающие его в ход толчки. Вот эти-то толчки и даются моему колесу в том или ином виде. Мне нужен в Порт-Артуре тайный коммерческий агент, который сообщал бы мне обо всем, что там делается… о самых ничтожнейших мелочах… Пусть сообщения даже не относятся прямо к торговому делу, пусть они касаются хотя бы заурядных городских происшествий, лишь бы они были быстры и точны. Я уже сам сделаю на основании их свой вывод и приму те или другие меры к совершенствованию дела, но мне нужно, чтобы мой агент и я были только двое, чтобы никто, кроме нас двоих, не знал о наших взаимоотношениях… Понимаете ли, никто! Лишь строгая тайна является гарантией успеха для меня, и если вы пожелаете принять мое предложение, то вы можете считать себя вполне обеспеченным. Вы будете получать столько, что вам вполне хватит на жизнь совершенно независимого человека… Я сказал!
Куманджеро смолк. Теперь лицо его было серьезно и бесстрастно. Ни прежней шутливости, ни прежней подобострастной угодливости на нем не было заметно.
– Я подумаю! – тихо проговорил Андрей Николаевич, глядя на плескавшиеся за бортом волны.
– Думайте, – холодно произнес японец, – думайте, но недолго… Завтра перед полуднем нам должно встретиться судно, идущее в Порт-Артур. Если вы не пересядете на него, то это в дальнейшем грозит немалыми осложнениями… может быть, даже полным уничтожением моего проекта… Вы понимаете, что я говорю?
– Да, да… Но, Куманджеро, – вдруг положил ему на плечо руку Контов, – я хочу сказать вам вот что. Помните, во Фриско я рассказывал вам туманную историю об униженном и обиженном человеке?
– Да, помню…
– Этот униженный и обиженный был мой отец!
– Я так это и понял…
– Так вот, я говорю откровенно, я считал своею обязанностью отыскать своего отца…
– Священная обязанность!
– Ваше предложение коренным образом изменяет мои планы…
– Мне кажется, что ваши поиски не могли бы в настоящем вашем положении привести к желанным результатам, – возразил Куманджеро. – Прежде всего на них нужны средства, и немалые.
– А у меня их нет…
– Стало быть, нужно их сперва приобрести… Способ к этому в ваших руках.
Андрей Николаевич задумался.
Волны океана тихо плескались около бортов «Наторигавы». На ясное, без единой тучки, небо взошла полная луна. Даль вся была словно посеребрена, и пароход тихо скользил по глади уснувшей водной пустыни.
Думы, словно пчелы, роились в голове молодого русского. Он не слыхал, как отошел от него Куманджеро, даже забыл, пожалуй, в эти минуты о его существовании; он весь, всем своим существом, ушел в то, что было, в то, что заставило его покинуть родину, стремиться за океан, искать кого-то, чего-то. И зачем? На этот вопрос Контов не мог дать себе ответ, ответ на него был вне его разумной воли, вне его понимания…
Он пустился искать человека, которого никогда не знал… Этот человек был его отец, но ведь об этом только говорили, Андрей же Николаевич никогда не видал этого таинственного отца. Что они друг другу? Чужие прежде всего! Чужие и по духу, и по понятиям. У отца, вероятно, уже есть своя семья – не русская, есть другие дети, и вдруг в этой семье появится, все равно как с неба упадет, никому не ведомый, незваный, непрошеный пришелец! Как на него будет смотреть эта новая семья? Пусть даже отец будет ему рад, но те, другие?.. Ведь придет бедняк! Но, может быть, и та семья бедна, а между тем сразу же придется поставить себя в зависимость от нее, в тяжелую материальную зависимость. Не лучше ли явиться в эту семью не бедняком, раз к этому есть уже средство? Куманджеро, очевидно, не шутит, предлагая ему дело… Что же? В этом деле нет ничего позорного… Он будет честно зарабатывать свои деньги, притом же ему придется жить среди своих – среди русских, он не будет страдать от отчуждения, и потом, когда у него явится достаточная сумма, можно будет разыскивать и этого таинственного отца…
Думы Андрея Николаевича вдруг были прерваны подошедшим Куманджеро.
– Вот вспомнил! – заговорил японец. – Вы меня почтили рассказом, как вы его назвали, довольно «туманным», теперь не позволите ли и мне рассказать вам нечто столь же интересное, но не столь туманное?
16. Жребий брошен
Теперь Куманджеро был совсем другой. Не было ни недавней серьезности, ни важной холодности. Перед Контовым был прежний Куманджеро, насмешливо-подобострастный, плутоватый с виду.
– Да! – воскликнул он. – Моя историйка будет не так туманна, как ваша, и притом очень коротка. Вот она. В стране арктической или антарктической – все равно – жил прекрасный юноша. Как и все юноши в этих странах Старого Света, он был непрактичен и полюбил девушку. Ведь это, кажется, всегда так бывает в Европе?
– При чем тут, однако, Европа? – нахмурился Андрей Николаевич.
– Выражение арктический-антарктический я употребил только для некоторого определения места, где происходит действие моего рассказа. Суть его, конечно, не в этом. Для рассказа важно лишь то, что между юношей и девушкой возникла любовь. Они горячо любили друг друга. Мы, дети Востока, родившиеся под лучами восходящего солнца, такой любви не знаем… У нас все это проще выходит… Да опять не в том дело, я чрезмерно отвлекаюсь. Главная суть в том, что девушка, любимая юношей и сама полюбившая его, оказалась дочерью заклятого врага своего возлюбленного. Будь юноша богат, знатен – все это было бы ничего. По европейским понятиям, деньги и знатность сглаживают всякие пропасти, особенно те, которые вырыты чувством. Но юноша был и беден, и незнатен. Пропасть зарыть было нечем, и он должен был проститься с возлюбленной девушкой.
Куманджеро оборвал рассказ и лукаво поглядывал на своего собеседника.
– Что же дальше? – глухо спросил тот.
– Дальше? Ничего! Я рассказал вам мою историйку всю до конца.
– Ваш рассказ очень странен. Так-таки больше ничего?
– Положительно ничего… Вы скоро возвратитесь в каюту? Уже поздно…
– Мне хотелось бы побыть еще немного здесь. Ночь так хороша!
– Вот сейчас виден европеец! – засмеялся японец. – Я, например, не вижу ничего хорошего в этой туманной мгле и потому иду спать… Спокойной ночи!
– Постойте, Куманджеро! – остановил его Андрей Николаевич. – Не может быть, чтобы вы ни с того ни с сего наговорили мне все это… Объясните мне, что вы хотели сказать.
– Да ничего, мой молодой друг, решительно ничего, кроме того, что я сказал…
Японец повернулся и пошел к люку, откуда был спуск в каюты.
– Ах да! – вдруг остановился и снова подошел к Андрею Николаевичу. – Ведь вы, мой друг, правы!.. Я сказал не все… Отец этой влюбленной в юношу и взаимно любимой девушки должен был по делам своей службы переехать из того места, где он жил, в другое… на далекую окраину… Дочь последовала за ним. Нужно ли говорить, что она не теряет надежды увидеть своего возлюбленного, даже и после этого переселения? Может быть, он снится ей в виде спешащего к ней принца… Ведь эти белые девушки все такие мечтательницы! Им бы все пышность, роскошь, в человека они заглядывать не приучены… Так вот… она ждет своего милого… где?.. Ну, скажем, в Порт-Артуре…
– Куманджеро! – кинулся к японцу Андрей Николаевич.
– Спокойной ночи! – юркнул тот к люку. – Завтра я должен рано подняться.
– Куманджеро, Куманджеро! – вне себя выкрикивал Контов.
– Подняться, чтобы пересесть на судно, идущее в Порт-Артур! – донеслось до него уже откуда-то снизу.
Контов остановился, чувствуя, что ноги у него так и подкашиваются.
– Ведь это он про меня говорил, – растерянно лепетал он, – это моя любовь, он говорил про Ольгу, про Кучумова, ее отца… Откуда он знает?
Слегка пошатываясь, Контов отошел опять к борту «Наторигавы».
«Что же делать? – вихрем пронеслась в его голове мысль. – Как я должен поступить? Право, меня сама судьба влечет в Артур… И как складываются обстоятельства!.. Все, все за Артур… Нет, я должен принять предложение Куманджеро… Оно дает мне и средства, и положение, таким путем я сумею побороть судьбу… Правдиво американское правило: «Надейся только на одного себя»… На кого мне больше надеяться? Я должен справиться с жизнью и покорить ее себе!.. Сперва средства, какие дает мне Куманджеро, потом богатство, потом Ольга, а потом… потом я найду и человека, давшего мне жизнь, а если его не найду, то найду его могилу… все равно! Поклонюсь ей, но приду я не жалким, беспомощным, загнанным, а сильным, могучим, победителем! Так! Пусть Куманджеро располагает мной всецело!»
Молодой человек был совсем уже близок к тому, чтобы принять окончательное решение; он готов был спуститься вниз, разбудить японца и сказать ему, что он согласен на все его условия и честно выполнит все, что ему будет поручено, но какая-то невидимая сила удержала его на месте.
«Опомнись, – зашептал ему тайный внутренний голос, – сообрази прежде все, что ты хочешь сделать, а потом уже и поступай. Ведь этого японца ты не знаешь. Как можно вверяться совершенно чужому человеку! Мало ли что он может насулить? Разве не подозрительно уже одно то, что он так облюбовал тебя, только тебя?.. Ведь в Сан-Франциско ты не единственный русский. Почему Куманджеро обратился именно к тебе, а не к другому? Не осчастливить же он тебя в самом деле желает!»
Как бы в ответ на все эти думы, Контов глухо и презрительно рассмеялся.
«Проклятая русская привычка! – выбранил сам себя Андрей Николаевич. – Как кто с выгодными предложениями является, сейчас же прежде всего подозрения: нет ли тут какого-нибудь подвоха… Ведь, кажется, все ясно, ясно, как на солнце! Японцу этому нужен своеобразный контролер и в то же время разведчик, который мог бы указать ему на возможные коммерческие операции в будущем… Понятно, в этом случае тайна необходима, ведь существует даже ходячее выражение «коммерческая тайна». Ему нужно то, чего у него нет, и он это «то, чего у него нет» стремится приобрести… Я ему представляюсь выгодным, он хочет взять меня… все ясно, ан нет… подозрения! Как это человек, пользуясь тяжелым положением другого, не старается выжимать из него соки, не старается взять у него даром его труд, его здоровье, его способности, а намерен добросовестно возместить их ценность?.. И в чем я могу подозревать Куманджеро? Он ничего худого мне не сделал, из его предложений мне я вижу, что он человек, уважающий себя, притом же все, кого я ни спрашивал, отзываются о нем как о солидном коммерсанте… Чего же я боюсь? Решено! Принимаю его предложение!»
Контов так успокаивал себя, а на душе у него все-таки было неспокойно. Словно червяк какой-то точил его сердце: оно то замирало, то вдруг начинало усиленно биться…
«Пойду спать! – решил Андрей Николаевич. – Разве я не русский, что ли? У нас, русских, на всякий случай есть любимые пословицы! Так и теперь, решу, что утро вечера мудренее, и завалюсь спать. Пока это самое лучшее».
Он еще немного побыл на палубе, но, когда спустился в каюту и улегся на узкую койку, сон бежал прочь от глаз. Думы всецело овладели им, но теперь уже не Куманджеро был главным центром их. Теперь Контовым овладели воспоминания, заговорило чувство, забурлила молодая кровь. Он думал о своей любви, о той девушке, о которой так бесцеремонно напомнил ему японец в момент самого сильного его колебания.
«Да, да! – повторял себе Контов, ворочаясь с боку на бок. – Несомненно, эта желтая обезьяна имеет обо мне все сведения… Откуда? Я не знаю… но не все ли равно! Кучумовы в Порт-Артуре… Ольга там со своим отцом. Куманджеро недаром выскочил со своим идиотским рассказом. Это несомненный намек… Неужели я откажусь? Да нет же, черт возьми! Кучумов выгнал меня, нанес мне без конца оскорблений, и неужели я упущу случай уязвить его самолюбие, показать ему, что он жестоко ошибся! Да и это пустяки, но Ольга, Оля моя… Ведь она страдает, ведь я уверен, что она не забыла меня, что она любит меня до сих пор… Разве ради нее я не должен принять всякие меры, чтобы повернуть судьбу к себе лицом? Да! Ради нее… Она, быть может, ждет меня как своего избавителя, и вдруг я появлюсь перед нею жалким, беспомощным бедняком, да если и не появлюсь, то буду томить ее напрасным ожиданием… Кучумов – не такой человек, чтобы не суметь заставить дочь делать все по-своему… Она, моя бедная, мучается, тоскует, ждет меня, своего освободителя, а я раздумываю, я мучаюсь какими-то глупейшими подозрениями… Да нет же, черт возьми! Жить – так жить! Брать жизнь, как быка, за рога, отнимать у нее все, что можно отнять, а потом, а потом… После нас хоть потоп, как обмолвился Людовик XIV… Решено, Куманджеро, будь ты хоть сам черт, а я готов продать тебе даже свою душу!»
Сделав над собой усилие воли, Контов все-таки заставил себя заснуть.
Однако не живительный сон, а мучительное забытье посетило его… Ему казалось, что он вовсе не спит, что вокруг него все совершается как наяву. То вдруг перед ним из какого-то тумана выплывало желтое лицо Куманджеро; японец улыбался ему, но Контову казалось, что перед ним лицо вовсе не человека, а подстерегающей свою добычу лисицы. Андрею Николаевичу становилось страшно; он начинал ворочаться, воображая, что делает попытки бежать, но тотчас вслед за этим из тумана появлялось кроткое, милое лицо любимой девушки – и страх, недавно владевший им, исчезал, и молодому русскому казалось, будто он спешит куда-то, на какой-то неведомый зов…
И такое забытье продолжалось до самого утра, до той поры, когда Контов, наконец, совершенно не проснулся…
Голова его была тяжела, в виски стучало, губы были болезненно сухи.
Андрей Николаевич поспешил одеться и выйти на палубу в надежде, что морской воздух освежит его и хоть несколько успокоит мучительное ощущение боли.
Первым человеком, которого он увидел на палубе, был Аррао Куманджеро. Японец испытующим взором поглядел на молодого русского, потом тихо взял его одной рукой за плечо, а другой указал на горизонт. Там, при блеске уже высоко поднявшегося солнца, вилась чуть заметная струйка дыма.
– Это идет судно, на которое я пересяду с «Наторигавы», чтобы попасть в Порт-Артур, – с резкими подчеркиваниями каждого слова произнес Куманджеро по-русски, – надумали ли вы свой ответ?
Контов чувствовал, что сперва он побледнел и что после этого сейчас же вся кровь хлынула ему в голову… Не помня себя, словно в забытье, он, опустив глаза, пролепетал:
– Да, да, я согласен… Я вам, Куманджеро… исполню все…
Узкие, как щелки, глаза японца засверкали торжеством.
Часть II В стране восходящего солнца
1. Столица-игрушка
Почти у самого моря, на тихом рейде Синагавы, окаймленный с востока и с севера рекой-лентой Сумидагава, а на западе – беспредельными рисовыми полями, раскинулся город-игрушка Токио, столица Страны восходящего солнца.
Да, игрушка!
Видали вы детские игрушечные фермы? Если расставить их на несколько покатой поверхности, обложив тем «мхом», который в изобилии прилагается к игрушкам, повтыкать побольше ярких флажков – получится точно такое же впечатление, как и от прославленной столицы микадо.
Токио весь утопает в зелени. Маленькие неуклюжие японцы очень любят цветы, растения и вообще всякую зелень. Поэтому зелени масса, каждый японский домик окружен ею со всех сторон, утопает в ней, словно купаясь в зеленых волнах. Среди зеленых насаждений всюду цветники, как прекрасным ковром, украшают бесчисленные дорожки в придомовых садиках-крошках; цветы нежные, холеные, любимцы своих хозяев. Право, здесь за цветами ходят больше, чем за детьми…
Площадь, на которой раскинулся Токио, не ровна, а волниста. Она вся как будто сплошь состоит из холмов, очень небольших, но все-таки возвышающихся над уровнем моря и то поднимающихся на некоторую высоту, то вдруг ниспадающих в просторные логовины.
Как раз в центре Токио, на самом высоком из холмов, красуется легкой постройки великолепный замок, окруженный высокой, но тоже легкой, по первому впечатлению, стеной, прикрытый великолепными, совсем не японского типа деревьями. Снаружи стены замок опоясывается широким рвом, не пропускающим внутрь него никого из простых смертных. Из-за зелени древонасаждений, особенно в солнечный день, сверкают верхушки причудливой архитектуры башен. Здесь царит ничем невозмутимая тишина… Ни одного звука не доносится из-за стен этого здания, как будто там никто не живет, не любит, не ненавидит, не волнуется такими же страстями, как и весь мир.
Этот замок на холме японцы зовут Сиро. Здесь резиденция их микадо.
На северо-востоке от Сиро, тоже на высоком холме, блещет своими куполами великолепный храм, к которому каждый японец еще издали приближается с чувством величайшего душевного трепета. Это буддийский храм Уйено, усыпальница сегунов последней династии. Ближе к замку-дворцу, на холме столь же высоком, как и занятый последним, сверкая в солнечные дни позолотой своих крестов, высится православный собор, духовное убежище множества православных японцев всех островов Страны восходящего солнца.
Дворец микадо, храм Уйено и православный собор – это три наибольшие достопримечательности современного Токио. Пожалуй, только они и не производят впечатления игрушек, подобно тому, как выглядят все остальные здания этой столицы, включая сюда даже и яске, дворцы даймиосов – сановников и высших государственных деятелей.
Императорский дворец, или Сиро, окружен со всех сторон богатейшей частью города, называемой Сотосиро. Это аристократическая часть Токио. Здесь все великолепно, конечно, в том смысле, в каком понимается в Стране восходящего солнца великолепие, то есть, на европейский взгляд, и бедно, и убого: ведь зелень, цветы – вот что считается наилучшим украшением японского жилища. Впрочем, в этой части города есть уже порядочное количество зданий в европейском вкусе и даже каменных. Однако такие постройки на Японских островах признаются непрактичными и даже опасными. Частые землетрясения иногда разрушают и легкие японские домики; разрушение же каменной махины непременно должно повлечь за собой человеческие жертвы.
Большинство строений в Сотосиро – это яске даймиосов, древнего высшего сословия японского народа. Яске – дворцы, но они отличаются от жилищ простых смертных в Токио разве одной только густотой древонасаждений, большей площадью прудов да причудливой вычурностью крыш и решеток. В сущности это такие же карточные домики, как и огромное большинство зданий Токио. Те же три стены под крышей, та же четвертая, распахивающаяся и открывающая всю внутренность жилища, лицевая стена, те же перегородки-ширмы, путем перестановки которых зал всегда легко можно переделать в гостиную, гостиную – в столовую и т. д. Ничего постоянного, все временное. Это первое следствие частых землетрясений, приучивших жителей даже больших и густонаселенных центров не устраивать себе более или менее постоянных жилищ.
Японцы – островитяне, и потому они любят воду и всегда стараются быть поближе к ней. Сумидагава – широкая и красивая река, но одной ее показалось токийцам мало. Сотосиро, так же как и Сиро, окружен глубоким и широким рвом, похожим на довольно-таки неуклюжий канал, вытекающий и впадающий в ров, окружающий резиденцию микадо. Но и этого токийцам показалось мало. Сотосиро тянется к югу от Сумидагавы, и большая часть занятой им площади изрезана вдоль и поперек небольшими каналами, однако такой ширины и глубины, что по ним могут плавать плоскодонные японские лодки. Вышла Венеция в миниатюре, хотя и на искусственных лагунах. Но воды много, и японец вполне доволен.
Сотосиро – не только аристократическая, но и торговая часть Токио. Здесь помещаются лучшие магазины. Торгуют в них всем, что могут доставить самого лучшего Европа и Новый Свет, но японцы сами по себе – народ неприхотливый, они не гонятся за дорогими привозными новинками, и главными клиентами токийских магазинов являются по большей части живущие в Токио заезжие иностранцы.
За рвом Сотосиро, на полуострове, образуемом излучиною Сумидагавы, раскинулось не предместье, а, лучше сказать, отдельная часть японской столицы – Гондио; есть еще и четвертая часть – Митси, и предместье Синагава на самом берегу моря, у рейда.
В этих частях столицы живет люд победнее, незнатный: мелкие торговцы, ремесленники, но, в общем, и здесь то же самое, что и в Сотосиро. Домики здесь маленькие, совсем уже «карточные», но зелени так же много, вода, в виде хотя бы крохотного прудка, около каждого домика; бамбуковые изгороди всюду причудливо изукрашены: сквозь легкие, задвигающиеся только на ночь наружные стены видны поразительной чистоты каморки, в которых в холодное время года дымятся жаровни (печек японцы не знают). Все домики крыты черной черепицей и лишь по краям своих скатов, окаймлены белой черепицей. Косяки крыш всегда украшены всевозможной замысловатой резьбой. Все миниатюрно, но все гармонично – и постройки и люди…
Зато улицы Токио не только в таких его частях, как Гондио и Митси, но и в лучших – первобытные улицы, улицы вовсе не столицы, а глухих деревень. Почва Токио вся волнистая, и японцы, вообще чистоплотные, не находят нужным мостить улицы. Оттого летом всегда стоит пыль, в дождливое время невообразимая слякоть, а зимою, когда земля здесь покрывается снегом, то даже снеговой покров не уравнивает ее неровностей. Впрочем, экипажное движение в Токио невелико. Богачи предпочитают паланкины, люди среднего достояния пользуются услугами дженирикшей – возчиков, заменяющих собой для небольшой легкой коляски лошадь, большинство же ходят пешком, находя этот способ передвижения наиболее целесообразным и удобным.
Из Токио выходят две большие дороги. Одна, носящая название Токаидо, пролегает по равнинной части побережья Ниппона, другая – Тозаидо, или Ноказоаидо, ведет по горам в глубь острова. Обе эти дороги соединяют Токио с Киото, или, иначе, Миако, древнейшей резиденцией микадо – «Афинами Японии», как образно прозвали этот город европейские путешественники.
Как бы то ни было, несмотря на свою внешнюю красоту, на массу зелени, своим расположением и постройками Токио производит на европейца далеко не благоприятное впечатление и вовсе уже не заслуживает названия «азиатского Парижа», как его окрестили некоторые из энтузиастов, которым здесь смекалистые японские гиды показали кое-что, но не все. Токио – уже не японский город, но вместе с тем и не европейский. Это единственный город в стране микадо, где можно видеть японскую жизнь, заключенную до некоторой степени в европейские рамки. Японские части города, то есть Гондио и Митси, лежащие вне обоих колец каналов, имеют вид слившихся между собою деревень. Около трехсот тысяч домиков расположились на площади, равной по своей величине Парижу, и образуют запутанную сеть улиц и переулков. Только новые кварталы, построенные вокруг устья Сумидагавы на отвоеванном у моря болотистом берегу (Синагава), разбиты на правильные квадраты, перенятые у американцев. Там же находится и квартал иностранцев Токиджи с многочисленными купцами, главным образом арматорами и импортерами, и целой армией черного коршунья – всевозможных миссионеров, налетевших сюда на разведку под предлогом «просвещения» всевозможными истинами сынов Страны восходящего солнца, впрочем, никак не поддающихся их хитрым бредням.
В последние годы перед войной Токио заметно начал перестраиваться. Грандиозные пожары, о каких ни в Европе, ни в Америке не могут иметь даже приблизительное представление, уничтожают целые части столицы. Все эти бесчисленные домики из бумаги и сухого дерева горят, словно коробки из-под спичек, тысячами, как только начинается пожар. Токийские пожарные, как только появляется пламя, вовсе не принимаются тушить его или бороться с ним; их работа сводится исключительно к разрушению всего, что находится близко к месту пожара. «Цветок Иедо – огонь», – гласит японская пословица. И в самом деле, Токио горит так часто, что почти все токийцы имеют в запасе полный набор материала сборки своего жилища на тот случай, если оно сгорит.
Многие долго живущие в Токио прямо уверяют, что если у японца огонь утром уничтожит дом, то к вечеру он уже поселится в новом…
Такова быстрота, с какой собирают и возводят токийцы, да и не одни они, а все вообще обитатели этой страны, свои жилые постройки.
Итак, с первого взгляда видно, что японцы – народ в высшей степени своеобразный, да таковы они и на самом деле.
2. Япония и японцы
Странное впечатление производит современный японец на всякого европейца, который начал бы присматриваться к нему.
Прежде всего, кто бы ни был, верховный ли сановник, вельможа ли, беднейший ли землевладелец или рыбак с далеких северных островов, это человек высшей в себе самом замкнутости, это какой-то сфинкс, постоянно таящий загадку…
Нельзя сказать, чтобы желтоватое лицо японца решительно ничего не выражало. Напротив того, хотя оно, быть может, на европейский взгляд и некрасиво, ибо самая структура его чужда всяким европейским представлениям о человеческой физиономии и скорее, с европейской точки зрения, напоминает лицо обезьяны или вообще какого-то человекообразного зверя, оно все-таки отражает и несомненный ум, и способность глубоко воспринимать всевозможные ощущения. В черных глубоких, как бездна, глазах японца сверкают и огоньки, и гордость, и любовь, и ненависть, но в то же время это постоянно человек в какой-то маске. Японец всегда улыбается. Без улыбки на желтом лице он прямо-таки немыслим. Путешественники с насмешкой говорят, что японец если во сне увидит кого-нибудь, то и тогда непременно начинает улыбаться. Однако эта улыбка безусловно декоративная. В ней не существует даже малейший намек на какое бы то ни было чувство. Человек просто изобрел манеру внешним образом прикрывать от другого свои мысли, свои чувства и пользуется декорацией, никогда не изменяющей ему при всяких случаях жизни.
Что скрывается под этой улыбкой, никакой сторонний наблюдатель не скажет.
Говорят, что японцы как народ далеко не умны, что ум в них заменяется хитростью и ее постоянными спутниками – лживостью, лукавством, даже вероломством: уверяют, что японцы неспособны ни к какой инициативе, что они могут только перенимать, прилаживая перенятое на свой лад. Может быть, все это и так, но умников и в Европе не бог весть какое число, а лживых, лукавых и вероломных людей в общей своей сложности гораздо больше, чем всего народонаселения Японии, включая сюда даже и дикарей-айнов. Не будем же ставить этому народу в вину типичную его черту характера. Хитрость, какая бы она ни была, все-таки есть подобие ума, а доброта, например хотя бы русская, даже и по пословице «до добра не доводит»…
То, что сделали японская хитрость и переимчивость, это мы видим теперь, когда Япония достигла зенита своего мирового могущества. Менее чем в сорок лет своей новейшей истории страна, столь же замкнутая, как и ее обитатели, так пышно расцвела, поднялась на столь высокую ступень общемировой культуры, собрала такие силы и физической, и умственной мощи, что смогла приобрести успехи в борьбе со считавшимся дотоле непобедимым народом.
Поэтому мы думаем, что читатели не посетуют, если, несколько отвлекшись, мы постараемся дать здесь по возможности краткий очерк Японии в географическом, этнографическом и социальном положениях.
Прежде всего немного географии.
Однажды могучий бог воздуха Изаначих поднял свое блестящее копье и со всего размаха ударил им по водам моря.
И был тот удар очень силен, и пристала вода морская к копью Изаначиха, а самое море, где он ударил копьем, стало желтым, потому что копье Изаначиха было желто, как луч солнца. И поднял бог Изаначих свое копье древком вверх, и опустил его острием к морю. И капли приставшей к острию копья воды падали в море. Где падала капля, там появилась земля. И было восемь упавших капель, и стало восемь островов.
Так говорит японская легенда о первом появлении Японского архипелага.
Свой архипелаг японцы назвали Ниппон, или Нихон, и уже впоследствии начали называть свою страну Япенкуо, то есть Страна восходящего солнца. Японские прозаики зовут свою родину Финсиното, поэты – Ямани, то есть Ворота гор.
Японский архипелаг состоит из 3800 островов. Конечно, в этот счет входят и самые мелкие, но и наиболее заметных насчитывается немало – 523, и эти-то острова и составляют собственно Японию.
Три наибольших острова – Хондо (Ниппон у европейцев), Кюсю, Сикоку вместе с несколькими меньшими составляют ядро страны – Старую Японию. Остальные острова со вторым по величине в архипелаге островом – Иессо (первый – Хондо, или Ниппон) считаются уже Новой Японией. Всего площадь Японии занимает в настоящее время семь тысяч триста сорок две квадратные мили и омывается водами морей: Охотского, Японского, Средиземно-Японского (Внутреннего) и Восточно-Китайского, представляющих собой части Тихого океана. На этих водах архипелаг расположился в виде причудливой гирлянды, начинаясь на северо-востоке у Лаперузова пролива и заканчиваясь на юго-востоке островами Лиукиу и имея в своем составе еще остров Тайвань, или, по европейскому наименованию, Формозу, приобретенную Японией в позднейшее время – после китайской войны 1894 года.
Японский архипелаг, несомненно, вулканического происхождения. Об этом свидетельствуют множество потухших вулканов на горных грядах, в изобилии перерезывающих острова. Один из вулканов, действующий до сих пор, – Фудзияма, священная гора, к которой ежегодно приходят на поклонение несколько десятков тысяч паломников, совершающих восхождение, кто по благочестному обету, кто в качестве эпитимьи в искупление какого-либо греха. По древнему преданию, скрывающему в себе, по всей вероятности, известие о каком-либо особенно сильном землетрясении, Фудзияма появилась из-под земли в одну ночь более чем за две тысячи лет до настоящего времени.
Здесь следует сказать, что землетрясения в Японии периодичны и, по свидетельству многих геологов, редко проходит трехлетие, чтобы на Японию не приходилось более или менее сильное колебание почвы.
Другим бичом Японских островов являются тайфуны – ужасные ветры, порой достигающие страшной силы. Главным образом тайфуны свирепствуют на море, но, заходя и на сушу, они причиняют там страшные опустошения, иногда разрушая целые японские городки.
К тайфунам как бедствию могут быть присоединены также и частые ливни – ливни такой силы, что европеец не в состоянии даже представить их себе. Целые моря воды низвергаются с небес на сушу и часто в один час уничтожают у земледельца труды нескольких месяцев.
Между тем климат Японии можно было бы назвать благодатным. По своему географическому положению она соответствует странам, лежащим в Европе на побережье Средиземного моря, то есть самым благодатным по климату. Однако холодные северо-западные муссоны зимой, теплые и влажные муссоны летом делают то, что зима в Японии холодная, даже студеная, с температурой (кроме Формозы и островов Лиукиу) ниже нуля, с морозами в Токио в 3–4, а иногда и ниже градусов, лето же стоит влажное, изобилующее атмосферными осадками, а это вовсе не способствует благоприятности климатических условий.
Однако Токио лежит в одной из наилучших по климату местностей Японии.
Японские острова, как сказано выше, окружены морями, но и на внутреннее орошение японцы не могут пожаловаться. Кроме Сумидагавы, близ которой расположился Токио, наиболее значительны реки (гава – по японски река) Ишикари на острове Иессо, Козе, Тоне, Тонриу, Кишими на Хондо (Ниппоне).
Это обилие рек имеет свою хорошую сторону даже в этой чрезмерно изобилующей влагою стране.
Японские острова вулканического происхождения, и почва на них наносная. Местами слой ее совсем ничтожен, и труд земледельца здесь именно тот, о котором сказано: «В поте лица своего будешь добывать хлеб свой». Землетрясения, тайфуны, ливни – все это должно пагубно влиять на земледелие, главным образом разведение риса, но человек своим упорством превозмогает все, даже природу. Японские земледельцы с величайшим терпением, трудом и любовью возделывают клочки наносной почвы; огромные площади превращаются в прекрасные нивы. Поля появляются там, где, казалось бы, должен был быть один голый камень. Но сколько забот, сколько любви, повторяем, вкладывается этими людьми в дело! В то время когда у соседей урожай сам-семьдесят, сам-восемьдесят считается чуть не чудом, на японских нивах урожай сам-восемьсот, сам-девятьсот – далеко не редкость… Это свидетельствуют даже многие серьезные и заслуживающие полнейшего доверия русские агрономы и сельские хозяева. Зерно перед посевом выбирается, моется, очищается и сажается, сажается прямо руками, и в результате урожай, доходящий до сам-двухтысячный! И это при чрезвычайно неблагоприятных условиях, при вулканической почве с жидким наносным слоем чернозема, при тайфунах, при ливнях!
Эта борьба и сделала, как кажется, японцев не столько замкнутыми в самих себя, сколько самоуглубленными. Этот народ давным-давно уже познал великую истину: «Человек человеку – волк». Тяжелейшая борьба за существование уединила японца. Он невольно видел в каждом себе подобном врага. Природа не отпустила этим людям в дар физических сил (физически японцы слабы), но в изобилии оделила их хитростью, сметливостью, умением приспосабливаться ко всяким обстоятельствам.
Несмотря на отсутствие силачей, в Японии процветает профессия борцов; но искусство главным образом состоит в умении с меньшими силами побеждать сильнейшего противника, и существуют школы, где молодежи преподается это искусство, называемое джиу-джитсу и определяемое весьма точно выражением: побеждать подчинением. В некоторых японских университетах существуют даже профессора этого искусства.
Для любителей этого рода искусства скажем, что правила японской борьбы значительно отличаются от известных правил французской, швейцарской и др. Выступив на арену, сумотори (то есть борцы) поливают свое голое тело водой, берут в рот немного соли, затем становятся друг против друга, по сигналу опускаются на колени и упираются руками в землю. Новый сигнал – и они вскакивают, как вздернутые невидимой пружиной, и начинается ряд схваток. Не только ударять, но и толкать противника нельзя. Касаться земли можно только подошвами; кто упал на колени или коснулся хотя бы локтем земли, тот уже побежден. Таким образом, возня двух громадных тел на земле, как это допускается «по-французски», вызвала бы у японцев смех; они бы сказали, что оба борца никуда не годятся.
В Японии профессиональная борьба, во-первых, есть плод специальной науки, скрытой от публики; во-вторых, она служит отражением общего принципа, направляющего японскую жизнь: побеждай подчинением. В борьбе, подчиняясь, уступая, борящийся ловит момент, когда всякую силу стоит только толкнуть пальцем – и она валится на землю. При напряжении каждого мускула этот момент всегда имеется. Надо только его не упустить, а этому помогают знание человеческого тела и хладнокровное наблюдение за ним во время борьбы. У каждого равновесия есть самая рискованная точка – стоит только уметь ею воспользоваться, вот и все. Известный путешественник по Японии Воллан описывает картинку, как на его глазах один могучий американский боксер, снисходительно согласившись на борьбу с тшедушным японцем, через несколько минут лежал пластом на земле. Другой японовед, Гессе Вартег, касаясь таинственной науки джиу-джитсу, называет ее «системой философской, экономической и этической». Он хочет сказать, что этот принцип – побеждать сильного выжидательным отступлением – проникает во все отношения японской жизни. Распространение его Вартег видит и в отношениях японца к европейцам. Уступая напору европейской цивилизации, японец быстро сообразуется с обстоятельствами, подчиняется нахлынувшей силе, но затем, чтоб победить ее в удачный момент рискованного равновесия.
«Джиу-джитсу, – говорит Вартег, – учит, что силе нужно противопоставить не силу, а нужно ловко направить чужую, силу для своей пользы; оно учит, в противоположность учению европейцев действовать прямым путем, действовать кривыми путями». Европейцам следует помнить (такова по крайней мере мысль Вартега), что все отношение японцев к иностранцам – это не что иное, как то же джиу-джитсу. В течение последних десяти лет в этом был основной тон всей японской политики, и если Япония успешно выходила из различных кризисов, то только благодаря применению этого джиу-джитсу японскими государственными людьми…
В таком широком обобщении Вартега можно усмотреть некоторое преувеличение, но не подлежит сомнению, что японцы в большой мере руководятся правилом: подчиняясь, побеждай. Этот руководящий во всем принцип обусловливается природной физической слабостью: он рожден и формулирован слабым телом, которое должно было искать иного средства в состязании за жизнь. Оттого-то и постоянная улыбка на желтом лице японца. Он ждет, он выжидает, он ловит момент, когда он будет в состоянии осилить врага, и осилить наверняка.
3. Особенности японского быта
Японцы слабосильны и малы ростом. Два с восьмой аршина – вот средний рост японца. С таким ростом в России едва принимают в рекруты, да и то такого роста новобранцы чаще всего попадают в нестроевые части. По росту, конечно, и вес. Средний вес японца 3 пуда 17 фунтов. Цвет кожи у японцев желтый, но с буроватым и бледным оттенком, причем японские щеки не знают румянца. Телосложения японцы пропорционального, крепкого; большинство из них широкоплечи, ловки, нелегко утомляются, но в то же время самая распространенная на Японских островах болезнь – это малокровие, обусловливаемое их питанием: японцы питаются главным образом рисом и рыбой – пищей, содержащей слишком мало белков и вообще жировых веществ. Писанием же объясняется чрезмерное распространение среди японцев болезни какке, почему-то прозванной европейцами «бери-бери»; затем холера, оспа, проказа, бугорчатая чахотка также уносят массу жизней.
Зато в Японии почти неизвестны болезни, порождаемые нечистоплотностью. Японцы все вообще – и нищие, и земледельцы, и высшие сановники – чистоплотны до крайних пределов. Ежедневные ванны укрепляют их слабое тело и вместе с тем очищают его от всякой нанесенной на него за день нечистоты. Более состоятельные люди принимают ванну по нескольку раз в день.
В жилищах японцев всегда царят образцовый порядок и безукоризненная чистота. Несмотря на то что японец живет, почти выставляя свою жизнь на улицу, он смотрит на свой дом как на место отдыха от труднейшей борьбы за существование. Семья – это именно та тихая пристань, где японец находит себе покой от повседневных бурь.
Но и семья у японцев составляется весьма своеобразно.
Японец в высшей степени чадолюбив. Дети для него – цель его жизни, зато на прошлое подруги своей жизни он смотрит без европейской брезгливости. Японские женихи не желают знать ничего о прошлом своих невест и требуют от них физической (никакой иной японцы не признают даже под натиском европейского влияния) верности лишь после вступления в брак. До брака девушка совершенно свободна в своих сердечных делах, и сперва располагать ею могут родители, как им это представляется наиболее выгодным, а потом право распоряжения самой собой переходит к ней лично. Но, вступая в брак, японка становится целомудреннейшей матроной, для которой во всем мире существует лишь один только муж, и никто более!
Не такому ли именно взгляду на взаимоотношения супругов и обязана счастливая Япония тем, что рождаемость в этой стране все прогрессирует и с 1878 года превышает даже смертность. В отношении последнего только одна Россия мало отстает от Японии, занимая по количеству рождений второе после нее место.
Дома японка – полная госпожа, но в то же время она как будто находится в рабском повиновении у своего супруга. Но, конечно, все это только с виду. Японец-супруг, кто бы он ни был, нежно любит свою жену и охотно исполняет все ее капризы, лишь бы это имело вид, будто он делает это по своему почину, по свободной воле, без всяких побудительных со стороны причин. Между японскими супругами всегда ведется политика, и самая утонченная. С лица японца или японки даже в те мгновения, когда они находятся с глазу на глаз, не сходит та же таинственная улыбка. Жена на улице никогда не идет рядом с мужем, а всегда или следует за ним, держа над ним в дождь или зной зонтик, или впереди него, открывая ему путь или светя фонарем, если идти приходится ночью. Но таким почтением японка обязана не только по отношению к супругу, но и ко всякому, кто старше ее годами. Всякому пожилому мужчине она должна уступать дорогу, сходя в сторону. Оставаясь наедине с мужем, японка также не видит от него никаких нежностей, кроме разве ласкового взгляда, да и то обращенного на нее тайком. Но зато она знает, что ее супруг и повелитель если любит, то любит ее одну и никакая другая женщина никогда не займет ее места в его сердце.
Вышеупомянутый японовед Гессе Вартег дает недурную характеристику японской любви. Известно, что язык этого чувства везде одинаков; мимика, жесты, выражение лица в деле любви, так сказать, общеприняты, но общеприняты только в Европе: англичанка отлично понимает француза, а француженка хорошо понимает русского. Восточная Азия выражает любовь по-своему. «Какое огромное значение, – восклицает Вартег, – имеет у нас взгляд, незаметное рукопожатие! А японке можно сколько угодно подмигивать, можно очень крепко жать ей руки, но все напрасно». Ей неизвестно значение нашего поцелуя, и если восхищенный путешественник пожелает прикоснуться к ее губам, то она только испугается, что он сотрет краску с ее губ. В Японии нет ни рукопожатий, ни объятий. Когда японцы, муж и жена или жених с невестой, свидятся после долгой разлуки – их радость выражается не словами, а только восторженным, молчаливым созерцанием друг друга. Там нет ласкательных слов: «милая», «душенька», «голубчик» и т. п.; даже интонация голоса не меняется. В одной популярной балладе, которую японцы так же почитают, как мы своих великих поэтов, рассказывается о двух влюбленных, разлученных жестокой судьбою. После долгих и мучительных поисков они случайно встречаются в каком-то храме. Конечно, любой европейский романист или поэт заставил бы их в припадке радости со счастливыми слезами на глазах броситься друг другу в объятия. Что же делают влюбленные в японской балладе? Они молча смотрят друг другу в глаза и только потом начинают гладить друг друга.
Зато японская женщина совершенно отсутствует в обществе. Японка-жена существует исключительно для семейного очага. Европейские балы, выезды, вечера японкам совершенно неизвестны и не только в простых и средних кругах японского общества, но даже и в высших…
Лишь в последнее время, под натиском европеизма, японские аристократки стали появляться в так называемом «обществе». Но и то они исполняют лишь роль в скучной для них комедии, стремясь уйти за свои ширмы, как только эта комедия кончается…
Отсутствие семейной жизни в общественных сношениях восполняется гейшами (гей-сиа). Устраивая званый вечер, самый добродетельный семьянин возлагает увеселение гостей не на семейных, а на гейш. По окончании вечера хозяину подается счет, где высчитаны не только вокальные и танцевальные номера, но и остроумные рассказы, которыми гейша забавляла гостей.
Здесь вполне уместно рассеять общераспространенное мнение о гейше как о каком-то погибшем существе, изображать которое на театральных сценах не находит неприличным даже наистрожайшая театральная цензура, а показывать которых своим дочкам на тех же сценах считают возможным даже российские добродетельные маменьки.
Три разряда «общественных женщин», существует в Японии: мусмэ, майко и гейша. Но в сущности своей их «общественность» сводится к тому же, к чему и общественность расторопной прислуги во всей Европе.
Обратимся к тому же Вартегу, давшему наилучшие очерки современной Японии.
В Японии можно прожить целые годы и не быть знакомым с женой вашего приятеля-японца. Японец высшего общества, приглашая вас на обед, обыкновенно дает вам адрес какого-нибудь чайного дома, куда и просит пожаловать. Вместо его жены или дочерей вас угощают и развлекают девушки, нанятые для этого по часам. Они шутят, поют, танцуют. С этим своеобразным обычаем европеец знакомится тотчас по приезде. Переступив порог гостиницы, вы прежде всего по необходимости отдаетесь ласковому вниманию трех-четырех очень молоденьких девушек. Они бросаются перед вами на пол, грациозно опускаются на колени, откидываются корпусом назад и кланяются вам почти до земли. Потом они быстро вскакивают, отбирают ваш багаж, кладут мягкую подушку на пол… садитесь! К ногам вашим, как только вы расположились по-японски на полу, опускается одна из девушек и тащит с вас сапоги. Не сопротивляйтесь этой неожиданной любезности – в Японии так уж принято. Затем девушки сдвигают несколько деревянных рам с натянутой белой бумагой (ширмы); образуется четырехугольник. Это ваш номер, в котором нет ни дверей, никакого запора. Маленькие девушки, вечно улыбаясь, то и дело раздвигают стены номера и являются с различными услугами. Девица по имени Солнечный свет приносит широкий японский халат – кимоно. Девица по имени Маков цвет приготовляет постель, а та, которую зовут Весна, делает вам ванну и даже помогает вам раздеваться. Невиданная святая простота! После ванны эти веселые и бесконечно любезные прислужницы приготовляют завтрак, приносят низенький столик с различными кушаньями и непременно с чаем (японцы говорят – «ча»). Мебели, как известно, не полагается; потрудитесь располагаться на подушках, заменяющих стулья. Когда вы кушаете, девушки бесшумно входят и выходят, наливая на ходу теплую рисовую водку в вашу чашечку, поправляя белые палочки, которые здесь заменяют наши ножи и вилки.
Эта женская профессия существует в Японии везде: ею занимаются девушки от 15 до 17, редко до 20 лет. Их называют мусмэ. Они ходят за вами по пятам и прислуживают. По словам Вартега, «ничего нельзя сделать без того, чтобы при вас не была какая-нибудь мусмэ; даже в таких случаях, когда нужно быть одному». Мусмэ все умеет. Если вы желаете послушать музыку, являются две девушки с самизеном (гитара) и с котой (цитра) в руках и перебирают на струнах незнакомую мелодию. Если желаете посмотреть танцы, то сколько угодно: являются танцовщицы, одетые в расшитые платья, и начинают увеселять. Каждый ваш уход из номера, из гостиницы обязательно сопровождается низкими поклонами мусмэ, их улыбками и приветливым сайанара, т. е. «до свидания».
Это мусмэ.
Что касается майко (танцовщиц) и гейш (певиц), то они живут у родителей или у своих учителей и оттуда их приглашают на определенное время к какому-нибудь торжеству за известную плату. Майко по истечении нескольких лет, посвященных развлечению мужчин танцами, становятся гейшами, и пение оплачивается дороже, чем танцы. До 25 лет, не больше, гейши служат своему искусству и затем сходят со сцены, уступая место более молодым.
Гейша обязывается увеселять, но без потери своего женского достоинства. Это просто свободная певица, музыкантша, неизбежная участница сколько-нибудь торжественных пиров. Известный русский синолог и вместе с тем знаток Японии доктор Корсаков говорит, что гейша столь же честно зарабатывает кусок хлеба своим талантом, как и ее собратья по искусству. Она «разгоняет людскую печаль; заставляет задумываться беспечную молодость, воскрешая пред ней величавые образы родной старины; хоть на время уносит зрелый возраст от гнетущих злободневных забот». Как видите, наши оперетки о гейшах дают извращенные понятия об этой профессии японских женщин. С кем можно сравнить гейшу? Это не певица в нашем смысле, исполняющая по нотам; она и не декламаторша, читающая разученные монологи. От гейши прежде всего требуются находчивость, остроумие, импровизация; она увеселяет не по программе, не по расписанию, а так, как ей подскажет ее веселый, шаловливый темперамент.
Гейша очаровательна не любовными чарами, а своим умом, живостью, литературным развитием, даже не музыкой и пением, которые являются ее прямой обязанностью. Ее музыка скучна, а пение для европейского уха подчас невыносимо, как кошачье мяуканье. Гейша обольстительна для того, кто понимает японский язык и, следовательно, кто поймет ее блеск остроумия и ее большие познания в сфере литературы и искусств. Спрашивается, чем же так увлекаются все путешественники, которым чужд японский язык? Единственно молодостью гейши, ее природной нежностью и удивительной живостью.
«Если гейша даже некрасива, – замечает Вартег, – все же в ней есть какая-то притягательная сила».
Таким образом, мусмэ заботятся о ваших личных удобствах, майко развлекают танцами и драматическими представлениями, а с гейшами можете побеседовать о чем угодно, ибо они получили образование и достаточно интеллигентны.
Таковы особенности японской жизни – жизни народа, с которым русским пришлось так близко познакомиться на полях кровавых битв…
4. У дворца
В один дождливый день по главной улице Сотосиро, направляясь к стенам, вернее, ко рву, окружающему стены императорского дворца, бежала толпа подростков – мальчиков и девочек. Вся эта мелюзга горланила, вопила на все лады, а прохожие только с улыбками останавливались и глядели на маленьких шалунов, начинавших при этом каждый раз горланить все сильнее, все громче.
Большинство ребятишек в этой толпе, судя по подвешенным сбоку сумочкам, были школьники и школьницы. Некоторые из них были одеты в красивые европейские костюмчики, но большинство было в ярко-желтых и грязных халатиках – хиромоно, надетых прямо на голое тело.
Все ребята были чем-то возбуждены. В этом их возбуждении сгладилась всякая классовая разница. Дети богачей и бедняков все сошлись вместе, все слились в одном чувстве, и чувстве, казалось бы, совсем не детском.
В невообразимом ребячьем гомоне был слышен некоторый ритм. Ребята не просто орали, как обыкновенно орут выпущенные на волю школяры, они пели. Если бы передать по-русски их песню, то вышло бы следующее:
Убивайте! Убивайте! Убивайте! Убивайте! Убивайте до тех пор, пока струится кровь! Убивайте!Во всякой другой стране такая кровожадность и в столь юном возрасте возбудила бы в одних взрослых отвращение, в других – порицание, и, вероятно, уже за один подобный шум русские школьники вкусили бы немалое количество не особенно любимого ими кушанья – «березовой каши». Но эти дети были граждане свободной Японии; их отцы и, стало быть, они сами выплачивали все налоги – и прямые и косвенные, – и никто не решился бы им воспретить любить свое отечество и выражать свою любовь к нему так, как они находили это для себя нужным.
Дети манифестировали, и манифестация их была патриотическая.
Как раз перед этим токийские газеты возвестили, что некий русский путешественник посетил японскую школу. Ребятишки при входе гостя повскакали со своих мест, но, когда их наставник сообщил им национальность посетителя, они все, как будто кто-то невидимый подал им сигнал, в мертвом безмолвии опустились на свои места и обратили головы к окну, откуда были видны рейд и стоявшие на нем броненосцы.
Этот случай был в токийской торгово-мореходной школе 6 октября 1903 года.
Теперь школьники Токио по собственному почину, охваченные общим чувством ненависти к России, ненависти, причины которой вряд ли они могли уразуметь, устроили патриотическую манифестацию, являвшуюся как бы дополнением к выходке будущих мореходов.
Они направлялись к стенам Сиро.
Конечно, никто из них не надеялся, чтобы «божественный сын солнца», то есть их император, обратил внимание на этот их гомон, но они этого и не добивались. Они все в молчании и стройно подошли к воротам дворца и запели своими детскими голосами нарочно сочиненный для этого случая гимн, который в передаче по-русски означал следующее:
Победа! Победа! Как мы радостны и счастливы! Мы победили неприятеля! Мы перебили всех врагов! Какая радость! Какое восхищение! Мы таким же образом перебьем всех врагов микадо. Наш император, наша нация и наши родители Прислушиваются к нашим триумфам. Браво, знамя восходящего солнца! Потому, что ты блещешь в воздухе всеми цветами!Около поющих ребят собралась густая толпа. В ней были и скромные ремесленники в неизменных затасканных хиромоно, и купцы, и солдаты в своей европейской форме, в которой по клочкам соединилось все, что когда-либо носили на себе в последнее двадцатилетие европейские армии и матросы. Видно было много японцев в неуклюже сидевших на них европейских пальто. Эти люди старались держать себя свободно, развязно; они жестикулировали, бегло переговаривались между собою то по-английски, то даже по-русски и лишь изредка по-японски.
Кто прислушался бы к их лепету и к их отрывистым фразам и понял бы их, тот сейчас увидел бы, что большинство этих людей – японские журналисты, вернее, репортеры токийских газет, привлеченные шумной детской манифестацией.
– Сегодня, мистер Хиджава, соединенное заседание? – спрашивал один.
– Да, сегодня… Кинсенхонто, Сейюквай, а также другие более мелкие ассоциации, наконец, соединились для общего обсуждения вопроса о войне.
– Ито и Окума будут?
– Будут все! И наш славный Ито, и Окума, и Катцура, и Ямагата, и Кодама, и наши великие полководцы Ойяма и Хейкагиро Того… Все будут.
– А соши? Эти буйные головы, что?
– Соши давно уже требуют войны…
– Почему так долго медлили с собранием?
– Божественный микадо не давал своего соизволения… Он находил, что вопрос все еще недостаточно выяснен… Но война, война! Война необходима Ниппону, необходима как воздух, вода, рис… Зумато[5] дал горячую статью; он ясно доказал, что каждый день такого мира, какой мы переживаем теперь, убийственнее недели войны..
– Итак, все выяснится сегодня на собрании ассоциаций?
– Да… Соединение ассоциаций свидетельствует лишь о том, что назревший вопрос будет разрешен очень скоро…
– И тогда война?..
– Несомненно…
– С кем?
Хиджава пожал плечами, точь-в-точь как это делают европейцы, когда ими овладевает недоумение, и пробормотал:
– Пока это открытый вопрос… Но, Мурайяма, смотрите на народ.
Действительно, толпа, доселе безмолвно слушавшая довольно-таки нестройное пение детворы, вдруг пришла в неописуемый восторг.
– Банзай, банзай, Ниппон! – понеслись со всех сторон восторженные клики.
И вдруг случилось то, чего в столице Японии, казалось, и ожидать было невозможно.
– У-р-ра-а! – заревел, покрывая остальные довольно несильные голоса, чей-то одиночный голос.
Этот клич произвел впечатление пробежавшей электрической искры.
Сразу все, кто ни был около демонстрирующих ребят, смолкли. Неожиданный клич, хотя и на чужом, но все-таки хорошо знакомом языке был всеми понят и всколыхнул самые разнообразные чувства в этой толпе. Воцарилось очень неловкое молчание.
– Ороша, ороша![6] – пронесся в толпе сдержанный шепот.
Толпа как-то сразу расступилась и выделила из себя трех людей в европейских платьях.
– Перестаньте же, Иванов, пожалуйста!.. Уверяю вас, что не место и не время здесь показывать себя! Ведь я предупреждал вас!
– Уж простите, Александр Николаевич, – смущенно оправдывался тот, к кому была обращена речь, – уж больно ребята складно поют… Душа не стерпела, ну, я и ахнул…
– Кто это? – тихо спросил Хиджава у своего товарища.
– Разве вы не знаете? Молодой лейтенант Александр Тадзимано, постарше – его брат…
– А этот русский?
– Какой-то человек, которого лейтенант Тадзимано привез из Фриско.
– Как бы с ним не случилось неприятности! Здесь все так враждебно настроены против русских… За простой народ совсем нельзя поручиться…
– Нет, я думаю, что все обойдется благополучно… Пока невыгодно открывать наши карты… Наша же толпа в достаточной мере дисциплинированна.
– Но мы отметим в наших газетах столь непристойное поведение этого русского.
– Конечно, хотя по возможности в самых корректных выражениях… Лучше всего выразить сожаление по поводу малой культурности этой нации, представители которой не умеют прилично вести себя среди чужого народа…
– Я тоже в таком же духе… Смотрите, дети догадались прервать неловкое положение этого русского медведя…
Действительно, когда первое смущение прошло, ребятишки толпой окружили растерявшегося русского и прямо ему в лицо запели свое оглушительное: «Убивайте, убивайте, убивайте!».
Должно быть, в звуках этих детских голосов звучало слишком много искренней злобы, ненависти, презрения: Иванов – это был именно Василий Иванович Иванов, оставшийся при столь исключительных обстоятельствах в Сан-Франциско и теперь привезенный в Токио лейтенантом Тадзимано, возвратившимся на родину, – растерялся и, сам ничего не соображая, залепетал в ответ детям, когда они окончили свою кровожадную песню:
– Спасибо, деточки, спасибо, милые! Дай вам бог доброго здоровья, чествуете меня, худородного, совсем не по заслугам…
Не понимавший значения слов песни добряк вообразил, что собравшаяся детвора и в самом деле чествует его как гостя их страны…
В Токио, да и во всех прибрежных городах Японии русский язык пользуется большим распространением, и потому немудрено, что обращение Иванова было понято и возбудило громкий взрыв смеха.
– Пойдемте! – нетерпеливо взял его за руку лейтенант. – Брат Петр, – обратился он к своему спутнику, одетому в форму японского гвардейского офицера, – ты, вероятно, будешь ожидать нашего отца, а я отведу нашего гостя домой… Мы отвечаем за его неприкосновенность.
– Хорошо, брат Александр, – кротко ответил гвардеец, – отец вернется с собрания ассоциаций поздно, я буду сопровождать его и вернусь с ним. Ты дождешься нас?
– Непременно!.. Отец хочет что-то сказать мне. Теперь прощай…
Не выпуская руки Иванова, Александр Тадзимано поцеловался с братом, и гвардеец медленными, но размеренными шагами пошел вперед, не оглядываясь назад, на брата, несколько времени еще смотревшего ему вслед.
Пока происходил этот разговор, толпа детей и взрослых быстро рассеялась. Очевидно, братья Тадзимано пользовались в Токио большой популярностью, потому что достаточно было узнать, что русский находится под их непосредственным покровительством, чтобы все возбуждение мгновенно улеглось.
Иванов попал в Токио совсем неожиданно для себя. После происшествия в игорном доме во Фриско он был арестован, но этот арест был предпринят скорее в видах его же безопасности, чем как какая-нибудь кара. Американские законы весьма строги к жителям страны, но иностранцев судьи, даже и при наличии тяжких проступков, чаще всего приговаривают к выговорам, признавая за ними право оправдаться незнанием законов страны. Иванов же в сущности ничего особенного не сделал; было доказано, что он защищался, и судья в тот же день признал его оправданным от всякого обвинения. Но было уже поздно; когда Василия Ивановича выпустили, стоял уже белый день и «Наторигава» давно уже была в море. Иванов знал, что Контов направляется к Японским островам; он часто слыхал от него упоминание о Нагасаки, Йокогаме, Токио, но все это именно было для него пустыми звуками. Бедняга уже впадал в отчаяние, чувствуя свою беспомощность, когда к нему явился сам, без зова, лейтенант Тадзимано и предложил ему отправиться вместе с ним в Японию. Случилось так, что адмирал Того получил приказ от своего министра немедленно явиться обратно в Токио. Он должен был повиноваться, и все члены сопровождавшей его комиссии последовали за ним. Лейтенант Тадзимано вовсе и не был предупрежден Куманджеро о случившемся с Ивановым, а узнал о его безвыходном положении совершенно случайно. Ему стало искренне жаль курьезного бедняка, и он принял в нем участие.
Узнав от Василия Ивановича, что Контов должен был отправиться в Японию, лейтенант, не дожидаясь со стороны русского просьбы, сам предложил захватить его туда и даже обещал ему приют в своей семье до тех пор, пока не будет разыскан Андрей Николаевич.
Понятно, с каким восторгом принял Иванов это предложение…
Он вместе с японцами переправился через океан и очутился в Стране восходящего солнца.
Много диковинок увидел тут этот русский рабочий, много раз его терпение подвергалось жесточайшим испытаниям, однако свойственное русским людям добродушие помогало переносить все со сравнительной легкостью…
Но Иванов был бесконечно поражен, когда очутился в семье Тадзимано, так как никак не ожидал увидеть здесь что-либо подобное.
Глава семьи был безусловно русский человек.
Николай Тадзимано, отец лейтенанта и гвардейца, был уже старик, со всеми отличительными, типическими особенностями русского человека… Он был высок ростом, плечист, бел кожей, голубоглаз. Волосы на его голове и бороде были длинные, густые и притом седые. Черты лица были правильны, крупны, и в них не было ни малейшей общеяпонской приплюснутости. Лицевых скул не было заметно, русская речь была правильна, без запинки, – словом, в этом старике не было решительно ничего японского… По отношению к Иванову, чувствовавшему в его присутствии непонятную робость, он держал себя очень ласково, радушно, но с достоинством. Раз только Василий Иванович приметил, что на лице старика отразилось беспокойство. Это было, когда он рассказывал ему об Андрее Николаевиче Контове, но по свойственной всем русским недальновидности Иванов не придал этому беспокойству никакого значения…
Контов не отыскивался, Иванов продолжал жить в семье Тадзимано. Дети старика – два взрослых сына и подросток-дочь – относились к Иванову с сердечной ласковостью и искренней добротой, и бедняга чувствовал себя в этой семье, как среди своих близких родных.
5. Семья Тадзимано
Несмотря на переживаемое в то время Японией возбуждение, Иванов, не понимавший языка, не постигавший причин общенародной неприязни к русским, чувствовал себя далеко не плохо.
Молодые Тадзимано были к нему предупредительны; они часто отправлялись с ним гулять по Токио, избегая, впрочем, таких местностей, где можно было натолкнуться на сборища японских патриотов.
В одну из таких прогулок они очутились возле императорского дворца, около которого токийские школьники устроили свою шумную манифестацию.
Как в воду опущенный, побрел Иванов за молодым лейтенантом. Прост был этот русский человек, чист своим сердцем, но и он, наконец, понял, что случилось что-то не совсем хорошее…
Лейтенант ни слова не говорил, хотя в это мгновение он вовсе и не думал о своем русском спутнике, бредшем за ним с видом человека, в чем-то виноватого.
Как раз в этот день утром старик-отец поставил молодому человеку своего рода загадку. Он призвал его к себе, заговорил, как и всегда, ласково, но в разговоре предупредил его, что ждет от него некоторой услуги.
Сын недоумевал. Отец еще никогда не говорил с ним так, никогда ничего не просил от него, так что подобная просьба явилась для него новостью.
Недоумение молодого лейтенанта усилилось еще более, когда он услыхал, что отец желает, чтобы он взял у своего начальства отпуск и отправился по возможности с первым судном в Порт-Артур.
– Зачем это, отец? – решился спросить Александр.
– Ты об этом узнаешь после, – ответил старик, – скажи, согласен ли ты исполнить эту мою просьбу?..
– Отец! Разве ты мог сомневаться?
– Спасибо! Ты и твой брат были всегда хорошими сыновьями… Итак, готовься к отъезду… Я думаю, что отпуск, да еще в Порт-Артуре, тебе дадут безусловно… будь готов, русского гостя ты возьмешь с собою.
Более старик ничего не сказал, но и из этих немногих слов Александр понял, что отец намерен дать ему серьезное поручение.
Семья Тадзимано, в особенности старик – глава ее, пользовалась в Токио огромным уважением.
Старый Тадзимано действительно не был японцем. На Ниппоне были люди, прекрасно помнившие, как он впервые появился на соседнем Матсмае. Тогда говорили, что его подобрали после страшной бури на плоту, среди моря, рыбаки, привезли на берег, вернули к жизни, и с тех пор этот человек никогда не уходил с Японских островов, очень быстро натурализовавшись среди желтокожего народа. К какой национальности принадлежал он – этого не знали; поговаривали, что это русский, бежавший с Сахалина, но в Японии тогда гремело имя Дмитрия Мечникова, брата знаменитого русского ученого, стоявшего чуть ли не во главе японского правительства и оказавшего Японии величайшие услуги в ту эпоху, когда она особенно нуждалась в людях высокого ума, европейски образованных и готовых поработать в пользу просыпающегося от вековой спячки народа.
И потом много лет еще русские всегда пользовались расположением японцев. На Японских островах на них смотрели, как на добрых соседей, даже как на будущих союзников, и поэтому-то Николай Тадзимано легко мог стать своим среди желтокожих островитян…
Женитьба на природной японке, перешедшей в православие, воспитание детей в смысле преданности их родине укрепили симпатию к пришельцу, и даже 1894 год, когда в Японии вспыхнула страшнейшая неприязнь к России, перешедшая потом в страстную ненависть, не разрушила симпатий к постаревшему уже тогда Тадзимано.
То, что он был православным и все дети его были окрещены по православному обряду, никого не касалось, никого не пугало. Николай Тадзимано, успевший разбогатеть, пользовался неизменным уважением и был даже почетным членом в такой могущественной политической ассоциации, как Риквен-Сейюкваи, или просто Сейюкваи, руководимой мудрейшим создателем японской конституции маркизом Ито.
Оба сына Николая Тадзимано – Петр и Александр, в особенности последний, принадлежали к числу высшей японской молодежи. Гвардейская служба приблизила первого к придворным сферам, второй был любимцем народной гордости Японии – адмирала Хейкагиро Того, человека, умевшего всех, кто попадал к нему под начальство, покорять своей несокрушимой волей. К Александру Тадзимано суровый адмирал благоволил и старался по возможности двигать его вперед по службе, давая наиболее серьезные и ответственные поручения.
Кроме двух сыновей у Тадзимано была еще дочь Елена – веселый, живой подросток; она не носила в своем характере ничего японского, а типом очень отдаленно напоминала девушек своего народа.
Елена Тадзимано была в токийской женской школе и уже приближалась к окончанию в ней курса, в целом гораздо труднейшего, чем курс русских женских гимназий.
В общем, это была идеально согласная, крепко соединенная узами любви семья, державшаяся вся около своего главы и даже не думавшая о том времени, когда ей придется расстаться, ибо Петру и Александру давно уже подошла пора жениться, а Елена почти была просватана отцом за молодого дипломата Алексея Суза, дальнего родственника графа Ито.
Этот Суза, так же как и все Тадзимано, был православным, что нисколько не мешало ему быть ярым патриотом и ненавидеть Россию. Суза был также членом могущественной Сейюкваи, но вместе с тем принадлежал еще и к партии Соша – горячих молодых голов, союз которых некоторые из знатоков Японии называют анархистским, хотя на самом деле Соша – это просто пылкая молодежь, грезящая о величайшей славе своего отечества, причем в непременное основание этой славы закладывалось паназиатское могущество Японии.
Такова была эта семья (жена Тадзимано умерла за несколько лет до начала этого рассказа), семья честная, симпатичная, заслужившая полнейшее уважение всех, кто только знал ее.
Как ни мало был наблюдателен Иванов, но, очутившись в доме Тадзимано, и он сразу же, чуть ли не с первого взгляда, заметил, что попал в семью, где невольно для него чувствовалось что-то родное, что-то свое.
Дом Тадзимано на Сотосиро, поблизости от стен императорского дворца, был гораздо крупнее окружавших его домов; он и места занимал более, и самые зданьица его были несколько иного типа, чем все его соседи. Сказывалась привычка не выносить на улицу семейную жизнь: лицевая стена дома была глухая, хотя с очень большими, но все-таки из цветных стекол, окнами. Внутри дома были постоянные перегородки вместо обычных ширм, стояла европейская мебель: столы, стулья, и только множество резных безделушек и изобилие цветов свидетельствовали о любви хозяев к общеяпонским комнатным украшениям.
Но что всего более удивило и даже поразило Василия Ивановича, так это то, что в каждой комнатке дома Тадзимано были в передних углах православные иконы, а в самой большой комнате, заменявшей здесь зал, стоял большой богато разубранный киот с теплившимися перед образами лампадами.
Иванов даже не на шутку смутился, увидав такое обилие православных образов в семье, которую он считал японской, языческой…
Но с первого же дня он убедился, что все члены семьи – люди не только православные, но и глубоко набожные, тепло верующие. Даже молодые люди не начинали и не кончали дня без молитвы. И молились они все, по-православному творя крестные знамения. Молодежь была так же религиозна, как и старик, и Василий Иванович даже после первого беглого знакомства почувствовал ко всем величайшее уважение.
Он уже порядочно долго прожил среди этих удивительных для него людей и все еще оставался в недоумении, среди кого он находится: среди чужаков-японцев или среди своих-русаков…
Ответить себе на такой вопрос он не мог, но эта загадка несказанно интересовала его…
6. Микадо Муцухито
Петр Тадзимано, расставшись с братом, направился прямо к императорскому дворцу, куда он имел доступ в качестве офицера императорской гвардии.
Здесь он надеялся встретиться со своим будущим родственником – женихом сестры, Алексеем Суза, который незадолго перед этим вернулся из секретной поездки в Корею и уже несколько дней находился во дворце в ожидании, не потребует ли его сам «сын солнца» император Муцухито для объяснения по поводу представленного им доклада о своей поездке.
Молодой Петр Тадзимано часто бывал во дворце и превосходно знал все его апартаменты…
Что сделало всемогущее время с этим жилищем «сына солнца»!
На Японских островах было еще много стариков, хорошо помнивших то время, когда во дворце властвовали сегуны из рода Токугава, а «божественные» микадо – любимые «дети солнца» – были лишь птицами в золотой клетке.
Ведь все это было так еще недавно – всего лишь несколько десятков лет тому назад.
Так, еще недавно личность микадо, все, что окружало его, все, на что падал его взгляд, были священными, недосягаемыми для простых смертных и безграничный повелитель миллионов желтокожего народа был узником, тенью, рабом своего божественного положения.
Пять с лишком веков действительными владыками Японии были сегуны, то есть временные правители, вернее, представители «божественного» микадо во всем, что касалось земных дел. Власть сегунов была незыблемо прочна, и лишь в половине XVIII века, при тридцать втором сегуне Гейже Гогензаме, она начала пошатываться, ибо микадо начали порываться вон из своих золоченых темниц. Но они все-таки оставались пленниками, все-таки не могли сбросить с себя божественное, чтобы стать людьми, как и все. В обширных и однообразных деревянных дворцах, пожалуй, даже не столь великолепных, как дворцы сегунов, проводили всю свою жизнь японские микадо, отрезанные от всего мира, невидимые, в полном незнании величия и своеобразия своей страны.
Но вот в 1866 году умер микадо Комей и на престол вступил семнадцатилетний, каким-то путем успевший ознакомиться с действительной жизнью его сын Муцухито. Юноша видел, что жизнь идет вперед, а вместе с ней все движется вперед, все совершенствуется. Он видел, что вместе с движением жизни должна менять форму и власть, что сегунат как форма правления давно уже пережил себя и лишь тормозит благосостояние страны. Все это видел, все понимал умный, энергичный Муцухито и лишь ждал момента, чтобы разом опрокинуть весь старый порядок и дать своему народу такое устройство, которое обеспечивало бы ему мирный свободный труд и открывало бы путь к совершенству.
Толчок был дан оттуда, откуда его можно было ожидать менее всего.
Японские феодалы – даймиосы – все были за старый порядок, благодаря которому они являлись неограниченными властелинами жизни и смерти своих вассалов. Другими словами, они были за сегунов и против того, чтобы микадо выступали в качестве самостоятельных правителей. И вдруг удар сегунату, поддерживавшему старый порядок, был нанесен из рядов феодалов…
Один из них – даймиос Ямано-уны Тое-нобу, очевидно, успевший побывать за пределами Японии (Муцухито в первое же время после своего вступления на престол открыл для иностранцев порт Хиого), поднял грозный вопрос об уничтожении сегуната и о том, чтобы вся власть сосредоточивалась исключительно в руках микадо…
Муцухито только и ждал этого. Он объявил, что сегунат упразднен и что он, микадо, «божественный сын солнца», всю власть и на земле, и на небе принимает на себя одного.
Это было в сентябре 1867 года.
Сегуны не расстались добровольно с властью, со своим положением. Вспыхнуло кровопролитное междоусобие; на стороне сегунов были феодалы-даймиосы, за императором следовал народ. И этот народ победил, сегунат и феодализм пали, и даже название даймиосов было изъято из употребления. Муцухито стал фактическим императором Японии.
После пятивекового перерыва этот восемнадцатилетний юноша был первым японским микадо, увидевшим своими глазами рисовые поля своей родины, ее лесистые горы, ее деревни, села, города. Он был первым микадо, свободно вышедшим за стены своего монастыря-дворца и смело показавшим свое лицо своему народу.
И народ восторженно приветствовал своего повелителя, неуклонно следовал за ним путем предпринятых им великих реформ.
Император Муцухито стал тем же для Японии, чем император Петр Великий был для России. Реформы следовали одна за другой с поразительной быстротой. Муцухито сумел окружить себя умными, энергичными, дальновидными людьми, бескорыстно любившими свое отечество. Он оказал им полное доверие, но сам всегда старался первым подавать им примеры к совершенству, и инициатива всех великих реформ Японии исходила всегда непременно от микадо.
Здесь кстати будет заметить, что поэтический титул микадо принят для обозначения личности японского императора лишь в Европе. Япония его даже не знает. Официальный титул императора – «тенпо», что значит «божественный повелитель мира». Кроме этого, японцы титулуют своего императора еще «тенси», то есть «сын неба», «сондзо» – верховный властитель и «котен», то есть государь. Все эти титулы заимствованы японцами с китайского языка.
Но «микадо», или «тенпо», Муцухито, несмотря на то что потомки древних самураев, то есть служилых дворян, помогших ему одолеть даймиосов, поставили ему условия, сильно поурезавшие его власть, по крайней мере на земле, сам расширил эти условия и менее чем в тридцать лет поставил свою страну на такую высокую ступень культурного развития, что некоторые государства старой Европы, например Испания и другие, могли смотреть на Японию лишь снизу вверх.
Переустроена была вся армия, создан был флот, возрождено к жизни общественное мнение, дарована свобода слова, а 29 ноября 1890 года сам «божественный» микадо открыл первую сессию японского парламента согласно конституции своего мудрого сотрудника маркиза Ито – конституции, которая, по отзывам знатоков государственного права (например, профессора Трачевского), признается идеальной…
Что только случилось с умным, трудолюбивым народом!
Семя, посеянное императором Муцухито, дало великолепные всходы.
Страна восходящего солнца менее чем в сорок лет стала богата и могущественна как силой своего народного духа, так и силой своего оружия…
Для упрочения могущества Японии Муцухито понадобилась победа… Император собрал свои войска и победил, правда, старую руину Китай, но все-таки победил…
Тут случилось нечто уязвившее народное самолюбие: Япония не смогла воспользоваться плодами своей победы над Китаем…
Хитрый, скрытный народ затаил глубоко в себе чувство обиды, но мщение за нее стало всенародным лозунгом…
Немедленно начался поворот назад от всего европейского, но и этот маневр был исполнен японцами с замечательным искусством…
7. Тенпо и его жизнь
Поворот от европеизма вовсе не был регрессом Японии… Японцы просто последовали старинному правилу: «Я беру хорошее везде, где его нахожу», но при этом сумели не очутиться между двух стульев…
Такое «междустульное положение», между прочим, чрезвычайно метко характеризуется пословицею: «От своих отстали и к чужим не пристали».
С японским народом случилось обратное: они, взяв у Европы все хорошее, что было накоплено в течение тысячелетия этой старушкой в придачу к наследству Афин, Рима и Византии, от своего не отстали и к чужому не пристали. Японцы поняли, что для прогресса мало переодевания из национального хиромоно в европейский фрак. Они остались в своем просторном хиромоно, они не разорвали своей связи с родной для них стариной, не поколебали многовековых устоев своей народной жизни, они остались японцами, до самозабвения любящими свою родину, свои скалы, свое море, свое небо…
Пример этому японский народ видел свыше. «Божественный» микадо Муцухито подчинялся оковам европеизма лишь постольку, поскольку он считал это необходимым для своих политических целей. На приемах европейских и американских послов и дипломатов он являлся во всем блеске европейского парадного костюма, но, как только европейцы расходились из дворца, европейский сюртук сдавался гардеробмейстеру, европейские ордена – тоже, Муцухито из блестящего, даже на европейский взгляд, государя обращался в прежнего японского «тенси» – сына неба. Просторный, не стесняющий движений хиромоно облегал его плечи, стулья и кресла оставались пустыми, и Муцухито с наслаждением располагался с подобранными ногами на матрац. Все вокруг него сразу, как по мановению волшебной палочки, из европейского превращалось в старояпонское.
Недавние куги и даймиосы (князья и феодалы), уцелевшие от разгрома 1867 года, также сбрасывали свои европейские мундиры, фраки, сюртуки, облачались в такие же, как и император, хиромоно, конечно, победнее, и, входя на зов своего повелителя, падали ниц и на коленях подползали к нему, не смея поднять взоры на свое земное божество…
Возвращаясь домой, эти гордые вельможи, а также их супруги и семейные – чада, домочадцы, челядь – жили исключительно чисто японской старой жизнью. Этим поддерживалась их связь с народной массой, и благодаря этому даже последний етсо – презренный японский пария, самое имя которого в Японии произносится с отвращением (етсо занимаются «нечистым делом» – живодерством и кожевничеством, и самое слово это, заимствованное с китайского, в переводе означает «величайший стыд»), чувствовал в маркизе Ито, в графе Окума родственных себе людей, земляков, теснейше связанных с ним родной стариной и глубочайшей любовью к отечеству.
Уже одно то, что и первый сановник государства, и презренный пария одинаково падали ниц перед «сыном солнца», этим своим преклонением перед ним были тесно связаны, слиты друг с другом. Последствие этого было взаимодоверие друг к другу всех классов населения. Как гордый куга (князь царственной крови), думая о пользе своего Ниппона, вместе с тем думал и о благосостоянии етсо, так и этот последний, зная, что куга заботится о нем, слепо следовал по тому пути, который ему указывала высшая власть, и верил, что все, что ни делается там, вверху, в Сиро, делается лишь на пользу Ниппона, и, значит, на его, несчастного парии, пользу…
Духовная связь всех классов народа была тесна; народная масса оказывалась сплоченной, и тлетворные влияния Европы не действовали на японцев…
Даже во дворце своего микадо они могли видеть почтение своего земного божества ко всему ему родному…
Приемные покои дворца представляют собой чрезвычайно удачное сочетание европейского и японского стилей. Весь императорский дворец состоит из целого ряда одноэтажных построек, соединенных друг с другом. Каждая из этих построек имеет свою отдельную крышу, свои веранды, коридоры и по одному большому залу. Все эти постройки сделаны из дерева, но вместо раздвижных стен-ширм, какие обыкновенно бывают в японских частных домах, дворцовые постройки имеют очень прочные стены, обтянутые восхитительной шелковой парчой; потолки несколько углублены вверх и все украшены причудливой резьбой, живописью и позолотою в японском стиле, напоминая собой до некоторой степени внутренность храмов священного города японцев Киото.
Столовые разной величины убраны так же, как в европейских дворцах. В самой большой из них, рассчитанной на несколько сот человек, устраиваются три раза в год парадные завтраки, на которых, однако, не все бывает совсем по-европейски, как это сообщают иные путешественники. В некоторых случаях наши дипломаты, принимающие участие в этих завтраках, попадают в неловкое положение благодаря их чисто японским особенностям.
У более короткой стены, примыкающей к внутренним покоям императора, стоит маленький стол, от которого вдоль зала тянутся более длинные столы. За маленьким столом сидит обыкновенно император; за длинными же столами помещаются (и притом только по одной стороне, не имея визави) весь дипломатический корпус, министры и генералитет.
Завтраки начинаются обыкновенно в одиннадцать часов утра; вся посуда сфабрикована по образцу европейской, только по краям красуется государственный герб – цветок хризантемы; вместо же приборов лежат японские костяные палочки, которыми многие европейские дипломаты напрасно пытаются взять какое-нибудь кушанье. За маленьким столиком, недалеко от императора, сидит обыкновенно духовный глава царской семьи, руководитель синтоистских церемоний и культа предков, – обыкновенно какой-нибудь принц из царской семьи.
Если же императора Японии посещает член царственной семьи европейской державы, как это было при августейшем посещении микадо государем императором во время его путешествия в Японию в бытность наследником цесаревичем, или при посещении австрийского наследника престола, а также при визите германского принца, завтраки сервируются всегда в одном из меньших залов, но убранном с чисто азиатским великолепием.
Прилегающая к столовой большая гостиная убрана совершенно по-европейски мебелью исключительно немецкой работы. Посреди комнаты стоят два круглых дивана, над которыми возвышаются на деревянных пьедесталах две бронзовые группы аугсбургской работы, изображающие борьбу конных всадников с медведями и львами. По углам стоят европейской работы диванчики со столиками, а в простенках между окнами – севрские вазы и французская бронза.
Самый внушительный вид имеет большой тронный зал, где обыкновенно устраиваются торжественные новогодние приемы, а также приемы в день рождения микадо и в других исключительных случаях.
Тронный зал – высокая комната, стены и потолок которой так красиво отделаны, что могут составить гордость японского искусства, которое, кстати сказать, очень близко к современной европейской «декадентщине». Все японцы в восхищении от тронного зала императорского дворца. Здесь с потолка спускаются две хрустальные люстры со множеством электрических лампочек, которые, однако, редко зажигаются, так как в деревянных постройках очень боятся огня. Поэтому во дворце нет и каминов и зимою комнаты согреваются паровым отоплением. На низенькой, покрытой ковром эстраде, у одной из длинных стен зала, стоят два одинаковой величины тронных кресла немецкого изделия для обоих величеств под одним общим высоким, с пышными складками, бархатным балдахином. Вместо корон, украшающих обыкновенно в европейских дворцах балдахины и троны, тут везде красуются золотые цветы хризантем о семнадцати лепестках и три листка с тремя цветочками растения. Знаки достоинства японской власти остались в новой эре те же, какие были в прежние времена: священный меч микадо Уда девятого века и священное зеркало – эмблема богини солнца Тенно. Это зеркало было дано родоначальнику японской династии его матерью, богиней солнца, и с тех пор эта ценная безделушка хранится как самая драгоценная семейная святыня.
Уместно сказать здесь и несколько слов о торжественных приемах микадо.
В заранее назначенные дни празднеств император встает в два часа на рассвете и с соблюдением всяких церемоний принимает ванну; потом на него надевается древнеяпонское королевское одеяние, он в сопровождении самого тесного круга придворных отправляется в синтоистский храм, находящийся среди дворцовых построек; придворные не переступают дверей храма и располагаются у них ничком, лицом вниз, к земле, сохраняя такое положение все время, пока император молится у скрижалей своих предков. И только после этой церемонии старая Япония моментально исчезает и все снова возвращаются к обычаям и этикету, навеянному далеким европейским Западом.
Во время приема император и императрица помещаются на эстраде пред тронами; направо от них, у эстрады, стоят королевские принцы, а налево – принцессы; посланники, министры, генералы и прочие сановники дефилируют перед ними в таком же порядке, как при европейских дворах – особенно в Испании, – при звуках исполняемого оркестром национального гимна – того самого гимна, который существовал в Японии еще во время падения Римской империи и царствования Карла Великого.
Однако в своей частной жизни император сохранил в силе все чисто японские обычаи. В его апартаментах нет ничего европейского. Длинный голый коридор ведет от дворца к группе низеньких домиков, расположенных среди роскошных садов, и здесь император занимает три комнаты. В этих комнатах с невзрачными бумажными стенами совершенно пусто и голо; нет ни стула, ни кровати, никаких предметов удобства и европейского комфорта. Пол устлан плетеными циновками, и повелитель японского государства спит на твердом матраце. Здесь даже нет ванной комнаты, как у нас, в Европе, и император купается в деревянном чане так же, как последний из его подданных.
Император Муцухито вскоре после произведенной им революции женился на дочери влиятельного куга Ихио Тадака – Гаруке, которая была старше его на два года.
Если бы личность микадо не считалась в Японии такой божественной и так высоко парящей над всем земным, то он выигрывал бы, пожалуй, гораздо больше своей чистой национальностью, имея такую жену, как императрица Гарука (весна – по-японски). Она родилась в Киото и была третьей дочерью куга. Воспитана она была сообразно со строгими обычаями старой Японии; она изучала китайских классиков, японскую поэзию, игру на самизене (гитаре), шитье и вышивание. По выходе замуж за императора она по обычаю того времени зачернила себе зубы и сбрила брови. Но с тех пор как европейский дух проник в Японию, этот обычай упразднен. Теперь эта благородная женщина, носящая такое прекрасное имя, представляет собой обновленный тип японской аристократки; она мала ростом, обладает удивительно маленькими руками и продолговатым, узким лицом. Нужно думать, что очень немногие женщины в Японии расстались с живописным женским костюмом с таким сожалением, как она, и заменили его ботинками, корсетом, жесткими юбками и большими шляпами, и, нужно правду сказать, мало кому так не к лицу европейский костюм, как ей.
Брак Муцухито с Гарукой остался бездетным, но император имеет право взять себе столько жен, сколько он захочет, хотя только одна Гарука носит титул императрицы и живет во дворце.
Наследник престола, принц Иошихито Гарумония, сын императора и одной из его жен, Ианачивары, родился в 1879 году; о нем говорят как об очень живом, энергичном и честолюбивом человеке. Он получил образование в японской школе для привилегированных юношей, устроенной совсем по образцу подобных же европейских заведений.
Императрица ведет такую же жизнь, как и ее супруг. Она занимает во дворце три такие же, как и император, комнаты; тут же находится несколько комнат наследника престола, в которых он до своей женитьбы, последовавшей в 1900 году, жил во время своих посещений императорской четы. Каждый из многочисленных детей императора от разных жен имеет свой двор. Принцев крови с детства отдают на воспитание в разные семьи в стране; там они вырастают, и по мере того, как они становятся старше, их придворный штат увеличивается. От времени до времени их привозят погостить во дворец.
Придворная жизнь течет очень монотонно. При дворе бывает очень мало празднеств. Вечно занятый делами император, очевидно, не особенный любитель их. Иногда в честь его даются празднества родственниками царской семьи или княжескими семьями страны, и император охотно посещает их вместе с императрицей.
В обыкновенное время император ложится спать около полуночи и встает между шестью и семью часами утра. Затем он принимает министров и подписывает доложенные ему бумаги. В промежутке между завтраком (в 11 часов) и обедом (в 7 часов вечера) он занимается разного рода спортом: верховой ездой, стрельбой из лука и т. п. В восьмидесятых годах его уговорили было заняться изучением французского и английского языков, но он вскоре оставил эту мысль и до сих пор не владеет ни одним европейским языком.
Японский император показывается своему народу исключительно в европейском мундире с лентами или звездами орденов, введенных, конечно, очень недавно и с такими же подразделениями, как европейские ордена. По внешнему виду японские ордена пестры и некрасивы. Самый высший из них – орден Хризантемы, который дается только членам императорского дома.
Выезжает император обыкновенно в золоченой парадной карете с зеркальными окнами. Большей частью он сидит там один.
В феврале 1898 года впервые случилось, что император разрешил ехать вместе с собою императрице. Это было событие, неслыханное в летописях японского двора, – событие, которое являлось как бы косвенным признанием равноправия императрицы.
8. В приемной дворца
Петр Тадзимано нашел своего будущего родственника в небольшом приемном зале, смежном с рабочими апартаментами императора. Здесь ожидали высоких повелений все те, кому было приказано явиться во дворец для тех или других объяснений.
В отношении делового приема все являющиеся были уравнены между собой. Они, как бы высоко ни было их положение, непременно являлись сюда и терпеливо ожидали, пока их не позовут за портьеру, отделявшую зал от императорского кабинета. Вызов же зависел исключительно от одного микадо и от того дела, по которому являлся вызванный.
Иногда какой-нибудь мелкий чиновник или незначительный армейский офицер входили прежде всемогущего советника императора маркиза Ито, остававшегося ожидать приема, как бывали случаи, чуть ли не часами… Муцухито поступал тут как тончайший психолог. Он верно рассчитывал на то, что мелкота, принятая им ранее высокопоставленного вельможи, разнесет всюду в народе вести о справедливости, о внимании к делу его верховного главы, ставящего перед собою людей сообразно тому, чего они стоят в данный момент, а не тому, какое они при нем занимают положение.
Суза был в большом волнении, когда Петр увидел его.
– Как я рад, что ты, наконец, пришел! – воскликнул он, протягивая Тадзимано обе руки.
Они обнялись и даже поцеловались, несмотря на то что подобные изъявления дружеской нежности совсем не приняты среди японцев.
– Я знал, что тебя вызвали к нашему великому тенпо! – просто ответил Петр. – Я пришел бы и раньше, но меня задержал непредвиденный случай.
Он рассказал Алексею о детской манифестации перед дворцом.
– Да, – проговорил тот, – мы живем около великих, нет, величайших событий… Ужас охватывает, когда осмеливаешься заглянуть в будущее.
– Ты о войне? – спросил Петр.
– Да… Это бедствие неизбежно…
– Россия или Франция?
Суза пожал плечами.
– Кто знает! – задумчиво проговорил он. – Это до известной степени будет решено на тайном собрании ассоциаций…
– Говорю «до известной степени», потому что… – Он понизил голос до шепота и продолжал: – Его величество, конечно, тайно будет присутствовать на собрании и выслушает все мнения, которые только будут высказаны там. Высочайшему принадлежит последнее решение… великое решение… только он компетентен сказать свое решающее слово, но… но с Францией ли, с Россией ли – война неизбежна… Борьба с той и с другой нацией страшит всех нас. В этой борьбе, может быть, таится гибель Японии… Но что же делать?
Суза остановился.
– Ты знаешь, я был в правительственной командировке, – продолжал он с вдруг вспыхнувшей энергией, – я был в… Корее и, веришь ли ты, я пришел к непреложному убеждению, что без этой страны с ничтожным дряблым населением существование наше невозможно… Да, невозможно! – забывшись, повысил он голос. – Невозможно потому, что в ближайшем будущем нашему народу грозит голод… Население на наших островах прогрессивно увеличивается, почва истощается, а там… там огромные пространства невозделанной земли, и все это пропадает даром… А нам необходима земля, необходима во что бы то ни стало… Это борьба за существование… На собрании ассоциаций будут говорить, что Японии необходимо выйти на материк в силу принципа «Азия для азиатов». Но этот принцип – только декорация. Корея или Индокитай, но мы должны встать на материк, иначе смерть, смерть от голода… А кто хочет умирать? Среди отдельных личностей могут быть сознательные самоубийства, но никакой народ на самоубийство не решится. Он предпочтет отчаянную борьбу до конца…
– Не судишь ли ты слишком мрачно? – осторожно заметил Тадзимано.
– Нет. Я говорю лишь то, в чем уверен. Россия или Франция – которая? Услышим на собрании ассоциаций…
– Я боюсь борьбы с Францией, – задумчиво произнес Петр.
– А я – с Россией! – в тон ему воскликнул Суза.
– Кто чего боится? – раздался около них тихий голос.
Молодые люди вздрогнули и обернулись на него.
Около них, кротко улыбаясь, стоял Аррао Куманджеро, тот самый арматор, который заставил Контова переменить свои намерения и отправиться вместо Японских островов в Порт-Артур.
– Здравствуйте, – проговорил он, низко кланяясь, – я счастлив, что вижу вас здесь.
Куманджеро, хотя и сохранял прежний подобострастный вид, но выглядел теперь совсем иным человеком. Он как будто весь вырос, голос его звучал тверже, осанка выражала некоторую величественность, даже голос, сохранивший свои прежние нотки, тем не менее стал более громок и резок, а улыбка, не сходившая с его лица, стала еще неопределеннее, еще более расплывчатой.
Молодые люди ласково и даже почтительно поздоровались с ним.
– Я знаю, Суза, что вы только что вернулись из Кореи, – заговорил Куманджеро. – Все ли хорошо в Сеуле и как поживает мой старый друг корейский император? Утешился ли он в нежных объятиях прекрасной американки или красавица-немка вытеснила из его сердца прекрасную леди? А с вами, Тадзимано, мне нужно поговорить отдельно, – вдруг круто повернулся он к молодому метису.
Тот вежливо поклонился ему и сделал движение, чтобы отойти в сторону, но Куманджеро удержал его на месте.
– Будем все вместе! – проговорил он. – Будем все вместе! Вы правы, Суза, я кое-что слышал из того, что вы говорили… решительный миг настает… О, какое неожиданное зрелище увидит в самом непродолжительном времени мир…
– О каком зрелище говорите вы, Куманджеро? – спросил Тадзимано.
Тот скользнул по гвардейцу своим острым, проницательным взглядом.
– Вы ведь оба христиане, молодые люди? – произнес он вопросительно.
– Да, что же из этого?..
– Как христиане вы читали историю еврейского народа и знаете, что один мудрый еврей растолковывал какому-то древнему царю сон об истукане на глиняных ногах… Помните вы это еврейское сказание?
– Помню. Но какое же оно имеет отношение к теперешним событиям? – удивился Петр. – Значение этого сна, лучше сказать, слова пророка, давно уже истолковано и давно разъяснено, кого он провидел под этим великаном…
Куманджеро тихо засмеялся.
– Вы очень молодые люди, – внушительно произнес он, – и великий опыт жизни еще не умудрил вас… Вы много учились, но не постигаете того, что прошлое есть наставник настоящего и что события повторяются…
– При чем тут повторность событий? – вскричал Тадзимано. – Вы, Куманджеро, великий умник… Все вас считают провидцем, и ваша ответственная должность главного начальника разведывательного бюро на тихоокеанском побережье Азии уже доказывает, что вы человек особенный… Но великан на глиняных ногах…
– Истукан! – невозмутимо перебил его Куманджеро.
– Все равно, пусть истукан… но он только приснился ассирийскому царю, а вдохновенный, отчасти экзальтированный, как и все поэты, человек дал этому сну поэтическое толкование… Но ведь это был только сон, а вовсе не историческое событие… При чем же повторность прошлого в настоящем?
Куманджеро собрался ответить, но портьера, прикрывавшая вход в соседние апартаменты, слегка отпахнулась и из-за нее на одно мгновение показался человек.
Это был сам микадо.
Император Муцухито – человек высокого для японца роста. Он обладает действующей на народное воображение представительностью и даже на европейский взгляд кажется хорошо сложенным, хотя все-таки далеко неказистым… У него небольшое желтое лицо, на котором сильно выделяются большие черные проницательные глаза. Волосы на голове густые, взъерошенные, более длинные, чем обыкновенно носят японцы, на узком, с резко очерченными скулами лице выступает мясистый нос, на подбородке оставлена борода с жесткими длинными волосами, а на верхней губе топорщатся жидкие жесткие усы.
Нельзя сказать, чтобы император был красив, но его наружность украшается выражением гордого достоинства и впечатлением чего-то необыкновенно величественного, чувствуемого во всей его особе.
Окинув горделивым взором молодых людей, не заметивших сразу его появления, микадо опять скрылся за портьерой.
Появление его было столь мимолетно, что даже Куманджеро не успел совершить предписываемое придворным этикетом коленопреклонение.
9. Железный патриот
Несколько секунд в приемном покое царило гробовое молчание.
– Мы забылись, – весь дрожа, прошептал Куманджеро, – наши дерзкие голоса были слишком громки и обеспокоили божественного сына солнца…
Появление просто, по-европейски одетого японца с умным серьезным лицом прервало их замешательство. Этот японец был личный секретарь микадо.
– Суза, – подошел он к молодому человеку, – следуйте за мною и готовьтесь… Солнце проливает свои лучи над бедной землей, наш божественный тенпо изъявляет свою милость и снисходит до того, что желает осквернить свой высокий слух жалкими словами пресмыкающегося червя…
По японским понятиям, в этой фразе не содержалось ничего обидного; напротив того, она заключала в себе даже отличие: молодой дипломат понял, что он дождался великой чести – император удостаивал его своей аудиенции…
Суза почтительно склонился.
– А вы, Куманджеро-сан, ждите! – проговорил секретарь и движением головы пригласил молодого человека следовать за собою.
Тадзимано и Куманджеро остались одни.
Несколько минут прошло в напряженном молчании.
– Я хотел говорить с вами, Тадзимано! – шепотом начал последний.
– Я слушаю вас! – ответил молодой офицер.
– Я хотел говорить с вами, – повторил свою фразу Куманджеро, – и говорить как друг и ваш, и вашей семьи… Вы должны быть со мной откровенны.
Тадзимано полупоклонился ему.
– Вы знаете, что я по своим обязанностям знаю многое, очень многое, но иногда мне бывают нужны некоторые подтверждения того, что мне уже известно. С этим я и обращаюсь к вам… Скажите мне, ваш отец никогда не рассказывал вам о своем прошлом? Не говорил он вам, что было с ним до того, как он поселился среди нашего народа? Не было ли случая, чтобы он вспомнил страну, где он родился, не вспоминал ли он кого-либо, оставленного им в этой стране?
– Мы, дети, никогда не осмеливались допрашивать своего родителя, – с достоинством отвечал молодой человек, – вы же, Куманджеро, друг моего отца и часто бывали в нашей семье. Отчего бы вам не предложить ему эти вопросы?
– Я это знаю, Тадзимано, и я, искренний друг вашего родителя, – вздохнул Куманджеро, – уверен, что он ответил бы мне с искренностью, но, прежде чем предложить ему эти вопросы, я должен проверить со стороны некоторые недавно ставшие мне известными обстоятельства. Зачем я буду тревожить почтенного старика расспросами, которые могут разбередить, может быть, до сих пор сочащиеся раны его души? Быть может, в этом нет и надобности, и я решился обратиться к вам. Вы старший у вашего отца, и я думал, что вы посвящены им в его тайны прошлого.
– Нет, уверяю вас, нет! – воскликнул Тадзимано.
Голос его звучал такой искренностью, что Куманджеро уже из этого тона убедился в полной невозможности для молодого человека ответить на его вопрос.
– Сведения, которые я хотел получить от вас, Тадзимано, касаются совсем постороннего человека… Но не будем более говорить, раз вы не можете сказать мне ничего… Скажите вот что: как живет у вас русский, которого привез с собой из Сан-Франциско ваш брат?
Одно только напоминание об Иванове привело молодого человека в веселое настроение.
– Вы говорите об этом медведе, тюлене, морже! – весело произнес он. – О, я скажу вам, что он очень забавен… Он заставляет нас много смеяться…
– Я не сомневаюсь в этом, но скажите, вспоминает ли он своего товарища?
– Он и вас, Куманджеро, вспоминает, очень часто… Не желая говорить вам комплименты, все-таки скажу, что вы произвели на него прекрасное впечатление…
– Да, он считает меня своим другом… – беззвучно рассмеялся Куманджеро, – не разочаровывайте его… Скажите, рассказывал он вам о своем товарище?
– Очень много, и притом нечто невероятное… Этот его товарищ – сын какого-то преступника; русский утверждает, что несчастный был обвинен без вины, что вокруг него была хитро сплетена адская интрига… Потом он рассказывал, что этот молодой русский влюблен в девушку, которую родители не желают отдать ему в жены… Многое еще говорил он и все с такими ужимками, что мы от души хохотали. Ведь вся наша семья говорит по-русски.
– А ваш отец слушал эти рассказы?
– Русский говорил при нем…
– И какое впечатление они произвели на него?
Тадзимано задумался как будто стараясь припомнить что-то.
– Да, да, – пробормотал он, – когда отец услыхал рассказ русского гостя, он показался мне очень взволнованным… Голос его вздрагивал, и я даже заметил на его глазах слезы…
– А потом?
– Что потом?
– Не расспрашивал ли он своего гостя о подробностях жизни его товарища?
– Кажется, расспрашивал, но только не при нас. Я знаю, что он долго беседовал с русским наедине…
– И после этой беседы каким показался вам ваш отец?
– Взволнованным, удрученным, но такое состояние скоро прошло… Отец теперь так же спокоен, как и всегда… Он даже весел и, если не ошибаюсь, занят теперь изучением записки генерала Кодама…
– Да, маркиз Кацура поручил этот труд вашему отцу… Я надеюсь, что на собрании ассоциаций мы услышим его речь по этому поводу.
Куманджеро замолчал. На его высоком лбу образовалась характерная складка; очевидно, он что-то соображал.
– Собрание ассоциаций будет происходить здесь, во дворце. Оно, вероятно, будет отложено на несколько дней, – проговорил он, как бы продолжая думать, но только думать вслух, – и великий микадо желает присутствовать на нем… Стало быть, время у меня еще есть… Да, есть!
Он поднял голову, огляделся, как будто только что проснувшись от глубокого сна, и тихо, даже застенчиво засмеялся. Тадзимано смотрел на него с удивлением.
Немногие в Токио знали Аррао Куманджеро, но те, кто знал его, в один голос называли «железным патриотом».
В самом деле, это был человек, до фанатизма преданный идее отечества. Родной Ниппон был для него верховным божеством, и этому божеству Куманджеро служил не только делом, но и душой, и каждым своим помыслом. Он был всесторонне и по-европейски образованным человеком. Не было в Европе и Азии языка, которого не знал бы Куманджеро, не было страны, которой он не посетил бы и не изучил бы; вместе с тем не было никакого гадкого, подлого дела, на которое он не пошел бы ради пользы отечеству. Он отказался от почестей, от прекрасного положения при дворе, которое ему могло доставить его происхождение от древнейших даймиосов Японии, и занял должность начальника тайного разведывательного бюро в странах Европы, Америки и Азии. В этом бюро сосредоточивалась не только разведывательная – в сущности говоря шпионская – часть, но и агитация в пользу Японии на материках Старого и Нового Света. Рассказывали, что на этом посту Аррао Куманджеро сумел всю Европу и весь азиатский материк опутать сетью своих агентов и ему тотчас становилось известным все, что касалось Японии вне ее пределов. По положению, которое Куманджеро сумел создать сам себе, он был самым могущественным после микадо человеком на Японских островах, но все свое могущество, всю силу своего влияния он употреблял только на служение родине. В то же самое время Куманджеро, большую часть своей жизни проводивший в разъездах то по Америке, то по Европе, то по русским владениям на берегу Тихого океана, смертельно ненавидел все неяпонское. Он был заклятым врагом европейцев, считая их непримиримыми врагами своего желтого народа. Однако эта ненависть не мешала ему пользоваться от Европы всем, что он находил там хорошего, полезного. Впрочем, следует сказать, что ненависть Куманджеро к Европе и европеизму была разумная, даже мудрая: он ненавидел дух, совокупность, но на отдельные единицы его ненависть не распространялась; в отношении последних он даже был способен на всякое добро. Это была, так сказать, «политическая ненависть», ненависть к принципам, но не к отдельным личностям…
«Железным» Куманджеро называли потому, что его патриотизм поглотил собою все остальные человеческие чувства. Куманджеро был одинок, у него никогда не было семьи, он никогда не проявлял никаких даже общечеловеческих страстей. Это был фанатик, и фанатик опасный уже по одному тому, что он был умен…
О том, что собой представляет Куманджеро, как уже сказано выше, знали немногие. Да и трудно было бы знать что-либо определенное об этом человеке. Для одних он являлся купцом, для других – помещиком, для третьих – фабрикантом, журналистом, добродушным рантье, занимающимся политикой ради того, чтобы занять свободное время. Не было роли, которой не принимал бы на себя Куманджеро и которой он великолепно не сыграл бы…
И теперь в этой невольной задумчивости Куманджеро молодой Тадзимано усмотрел как бы намек на какую-то слабость, овладевшую «железным патриотом».
– Про какое время говорите вы, Куманджеро? – спросил Тадзимано.
– Я? – изумленно посмотрел на него тот. – Ах да… Видите ли, Тадзимано, я очень люблю вашего отца… Случай толкает меня на то, чтобы стать невольным виновником его горя, и вот я думаю, хватит ли мне времени предпринять что-нибудь, дабы избавить вашего отца от страданий…
– Я благодарю вас за моего родителя! – пробормотал Тадзимано. – Вы, вероятно, узнали что-нибудь прискорбное?
– Нет, то, о чем я думаю, совершенно частное дело вашей семьи… Но перестанем пока говорить об этом! У меня есть еще немного времени, и я, быть может, сумею изменить все так, что гроза промчится мимо… Но скажите, вы будете ждать Сузы?
– Да…
– Мой совет не ждать его!..
– Почему?
– Божественный тенпо пожелает выслушать и мои слова одновременно с его донесениями, и вряд ли мы покончим это с Сузой ранее вечера… Вы лучше сделаете, если возвратитесь домой один.
Он произнес эти слова с особенным почтением.
Тадзимано понял, что он должен уйти, по крайней мере из этого зала, поклонился Куманджеро и вышел.
Оставшись один, тот покачал головой и тихо прошептал:
– Жаль старца, но я должен поступить так и поступлю, ибо того требует родина.
10. Хитрый замысел
Когда молодой Тадзимано вышел, Куманджеро недолго оставался один.
Из соседнего покоя бесшумно показался не старый еще японец с энергичным, умным лицом. Он был одет в европейское платье, висевшее на нем мешком и придававшее этому человеку курьезный вид.
Это был граф Кацура, руководитель внешней политики Страны восходящего солнца.
Кацура был европейски образованный человек, объездивший всю Европу, Америку, Азию. Он бывал и на азиатском материке, ко всему приглядывался, все подмечал и всюду старался распространять японское влияние.
Куманджеро был верным помощником ему во всех его начинаниях.
Увидав «железного патриота», Кацура радостно заулыбался и поспешил к нему навстречу с протянутой вперед для пожатия рукой. Куманджеро приветствовал его, но без малейшего признака подобострастия к этой почтительности.
– Как я рад вас видеть, дорогой Куманджеро! – заговорил Кацура. – У нашего божественного императора была речь о вас…
– Я счастлив, если тенпо снизошел до того, чтобы вспомнить обо мне, – ответил с новым поклоном Куманджеро, – мы переживаем такой момент, когда все его высочайшее внимание устремлено на более высокие дела, требующие высочайших и тягостных забот…
– Да, да! Положение становится день ото дня серьезнее, – озабоченно проговорил Кацура. – Я могу сообщить вам, Куманджеро, что ожидаемое собрание ассоциаций будет несколько отложено.
– Я знаю об этом!
– Я и забыл, что вы всеведущи… Однако буду спорить о том, что вам неизвестно, что этому собранию будет предшествовать собрание вождей ассоциаций… Тенпо решил так – это его желание.
– Божественный непременно желает слышать все, что будет сказано там! – совершенно спокойно произнес Куманджеро – И я уже теперь могу сказать, что очень немного голосов будет за войну с Францией…
– Я тоже думаю… Но скажите, дорогой Куманджеро, вы хотели, чтобы я вам в чем-то содействовал… Распоряжайтесь мною, я всецело к вашим услугам.
– Да, я должен буду просить вас, граф, об одной деловой услуге, хотя, предупреждаю, дело весьма щекотливого свойства.
– Да? Вы меня и пугаете и интересуете… Чего же вы хотите?
– Чтобы вы предоставили мне в распоряжение одного человека.
– Только одного?! В моем распоряжении их сотни. Что же тут щекотливого?
– Я не сказал – кого…
– Я слушаю, назовите мне имя, и я ручаюсь, что тот, кто носит его, сегодня же окажется в вашем распоряжении. Я ожидал большего… Итак, дорогой Куманджеро, имя?
«Железный патриот» на мгновение задумался, и на его лицо набежало облачко грусти.
– Я попрошу позволения сперва познакомить вас с тем, для чего мне нужен этот человек, – произнес он, – а потом уже сообщу и имя, которое, скажу кстати, очень знакомое.
– Пожалуйста, я слушаю!
Кацура присел на низенькую скамью, стоявшую у стены, и жестом руки пригласил Куманджеро последовать его примеру.
– Вы знаете, граф, – начал тот, – я много потратил сил, чтобы содействовать будущему возвращению Порт-Артура нашей стране. Там есть много моих агентов, но – увы! – сведения их не таковы, чтобы представлять особенную ценность…
– Что же им мешает? – спросил Кацура. – Конечно, типичные особенности?
– Увы, да… Разница в типе так велика, что она кидается в глаза даже простому русскому. Я придумал, однако, способ выйти из затруднения… У меня в настоящее время имеется в Порт-Артуре агент, русский по происхождению.
– Как! – вскричал Кацура. – Вы и в этом успели?
– Как видите…
– Но русские всегда были известны тем, что они менее всех остальных европейцев склонны к подобной роли… Неужели среди них нашелся, наконец, пригодный для ваших целей субъект? Поздравляю тогда вас, друг мой!..
– Он даже не знает, что он в сущности делает для меня… Мне удалось так поставить дело, что он доставляет, вернее будет доставлять, сведения первой важности, даже не подозревая, для чего они мне нужны… Это явится гарантией его правдивости, но вместе с тем мне мало одного этого русского агента, мне нужен еще русский, который действовал бы уже сознательно и в то же время мог бы направлять, куда нужно, первого…
– И вы желаете, чтобы я добыл вам такого человека?
– Да…
– Но где же я вам его возьму? Я положительно теряюсь в догадках…
– Такой человек у меня есть на примете.
– Кто он? Говорите скорее!
– Я уже думал, что вы, граф, догадались… Я имею в виду старика Николая Тадзимано…
– Старика Тадзимано? – вскричал граф. – Да послушайте, Куманджеро, разве это возможно?
– Отчего же невозможно?
– Тадзимано – почтенный старец, он пользуется общим уважением, наконец, его сыновья служат на императорской службе… Нельзя ли хотя ради них не беспокоить этого старца?
– Тадзимано – мой друг, – проговорил Куманджеро, – но где идет дело о пользе родины, нет жертвы, на которую не был бы способен ее сын… Тадзимано не родился здесь. Ниппон был ему не родной, а приемной матерью и дал ему так много, что на своей родине вряд ли этот человек имел бы столько… Настало время расплатиться за добро, и Тадзимано должен произвести эту расплату…
– В принципе вы правы, но я положительно не знаю, как подойти к нему с таким предложением… Его любят, он популярен… Но чего же вы хотите от него?
– Я хочу, чтобы он отправился в Порт-Артур и поселился там не навсегда, но хоть на некоторое время. Он будет среди русских своим…
– Да, да… ведь Тадзимано был когда-то русским…
– И это будет лишним шансом в моей игре.
– Вы думаете?
– Уверен!
– Почему же так?
– Тадзимано не осмелится изменить нам, потому что у него счеты с русским уголовным законом.
– И вы думаете, что его в Артуре не узнают?
– Да, теперь он не возбудит там никаких подозрений. Он будет жить в качестве богатого иностранца и вместе с тем агентом, который у меня уже есть там, доставит мне все, что нужно. Благодаря такой комбинации мы будем осведомлены до мельчайших подробностей о внутренней жизни этой крепости. Куда не сможет проникнуть уроженец Ниппона, туда смело пройдет Тадзимано. Ему будут открыты все двери, он всюду будет желанным гостем, и русские, видя в нем своего, не будут таиться перед ним… Вот мой план. Теперь, когда я вам все сказал, одобряете ли вы его, граф? Могу ли я надеяться на ваше содействие?
– Но чего же вы хотите от меня?
– Немногого… Вы должны поговорить с Тадзимано и постараться убедить его в разговоре, что он должен принять поручение, но перед этим разговором вы должны устроить, чтобы его младшему сыну, лейтенанту, был разрешен не особенно продолжительный отпуск в Порт-Артур.
– Разве вы узнали, что лейтенант Тадзимано собирается туда?
– Его посылает отец… Отпуск сыну и дружеская беседа ваша с отцом – вот все, чего я жду от вас… Вы, граф, намекните ему, что отец может навлечь гибельные последствия для сына… Не называйте имени, не указывайте для которого, и я заранее уверен, что старик не только будет согласен, но сам еще станет просить, чтобы вы приняли все меры для ускорения его отъезда…
Кацура задумался.
– Вы колеблетесь? – спросил Куманджеро.
– Нет, не то, дорогой друг, не то…
– Что же вас смущает?
– Я не знаю, как поступить… Тадзимано – очень почтенная личность.
– Но я прошу вас, граф! – с ударением произнес «железный патриот».
– Хорошо! – произнес, недолго подумав, граф. – Я берусь вам помочь, если мне нужно сделать только то, что вы говорите, а теперь и вы выслушайте меня… Суза привез вести из Сеула, пройдемте, я покажу вам его доклад.
– Я уже кое-что слышал! – заметил Куманджеро, поднимаясь со скамьи.
– Не сомневаюсь, ведь вы всеведущ!
– Нет не всеведущ, а люблю свое отечество, люблю, как никто не мог никогда любить.
– Я разделяю ваши чувства… Отечество должно быть прежде всего, мы сильны лишь нашим отечеством… Вы, кажется, хотите что-то сказать?
– Да…
– Я слушаю…
– Вы можете безусловно доверять Сузе…
– Я то же думаю… Он очень дельный молодой человек… Пойдемте же.
Граф поднялся и пошел к выходу. Куманджеро последовал за ним.
11. Отец и сын
Молодому Тадзимано очень хотелось немедленно вернуться домой и рассказать отцу о своей беседе с «железным патриотом», о странном намеке, сделанном им, но, спустившись в окружающий дворец парк, он сейчас же встретил несколько товарищей, заставивших его примкнуть к ним и пройти в караульный дом.
Здесь собрался пылкий, молодой народ, мечтавший о военной славе, о полях битв, громе орудий, победах. Молодость ведь везде молодость, и увлечения свойственны даже рассудительной японской молодежи.
Наступил уже вечер, начинало темнеть, когда Петр возвратился домой. Ни брата, ни сестры, ни ставшего их обычным спутником Иванова дома не было; старик Тадзимано оставался один. Сын застал его в крохотной комнатке за кипой газет, выписок, книг.
Отец сразу, только взглянув на лицо сына, понял, что тот пришел неспроста.
– Ты хочешь мне что-то сказать, Петр? – спросил он, устремляя на молодого человека пытливый взор. – Я вижу это. Садись и говори!
Петр сел против отца и в волнении потупился.
– Отец, – заговорил он, наконец, дрожащим голосом, – я пришел спросить тебя… Ответишь ли ты мне?..
– Спрашивай…
– Хорошо. Не гневайся, отец…
– И ты, и твой брат, и твоя сестра всегда были хорошими детьми. Я не думаю, чтобы твой вопрос мог возбудить во мне гнев. Всякий гнев, даже справедливый, есть огорчение, а ты не пожелаешь, дитя мое, огорчить меня.
– Нет, отец, нет, но я должен… Скажи мне, кто ты?..
Николай Тадзимано поднял голову и удивленно посмотрел на сына.
– То есть как «кто я»? – спросил он. – Твой вопрос действительно странен.
– Ты его поймешь, отец, если я предложу его тебе в другой форме. К какому народу ты принадлежишь?
Старик пожал плечами.
– К тому же, как и ты, – сказал он. – Я японец!
– Опять я не так спросил!.. К какому ты народу принадлежал, отец, раньше чем стать японцем?.. Отец, что с тобой? Тебе дурно?
Действительно, лицо старика сперва стало бледным, как полотно, потом вдруг все покрылось багровыми пятнами. Он слегка зашатался и беспомощно откинулся на спинку кресла, в котором сидел перед высоким вопреки японским обычаям столом.
Сын бросился к нему.
– Постой! – отстранил его старик. – Это ничего, это пустяки. Скажи мне, почему ты это спрашиваешь?
– Мне нужно знать это, отец… Верь, я имею на это причины!..
– Верю, иначе ты не стал бы спрашивать меня о том, что тебя не может касаться… Ты слишком хороший сын для этого…
Старик замолчал. Видимо, в душе Николая Тадзимано боролись самые противоречивые чувства. Он тяжело дышал, на его лбу проступил пот.
– Отец! – воскликнул Петр. – Если тебе тяжело ответить, то, умоляю тебя, молчи…
– Нет, зачем же? – горько усмехнулся старец. – Пришел час, которого я страшился более всего… Ну что же? Пришел, так пришел…
Он опять смолк, вздохнул и поглядел в угол, где перед иконой в богатой ризе теплилась, мерцая слабым светом, лампада, и вдруг, словно решившись, глухо проговорил:
– Я русский…
– Отец! – в ужасе отпрянул прочь молодой человек.
– Что с тобой? Что так тебя испугало? – вперил в него взор старец.
– Ты… ты – русский?
– Да…
– Стало быть, и в моих жилах течет русская кровь?
Старик утвердительно склонил голову.
– Я русский только по происхождению… да! Понимаешь, по происхождению… – заговорил он. – Отечество само разорвало со мною всякую связь… Понимаешь ли ты, юноша: всякую!
– Ты был изгнан?
– Я бежал!
– Что понудило тебя к этому?
– У меня отняли все дорогое мне, а потом лишили чести.
– Чести?
– Да… Меня обвинили в преступлениях, которых я не совершал.
– Стало быть, не отечество, отец, порвало с тобой связи, а ты с ним…
– Как хочешь толкуй это…
– Тогда ты страдалец и герой!
Старый Тадзимано усмехнулся и покачал своей седой головой.
– Нет, сын мой, я не герой, – тихо проговорил он, – позволь мне не говорить того, что мне так тяжело вспоминать. Прошу тебя поверить мне в одном: когда я был обвинен, я был невиновен… Когда это случилось? Мне больно вспоминать… больно, сын… От раны, которую нанесли мне тогда, до сих пор страждет моя душа… страждет, мой сын… Не надо вспоминать, не надо!
Петр стоял уже на коленях около отца. По лицу старика ручьем текли слезы. Он весь дрожал от овладевшего им нервного волнения. Молодой человек чувствовал, что при виде плачущего отца слезы подступают и у него к горлу…
– Когда я умру, ты, мой старший, – заговорил опять старец, – найдешь в моих бумагах пакет. Он под моей печатью. Там для тебя, для вас я описал все… Тогда, тогда все узнаете! А теперь вот что… Ты назвал меня героем… Нет, нет! Если бы возможно было вернуться в прошлое, если бы возможно было начать жизнь опять с того момента, когда над моей головой разразился весь ужас, постигший меня, и если бы я невинно был вновь обвинен, я, сын мой, я… не бежал бы…
– Что ты говоришь, отец? – воскликнул Петр. – Ты остался бы страдать?
– Да, потому что в том страдании величайшее счастье, а в теперешнем счастье величайшее страдание…
– Я не понимаю тебя!
– Тебе и не понять меня… Невинно страдая, я нашел бы себе утешение в сознании моей невиновности… да! Я в своих глазах был бы превыше всех людей, и у меня оставалось бы утешением, что мои муки, мою безвинность видит Бог, которому я верую. Невинно страдая, я остался бы на своей родине, среди людей, которые даже мне, отверженному, не были бы чужими… Палач на русской каторге все-таки был бы мне родным братом по родине, по одинаковой крови, текущей в наших жилах… А здесь… здесь я состарился, но все мне здесь чуждо… все! Даже вы, мои дети, вы, мои любимые дети, и вы мне чужие…
Старец остановился.
Он устал, дыхание его становилось все более и более прерывистым.
После недолгого отдыха Тадзимано заговорил с еще большим волнением. Он уже не с сыном беседовал, а выражал вслух свои сокровенные мысли, хотя его руки лежали на голове Петра.
– В Европе человека, ради чего-либо, даже ради самых благородных побуждений изменившего своей религии, называют ренегатом… Там это позорнейшая кличка. Кто изменяет религии, тот разрывает связь со всеми своими предками, ибо религия – единственная связь человека с его прошлым. Я не изменил религии, с которой родился на свет, но я тот же ренегат… Я хуже всякого отщепенца и познал это здесь. Здесь я научился любить родину, ибо на этих островах нет человека, который не любил бы более всего в жизни своего Ниппона. В Европе не умеют так любить отечество, там над такой любовью смеются… да, да! Смеются, потому что даже не понимают, что такое отечество… Здесь все – от государя до презираемого шкуродера – служат родине, а там все стараются лишь о том, чтобы отечество служило им… Каждая жалкая единица хочет вытянуть из отечества пользу только для одной себя. И, когда я увидел у здешнего желтокожего народа, как следует любить отечество, я почувствовал себя таким несчастным, таким отверженцем, что моя жизнь стала адом. Но я уже был прикован к этому народу. Не сочти, сын, за упрек, но вы, дети, приковали меня… вы! Ради вас я переносил душевный ад, смирялся перед своим собственным презрением к самому себе. Ради вас, да! Ради вас я остался ренегатом, даже сознав всю глубину бездны, в которой я очутился.
– Отец! – простонал Петр, быстро поднимаясь с колен.
– Что, сын мой? Что? Ты думаешь, что это упрек?.. Нет, нет! Ты подумал, что я выставляю себя перед тобой жертвой – жертвой, принесенной ради вас… Да нет же! Я уже сказал, что я не герой… Я слабый, жалкий человек, игрушка судьбы… Я только рассказываю, что случилось, и знай, сын мой, что если бы мне можно было начать снова жить с того момента, когда над моей головой разразилось несчастье, я покорился бы моим бедам, я покорно снес бы все напасти, но если бы вновь началось с того момента, когда явились вы, было бы то же, что и теперь… то же, сын! Я решился бы на всякий душевный ад, но это было бы ради вас, только вас, потому что я слабый, безвольный человек, потому что не могу покорно нести ниспосылаемые судьбою испытания… Да, сын мой, да… Не считай меня героем, считай меня страдальцем, но помни, что мои страдания – это наказание за гордость, за непокорство перед судьбой, и наказание по заслугам.
Николай Тадзимано опять остановился. Сын смотрел на него, не смея промолвить ни слова. Он понимал, какая буря кипит в душе этого старца, как придавила его тяжесть почти вынужденного признания.
– Вот, – указал старец на лежащую перед ним объемистую тетрадь, – это записка генерала Кодамы, и я изучаю ее, чтобы сказать свое мнение… Мы все здесь знаем, что война неизбежна… Но с кем? Кодама стоит за войну с Францией… А если будет решена война с Россией? Сын, сын! Ты представь только себе, каково будет твоему отцу!.. Сын! Что я должен перечувствовать в те моменты, когда польется кровь… Я стар, я уже не смогу принять участие в этой войне, но вы пойдете, оба пойдете! Что я почувствую, когда узнаю, что на поле битвы или ты, или Александр встретитесь лицом к лицу с вашим братом?
– С братом, отец! – кинулся к старику Петр. – Ты сказал: с братом? У нас есть в России брат?
Старик вздрогнул.
– Нет, нет! – забормотал он. – Ты не так понял меня, дитя, не так… Я сказал вообще… Я хотел сказать, что русские люди – братья вам… ведь я же тебе сказал, что я русский… я сказал!..
Он, видимо, растерялся и никак не мог подобрать слова для выражения мысли, которую ему так хотелось выразить. Голос его начал переходить в лепет. Он прятал глаза от сына, с состраданием смотревшего на него.
– Батюшка, – заговорил Петр, – ты что-то скрываешь. Не праздное любопытство заставляет меня бередить твою душу… Я уже тебе сказал это… Я чувствую, что у тебя есть на душе еще какая-то тайна, и в то же время уверен, что эта тайна принадлежит уже не одному тебе… Батюшка! В твою тайну проник посторонний.
– Кто этот посторонний? – глухо спросил Тадзимано.
– Аррао Куманджеро, батюшка!
Отец вместо ответа сыну покачал головою.
– Я не знаю, о чем ты говоришь, но Куманджеро – мой старинный друг и ему известно, что я происхожу из русского народа! – сравнительно спокойно проговорил он.
12. Под гнетом тайны
Петр посмотрел на отца и продолжал:
– Из его слов, батюшка, я понял совсем другое. Куманджеро предлагал мне вопросы о твоей национальности; зачем бы ему было расспрашивать меня, если бы все было ему известно?
– Аррао хитер! – усмехнулся Тадзимано, но улыбка его вышла болезненной, страдальческой. – Неужели ты думаешь, что я сейчас сказал тебе неправду?
– Нет, батюшка, я этого не думаю…
Отец и сын теперь сидели друг против друга, и беседа их принимала все более и более спокойный характер. Старик уже не волновался, хотя тень страдания все еще лежала на его лице. Петр был серьезен, но и в его серьезности сквозила печаль.
– Нет, батюшка, я не думаю, чтобы ты сказал неправду, – повторил он, – я просто стараюсь уяснить себе то, что мне непонятно… Ведь, может быть, Аррао расставляет мне какие-нибудь сети, быть может, он уже успел запутать меня в них… Вот одна из причин моих расспросов.
– О чем спрашивал тебя Куманджеро? – быстро спросил старик.
Молодой человек поспешил передать ему с возможными подробностями весь свой разговор с «железным патриотом».
Тадзимано слушал рассказ, понурив свою седую голову.
– Я почти понимаю, в чем тут дело! – тихо проговорил он, но глаз на сына все-таки не поднял, словно боясь встретиться с его взглядом. – Я думаю, что Аррао Куманджеро в самом деле искренен…
– Ты думаешь так, отец?..
– Да…
– Но тогда что же все это значит? – вскричал Петр. – Аррао – такой человек, что от него можно ожидать всего.
Старик ответил не сразу; он несколько минут понуро молчал.
– Я должен тебе сказать еще вот что! – произнес он усталым, спавшим голосом. – И то, что я тебе скажу, до некоторой степени объяснит все… Судьба как будто решила, что настало для меня время вспомнить о моем прошлом именно теперь… Твой брат Александр привез к нам из Сан-Франциско этого русского чудака. В совпадении случайностей я вижу не что иное, как перст судьбы. Болтовня этого русского была для вас только забавна, мне же она напомнила мое несчастье, тот ужас, который разразился надо мною и привел меня сюда… многое напомнила – все напомнила…
– Я видел это, отец! – воскликнул Петр.
– Из чего? – поднял на него глаза старик.
– На твоем лице, когда ты выслушивал русского, отражалось изумление, потом смущение… Тогда я не придал этому значения, но теперь ясно представил себе все.
– И ты прав… Но слушай. Из болтовни нашего смешного чудака для меня выяснилось совершенно неожиданно то обстоятельство, что человек, бывший причиной всех моих несчастий, находится в Порт-Артуре.
– Вот как! – удивленно произнес Петр.
– Ты как будто удивился? Чему?
– Я предполагал совсем иное.
– Что?
– Василий Иванов рассказывал о своем друге детства, Контове… Что с тобой, батюшка?
По лицу старика пробежала болезненная судорога, но он быстро справился с собой и вялым тоном ответил:
– Ничего… Продолжай, что ты хотел сказать?
– Я был уверен, что ты почему-то особенно интересуешься именно этим Контовым…
– Да, я интересуюсь им, хотя не знаю его! – в упор посмотрел на сына Тадзимано. – Интересуюсь до того, что твой брат Александр отправится завтра или послезавтра в Порт-Артур, чтобы посмотреть, что это за человек.
– Контов в Порт-Артуре?
– Куманджеро обратил его в свое орудие, – тихо проговорил Тадзимано, – этот молодой человек малоопытен в жизни. Аррао без всякого труда поставил его в такое положение, что он стал в его руках игрушкой.
– Ты очень подробно разузнал все об этом молодом человеке, батюшка! – прервал Петр отца.
В тоне его голоса звучала нотка ревности.
– Да. Когда я услыхал от Василия Иванова, что этот молодой человек предполагал посетить наши острова и должен был прибыть на «Наторигаве», я полюбопытствовал узнать, почему он не явился… Ведь Александр прямо указал ему на нашу семью. Но Александр вместе с тем сказал, что видел его в обществе Куманджеро. Я кое-что сообразил и отправился к командиру «Наторигавы» Ямака. От него я узнал все. Молодой человек вместе с Куманджеро, внезапно прервав свой путь, пересели в открытом море на судно, шедшее в Порт-Артур. Кое-что сказал мне Ямака, потом я встретил майора Хирозе и Чезо Иоки и от них узнал еще некоторые подробности. Тогда я понял все. Кто хоть немного знает Аррао Куманджеро, тот знает, как он умеет овладевать людьми. Молодой человек, повторяю, сам того не замечая, явился в его руках превосходным разведчиком, шпионом, как говорят в Европе… И он для Куманджеро был тем более удобен, что как русский, никогда даже не бывавший в Японии, не может ни в ком из порт-артурских властей возбудить какое бы то ни было подозрение. Понял ты махинацию Куманджеро?
– И ты, отец, посылаешь Александра предупредить Контова об этом?
– Нет, Петр, – отрицательно покачал старик головой, – нет…
– Зачем же тогда едет Александр в Порт-Артур?
– Я тебе в самом начале своего рассказа сказал, что там в настоящее время живет человек, бывший причиной всех моих несчастий… Ты помнишь это?
– Да, помню…
– У этого человека, у этого негодяя Кучумова! – с внезапно вспыхнувшим порывом гнева вскричал Тадзимано. – У этого презренного Кучумова, – повторил он ненавистную ему фамилию, – есть дочь… девушка… Иванов рассказывал, что его молодой друг…
– Контов?
– Он…
– Влюблен в эту Кучумову, в дочь твоего врага?
– Да…
Глаза Петра так и загорелись.
– Отец! – вскричал он. – Теперь я все понял!.. Все! Не нужно мне более ничего знать… Я понял, отец! Твой враг так близко, что ты…
– Постой, что с тобою? Какая причина твоей радости?
Петр Тадзимано действительно весь переменился. Лицо его пылало молодым воодушевлением, глаза искрились, грудь высоко вздымалась.
– Так, отец, так! – не обращая внимания на вопрос старика, восклицал молодой человек. – Наконец настала счастливая для тебя минута! Ты можешь отомстить врагу… Он в твоих руках! Судьба послала тебе этого Контова и отомстит за тебя через него…
– Кто тебе сказал, что я собираюсь мстить, – приподнялся в кресле старец.
Оно со всевозрастающим изумлением смотрел на оживившееся, сияющее лицо сына.
– Кто? Сердце, отец! Ведь месть так сладка!.. Видеть своего врага уничтоженным, страдающим, сторицей выносящим те муки, какие ты когда-то вынес… Да разве это – не величайшее счастье, разве это не высшее наслаждение? О-о-о!
Петр, задыхаясь, рассмеялся, но в смехе его слышались торжество, радость.
«Дикарь проснулся, кровь матери заговорила!» – думал старик, глядя на сына.
– Что ты так смотришь на меня, отец? – вдруг воскликнул Петр. – О, если бы ты мог только знать, какое счастье кипит в моей душе!.. Месть, месть!.. Отчего, отец, ты не пошлешь меня? Почему твой выбор пал на Александра? Александр молод… Пошли меня, отец! О-о-о! Не бойся, я сумею рассчитаться за тебя… Я отомщу, отомщу!.. Ты будешь доволен… Я принесу голову твоего врага, и ты выколешь проклятые глаза, смотревшие на твой позор, вырвешь позорный язык, клеветавший на тебя, ты смешаешь с грязью мозг, задумавший преступление против тебя! Отец, пошли меня!..
– Петр, уйди! – проговорил старик.
Он дрожал всем телом.
– Уйди, Петр, – простонал он, – оставь меня одного!
Молодой человек посмотрел на него взглядом только что пробудившегося человека, пожал плечами, склонился, поцеловал руку отца и вышел.
Оставшись один, Николай Тадзимано несколько мгновений стоял неподвижно.
– Вот оно, вот возмездие, – вырвалось у него из груди. – Что будет?.. Александр уедет… Что будет, когда братья встретятся в Порт-Артуре?.. Полюбят ли они друг друга? А если нет? О-о-о!.. Как тяжело!..
Блуждающий взор старика остановился на лике святого, изображенного на иконе. Он застонал и опустился на колени, ища успокоения в молитве…
13. Братья
Прошло несколько дней после тяжелого разговора между отцом и сыном.
Старый Тадзимано ходил задумчивый, угрюмый, мрачный; сын тоже был расстроен и избегал встреч с отцом наедине.
Петр хорошо понимал, что после того разговора, который произошел между ними, новый разговор был бы уже не под силу его отцу. Молодой человек видел, что страдание надламывает старика, что в душе борются и не могут найти для себя никакого выхода самые противоположные чувства.
Вместе с тем разговор с отцом оставил в душе молодого человека странный осадок.
Старик был вполне искренен с сыном – это Петр чувствовал, в этом он был уверен, но вместе с тем словно какой-то голос говорил ему, что отец был искренен не до конца, что осталось еще нечто невыясненное и это нечто было весьма существенное, что могло впоследствии оказать несомненное влияние на всю их жизнь.
Петра мучило сознание, что между ним и отцом залегла тайна, отделившая их друг от друга, поколебавшая их любовь.
Еще более увеличивало его душевную муку и то обстоятельство, что он ясно видел, как сильно страдает отец, и страдает все из-за той же внезапно родившейся между ними тайны.
Как ни беззаботен был младший из братьев, Александр, но и он видел, что какая-то печаль легла вдруг на всю их семью и недавний еще мир навсегда улетел из их тихого жилища. Александр старался приглядываться, старался наблюдать, но его наблюдения давали слишком мало почвы для каких бы то ни было выводов.
Одно только было ясно молодому лейтенанту – что отец неспроста посылает его в Порт-Артур, что именно там, в этой русской твердыне на берегу Тихого океана, таится разгадка всех тех смутных тревог и волнений, которые постигли их семью в эти последние дни.
Впрочем, Александр Тадзимано относился к своей предстоящей поездке вполне спокойно. Он боялся только одного: как бы не опоздать ему к тому дню, когда окончательно будет решена война.
Молодость всегда пылка. Ужасы битв представляются ей чем-то в высшей степени радостным, каким-то блаженством, открывающим широкий путь к никогда не меркнущей славе. С кем воевать? За что воевать? Об этом молодой лейтенант почти не думал. С русскими ли из-за Кореи и Маньчжурии, с французами ли из-за их индокитайских колоний, с американцами ли из-за Филиппинских островов, – не все ли равно! Молодые силы рвались наружу, впереди улыбалась слава, нужно было спешить к ней во что бы то ни стало, как можно скорее спешить, не обращая внимания ни на какие препятствия, уничтожая на пути все преграды.
Ничего из того, что происходило в семье в эти дни, не замечала лишь Елена. Молодая девушка переживала пору первой чистой любви, и все ее существо было поглощено исключительно этим чувством.
Ее смущало, впрочем, и смущало немало, одно обстоятельство… Ее жених, милый, ласковый, предупредительный Алексей, становился день ото дня все более и более сумрачным: на его лицо легла тень тяжелой заботы, удручавшей его, заставлявшей рассеянно относиться к невесте. Елена понимала, что Алексей много работает, что у него почти не остается времени, которое он мог бы посвятить ей; она не подавала вида, что страдает, старалась быть веселой в те немногие часы, когда молодой человек приходил отдохнуть от своих трудов в их семью. Каждый раз, когда она взглядывала на него, сердце ее сжимало тяжелое предчувствие чего-то неизбежно-грозного, неотвратимого, таившегося пока еще в их будущем, но уже готового выползти из этого таинственного будущего в омраченное предчувствиями настоящее.
Сильно сказывалось в этой молодой девушке ее не чисто японское происхождение. Европейская кровь брала свое. В Елене Тадзимано не было той покорности судьбе, которой отличаются все вообще японки. Она не умела подчиняться без борьбы даже случайностям, и общеазиатский принцип «чему быть – того не миновать» казался ей нелепостью. Молодая девушка никогда не высказывала этого своим подругам, зная, что они не поймут ее, но в то же время всегда во всех случаях своей жизни поступала так, как подсказывало ей сердце, и чаще всего наперекор всему, что создавала вокруг нее жизнь. Это было исключительной чертой ее характера, чертой, переданной ей исключительно от отца-европейца.
Но кто в семье Тадзимано, с одной стороны, был чрезвычайно доволен своим положением, а с другой – чувствовал себя глубоко несчастным, так это Василий Иванов. Он страшно скучал по Контову, и в то же время все молодые Тадзимано всецело завоевали его симпатии, а к старику, их отцу, он чувствовал величайшее почтение.
– Почтеннейший старец – папашенька-то ваш!.. – говорил он не раз своему любимцу Александру. – У нас таких только все больше на картинах рисуют. У меня вот один живописец был в приятелях, он хотя больше по части вывесок прохаживался, но иного художника за пояс заткнуть мог. Так у него для таких почтенных старцев даже старописный трафарет был – из керженских скитов добыл, а там-то в благообразных старцах толк знают. Так по этому трафарету выходило: «Брада по пояс и ниже прозелень на яичном желтке, власы на голове, аки власиевы – угодник есть такой: в деревнях скотину милует, а поле киноварь на масле и все покрыть лаком». Вот он таким манером и творил благообразие. Что ни портрет – то картина. Были бы мы все теперь в России, так я похлопотал бы, уж он с папашеньки такой портрет написал бы, что куда угодно вешай: хоть в гостиную, хоть в кабинет…
Но кроме таких разговоров за глаза Василий Иванович старался выказать свою почтительность и уважение к старику во множестве маленьких услуг.
О своем положении Василий Иванович мало задумывался.
– Эх, что мне о себе думать-то! – говаривал он. – Одна голова не бедна, а и бедна, так одна… Жив буду – сыт буду, зла я никому не делаю, и мне никто никакой пакости не учинит… Вот Андрей Николаевич – это точно. Он, бедняга, страдает, поди, теперь… Скучно ему без меня-то…
Как ни близорук был Иванов, как ни мала была его наблюдательность, но и он уже заметил, что все японцы, каких только ему приходилось видеть, относятся к нему с заметным недоброжелательством. Он, к счастью, не знал языка и не понимал тех насмешек, дерзостей, глумления, которые всегда неслись вслед ему, когда он появлялся – один ли, с Тадзимано ли – на токийских улицах.
Счастливое неведение! Что было бы с Ивановым, если бы он мог понимать весь словесный град, постоянно сыпавшийся на него на всех улицах, на всех площадях, на всех углах, где он только ни показывался.
А показывался он все реже и реже. Братья Тадзимано, оберегая своего гостя от случайностей, перестали брать его с собою на прогулки, а выходить один не решался и сам Василий Иванович.
Все это привело к тому, что Иванов с величайшим нетерпением, которое не смог даже скрывать, ожидал дня своего отъезда в Артур.
Наконец, этот день настал.
Пароход отходил не из токийского порта. Приходилось прокатиться по железной дороге до приморского города Осака и уже отсюда начать морское путешествие.
Накануне того дня, когда лейтенант и русский гость должны были уехать, старик Тадзимано затворился в своей рабочей комнате со своим уезжающим сыном и долго-долго, чуть ли не до рассвета, беседовал с ним. Петр Тадзимано во все время, пока Александр был у отца, ждал его в их средней комнате, заменявшей им и зал, и гостиную.
– Что тебе говорил отец? – подошел он к брату, когда тот вышел из комнаты старика.
– Многое говорил! – уклончиво ответил Александр.
– Ты не передашь мне вашей беседы?
– Нет…
– Отчего?
– Отец взял с меня слово никому не говорить о нашем разговоре, по крайней мере до тех пор, пока я не возвращусь обратно.
– Хорошо, не говори… Я знаю и без твоего рассказа все.
– Откуда?
Александр с изумлением посмотрел на брата.
– Прежде чем беседовать с тобою, отец удостоил меня своим разговором… Он тебе дал все инструкции?
– Да… Это я могу сказать…
– Стало быть, ты знаешь все… Поклянись мне, что ты выполнишь все приказания отца.
– Слушай, Петр, ты меня удивляешь! Зачем тебе это?
– Затем, что по праву старшего я должен был исполнить то, что наш отец поручил тебе… Понимаешь ты – я! Мне неизвестно, почему наш отец выбрал тебя, но я тебе завидую… Впрочем, не клянись… Не нужно! Если ты почему-либо не исполнишь поручений отца, исполню их я… Это наш священный долг пред нашим родителем!
Петр повернулся и быстро пошел из зала, стараясь скрыть овладевшее им волнение.
– Прощай! – приостановился он на пороге. – Помни: воля отца должна быть исполнена.
Александр сделал было движение, чтобы удержать брата, но тот не остановился.
– Не понимаю Петра! – тихо проговорил он. – Что он так волнуется? Отец не давал мне таких поручений, чтобы они заслуживали столь серьезного внимания… Познакомиться с каким-то Кучумовым, сойтись поближе с этим Контовым, попавшим, кажется, в путы Куманджеро, и поприглядеться к тому и другому, увезти сюда при возвращении, если можно будет, Контова – вот и все… Что тут особенного? А Петр волнуется… Из-за чего? Не понимаю! Положительно не понимаю ни волнения Петра, ни даже значения отцовского поручения… Зачем все это понадобилось отцу? Конечно, я исполню все, но, право, что такое у нас творится в семье с того дня, как появился этот Иванов?.. Я очень рад, что его не будет… Быть может, как только он уедет, все войдет в свою обычную колею… Я думаю, что так именно и будет.
Эти мысли совершенно успокоили молодого человека. Он перестал думать о будущем, о загадках, вдруг зародившихся в их семье, и поспешил поскорее добраться до постели, памятуя, что поезд, на котором ему приходилось уезжать, уходит рано утром.
Его маленькая спаленка была отделена лишь ширмой от соседней более просторной спальни старшего брата. Засыпая, Александр слышал шаги Петра: молодой гвардеец все еще был охвачен волнением и никак не мог заснуть в эту ночь.
С рассветом Александр и Иванов уехали. Старик Тадзимано даже не вышел проводить сына. Но Александр видел его у небольшого оконца его комнаты, и почему-то глубоко врезался в память молодого человека полный тоски и страдания взгляд отца.
В тот же день под вечер пришел навестить свою невесту Алексей Суза. Он прежде всего, даже прежде чем пройти в помещение Елены, отправился к старику Тадзимано и сообщил ему о дне, когда должно было состояться собрание по воле микадо не ассоциаций, а только главарей их.
– К какому решению придут на этом собрании, такое примет и правительство великого тенпо! – рассказывал старику Суза. – Слава богу! Ждать недолго. Это проклятое ожидание действует на всех нас угнетающе.
14. Среди японских патриотов
Собрание, вернее тайное совещание, главарей японских политических ассоциаций было назначено в одном из павильонов императорского дворца.
Таких политических ассоциаций, прочно сплоченных, имеющих вполне определенную организацию, в Японии чрезвычайно много, но наибольшим значением среди них пользуются Риккенкенсато – либерально-консервативная и Риккентенсенто – конституционная императорская партия. Затем большим влиянием на политику внутреннюю и даже внешнюю пользовались партии Сампото и позднейшая Кенсенхото. Далее шли уже более мелкие ассоциации, преследовавшие те же задачи, как и крупные, но в мелком масштабе.
Кроме вождей партий по воле императора были собраны многие гичо и даже соп, то есть городские головы и волостные старшины. Они являлись представителями массы народа, выразителями его желаний и вместе с тем должны были возвестить своим сикомин, то есть избирателям, решение, к которому должно было прийти это тайное совещание.
Несмотря на многочисленность собрания, не слышно было ни шума, ни разговора: в просторном зале господствовали полнейшие тишина и порядок. Участники совещания, как тени, неслышно, бесшумно проскальзывали в зал и все, без исключения, войдя, преклоняли колени перед шелковой занавесью, скрывавшей вход во внутренние помещения павильона.
За этой занавесью во время совещания должен был находиться божественный тенпо, которому этикет не позволял присутствовать среди представителей своего народа открыто, но который в то же время хотел слышать сам все, что будет высказано.
Вдоль стен зала были разложены соломенные, но изящные тюфяки, заменяющие диваны и вообще меблировку во всех японских домах. На этих тюфяках сыны Страны восходящего солнца располагались обыкновенно кто полулежа, кто на корточках – любимая поза всех японцев, даже принадлежащих к высшим классам. Кроме этих тюфяков-диванов было расставлено несколько десятков стульев, сидеть на которых почти не находилось охотников.
У стены против занавеси был поставлен невысокий длинный стол, покрытый на европейский лад зеленым сукном. Никаких письменных принадлежностей – чернильниц, перьев, карандашей – не было и в помине, даже незаметно было необходимого на всех собраниях европейцев звонка для председателя. Да и к чему бы он был нужен, если каждый из присутствовавших старался быть ниже травы, тише воды? Все эти люди собрались для великого всенародного дела; в их руках в эти моменты до некоторой степени была судьба их родины, и вряд ли кто-нибудь из них решился бы отнестись не с достаточной серьезностью к поставленным на обсуждение вопросам.
С каждой минутой число участников собрания все увеличивалось, в зале становилось тесно, но тишина господствовала по-прежнему.
Около стола с зеленым сукном стали группироваться люди, стоящие во главе современной Японии.
Резче всех своим бесстрастием и спокойствием выделялся маркиз Ито, творец японской конституции, самый замечательный из всех политических деятелей Японии. Он уже был порядочно стар, но в его темных глазах так и блистали и недюжинный ум, и почти юношеская живость.
Около этого вождя японских консерваторов стоял другой не менее замечательный человек современной Японии – граф Окума, вождь либеральной партии, шепотом разговаривавший с маркизом Сейонцзы, представителем ассоциации Секвай, действовавшей в том же направлении, как и партия маркиза Ито. Эти люди были заклятыми политическими противниками друг друга, что нисколько не мешало им быть добрыми друзьями в частной жизни. Каждый из них по-своему служил своему отечеству, но общественная деятельность была у них у всех строго отделена от их частной жизни.
Здесь же присутствовали не менее знаменитый, чем Ито, маршал Ямагата и один из великих возродителей Японии – сотрудник и Ямагаты, и Ито – граф Инуэ.
Ито, Ямагата, Инуэ, величайшие из государственных деятелей Японии, стояли вне всяких партий, руководя в то же время направлением каждой из них.
Около этих людей собрались министры, составлявшие правительство микадо, и среди них особенно выделялась хитрая, чисто лисья физиономия маркиза Суемацу, занимавшего довольно долгое время пост министра финансов, но потом отказавшегося от министерского портфеля ради каких-то одному ему известных целей.
Несколько отдельно стояла группа людей с суровыми, хмурыми физиономиями. Все эти люди были одеты в европейские штатские сюртуки, носить которые они, очевидно, не умели.
Среди них как-то особенно выделялся своею представительностью толстый, сильно расплывшийся старик с глубоко изрытым оспой лицом. Это был знаменитый в Японии маршал Ояма, а стоящие около него – выдающиеся генералы сухопутных войск и старейшие адмиралы японского флота. В стороне от них, ближе к Ито и Окуме, в одну группу собрались выдающиеся представители дипломатического мира, окруженные журналистами, профессорами университетов и учеными, и, наконец, за ними были выборные от народа.
Поразительна была здесь смесь одежд. Пестрые, с преобладанием желтого цвета, национальные хиромоно были перемешаны с черными европейскими сюртуками – Азия, и Азия древняя, столкнулась и смешалась здесь с современной Европой.
Дальний Восток и европейский Запад накладывали свою печать на сборище этих людей. Но тип выдавал в них азиатов, хотя несколько лиц и приближались к кавказскому типу. Впрочем, таких было очень немного и в общей массе они были почти незаметны.
Совсем отдельно от всех, в уголке зала, стоял с пожилым серьезным японцем в европейском костюме Николай Тадзимано. В руках у него была довольно объемистая тетрадь, в которую он время от времени заглядывал, обращаясь после этого с вопросами к своему соседу. Тот отвечал ему, пожимая плечами и отрицательно качая головой.
Этот серьезный японец был бывший военный министр микадо, генерал Кодама, усердно пропагандировавший идею перехода японцев на материк, но в подробностях своего плана совершенно расходившийся с большинством.
– Нет, нет, любезный Тадзимано, – шепотом говорил он, – наши труды пропали…
– Вы думаете, генерал? – спрашивал старик. – Неужели можно спорить против очевидности?
– А разве вы не видите по общему настроению, что мы с вами останемся в одиночестве?
– Я думаю только, что нам удастся убедить собрание… Все ваши доводы так обоснованны…
– А я думаю, что мы изложим нашу мысль как только возможно короче… Нас вряд ли будут слушать!
– Тс! – остановил его Тадзимано. – Смотрите, сейчас начнется совещание…
Действительно, в зале наступила гробовая тишина. Все, кто только был здесь, в одно мгновение очутились на ногах и, почтительно склонив головы, обратились в ту сторону зала, где была видна слегка колебавшаяся теперь шелковая занавеска. Все эти люди знали, что за шелковой тканью скрывается сам божественный тенпо…
Граф Кацура сделал знак и занял место посредине стола. Рядом с ним поместились налево от него Ито, Окума, Сейонцзы; направо сели все министры, входившие в состав императорского правительства. Остальные собравшиеся кто остался на ногах, кто разместился на тюфяках у стен.
Несколько мгновений прошло в многозначительном безмолвии.
– Мы собрались все здесь, – тихим, ровным голосом заговорил Кацура, – чтобы иметь суждение о ближайшем будущем нашего отечества. Наступают тяжелые времена, когда всему нашему народу грозит бедствие войны, и это бедствие неизбежно, ибо, если не будет войны, наш народ должен будет погибнуть… Много к тому причин, и большинство собравшихся здесь уже знают о них подробности. Но наш великий император желает, чтобы здесь были высказаны все мнения, были высказаны без стеснения, ибо вопрос касается всего народа, и поэтому народ должен знать, что ждет его. Ваша задача – выслушав все, что будет здесь сказано, передать наши решения своим близким и убедить их, что так, как мы поставим, так и должно быть, ибо наши решения имеют в виду лишь благо нашего отечества. Прошу вас выслушать прежде всего следующее.
15. На кого из двух?
Кацура подождал с минуту, потом заговорил ровно, не очень тихо, но и не громко. Слушая его издали, можно было думать, что этот человек читает составленный доклад, а не произносит речь, предназначенную осветить важнейший из всех вопросов, возбуждавшихся во все время существования обновленной Японии.
– Я буду краток, – говорил Кацура, – потому что все, что я намерен сказать, известно каждому из вас и моя речь имеет в виду только напомнить вам о главнейших подробностях подлежащего нашему обсуждению вопроса. Все, что в природе одарено жизнью, с течением времени растет, увеличивается в своем объеме и стремится занять как можно более места, вытесняя пустоту. Дерево, сперва чуть видное от земли, с годами поднимается своей вершиною к небу. Человек, когда родится, может поместиться на ладони, когда же он умирает, то, чтобы снести его в могилу, нужны двое или трое взрослых людей. Закон увеличения или роста непреложен и имеет свои условия. Рост, увеличение – последствие питания, но увеличения не может быть, если питания недостаточно. Питание – непременное условие существования организма, а существование-то и влечет за собой рост и увеличение. Что верно относительно отдельных особей, то же самое верно и по отношению к таким сложным организмам, какими являются народы. В отношении своего физического роста наш народ находится в наилучших условиях. В то самое время, когда в неудобствах Западной Европы и на американском континенте смертность прогрессирует с поражающей быстротой, на наших островах рождаемость столь значительно превышает смертность, что близко время, когда для нашего народа не хватит продуктов питания. Вы лучше меня знаете, что на наших островах все, даже ничтожнейшие клочки земли, обратилось не в поля, не в нивы, а в огороды. Урожаи превосходны, но их не хватает для удовлетворения потребностей ежегодно увеличивающегося населения. Вспомогательные продукты питания, вроде рыбы и тому подобного, также уменьшаются в своем количестве. Ужаснейший призрак голода витает над нашими островами, грозя нашему народу. Страшная гибель неизбежна, если не будут приняты как можно скорее самые радикальные средства, дабы приобрести для нашего народа новые земли, которые обеспечили бы ему в достаточной мере необходимейшие продукты питания. Но где взять эти земли? Увы! Давно прошли времена, когда острова среди наших морей создавались из капель, падавших с меча небожителей, и теперь настало такое время, когда все необходимые земли могут быть добыты для великого Ниппона мечом ее сынов.
Тихий, чуть слышный шепот одобрения пронесся среди собравшихся.
– Да, я так говорю! – продолжал Кацура. – И я уверен, что каждый из вас вполне согласен со мною. Земля необходима для нас, и множество земли, ожидающей труда людей, пропадает напрасно на материке. Чтобы добыть землю, силы Ниппона должны с островов перейти на материк и утвердиться столь прочно, чтобы никто не заставил их уйти оттуда обратно, как это было уже раз без малого десять лет тому назад, когда три европейские державы лишили нас результата великих наших побед на Ляодуне и в Маньчжурии.
Кругом послышался опять сдержанный шепот, но на этот раз в нем звучали и ярость, и гнев, и жажда мести.
– Все, что сказал я до сих пор, – выждав время, продолжал Кацура, – все это лишь основа нашего вопроса, и я думаю, что против моих слов никто не будет спорить. Поэтому я считаю, что вопрос о необходимости для нашего народа выйти во что бы то ни стало на материк решен в утвердительном смысле единогласно.
Общее безмолвие подтвердило, что собравшиеся вполне согласны с графом.
– Теперь является, как следствие из предыдущего, новый вопрос: в какой части материка должны мы выйти на него? С самого далекого севера по всему побережью тянутся владения могущественной России, и их прерывает лишь та страна, которую все зовут Страной тихого утра. Эта страна с трех сторон окружена тем, что принадлежит русским, и лишь со стороны моря остается доступною для нас. Далее идут владения Небесной империи – Китая, а потом берег занят областями, которые могущественная Франция, друг России, считает своими. Еще далее на юге идут владения нашего друга и союзника Англии, которые должны быть для нас неприкосновенны. Итак, вы видите, что выход на материк нам прегражден всюду; где бы мы ни ступили на континент, везде мы должны каждый шаг наш вперед обеспечивать себе силою оружия. Быть может, мне будет указано на Китай, являющийся для нас противником ничтожным, победа над которым даже особенной славой не увенчает наше оружие. Я на это отвечу, что за Китай вступятся все государства Европы, наше движение к нему возбудит против нас все великие державы, а единовременная борьба со всеми ними нам не под силу. О Стране тихого утра, которую в Европе зовут Кореей, я также не буду говорить, ибо наше движение туда вызовет несомненную борьбу с Россией. Таким образом, вопрос о борьбе за земли на материке предполагает в качестве наших противников в будущей войне или Францию, или Россию, и вам нужно решить, против кого поднимет свой меч наш великий народ.
– Россия, Россия, – тихо, как шелест листьев под дуновением ветерка, пронеслось по залу.
– Россия или Франция? – возвысил голос Кацура. – Россия или Франция? Оба противника безмерно могущественны, оба храбры, с обоими борьба тяжела. Но мы знаем, что эта борьба необходима, и нам остается только обсудить, какой противник легче может быть побежден. Я знаю, – обратился граф в сторону генерала Кодамы, – есть уже серьезно обоснованные мнения о том, что наибольшего успеха мы могли бы ожидать от борьбы с Францией, и я желал бы, чтобы здесь были высказаны во всеуслышание основания этого мнения.
– Я хотел и готовился сказать по этому вопросу очень многое, – выдвинулся вперед генерал Кодама, – и я мог бы сказать многое, но я чувствую, что вопрос уже предрешен, и потому скажу лишь коротко. Я убежден, что успех борьбы с Францией вне сомнения, по крайней мере для меня. Достаточно послать пять дивизий на территорию Индокитая, чтобы укрепиться там столь прочно, что будет полная возможность занять первенствующее положение и заставить мобилизованные впоследствии французские войска действовать на два фронта: один – наступающий против наших дивизий в Индокитае и другой – обороняющийся от ударов со стороны нашей метрополии. У французов не будет прочной базы для войск, прибывающих из Европы, а о первом периоде войны, то есть о периоде нашего первого удара, могу сказать следующее. Мобилизация войск может быть закончена в двадцать дней. Но наши противники, не зная места нашей высадки, ввиду конфигурации полуострова Индокитай и эксцентрического положения двух его столиц, Ханоя и Сайгона, принуждены будут разделить свои силы, что помешает им использовать выгоды своего положения, хотя они и опередят нас по времени. Они, очевидно, сосредоточат свои силы в Ханое и Сайгоне, а мы высадимся в Туране, что нам также даст некоторые преимущества. Силы противника будут расколоты надвое, и он не будет знать, куда мы рассчитываем направиться – на север в Ханой или на юг – в Сайгон. При выбранной нами морской базе, какое бы направление мы ни избрали, железная дорога, идущая параллельно морскому берегу, облегчит нам подвоз провианта. Я убежден, что ранее как через шестьдесят – семьдесят дней к индокитайским войскам Франции не могут поспеть подкрепления, а в это время сверх пяти дивизий авангарда нами может быть высажена в Индокитае и вторая армия, которая очистит Тонкин от французов и займет весь полуостров. Но если бы и пришли подкрепления из Европы, то они не представили бы опасности для нас, ибо европейцы весьма чутки к переменам климата и среди прибывших на первых же порах развились бы губительные болезни, которые вырвали бы из европейской армии более солдат, чем орудия нашей артиллерии и кровопролитные битвы.
Да еще вопрос, прибудут ли эти подкрепления. Наш флот в достаточной мере могуществен, чтобы смело встретить решительной битвой на море неприятельские эскадры, переутомленные двухмесячным тяжелым плаванием. Не пойдут ли французские десанты на морское дно, прежде чем высадиться им на берег Индокитая? Между тем с Россией война представляется мне в настоящее время гораздо более трудной и успех гораздо более сомнительным. Основания моих предположений следующие. В настоящее время Россия обладает железной дорогой, по которой непрерывною рекою польются подкрепления из метрополии, непрерывною рекою, говорю я. Население России в два с половиной раза более нашего народа, и через два-три месяца после начала войны мы увидим перед собою миллионную армию, составленную из солдат, равных которым нет нигде. Если русские и не превзойдут нас доблестью, они задавят нас своей численностью. Но я вижу улыбку на лице маркиза Ито. Вероятно, он считает мои слова недостаточно доказательными и предпочел бы ограничиться тем, что я сказал. Во всяком случае мой голос – за войну с Францией, ибо успех в этом случае скорее достижим и сопротивление будет встречено нами более слабое.
Кодама смолк. Кацура, наклонившись к Ито, зашептался с ним.
– Маркиз желает сказать свое слово, – объявил он, – после того как высказано будет все, что имеют сказать сторонники мнения генерала Кодамы. Я вижу, что почтенный Тадзимано желает поделиться с нами своими мыслями, прошу вас говорить.
16. Мечты и планы
Тадзимано несколько выдвинулся вперед и, слегка поклонившись всем, произнес громким, чуть вздрагивавшим голосом:
– Я просил бы разрешения говорить лишь после того, как я услышу вполне определенные мнения о борьбе с Россией. Позволяю себе просить об этом в интересах нашего народа, ибо я знаю Россию и мои возражения осветили бы вопрос с иной стороны, явившись противоречием существующим уже мнениям. Из противоречий же родится истина, то есть как раз именно то, к чему мы все стремимся. Относительно же существа вопроса я скажу, что я лично за борьбу с Францией, но никак не с Россией.
– Мы именно и хотели знать ваши мнения в таком точно смысле, – с улыбкой сказал старику Кацура, – просим вас, почтенный Тадзимано, подойти ближе и занять место здесь, за этим столом. Ваши противоположные мнения весьма ценны, и, повторяю, мы их имели в виду.
Граф жестом руки пригласил старика на место поблизости от маркиза Ито и графа Окумы и лишь после этого заговорил вновь:
– Почтенный Кодама поделился с нами своими превосходными соображениями. Они чрезвычайно вески и заслуживают серьезного внимания. Действительно, не так много крови, жизней и золота потребуется, чтобы овладеть Индокитаем и заставить французов признать себя побежденными. Но сейчас же является другой вопрос: не выгоднее ли будет ценою крови нашего народа овладеть Кореей и открыть себе доступ в богатейшую Маньчжурию? Должен сказать, что это, несомненно, приведет нас к долгой, кровопролитной и упорной борьбе с Россией, причем успех борьбы останется для нас до последней минуты невыясненным и, начиная борьбу, мы не можем безусловно рассчитывать на успех.
– Я думаю, – проговорил маркиз Сейонцзы, – что мы должны объявить войну России. В этом будет заключаться высшая справедливость! Почему мы должны непременно бороться с Францией? Какую причину мы найдем для разрыва? Всякий будет уверен, что, воюя с Францией, мы преследуем своекорыстные завоевательные цели, а этого быть не должно, хотя это на самом деле так. У европейцев сложились слишком своеобразные понятия о целях войны. Они лицемерны настолько, что прикрывают кровопролития декларацией борьбы за высшие принципы, за идеалы. Наша союзница Англия уничтожила целый свободный народец на юге Африки, но под предлогом восстановления в политических правах нескольких сотен, пожалуй, тысяч негодяев-пришельцев, выброшенных Англией, как никуда не годное отребье, в Трансвааль и Оранж. Прикрываясь стремлением приобщить Китай к общей культуре, вся Европа бросилась в его пределы, а на самом деле у европейцев была цель растащить по областям всю эту громадную империю, заставить ее работать на себя; европейцы скрывают, что войны ведутся из-за земли и воды, необходимых для пропитания народных масс. Это, повторяю, лицемерие, но мы должны считаться с ним, обо в противном случае все обратятся против нас и борьба будет нам не под силу. Повод же к разрыву с Россией готов: она слишком медленно очищает маньчжурские провинции, и мы можем выступить в качестве защитников ослабевшего Китая.
– Теперь я позволю себе сделать несколько возражений! – сказал Тадзимано, когда маркиз смолк. – Мое возражение будет кратко. Взгляните на глобус, на ландкарту! Россия занимает такие беспредельные пространства, что ей не нужны никакие земельные приобретения. Мало того, они ей прямо в тягость. Ведь это единственное государство, протянувшееся на таком расстоянии, что в его пределах никогда не заходит солнце. Мне сейчас укажут, что Россия добивается выхода к Тихому океану, где с прорытием Панамского канала должна сосредоточиться вся мировая торговля; но ведь она уже добилась его: в ее владении Квантун с Ляодуном, в ее владении полоса земли, по которой проходит построенная ею железная дорога, и я думаю, что больше этого России ничего не нужно. Зачем же нам вступать с нею в поединок, успех которого сомнителен? Зачем рисковать нам жизнью тысяч наших братьев?
– Пусть не гневается на меня отец Тадзимано, – выступил вперед Алексей Суза, до сих пор внимательно слушавший слова своего нареченного тестя, – я молод и недостаточно умудрен мудростью, но по высочайшему поручению я изучал положение в Корее и пришел к выводу, что стремления России к территориальным приобретениям очевидны. Лесная концессия генерала Безобразова по Ялуцзы есть не что иное, как прикрытое наступательное движение русских в глубь Кореи. С левого берега они уже перешли на правый, и их поселок Ионамо уже не деревня мирных дровосеков, а укрепление, которое в самом непродолжительном времени будет вооружено пушками, ибо имеются уже насыпи для батарей и к Ычжу прокладывается телеграфная линия.
– Против этого уже приняты меры, – заметил Кацура, – но я считаю необходимым заметить, что мой молодой друг прав. Завоевательные стремления России налицо: это вполне подтверждено учреждением наместничества по делам Дальнего Востока, последовавшим как раз в то время, когда нами были сделаны представления о лесных концессиях. Россия относится к Ниппону со снисходительностью и небрежностью великана к пигмею, и вообще раздражение в нашем народе против русских свидетельствует об обиде, которую перенесло наше национальное самолюбие.
– Россия относится к нам свысока! – выступил на середину средних лет японец с умным, выразительным лицом.
Это был известный и в Японии, и в Европе публицист Зумото, отличавшийся необыкновенной порывистостью и страстностью своих статей.
– Россия относится к нам свысока! – повторил он, складывая крестом руки на груди. – Россия – страна дикарей и варваров!
– Неправда, ложь! – вскочил со своего места Николай Тадзимано. – Гнусная ложь!
Он был бледен, грудь его высоко вздымалась, голос дрожал.
– Ложь! – повторил он. – Зумото не знает русского народа, он никогда не видал его и должен молчать, а не кидать обвинения только потому, что он подхватил где-то какую-то презренную болтовню. Нет на всем земном шаре другого народа, в котором было бы столько идеально-превосходных качеств, как в русских. Это великий девственный народ с душой чистой, как у дитяти. Русским доступны такие идеалы, которые недостижимы ни для кого другого. Русские добродушны, ленивы, покорны судьбе, русские, наконец, разрознены и в силу некоторых особых обстоятельств лишены возможности любить свою родину и заботиться всеми силами своей души и ума о ее пользе, но все это только временное, наносное; близко то время, когда весь мир увидит великий русский народ в его настоящем свете…
– Я нисколько не сомневаюсь, почтенный Тадзимано, – перебил старика Кацура, – что вы правы, возражая уважаемому Зумото; что до меня касается, то я относительно русских держусь такого же мнения, как и вы… Я уважаю русских, но что поделать, если судьба ставит нас и их противниками…
– Я стар и слаб, граф, – проговорил Тадзимано, – и, кроме того, вижу, что мое присутствие здесь бесполезно; как милости, прошу разрешения удалиться…
Настало неловкое молчание, сменившееся шумом. Тадзимано воспользовался им и тихо прошел к выходу. Там он приостановился. Шум уже стих, и неукротимый Зумото с отчаянной жестикуляцией читал следующее стихотворение, которое после приписывалось вдохновению самого тенпо.
Поднялася буря с Урала, — Поднялся орел от востока, — Захватил всю Сибирь вплоть до моря… Не напился Сибири реками, Проглотил и Маньчжурию тоже… И, все ширясь, орел этот дикий С каждым годом на нас наступает, Надругаться желая над миром… Как ни страстно желали мы мира, Не смогли просидеть, сложа руки… Развевайтесь, знамена микадо! Дух воинственный, вспыхни в народе! Вспомни ты, как коварно был отнят Самурайскою залитый кровью Ляодунский у нас полуостров… Незабвенная это обида, — В десять лет мы ее не забыли, В сотни лет мы ее не забудем… Сахалин, где рычанье медведя, В старину был японской землею… Зависть русская так протянулась, Как в Сибири теченье Амура! Сколько снега в сибирских равнинах, Столько зависти в сердце России! В шестьдесят раз обширней Ниппона, Говорят нам, российское царство! Ну а сколько в нем тундр и пустыней?.. Население – вчетверо больше!.. Да не вчетверо ль больше и розни: Шесть десятков племен разнородных!.. Истощилась казна казначейства, И народ беден телом и духом… Нас пугают, как встарь, казаками, Но от них лишь одно вспоминанье… Как ничтожна России эскадра, Как ничтожны твердыни Артура… Укрепленные кровью народа, Гордо режет прозрачные воды Гордость Ниппона, флот наш могучий… В каждой мине и в каждом снаряде Скрыт дух нации, дух патриотов… Пред лучом восходящего солнца Ледяная эскадра России Вся растает… О, братья, вставайте!.. Наступила пора для расплаты. На высотах седого Урала Водрузите Японии знамя!..17. Решенный вопрос
Страшно взволнованный, вышел Тадзимано из павильона. До самой последней минуты он ждал, что мнение Кодамы возьмет верх и войны с Россией не будет. Из слов Кацуры он ясно увидал, что разрыв с великим северным колоссом неизбежен, что собрание примет решение именно в этом смысле.
Старик боялся за Японию. Он был уверен, что борьба с Россией не под силу его новой родине и непременно должна завершиться полным разгромом островитян. А между тем в долгие годы, проведенные им на Японских островах, он приучился любить этот трудолюбивый, способный народ, находившийся в расцвете всех своих сил. Тадзимано был уверен, что война – счастливая ли, неудачная, все равно, – уничтожит еще не вполне окрепшие ростки культуры. Ведь одни десятки тысяч молодежи осуждались на гибель, другие – превращались в убогих, бесполезных калек. Но вместе с тем Тадзимано сознавал, так же как и все стоявшие у кормила правления Японии, что для народа, жившего на истощенной земле, необходим выход на материк. Гибель грозила японскому народу с двух сторон, и ему приходилось из двух зол выбирать меньшее в этой борьбе за свое существование. Как ни губительна была бы война, сколько бы жертв она ни унесла, все-таки народ уцелел бы и своею великою кровавою жертвою обеспечил бы существование будущих поколений. Сознавая необходимость тяжелой кровавой борьбы, Тадзимано в то же время искренне был уверен, что борьба с Францией из-за Индокитая будет безмерно легче борьбы с Россией. Последняя ему представлялась по-прежнему великим и безмерно могучим колоссом, для которого нет ничего невозможного под луной, и по своей простоте Тадзимано думал, что маленькая Япония, если только она осмелится кинуться на русские владения, будет мгновенно раздавлена…
Тяжело, тоскливо было на душе этого несчастного старца, когда он очутился за стенами императорского дворца. Был уже поздний вечер, но в этой части города заметно было еще некоторое оживление. Тадзимано нашел даже рикшу, который в своем легком экипаже доставил его домой.
Ни старшего сына, ни дочери Тадзимано не застал дома и мог на свободе предаться своим мыслям.
– Безумцы! Слепцы, несчастные! – воскликнул он, опускаясь в кресло перед столом в своем кабинете. – Они сами стремятся к своей гибели, и я только могу удивляться, как это такие мудрые люди, как Ито, Инуэ, Ямагата, Окума, даже Ояма, не удержат их. Я могу понять, когда молчит Ояма: он солдат, а не государственный деятель, но Ито, Ито – мудрец высшего проникновения, Ито – прозорлив, проникновенно чувствующий, в чем польза родины, – неужели и он не удержит бедного народа от этой войны?
Тадзимано старался гнать прочь от себя ужасавшие его мысли, но воображение против воли рисовало ему то русский флот, производящий десанты на берега ставших ему родными островов, то русские войска, победоносно, с ликованием вступающие в Токио. Несчастный старик содрогался весь, старался гнать от себя эти мысли, эти картины, но чем более он думал, тем все более яркими становились они в его воображении, тем быстрее сменялись одна другой. И вдруг перед духовными очами старца предстало то, что он давно уже старался забыть, вспомнилась покинутая им родина.
Много-много лет прошло, многое изгладилось из слабевшей с годами памяти, но вдруг все похороненное, все позабытое сразу воскресло, сразу засияло, словно озаренное каким-то немеркнущим светом.
Война – величайшее страдание для обеих воюющих сторон. Если кровопролитная борьба будет бедствием для Японии, то таким же ужасным бедствием будет она и для России. Старик хорошо знал, что японские стратеги строят свои расчеты на успех главным образом на неподготовленности России к войне. Они питали уверенность, что им удастся застать свою соседку врасплох, наскоро укрепиться в горах Кореи и предоставить русским выбивать себя из созданных самой природою горных крепостей. Этот расчет мог до некоторой степени оправдать надежды. Тадзимано даже думал, что в первый период войны его новые земляки будут иметь успех. Зато потом сколько должно было пролиться русской крови! Невозможно было думать, чтобы России не удалось сломить Японию, но, прежде чем удалось бы этого достигнуть, русский колосс должен был бы пролить реки своей крови. А Тадзимано знал, что «добрые соседи» кругом только и ждут, когда Русь ослабит себя. Бесчисленное европейское воронье уже острило свои клювы в ожидании богатой добычи, – Тадзимано знал и это. Он был прекрасно осведомлен о том, что Япония является лишь исполнительницей замыслов ее мнимых друзей, испуганных ее быстрыми успехами, ее гигантским развитием торговли, ее предприимчивостью. «Друзья» задумали ослабить народ, втравив его в тяжелую борьбу с могучим соседом, который и сам неминуемо должен был ослабеть после этой борьбы.
В таком тревожном, полном смятения состоянии застал старика сын, наконец возвратившийся домой.
Петр казался в сильнейшем возбуждении, он не был на собрании, но все-таки успел кое-что услыхать о происходившем на нем.
– Маркиз Ито высказался за войну с Россией, – поспешил он сообщить отцу.
– Даже Ито? – дрогнувшим голосом воскликнул тот. – Что же он сказал?
– А видите ли, батюшка, когда вы ушли, мнения заколебались.
– Заколебались, говоришь ты? – в голосе старика послышались отзвуки слабой надежды.
– Да… Было высказано подряд несколько серьезнейших мнений за войну с Францией. Кодама энергично поддерживал их. Был момент, когда казалось, что собрание склонится на его сторону и примет решение завоевать Индокитай, но тут вмешался молчавший все время Ито.
– Что же он сказал? – спросил старик, жадно прислушиваясь к рассказу сына.
– Очень немногое… Он, батюшка, высказал такую мысль: если мы будем вести войну с Францией, то при первых же успехах наших за нашего противника непременно вступится Россия. Ведь эти обе державы, как тебе известно, находятся в союзе между собой. Таким образом, нам придется воевать сразу с двумя врагами, причем несомненно, что Россия будет вести наступление. Если же мы будем воевать с Россией, то за эту державу никто не вступится, никто не окажет ей помощи, даже союзница Франция… Россия останется одна, и нам можно будет действовать спокойно, с полной надеждой на успех.
– Он прав, этот старый прозорливец! – вскричал Тадзимано. – Он прав в том, что сказал об одиночестве России. Все европейские державы страшатся русского могущества и в мгновения серьезнейшей опасности не окажут ей ни малейшей помощи в надежде, что их соперник в общей политической работе будет ослаблен тяжелой борьбой. Что сказал еще Ито?
– Больше ничего… Ни одного слова он не прибавил к высказанному… Сказал и смолк, как приличествует мудрецу. Его слушали с благоговением.
– И что же дальше было? Право, я сожалею, что ушел… Я должен был остаться, как бы ни было мне тяжело… Тебе известно еще что-нибудь?
– Очень немногое… Министры сообщили, что наши армия и флот находятся в образцовом положении и могут быть мобилизованы немедленно.
В соседнем зальце послышались голоса Алексея Сузы и Елены.
– Отец Тадзимано, – воскликнул первый, появляясь в комнате старика, – совещание приняло решение…
– Война решена? – бледнея, спросил старик.
– Да, отец…
– С Россией или Францией?
– С Россией!..
Стон вырвался из груди Тадзимано; он закрыл руками орошенное слезами лицо и хрипло прошептал:
– Война решена с Россией! Господи, спаси несчастную Японию!..
Часть III Между сердцем и долгом
1. В Порт-Артуре
Если бы подняться на воздушном шаре ввысь и кинуть оттуда взгляд на Ляодунский полуостров, которым заканчивается Квантун – тоже полуостров, прежде всего воображение создало бы картину, представляющую залегшее на морской поверхности чудовище.
Именно такой вид имеет Ляодун с завершающим его мысом-полуостровом Ляотешанем.
В самом деле, эти ряды высот, тянущиеся довольно правильно с материка через узкий Цзиичжоуский перешеек, представляются как бы гигантскими позвонками этого чудовища; скаты их, отвесно спускающиеся на запад к Печилийскому и на востоке к Корейскому заливу, кажутся ребрами, а узкая полоса земли, прихотливо загнувшаяся назад и как бы опоясавшая собою обширное водное пространство, имеет вид и в самом деле чудовищного хвоста.
Своей дикостью весь этот полуостров производит тяжелое, гнетущее впечатление.
Эти горы, скалы, утесы, кручи давят своей величественностью, своей неприступностью человека; кажется, что этому слабому созданию не может быть места среди диких громад. Но человек – создание, приспосабливающееся решительно ко всему. Природа никогда не страшит его, и он стремится устроиться всюду, где только, по его разумению, обеспечены какие-либо выгоды для его существования.
Когда-то – вернее всего, во времена глубочайшей древности, той древности, когда Земля только что начала приходить в порядок и формироваться, – тот узкий, длинный клочок земли, который представляется хвостом чудовищного дракона, тянулся вплоть до противоположного берега и опоясывал вместе с ним большое внутреннее озеро. С течением времени, может быть, проработав целые века, внутренние воды промыли эту низкую береговую полосу и вырвались на морской простор. Там, где они, сокрушив сушу, соединились с морем, образовался узкий – не более двухсот сажен ширины – проливчик, очень мелкий, со слабым, чуть заметным течением, но благодаря тому, что этот проливчик появился, внутреннее озеро обратилось в прекрасную бухту, защищенную от свирепых бурь и от всевозможных капризов мятежного, никогда не ведающего покоя моря.
Люди со свойственной им инстинктивной проницательностью быстро заметили, какие огромные удобства может предоставить им эта внутренняя гавань, и поспешили поселиться на берегу ее.
Эти первые поселенцы в этой местности были китайцы.
Есть некоторые указания, что сюда они забрели, спасая свою жизнь от произвола мандаринов; другими словами, это были просто беженцы из внутренних областей Китая, по тем или другим обстоятельствам спасавшие свою жизнь.
Мудрено ли, что потомство этих беглецов обратилось в течение своего непродолжительного времени в отчаянных морских пиратов, наводивших ужас на купцов-мореплавателей?
Для подобного рода промысла место оказалось как нельзя более пригодным. Пиратские джонки могли оставаться на водах внутренней бухты совершенно незаметными и вдруг появляться перед несчастными купцами, бороздившими на своих утлых джонках Желтое море по всем направлениям.
Все это было давно, очень давно. Мандарины «сына неба», которым перепадала порядочная часть пиратской добычи, смотрели сквозь пальцы на гнездо морских разбойников, а это гнездо все разрасталось, увеличивалось, и, наконец, вместо пиратского поселка появился довольно большой китайский городок.
Когда в китайских водах стали появляться кроме китайских, японских и малайских судов еще и европейские, открытое занятие морским грабежом стало невозможным и пиратский городок превратился в рыбачий поселок.
Рыболовство – занятие вполне мирное, никаких нареканий не вызывающее, но тем не менее торговые суда, заходившие в китайские воды, прилегающие к этой части береговой полосы, частенько пропадали, и пропадали всегда бесследно.
Это обратило на себя внимание англичан, только что начавших в то время, после своего похода вместе с французами на Пекин, ввозить в пределы Небесной империи опиум. Исчезновение судов с грузом этого драгоценного яда вызвало расследование, и английское морское министерство командировало в Желтое море экспедицию, на обязанности которой лежало описание всех поселений по берегу Квантунского полуострова.
Находившийся в составе экспедиции корабль «Альджерино», которым командовал лейтенант Артур, совершенно случайно открыл и внутреннюю бухту, и рыбацко-пиратский поселок, скрытый со стороны моря гранитными громадами Ляотешаньского мыса. Это было в 1858 году.
Свой городок китайцы называли Люшунькоу, командир же «Альджерино», желая увековечить свое имя в истории мореплавания, занес на карты всю эту местность под именем Порт-Артура, и это наименование так и осталось за ним с того времени.
Появление на картах нового порта ничего особенного не повлекло за собой. Мало того, если прежде Люшунькоу был довольно богатым и с густым населением местечком, то после посещения его «Альджерино» он быстро начал хиреть, нищать и мало-помалу обращаться из городка в беднейшее приморское селение. Капитан Артур своим визитом обратил на Люшунькоу внимание самых ненасытных из всех хищников Небесной империи – мандаринов и ее богдыхана, и они не замедлили обобрать догола недавних пиратов, да так, как эти профессиональные разбойники никогда не обдирали попадавших к ним в руки купцов.
Во второй половине XIX столетия, ближе к концу его, среди богдыханских мандаринов явилось счастливое исключение. Печилийский вице-король Ли Хунгчанг, не имевший за собой длинного ряда предков-вельмож и вышедший из среды народа, хоть «драть-то тоже драл и с живого и с мертвого», но все-таки радел о пользе своего отечества по мере сил своих.
Этот просвещенный китаец заметил, что Порт-Артур со своей внутренней бухтой представляется лучшей во всем мире коммерческой гаванью. Он обладал огромным политическим проникновением и совершенно ясно видел, что, когда мировая торговля устремится к берегам Тихого океана, цены не будет этой гавани, представлявшей все удобства не только для морской, но и для сухопутной торговли, ибо отсюда пролегала прямая и удобная дорога на древнейшую столицу Кореи – Ляоян, а из этого городка – на еще более древнюю столицу Маньчжурии и Китая – Мукден. Чтобы сохранить за Китаем, этот важный уголок земли, Ли Хунгчанг приказал возвести крепость на высотах, обрамляющих внутреннюю бухту. Крепость была возведена, но спустя несколько лет Япония, стремившаяся к выходу на материк, объявила войну Китаю, заняла своими войсками весь Квантун, и крепость Порт-Артур была взята после недолгого штурма. Это было уже в 1894 году.
Японцам не удалось воспользоваться плодами своих побед. Великие европейские державы не выпустили их на континент и заставили вернуться на их острова. Спустя несколько времени, в мае 1898 года, Китай уступил Квантун в аренду России, прокладывавшей в то время железнодорожный путь, который должен был связать берега европейского Севера и Запада с азиатским Дальним Востоком.
С водворением русских сразу же изменилась физиономия древнего китайского поселения. Вместо грязных китайских фанз на берегах люшунькоуской бухты выросли два европейских города – Старый и Новый, в которых решительно ничего китайского не было заметно. Надбрежные высоты увенчались укреплениями, внушавшими даже европейцам уважение к этой новой «твердыне» России на окраине Дальнего Востока.
При приближении к входному проливу-каналу Порт-Артура прежде бросаются в глаза холодные гранитные громады Ляотешаньского мыса. Скаты их почти отвесны и ниспадают прямо своими лишенными всякой почвы и растительности кручами.
Это с одной, склоняющейся к западу, стороны пролива. На тянущемся по направлению к востоку берегу, у самого входа в пролив, высится другая гора, на склонах которой возведены батареи, обстреливающие и морские дали, и подступы к бухте. Это Золотая гора. С нее открывается лучший вид на море и весь Квантун, и она является колыбелью Порт-Артура, ибо на ней была сооружена знаменитым Ли Хунгчангом первая китайская крепость, срытая после того, как европейские державы заставили японцев-завоевателей уйти долой с материка.
Левей со стороны города берег пролива составляет длинная узкая, с небольшим расширением на конце коса, напоминающая собой загнутый хвост диковинного чудовища. Китайцы называли эту косу Ляокувей, что в переводе значит «Хвост тигра». Это название удержалось и впоследствии. «Хвост тигра» был только переделан в «Тигровый хвост», и на нем одно время был размещен двенадцатый полк сибирских стрелков, получивший от своей стоянки прозвище «Тигрового полка».
К востоку от Золотой горы тянутся довольно высокие Драконовы горы, к которым на севере примыкают Крестовые высоты, а за ними поднимается новая гряда, носившая название Волчьих гор. От этих последних к берегу Печилийского залива тянутся параллельно два горных кряжа: первый – Зеленые горы и второй – Дагушанские холмы; с запада вздымаются Сунгашанский горный хребет со своей наиболее заметною среди других Столовой горой. Вершины хребта носят «птичьи» названия, но среди них попадаются уже и более позднейшие прозвища: «Метровая высота», «Высокая гора» и другие. По самому берегу бухты поднимаются не особенно высокие холмы, носившие общее наименование горы Белого Волка, и, наконец, те гранитные громады, которые заканчивают собою полуостров, остались с китайским названием Ляотешаня.
Внутренняя бухта Порт-Артура, таким образом, со всех сторон окружена, как рамкой, высотами, не пропускающими к ней ни шквалов, ни штормов. Лишь изредка, когда на море свирепствует буря, в бухте заметна небольшая рябь. Между тем бухта прямо поражает своими размерами: площадь ее почти двенадцать верст, и на таком пространстве, будь глубина бухты всюду достаточна, мог бы поместиться любой флот. Но в том и главное неудобство бухты, что она не везде обладает глубиной, необходимой для стоянки военных судов, обладающих значительной осадкой. Сообразно своей глубине вся бухта подразделена на западный и восточный бассейн. На одном стоят мелкосидящие купеческие корабли, другой предназначен для стоянки броненосцев. Кроме того, в берег Квантуна врыт третий просторный бассейн саженей семь глубины, являвшийся гаванью для всех вообще судов и в особенности для тех, которые нуждались в починке.
Город раскинулся на самом берегу восточного бассейна и в течение не более как пяти лет обстроился так, что в общем своем виде мог бы посоперничать и своей красотой, и своим благоустройством со многими городами Европы и Америки. Все строения в нем были каменные, не давили людей своею величиною. Места было много, и пока незачем было зданиям тянуться ввысь. Прямые, всегда чистые, превосходно вымощенные улицы перерезывали город во всех направлениях. На них было много зелени, но любимым местом прогулки артурцев был бульвар, разбитый как раз на берегу бухты.
В Старом городе жила, так сказать, артурская аристократия: семьи офицеров – сухопутных и моряков, чиновники артурской администрации, русско-китайского банка. Здесь же были собор, здания административных управлений, дом наместника и т. д.
Артурцы с более скромным общественным положением населяли Новый город, создавшийся уже после китайской войны на берегу западного бассейна. Обе эти части города почти слились вместе, но в последней части жизнь кипела большим оживлением. Обитатели «рангом попроще» не любят стеснять себя всевозможными условностями общежития. На улицах Нового города постоянно была видна оживленная, суматошащаяся толпа, состоявшая из представителей чуть ли не всех народов азиатского Востока. Японцы, китайцы, индийцы, даже малайцы – все здесь смешивались в одну общую массу с пришельцами: русскими, англичанами, американцами и даже неграми, попадавшими сюда с коммерческих кораблей. Здесь, в этой части, в изобилии были и шикарные рестораны, и гостиницы для путешественников, и грязные матросские кабачки, и всякого рода вертепы. Тут же был и усердно посещаемый всеми артурцами театр, в котором играли наезжие из России труппы. Артисты, составлявшие их, не всегда были «на высоте своего призвания», но скучающие артурцы вполне довольствовались и такими жрецами Мельпомены. Когда в России народилась так называемая «идея всенародной трезвости», и Артур не отстал от общего стремления, и там началось всенародное отрезвление путем драматических представлений в матросской чайной, где давались ради искоренения среди христолюбивых воинов любви к алкоголю модные пьесы «с настроением».
Пресную воду артурцам доставляли две реки – Лухэ и Таучинь, впадающие в порт-артурскую бухту. Вверх по течению первой, версты на две в глубину материка, стоял грязнейший китайский город, население которого исключительно составляли пришедшие на заработки китайцы. Сам по себе, по своей грязи этот город был нечто невозможное, и порт-артурская дума не позволяла уже возводить в нем прежнего типа постройки, предполагая перестроить весь этот город на европейский лад, заменив жалкие китайские фанзы каменными строениями.
Таков был Порт-Артур, которому вскоре после начала настоящего правдивого повествования пришлось стать ареной знаменательных исторических событий.
Но, пока над этим уголком не грянул раскат внезапного грома, никто в нем не думал креститься. Каждый делал свое обычное дело: молодежь посещала рестораны, солидные семейные люди проводили свое свободное время за винтом, чиновники, облеченные во всевозможные формы, исписывали ворохи бумаг, а тучи собирались и все более и более густели…
2. Откровенная беседа
В тихий, но несколько морозный день по набережной Порт-Артура не спеша шли двое молодых людей, громко и несколько возбужденно разговаривавших друг с другом. Эти молодые люди были уже знакомые читателям этого повествования Андрей Николаевич Контов и Александр Тадзимано.
– Итак, мой дорогой лейтенант, – говорил первый, – мы должны скоро расстаться…
– К сожалению, да… Срок моего отпуска кончается, и я должен вернуться.
– Кто знает, придется ли еще увидеться…
Тадзимано улыбнулся как-то особенно.
– Я думаю, что придется! – промолвил он.
– А что значит ваша улыбка?
– Да ровно ничего, добрый друг… Если хотите, мне пришла в голову шальная мысль.
– Какая?
– А вот какая! Я здесь живу уже около месяца, и мы сошлись как будто довольно близко. Я смею думать, что мы даже стали друзьями. Теперь представьте себе, каково будет нам узнать, что вспыхнула война. Ведь в этом случае мы станем врагами, не питая друг к другу ни малейшей вражды…
Контов, не дослушав даже фразы Тадзимано, громко рассмеялся.
– Никакой войны не будет! – объяснил он. – Удивляюсь, откуда берутся все эти толки.
– Вы думаете, что не будет? – задумчиво произнес лейтенант. – Что ж, я этому могу только радоваться…
– Вы можете мне не верить… Знаете что? Зайдемте ко мне, на морозе говорить не особенно удобно.
– Пожалуй… – согласился Тадзимано. – Я даже хотел сам напроситься к вам в гости.
– Напрасно не сказали раньше… А еще говорите, что мы – друзья! К чему такая неоткровенность? Ведь вы знаете, что я живу совсем недалеко отсюда.
– Тогда пойдемте скорее. У вас здесь мороз гораздо сильнее, чем на наших островах.
– Только не будем говорить ни о войне, ни о вашем отъезде!
– Согласен! О чем угодно, только не об этом.
Молодые люди, не переставая весело болтать, свернули с бульвара в одну из перекрестных улиц и скоро очутились около небольшого двухэтажного домика, в котором Контов занимал весь второй этаж.
На звонок им отворил дверь слуга-японец, на лице которого, как только он увидел своего господина, сейчас же появилась расплывчатая, плутоватая улыбка.
– Ну, что, Ивао, тезка знаменитого японского маршала Оямы, – шутливо обратился к нему Андрей Николаевич, – не был ли кто тут без меня?
– Был, господин! – ответил слуга. – Был гость, и новый…
– Кто такой?
– Я никогда не видал, чтобы он ранее того приходил к вам… Это почтенный старец; он имеет вид большого мудреца.
– Да кто он такой? – воскликнул Андрей Николаевич. – Как его имя?
– Свое имя этот старец не пожелал мне сообщить; с виду он показался мне чем-то очень расстроенным… По крайней мере на его глазах я приметил слезы… Я думаю, что ему хотелось видеть вас…
– Русский он, японец, иностранец?
– Я думаю, что этот почтенный старец – русский. Вы убедитесь, что я прав, когда он придет сюда еще раз и застанет вас дома…
– Разве он придет еще?
– Да, господин, этот почтенный старец сказал, что придет непременно.
– Ну, бог с ним! Придет, так придет! Проходите-ка, Тадзимано, сюда.
Контов провел гостя в небольшую гостиную, рядом с прихожей.
– Располагайтесь! Ивао сейчас растопит камин и принесет нам вино, кофе, чай… Что вы хотите?.. Все у меня есть и все наготове!
Из гостиной в отворенную дверь был виден кабинет хозяина. Обе эти комнаты, если и не были обставлены роскошно, все-таки своей обстановкой изобличали в своем хозяине человека с крупными средствами. Как ни недороги были в Артуре различные привозимые из Америки и даже Европы предметы роскоши и комфорта, все-таки нужно было иметь солидные деньги, чтобы обставить себя именно так, как обставлен был Контов.
– Что это вы с таким изумлением осматриваетесь? – с улыбкой спросил Контов. – Ведь вы не в первый раз у меня… Все это видели вы и раньше…
– И представьте себе, что каждый раз меня несказанно изумляет…
– Что именно?
– Откуда у вас все это явилось?.. Я не решался предложить этот вопрос, опасаясь, что обижу вас. Во Фриско вы казались мне путешественником – простите! – с очень скромными средствами…
Андрей Николаевич самодовольно улыбнулся.
– Это значит, батенька мой, что я работаю… Мне все то, что вы видите, дал труд.
– Это очень хорошо! – согласился Тадзимано. – И я от души радуюсь за вас.
– Благодарю вас! – с мрачным раздражением проговорил Андрей Николаевич. – Я вполне уверен, что вы искренни… Если бы все так же относились ко мне, я был бы счастлив.
– Я не сомневаюсь, – с улыбкой посмотрел на него лейтенант, – у вас немало завистников.
– Если бы только завистников! – слегка ударил кулаком по столу Контов. – На завистников я не обратил бы внимания…
– Тогда у вас есть враги?
– Не то! – махнул рукою Андрей Николаевич. – Что враги? А вы представьте себе, что я должен был перечувствовать, переиспытывать, как я должен был мучиться, когда такой испытанный друг, как Иванов, покинул меня?..
– Иванов вас покинул? – с удивлением воскликнул Тадзимано. – Что за причина?
– Не знаю… – горько усмехнулся Контов, – какая-то муха укусила его…
– Что значит «муха укусила»?
– Так говорят у нас в России, когда кто-либо без всякой видимой причины начинает сердиться на другого. Иванов приехал с вами, сперва был очень доволен всем, а я-то как был доволен, что он, наконец, снова со мною! Ведь мы так сдружились, что стали родными. Для меня по крайней мере Иванов – единственный человек, которого я считаю близким себе, и вдруг этот страшно оскорбивший меня уход…
– Но что же такое вышло? – вскричал Тадзимано. – Быть может, вы поссорились?..
– Ничего подобного! Ни единой размолвки… Сперва Иванов радовался, восхищался, потом через несколько дней стал киснуть, хмуриться… Перестал даже смотреть на меня… Взгляну ли я на него, сейчас глаза так и прячет, а если успею его взгляд подловить – какой-то укор, сожаление так в нем и чувствуются… Я бесился, расспрашивал, что такое, – молчит… Потом взял да и ушел… от меня ушел! – Контов почти простонал эти последние слова. – Ни слова не сказал на прощанье… Так и разошлись… С тех пор как он ушел, ни ногой ко мне… И не встречаемся даже… видимо, избегает.
– Жаль, что так вышло, очень жаль! – покачал головой Тадзимано. – Где же теперь Иванов?
– На Невском заводе работает. Это вашему народу, Тадзимано, мастеровые обязаны тем, что у них теперь всякой работы столько, что с утра до ночи не переработаешь…
– Чем же это?
– Пошли эти несуразные слухи о войне, так из России наслали миноносок в разобранном виде… Теперь их на Невском заводе собирают…
И, отвлекшись от первоначальной темы разговора, Андрей Николаевич начал рассказывать своему гостю о ходе работ на Артурском судостроительном заводе.
– Послушайте, – вдруг перебил рассказ Контова Тадзимано, – зачем вы мне это все рассказываете?
– А что? – удивился тот.
– Да ведь вы сообщаете такие сведения, что… что… – несколько замялся лейтенант, – их лучше бы не сообщать, если только они стали известными постороннему, то есть частному лицу…
– Что же вы тут увидели особенного?
Тадзимано пожал плечами.
– Качественное и количественное состояние боевых сил да еще во время ожидания войны всегда составляло строжайший секрет… Впрочем, это касается только наших военно-морских учреждений… У вас, вероятно, дело поставлено по-другому.
– Э, пустяки! – беззаботно махнул рукой Контов. – Может быть, все это и действительно должно быть секретом, но какой же это секрет, который известен стольким людям?.. Впрочем, я понимаю, эта тема скучна для дружеской беседы… Там, на бульваре, вы хотели мне что-то сказать… Вот, кстати, мой Ивао несет нам чай… Коньяк к нему у меня привезен из Фриско: попробуйте, он, мне кажется, очень недурен… Поставь здесь, Ивао, и можешь уходить.
Молодые люди, оставшись одни после ухода японца-слуги, некоторое время молчали.
– Ну-с, так что же вы хотели мне сказать, Александр Николаевич? – прервал молчание Контов. – Судя по выражению вашего лица, я ожидаю чего-то важного…
– Нет, что же может быть важное?.. А не находите ли вы, что между нами есть совпадение, и очень странное?
– В чем же именно?
– Да как же… Мы оба православные: вы Андрей Николаевич, я Александр Николаевич… Наши отчества тождественны.
– Что же тут странного? Имя Николай очень распространено среди православных. Вы это-то мне и хотели сказать?
– Нет, это я только кстати…
– Тогда существенное, стало быть, впереди?.. Слушаю…
Тадзимано помолчал, видимо, собираясь с мыслями.
– Видите ли, – заговорил он, задумчиво смотря вперед, – я жил в Порт-Артуре, живу порядочно долго здесь и теперь, в такое время, когда разрыв между вашим и моим отечеством никогда не был еще так близок, как ныне…
– Вы опять с вашими страхами! – с легким смехом воскликнул Контов.
– Я знаю, что говорю! – с ударением проговорил Тадзимано. – Простите, простите! – заметил он выражение неудовольствия на лице Контова. – Право, все это так странно…
– Что именно вы находите странным? – с суровостью в голосе спросил тот.
– Да вот это… я не знаю, как это выразить на вашем языке. У нас все, понимаете, все – и сановники, и последние земледельцы, и в Токио, и в захолустье – готовятся к войне с вами, вооружаются, спят и во сне бредят предстоящей войной, а вы остаетесь совершенно спокойными, как будто ничего нет впереди тревожного. У западноевропейцев такое состояние называется «танцами на вулкане». На кратере собрался бал, люди веселятся, играют, танцуют, смеются… Вдруг подземный гул, раскат глухого подземного грома, и недавние танцоры летят на воздух, а из кратера рвутся клубы дыма, течет огненной рекой лава, уничтожая все на своем пути.
– Ваши слова, быть может, очень образно представляют положение дела, – возразил Контов, – но, видите ли, у нас все очень своеобразно… У нас есть так называемая администрация, «начальство», как мы его величаем, оно и следит за всем, оно и заботится обо всем. Мы, простые смертные, не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в дела нашего «начальства». Если разразится война, то нам, конечно, об этом скажут и мы будем сражаться с тем, на кого нам укажут как на врага, будь то японец, турок, англичанин, и мы пойдем на всех, на кого нас поведут. А пока начальство ничего не говорит, в официальных органах его извещения ни о чем не появляются, стало быть, и думать нам нечего… Будем жить, веселиться, хотя бы и на вулкане… Какое нам дело, что где-то там что-то грохочет, откуда-то курится дымок?.. Начальство все видит, все знает, и вы как православный из катехизиса должны знать: «Нет власти, которая не от Бога».
– Вы это говорите искренне? – с любопытством посмотрел на Контова лейтенант.
– Вполне.
– И не иронизируете?
Контов с воодушевлением воскликнул:
– Нисколько! Так, как я думаю, думают миллионы русских людей… Есть, правда, и в России беспокойные существа… Они суются со своими советами, указаниями, никому не нужными… Конечно, в распоряжении начальства всегда достаточно средств, чтобы заставить замолчать таких крикунов. Что вы так на меня смотрите?
Тадзимано действительно смотрел на Андрея Николаевича с невыразимой грустью.
– И вы… при таком положении в случае войны, хотя бы с моим народом, собираетесь победить?.. – произнес он.
– Несомненно! Как же иначе? Если вы правы и война вспыхнет, то и не обижайтесь теперь и вы, если я скажу, что мне от души жаль вашего отечества…
– Перестанем говорить на эту тему, – кротко остановил его Тадзимано. – Я возвращусь к тому, что хотел вам высказать… Итак, я вот приехал в Артур, живу здесь, и представьте себе, я положительно не знаю, зачем я очутился здесь.
– Это как же так? – удивился Андрей Николаевич. – Быть этого не может.
– Уверяю вас! – подтвердил Тадзимано.
3. Соперники
Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и тихо, словно говоря сам с собою, начал:
– Я никак не думал, когда возвращался из Америки, что мне придется отправляться сюда, в Артур… Признаюсь, я даже не вспоминал о вашем существовании, хотя мне было известно, что вы с борта «Наторигавы» пересели на судно, идущее в Артур, вместе с Аррао Куманджеро… Кстати, вы его хорошо знаете?
– Думаю, что знаю…
– И знаете его профессию?
– Я знаю, что он арматор, ведет большую внешнюю торговлю.
– Только и всего?
– Да…
– Ну, это меня не касается… В Порт-Артур я поехал потому, что меня послал сюда отец… Зачем? Сначала я думал, что он заинтересовался вами и посылает меня, чтобы я привез вас на наши острова. Но я ошибся. Отец имел что-то другое в виду… Он говорил, между прочим, и о вас.
– Вероятно, о моем существовании ваш батюшка услыхал от Иванова? – полюбопытствовал Контов.
– Да, от него…
– Воображаю, что наболтал про меня этот сумасброд!
– Уверяю вас, что ничего, кроме хорошего… Он любит вас всей душой…
– Вы уже знаете, как доказал он свою любовь, – проворчал Контов.
– Почем мы знаем, чем он руководился! – заступился за Иванова Тадзимано. – Очень может быть, у него были свои вполне веские причины.
Андрей Николаевич ничего не ответил, но по его лицу скользнула тень неудовольствия.
– Внимание отца, его желание узнать возможно более подробностей относились совсем к другому лицу. Здесь, в Артуре, живет некто Кучумов.
– Как вы сказали? – вскричал Контов. – Кучумов, Василий Павлович?
– Да. Вы должны знать его. Он чиновник и занимает здесь видную должность.
– Слыхал… Ну что же, вы, конечно, познакомились с ним?
– Познакомился…
– И видели Ольгу?
В голосе Контова зазвучала нотка ревности.
– Его дочь? Как же!
– И что же дальше?
– Дальше-то? Да то, что я с ужасом думаю, что лучше бы совсем не было дня, в который отец мой послал меня сюда…
– Вот как! – принужденно засмеялся Контов. – Надеюсь, на это у вас есть веские причины? – с ироническим подчеркиванием закончил он свою фразу повторением тех же самых слов, которые только что высказал Тадзимано.
– Да, имею! – ответил тот, не замечая, или, вернее, не желая замечать, иронию.
– Эти причины – не секрет?
– Нет, я и пришел, чтобы поговорить с вами о них.
– Это интересно… Говорите, дорогой лейтенант!.. Я горю нетерпением.
– Тогда не перебивайте меня. Я познакомился с Кучумовым и был принят в его семье.
– О, скрытный! – перебил его Андрей Николаевич. – Ни слова не сказал от этом.
– Я даже предположить не мог, чтобы это могло вас или кого-либо другого интересовать; признаюсь, что и сам я относился к поручению отца с величайшим равнодушием. Я не понимал, зачем отцу надобно, чтобы я познакомился с этим человеком, получил доступ в его семью, узнал его жизнь и все прочее. Мне все это казалось, да и теперь кажется просто старческим капризом.
– Зачем же вы это исполняли? – спросил с нескрываемой иронией Контов.
– Как это «зачем»? Ведь всего этого желал мой отец.
– Да ведь вы сами же говорили, что это был простой каприз!
– Что же из этого?
– Могли не исполнять! Мало ли что может взбрести в голову выживающему из ума старику.
Тадзимано строго посмотрел на своего собеседника.
– Я совсем не знаю, каковы взгляды культурных народов Европы на обязанности детей к своим родителям, но у нас, в дикой Японии, все желания отца священны. Ни один сын, даже сознавая нелепость каприза того, кому он обязан своей жизнью, не откажется исполнить его… Повторяю, воля родителей в Японии священна для детей…
– Ну, не буду, не буду, – засмеялся Контов, – пусть будет так. Что же вышло?
– Вот тут я и начинаю затрудняться передачею дальнейшего. Мне приходится ввести вас в деликатнейшую область… Я посещал этот дом, часто встречался с Ольгой Кучумовой… Она смотрела на меня, как все белые девушки смотрят на интересного желтолицего дикаря…
– Какой же вы желтолицый? – усмехнулся Андрей Николаевич. – Ваша кожа почти бледная, а некоторая чуть заметная желтизна только придает оригинальность вашей внешности.
– Может быть, это и так… Видите ли, не раз во время моих визитов я рассказывал Ольге о нашем народе, о том, как счастливо он жил, прежде чем явились на наши острова европейцы… Рассказывал о голландцах, первыми поселившихся между детьми Ниппона, говорил, как «мадагаскарский король», знаменитый Беневский, пробовал нападать на Матсмай, говорил о вашем после и министре Резанове, с буйным Хвостовым объявившем некоторые наши острова принадлежащими Североамериканской компании, и о том, как за это пришлось поплатиться трехлетним пленом вашему капитану Головину и его людям… Много я передал моей слушательнице о той великой эпохе, когда наш великий тенпо свергнул с себя и со своей страны иго сегунов… Передавал я поэтические легенды моего народа о подвигах самураев, о притеснениях даймиосов и об освобождении от их ига…
– Словом, – перебил Тадзимано Андрей Николаевич, – повторилась в лицах история Отелло и Дездемоны:
«Рассказам этим всем С участием внимала Дездемона!»Контов говорил, стараясь быть спокойным, но голос его срывался, становился хриплым, лицо то и дело передергивала судорога; он даже как-то странно потемнел, и черные глаза его искрились такими огоньками, что, не будь молодой лейтенант настолько добродушен и не увлекись он своим рассказом, ему стало бы неловко под бешеными, полными ярости взглядами своего собеседника.
Но Тадзимано был так углублен в свои думы, что не замечал, ничего и даже не видел того, что Контов то и дело подливал крепкий коньяк в свой стакан.
– Нет, вряд ли я в то время мог походить на знаменитого мавра, – тихо говорил лейтенант. – Я в то время говорил просто для того, чтобы занять как-нибудь молодую хозяйку; мне все равно было, о чем говорить… Это было не что иное, как обычная светская болтовня. Язык произносил то, о чем не думала голова… Ваши европейские девушки другого способа говорить и не знают. Они довольствуются звуками, не стараясь даже постичь их значение…
– Ваша аттестация не льстит нашим дамам! – заметил, видимо, сдерживаясь, Контов.
– Я сейчас искренен, вы же, надеюсь, не выдадите меня никому…
– Кто знает? – загадочно произнес Андрей Николаевич. – Но что же было дальше?
– Вас заинтересовал мой рассказ?
– Очень… Ха-ха-ха…'Я давно уже не слыхивал чего-либо более интересного.
Тадзимано поднял голову и внимательно посмотрел на Контова.
– Что с вами? Вы волнуетесь? – проговорил он. – Я положительно не узнаю вас…
– Не узнаете? – вскочил с кресла Контов. – Да! Вы, пожалуй, никогда не видели меня таким… Если же вы видите, то потому, что я угадываю окончание вашего рассказа.
Он с порывистостью охваченного гневом человека зашагал по гостиной.
– Да, черт возьми, угадываю! – закричал он, останавливаясь около стола, и так ударил по нему рукой, что стаканы и блюдечки задребезжали от сильного сотрясения. – Окончание это так ясно… Вы, желтокожий Отелло, влюбили в себя эту бедную дурочку Дездемону… Вы явились перед ней рыцарем, наговорили ей всякого черта в ступе: самураи, богатыри, гейши! Вы разожгли ее воображение, и она влюбилась в вас по уши. Так, что ли? Говорите, да не вздумайте врать!..
– Господин Контов! – вскочил с кресла Тадзимано. – Кто вам дал право оскорблять меня?
– Вас оскорблять! – презрительно рассмеялся Андрей Николаевич. – Какое же тут оскорбление? Назвать подлеца подлецом – это только правда.
С хриплым воплем, словно подтолкнутый извне какою-то посторонней силой, кинулся Тадзимано на Контова. Тот не ожидал подобного нападения и в то же мгновение был сбит и очутился на полу. Юноша обезумел и впился в его горло своими длинными тонкими пальцами, сжимая их с такой силой, что Контов захрипел и все лицо его мгновенно налилось кровью.
– Господин, – вбежал на шум борьбы Ивао. – Нельзя, оставьте его!
Он что-то быстро заговорил, обращаясь к Тадзимано по-японски. Очевидно, слова его возымели силу. Лейтенант отпустил Контова и, тяжело дыша, поднялся на ноги. Андрей Николаевич был почти без чувств и слабо хрипел, размахивая в воздухе руками.
– Уходите, никто ничего не видел, что здесь произошло! – многозначительно проговорил Ивао. – Уходите, пока он не опомнился…
Лейтенант достал из кармана записную книжку, написал несколько строк и, подавая Ивао, сказал:
– Это вы должны передать ему… Непременно передайте…
– Я исполню это, но вы уходите, прошу вас! – И Ивао снова произнес несколько японских слов.
Тадзимано весь встрепенулся.
– Я понимаю теперь, что значит это! – проговорил он уже на улице. – Этот несчастный любит Ольгу… Он сердцем влюбленного угадал истину… Но что же мне делать? Ведь и я люблю эту девушку!.. Что предпринять?.. Не должен ли я пойти к ней и сказать ей о своей любви? Ведь это было бы самое честное в подобном положении! Пусть она решит сама мою судьбу. Если она отклонит меня, я отстранюсь сам, но если она скажет «да», я не уступлю ее никому.
Он, гордо подняв голову, подошел к выходным дверям.
4. В новой роли
Контов пришел в себя, когда Тадзимано уже ушел из его квартиры…
– Господин, господин! – суетился около него Ивао. – Как вы страшны в гневе!.. Я испугался, я думал, что вы убьете этого моего молодого земляка…
Ивао говорил совсем не то, что было на самом деле, но это извращение, очевидно, входило в его расчеты. Хитрый японец, очевидно, действовал по заранее составленному им плану, и Андрей Николаевич почти поддался на удочку. Впрочем, он и сам в эти мгновения плохо давал себе отчет в том, что произошло с ним.
– Прошу вас, господин мой, – суетился около него японец, – успокойтесь, все прошло уже, этот ваш враг не вернется более сюда. Он скоро уедет из Артура, и вы можете любить молодую девушку, не боясь ничьего соперничества…
При этих словах Контов вспомнил все…
– Любовь… соперничество! – простонал он. – Зачем все это? Зачем?.. Нет! Никому не уступлю ее, никому! – вдруг с новой силой вспыхнул в нем гнев. – Гм!.. Этот человек осмелился… Он бил меня… меня бил…
– Не очень больно, – почтительно заметил Ивао.
Андрей Николаевич даже не расслышал этой несколько иронической фразы.
– Он бил меня! – вырвался у него из груди яростный вопль. – И еще жив… Я оказался слабее его… А между тем это совсем тщедушный мальчишка. Куда девались мои силы?..
– Этот юноша, как я думаю, в совершенстве изучил джиу-джитсу, – пояснил Ивао. – Кто учится этому искусству, тот и со слабыми силами всегда может побороть сильнейшего.
Все это Ивао говорил скороговоркой, как будто это был заранее хорошо вытверженный урок. Андрей Николаевич почти не слушал этой болтовни; он уже стал успокаиваться, и гнев его несколько стих.
– Оставьте меня, Ивао! – кивнул он слуге.
– Господин желает остаться один?
– Да… Не пускайте никого…
– А если придет кто-либо из многочисленных посетителей? – вкрадчиво спросил японец. – Если будут интересующие моего господина сообщения?
– Вы доложите мне, но без доклада не допускайте никого…
Ивао поклонился и вышел.
Андрей Николаевич остался один со своими думами, со своим гневом… Он приподнялся с кресла, в которое усадил его слуга, и прошелся по комнате.
Мысли так и теснились в его голове. Теперь ему уже стало совестно порыва, который столь внезапно овладел им, совестно за себя и стыдно за свою несдержанность.
«Как я мог, как я только мог поступить так? – говорил он сам себе. – Дикарь относится с уважением к своему гостю, а я… Да и что такое привело меня в гнев? Что сказал мне этот японец? Что он любит Ольгу Кучумову?.. Какое же мне в сущности до этого дело? Ведь я никого не могу заставить любить или быть равнодушным… Ведь это же не в моей власти… Он ее любит, ну и пусть себе любит на доброе здоровье!.. Ведь он не сказал, что она отвечает ему на любовь, не сказал, что они объяснились. Он сказал только, что он сам полюбил ее, то есть в сущности не сказал ничего, что могло бы касаться меня… Он даже не соперник мне… И откуда только у меня явилась эта несдержанность, эта необузданность?.. Нервы у меня, что ли, развинтились? Отчего бы? Кажется, все идет благополучно, я не могу теперь жаловаться на свое положение. Благодаря Куманджеро я поставлен прекрасно, обеспечен вполне, принят всюду, как желанный гость, еще немного – и сам Кучумов перестанет сторониться меня. Он уже и теперь кое-как отвечает на мои поклоны… Еще немного – и я буду принят у него в доме, а тогда, тогда… тогда мы с Ольгой будем любить друг друга уже открыто… А до тех пор? До тех пор я должен отчаянно бороться за будущее счастье и путем борьбы составить себе еще более прочное положение, чем имею теперь… Не вечно же мне быть агентом этого японского торговца! Но все-таки откуда у меня эта проклятая нервность?.. Неужели меня привела в такое состояние дикая выходка Василия?.. Вот никогда я не думал, чтобы этот человек был мне так дорог».
Андрей Николаевич остановился у окна и стал смотреть на улицу, слегка запорошенную легким снежком.
Улицы в Артуре были широкие, превосходно вымощенные. За чистотой и порядком на них следили неукоснительно. Ведь Артур считался не столько русским, сколько «европейско-американским» городом. Иностранцев здесь жило много, и даже природные русаки подтягивались, глядя на них.
Контов вспомнил, как он впервые вступил на эти улицы, как он начал здесь свою «коммерческую» деятельность (Андрей Николаевич ни минуты не сомневался, что его деятельность исключительно коммерческая), давшую ему теперь вполне обеспеченное и даже завидное положение. О, Куманджеро не мог пожаловаться на своего тайного агента! Контов сумел войти в дома артурской аристократии. Он выдавал себя за состоятельного художника, путешествующего с целью восприять для будущих картин как можно более впечатлений. Куманджеро снабдил его порядочными деньгами, и Андрей Николаевич мог не стесняться в средствах. На первых порах он швырял деньгами направо и налево.
В каждом другом европейце подобная расточительность сразу возбудила бы подозрение, но в русских людях всякое бесшабашное мотовство в большинстве случаев возбуждает только чувство почтения. И это касается не только бедняков, надеющихся, что кое-какие крохи перепадут и на их долю, но и состоятельные люди смотрят точно так же. Бесшабашный расточитель – всюду первый гость, всюду принят, всюду обласкан, и никто не интересуется, каким путем явились у него разбрасываемые деньги.
Так было и с Контовым. В самое короткое время он успел завести массу знакомств, стать на короткую ногу почти со всей артурской молодежью, до некоторой степени успел сделаться центром, около которого она сосредоточивалась, и каждый день у него накапливалось столько новостей из артурской жизни, что он порой совершенно не успевал сообщать их своему патрону.
Не раз бывали случаи, что совершенно невольно для самого себя Андрей Николаевич призадумывался о том, зачем нужны Куманджеро столь подробные сведения о внутренней жизни Артура и в особенности его гарнизона. Свои сообщения Контов обыкновенно делал письменно, предварительно прошнуровав свое письмо. Письма он передавал своему слуге Ивао, взятому им себе по указанию Куманджеро, а тот уже сам отправлял их по назначению. Через Ивао же Андрей Николаевич получал и ответы патрона. Письма Куманджеро были более чем любезные – ласковые, в них он не требовал, не приказывал, а просил. Более всего интересовали Куманджеро всякие перемены в войсках, расположенных в Артуре, и сведения, приходящие из Петербурга к разным власть имущим лицам. Такие сведения у Контова бывали в изобилии, и он, не раздумывая много, все целиком переправлял их Куманджеро. Чтобы его деятельность особенно способствовала расширению японской торговли в Артуре, этого Андрей Николаевич не замечал, да и не особенно интересовался тем, какой результат имеют его сообщения. Он считал для себя необходимым честно исполнять условие, не получать от Куманджеро даром своего содержания, а остальное, как он был искренне убежден, совершенно его не касалось.
Странным, если не подозрительным, казался Андрею Николаевичу его слуга Ивао Окуши; порой этот человек казался молодому русскому совсем не тем, чем он был по своему скромному положению. Прежде всего Ивао оказался развитым и даже хорошо образованным человеком. Он мог рассуждать о многих вещах, которые, казалось бы, должны были быть совершенно недоступны для человека, предназначавшего себя к лакейской службе. Что Ивао свободно толковал о политике, это Контова не удивляло: японец был гражданин страны, где человеческая мысль, ум, любовь к родине не были в загоне, а роскошно цвели, являясь не только лучшим украшением, но и величайшим благом для народа. Удивляло Контова, что Ивао часто бывал занят черчением каких-то таинственных планов, снабжаемых им длинными математическими выкладками. Эти работы выказывали в Ивао не только недюжинного математика, но и искусного инженера. Когда Андрей Николаевич, застав однажды своего слугу за такой работой, спросил, что это такое, Ивао без запинки объяснил, что он задался мыслью составить проект соединения некоторых из островов его родины подземным тоннелем и работает над предварительным эскизом этого проекта. Контов усомнился в правдивости своего слуги: на его чертеже он ясно видел характерные очертания Ляотешаня с оригинально загнувшимся «Тигровым хвостом», но промолчал, не считая себя вправе вмешиваться в постороннее дело. Как слугой Андрей Николаевич был вполне доволен Ивао, а остального он решил совсем не касаться…
Так шло время, пока не появился Иванов.
Как радостна была встреча внезапно расставшихся друзей! Иванова привел к Контову Тадзимано. Молодой японец с умилением смотрел на обоих русских, на лицах которых сияло искреннее и истинное счастье. Василий Иванович, очутившись в Артуре, сразу же почувствовал себя дома. Там, в Токио, он конфузился, старался прикрыть так же, как и в Сан-Франциско, свое смущение нелепейшими выходками, здесь он стал самим собою, сразу же приобрел степенность, даже нежность, Но – увы! – все это длилось очень недолго.
Дня через три после приезда на лице добродушного парня стало замечаться сперва недоумение, потом изумление, как будто смешанное с каким-то испугом. После этого на день или на два Иванов застыл, ходил как потерянный, ни с кем не говорил ни слова, даже с Тадзимано, часто являвшимся навестить скорее его, чем Контова, и, наконец, ушел, даже не объяснив Андрею Николаевичу причины своего ухода.
Андрей Николаевич был поражен, удручен этим похожим на бегство уходом друга, оскорблен даже, но уговорить Иванова остаться не смог и опять остался одиноким в своей пышной квартире.
5. Взаимная ошибка
Впрочем, Контов не особенно глубоко почувствовал нанесенное ему старым другом оскорбление.
Сердце Андрея Николаевича было занято другим: свершилось то, о чем недавно он и мечтать не смел.
Контова заставило покинуть родину не только желание отыскать исчезнувшего отца, но и несчастная любовь.
Своего отца он никогда не видел и даже точно не знал о его существовании. Этот исчезнувший отец представлялся его воображению мучеником, жертвой людской злобы, но точно такое же чувство сожаления в нем возбудил бы всякий другой, поставленный жизнью в подобное положение.
Андрей Николаевич любил сам, был уверен, что его любят, и в то же время знал, что Ольга Кучумова никогда не будет его женой… Ведь ее отец был виновником всех страданий его бесследно исчезнувшего отца…
Кучумов знал, кто такой Контов, а Контову было известно, какую роль сыграл Кучумов в его жизни. Они были враги, и враги заклятые, враги на жизнь и смерть…
Так по крайней мере казалось этим людям, пока они оба были на родной почве.
Кучумов перебрался на чужбину, в Артур, надеясь, что здесь, на расстоянии десяти тысяч верст от Петербурга, дочь позабудет свою любовь, позабудет любимого человека, который никогда не окажется в силах преодолеть десятитысячеверстное расстояние и явиться на отдаленнейшую окраину вслед за любимой девушкой…
И вдруг Контов явился в Артур…
Павел Степанович Кучумов, когда узнал об этом, был поражен этим неожиданным появлением. Но его удивление росло день ото дня. Контов явился перед ним не прежним жалким бедняком, без обеспеченного будущего; перед ним был молодой человек с неограниченными средствами, человек, сразу завоевавший себе всеобщее внимание, сумевший заставить относиться к себе с уважением всю артурскую бюрократию и принятый запросто даже «в высших сферах» Артура.
Кто он? Откуда у него явились средства? Как создалось это положение? Над этими вопросами Павел Степанович напрасно ломал голову и напрасно старался предугадать, что из этого может выйти в будущем…
Эти старания не приводили ни к чему, загадка оставалась загадкой, и, как следствие всех размышлений и волнений, у смятенного отца явился страх за дочь…
Увы! Он знал, что Ольга любила Контова…
Он, пользуясь отцовской властью, мог запретить ей стать женой Андрея, но в то же время Павел Степанович был достаточно развитой человек, чтобы понять, что нет в мире никакой власти, которая могла бы заставить женщину разлюбить тогда, когда она полюбила своей первой, не знающей никакой тлетворной накипи любовью…
Кучумов был уверен, что Ольга не видится с Андреем. Он верил дочери, был убежден, что она не выйдет из повиновения, но, несмотря на эту уверенность, следил за Ольгой с ревностью деспота, страдающего при одной мысли, что его приказ, его каприз будут не исполнены.
Конечно, он не мог помешать мимолетным встречам молодых людей. Ольга знала, что Контов в Артуре, и несколько раз, правда, только издали, видала его. Андрей, со своей стороны, не делал никаких попыток увидеться с нею, но вскоре Ольга стала от него получать письма, попадавшие к ней совсем непонятным для молодой девушки образом. Эти письма не присылались по почте, Ольга находила их у себя в комнате, как будто их доставлял ей какой-то таинственный почтальон.
Доставку этих писем от Андрея к Ольге принял на себя все тот же шустрый Ивао.
Ольге прислуживала горничная, молодая японка, и Ивао Окуша оказался ее хорошим знакомым, чуть ли даже не родственником…
При ее посредстве доставка писем не представляла никаких затруднений.
Андрей в нежных выражениях напоминал молодой девушке об их любви, ее клятвах и спрашивал, не повлияло ли время разлуки на ее чувство…
Молодая девушка долго не решалась отвечать… Она даже не знала, что ей сказать в ответ на признания Андрея… Она искала ответ в своем сердце, но девичья скромность мешала ей передать бумаге то, что оно ей подсказывало…
Наконец, она решилась написать, что ответ будет потом…
Ольга просто старалась отдалить решительное объяснение; она не смела подавать любимому человеку надежду, зная, как относится к их любви ее отец, и умоляла Андрея ждать…
Письмо Ольги с ее ответом пошло тем же путем, каким и она получала от него письма…
Это несколько успокоило молодую девушку, а тут она стала замечать, что Павел Степанович стал относиться к Контову с большей снисходительностью, иногда даже вспоминал о нем, и вспоминал уже без прежнего озлобления в голосе…
Это были признаки возможной перемены к лучшему, и Ольга решилась даже обнадежить Андрея, написав ему о новом настроении своего отца…
Но она ошибалась.
Павел Степанович по-прежнему питал к Контову только неприязненные чувства, и Ольга простое любопытство, возбужденное загадочной переменой в положении молодого человека, приняла за смягчение в отце неприязни к любимому ею человеку.
И это случилось как раз в то время, когда у Павла Степановича явились совершенно неожиданные планы на будущее дочери…
В семье Кучумовых появился Александр Тадзимано. Японский лейтенант, красивый, изящный, прекрасно образованный, несмотря на молодость, уже успевший побывать во всех уголках света, сразу обратил на себя внимание разборчивого старика.
«Чем Ольге не жених? – думал иногда Павел Степанович. – Молод, богат, православный и, кажется, метис, то есть полукровка… Вот только жаль, что японец»…
Кучумов стал издали приглядываться к своему гостю, подолгу разговаривал с ним, и после каждой беседы его восхищение молодым человеком все росло и росло.
«Что ж такое, что Александр Николаевич – японец?.. – начинал уже думать Кучумов. – Теперь смешанные браки в большом ходу… Отдают же русских девушек замуж за французов, немцев, англичан… Там брак имеет меньше шансов на счастье… Примешивается религиозный вопрос, дети выходят не то полуверки, не то совсем остаются без религии, а тут… тут и этого быть не может… Оба православные, а быть счастливым не все ли равно где – в России или Японии?..»
Наблюдая за молодыми людьми, Павел Степанович подметил, что Ольга с большим интересом слушает рассказы молодого японца о Японии, о его путешествиях. Заметил старик, что и Тадзимано свои рассказы ведет с особенным воодушевлением, и из этого он вывел заключение, что между молодыми людьми зарождается симпатия, которая, по его соображениям, должна была перейти и в любовь.
«Быть может, и позабудет Олюша этого… – Старик даже в думах никогда не вспоминал имени Контова. – Самой судьбой в кару за мой грех он мне послан… Это неумолимая, неотвратимая Немезида… Я много зла сделал его отцу, я разбил его жизнь…
Если бы только можно было вернуть то время… даже не нужно, чтобы возвратилось оно… только бы найти этого несчастного, если он жив, или узнать, что он умер… Жив он – я пошел бы к нему, кто бы он ни был, я в ноги упал бы ему и стал бы молить его о прощении, о примирении… Но идти к его сыну – никогда! Сознаваться перед мальчишкой в своей ошибке, в своем преступлении – ни за что! Лучше смерть… Довольно я страдаю от того, что этот… как вечный упрек, всегда вблизи меня. Я страдаю! Да разве я могу решиться поставить этого… еще ближе к себе, принять его в семью, отдать ему Ольгу? Ведь это значит идти сознательно в бесконечное страдание, чувствовать около себя вечный упрек! Нет, нет! Я слишком слаб для того, чтобы создавать сам себе ад кромешный… Когда я умру – пусть делают, что хотят, но я не хочу, чтобы Ольга знала о моем преступлении даже после моей смерти… Она способна возненавидеть мою память. Нет, нет! Пусть она страдает даже, но я никогда не решусь отдать ее этому… Никогда! Если бы даже она умирала, и то пусть лучше возьмет ее от меня смерть, чем этот… человек»…
Кучумов думал так, а между тем он с болезненной страстностью любил дочь. Ольга была для него самым дорогим в его жизни. Не было мгновения, когда бы старик не думал о будущем дочери, не мечтал о том, как бы устроить ее счастье. Он жестоко мучился за Ольгу, когда услыхал от нее признание в любви к ненавистному человеку, но эгоистическое чувство все-таки взяло верх над родительской нежностью.
Теперь Павел Степанович как будто нашел выход из своего положения и ухватился за мысль о замужестве дочери с Тадзимано, как утопающий хватается за соломинку…
Но Ольга ошиблась, вообразив, что отец стал более склонен к согласию на брак с Контовым, а Павел Степанович ошибся, в свою очередь воображая, что его дочь начинает любить молодого японца…
Ольга действительно с большим интересом слушала, когда Тадзимано рассказывал ей о своих приключениях. Но это был точно такой же интерес, как тот, когда попадается хорошо написанная, занимательная книга. Молодая девушка видела вокруг себя массу японцев и японок, все слуги в доме ее отца принадлежали к народу Страны восходящего солнца. Ольга заметила, что по своему умственному развитию эти люди стоят гораздо выше не только глуповатых и способных только на плутовство китайцев, но даже и многих европейцев, занимавших более высокое в сравнении с ними положение. Ольга видела японцев в свободное время за книгой и знала, что многие ее соотечественники, даже служившие в хорошо поставленных учреждениях, убивали свое свободное время то за картами, то за сплетнями, то в бессмысленном торчании по артурским ресторанам. Разница слишком кидалась в глаза, и отсюда в молодой девушке явился и интерес к желтокожему народу; но интересовалась она именно народом, а не отдельным его представителем…
6. Откровенный ответ
Ошибался же старик Кучумов только в отношении своей дочери…
Все, что он подметил в лейтенанте Тадзимано, так ясно говорило о внезапно вспыхнувшей в молодом японце любви к Ольге, что даже и менее умудренный житейским опытом человек заметил бы это с первого же взгляда.
Тадзимано любил Ольгу Кучумову.
Будь на его месте кровный азиат, никогда чувство любви не вызвало бы в нем страдания. Чувства народов Востока менее сложны, взгляды их на женщину – также. Их может заставить страдать ревность, то есть обида собственника, у которого внезапно нарушаются его права, но любовь их только эгоистична. Она так же быстро проходит, как и вспыхивает, и в сущности своей сводится исключительно к физическому чувству без всякой примеси чувства душевного.
Но Александр Тадзимано только по матери был дитя азиатского Востока. Чувства его были смягчены, облагорожены, утончены отцовской кровью, и для него любовь, прежде чем стать счастьем, стала причиной душевного страдания.
Он полюбил Ольгу и не решался даже намекнуть ей об этом. Молодой лейтенант знал, что грозовые тучи войны уже собираются над Дальним Востоком, что начало кровопролитной борьбы ожидается со дня на день, и считал положительно невозможным в такую пору думать о личном счастье… Он затаил в себе свое чувство, и если заговорил о нем с Контовым, то лишь потому, что ему хотелось с кем-либо поделиться своими душевными невзгодами, а в Контове он почему-то ожидал встретить доброго друга, который поймет его и своим ласковым участием поможет ему справиться с тоскующим сердцем.
Но вместо так необходимого ему дружеского сочувствия молодой японец встретил оскорбление…
Ярость его была так беспредельна, что он, наверное, убил бы Контова, даже не сознавая, что делает, если бы его не остановил Ивао…
До сих пор, бывая у Андрея Николаевича, Тадзимано не обращал внимания на этого человека, но зато теперь он ясно понял, что Ивао Окуши – далеко не такой скромный слуга, каким он казался ему все это время. Когда Тадзимано пошел к наружным дверям, Ивао, оставив своего господина, последовал за ним.
– Лейтенант! – отрывисто и строго произнес он, когда Тадзимано уже брался за ручку двери.
Молодой человек обернулся и с изумлением посмотрел на Ивао.
Тот казался совсем иным человеком, чем за минуту перед тем. Он уже не улыбался, лоб его был нахмурен, черные глаза смотрели властно и строго.
– Кто вы? – несколько отступил назад Тадзимано, не спуская с Ивао изумленного взора.
Окуши поднял обе руки вверх и, соединив мякотью последних суставов их пальцы, причем большие пальцы были приподняты вверх, трижды слегка ударил ладонь о ладонь.
Тадзимано сейчас же почтительно склонился перед Ивао и тихо произнес:
– Я повинуюсь, господин, приказывайте!
Символический жест, проделанный Ивао, указал Тадзимано, что перед ним находится облеченный на время своего пребывания в Артуре неограниченной властью офицер японского Генерального штаба. Все, не только военные, но и простые штатские японцы, состоявшие на службе государства, какого бы чина они ни были, были обязаны беспрекословным повиновением ему, а неисполнение приказаний такого лица приравнивалось к государственной измене и каралось смертью. Тадзимано знал, что в Порт-Артуре находились двое таких всесильных разведчиков-офицеров. Об одном из них ему даже известно было, что он занимается очисткой городских площадей и улиц и вывозит мусор за пределы города и крепости, но другого он никак не ожидал встретить в лице скромного слуги Контова.
Почтительно склонившись, он стоял перед Ивао, ожидая от него дальнейших распоряжений.
– Вы должны уехать отсюда! – не допускающим возражений тоном произнес Ивао. – Завтра после полудня идет в Кобе пассажирский пароход. Вы отправитесь на нем. До отъезда вы будете под домашним арестом.
– Позволено ли мне будет сделать прощальные визиты? – робко спросил лейтенант.
Ивао пристально и строго посмотрел на него.
– Нет! – отрывисто произнес он.
– Но тогда не могу ли я отправить письма с известием о своем отъезде?
– Вы заботитесь об уведомлении Ольги Кучумовой, – резко проговорил Ивао, – и забываете, что наступает время, когда отечество будет смотреть на вас как на мертвеца, хотя бы вы оставались живы… Вы заставляете несколько раз повторять приказания… Из вашей квартиры вы перейдете прямо на пароход… Я позабочусь, чтобы вам нашлось место. Идите!..
Тадзимано почтительно поклонился и вышел из квартиры Контова; он ясно понимал, что всякие просьбы будут излишни и что последствием их явится лишь усиленный надзор за ним, надзор тем более тягостный, что он был тайным.
Морозный воздух несколько освежил его горевшую огнем голову.
«Что это? Судьба? – чуть не вслух думал он. – Ведь теперь ясно, что Контов любит Ольгу, но как я смогу спросить ее, кого любит она?.. Я должен повиноваться приказанию, но… но я должен и решить вопрос… Так или иначе, а я узнаю все»…
Молодой человек так углубился в свои думы, что даже не заметил подходившего к нему с приветливою улыбкою Павла Степановича Кучумова.
Кучумов был высокий, представительный старик олимпийски-чиновного вида. Он держался прямо, смотрел с несколько деланой величавостью, но эта осанка до некоторой степени шла к нему: несмотря на отпечаток пережитых лет, Кучумов был красив. Конечно, это была красота отцвета, но все-таки в ней сохранилось много такого, что действовало привлекающе, хотя при внимательном вглядывании в лицо этого старика можно было заметить в его глазах отпечаток скрытности и душевной черствости.
– Александр Николаевич! – воскликнул он. – Держу пари, что вы до безумия влюблены!..
Тадзимано невольно вздрогнул при этом оклике.
– Это вы? – смущенно пробормотал он.
– Я, как видите! А у вас вид влюбленного. Вы идете и мечтаете. Правда?
– Увы, нет!
– То есть что нет? Не влюблены или не мечтали сейчас?
– Я соображал некоторые обстоятельства из моей жизни здесь…
– Стало быть, занимались презренной прозой… Ох, уж мне эти современные молодые люди… В двадцать – двадцать пять лет они старики… Вы к нам?
– Нет! – печально покачал в знак отрицания головой Тадзимано.
– Это отчего?
– Не могу…
– Позвольте не поверить… Насколько я знаю вашу жизнь здесь, у вас нет никакого строго определенного дела… Ведь до сих пор вы всегда были свободны.
– Да, был…
– А теперь что же случилось? Какие это у вас дела явились?
– Получил приказание от своего начальства…
– Заняться, наконец, делом? – смеясь, перебил его Кучумов. – Но я позволю себе сказать, что ваше начальство далеко, за тридевять морей, в тридесятом государстве… а по нашей русской пословице «Дело – не волк, в лес не убежит». Идемте!
– Не могу я!
Тон, каким Тадзимано произнес эти два слова, походил скорее на вопль, вырвавшийся из рыдающей души, и Павел Степанович понял, что у Тадзимано есть основательная причина для отказа.
– Ну, что же делать! – проговорил он с легким вздохом. – Жаль, очень жаль… Дочь так желала вас видеть…
– Желала? – вырвалось опять против воли у Тадзимано.
Кучумов пристально посмотрел на молодого человека. Они, не торопясь, шли рядом. Прохожих попадалось им навстречу очень мало, и Павел Степанович решил воспользоваться удобным, по его мнению, моментом, чтобы заставить лейтенанта высказаться откровенно…
– Да, желала, – подтвердил он, – Ольга, как я замечаю, очень расположена к вам…
– Очень благодарен за это Ольге, – густо покраснел Тадзимано.
– Я расположен к вам так же, как и дочь, хотя, вы понимаете, мои чувства несколько иные.
Последнюю фразу Павел Степанович произнес с особенно сильным подчеркиванием…
– Мне остается поблагодарить и вас, – ответил лейтенант, – расположение, дружба для меня всегда были драгоценны… Я навсегда сохраню лучшие воспоминания о вас…
– А об Ольге?
Вопрос был поставлен слишком прямо. Не ожидавший его молодой человек сразу смутился и покраснел еще более…
– Ольга была очень внимательна ко мне, бедному островитянину-дикарю, – пробормотал он.
– Ну, какой же вы дикарь, – поспешно возразил Кучумов. – Если бы все такими дикарями, как вы, были, то я уж и не знаю, куда было бы идти цивилизации… Нет, это вы напрасно… Такому дикарю, как вы, любой европеец-отец доверил бы счастье своей дочери…
– Что? Что вы сказали? – воскликнул, останавливаясь, Тадзимано.
– Правду сказал, сказал то, что думаю! – глядя в упор на лейтенанта, ответил Павел Степанович.
– Стало быть, вы… вы отдали бы мне Ольгу?
– Отдал бы!
Легкий стон вырвался из груди молодого человека.
– Что с вами? – испуганно посмотрел на него Павел Степанович.
В душе он был очень доволен эффектом, который произвело его будто невольно вырвавшееся признание.
«Посмотрим, что будет дальше», – думал он, внимательно разглядывая возбужденное лицо японца.
– Слушайте, – схватил его за руку Тадзимано, весь охваченный внезапным порывом. – Слушайте! Вы мне сказали слова, открывающие вам мою душу. Неужели вы хотите смутить покой бедного дикаря? Зачем вы сказали, что отдали бы вашу дочь? Вы, быть может, смеялись над бедняком? Тогда грех вам… ваша же совесть должна наказать вас за ваше глумление надо мной… Как вы можете отдать дочь человеку другого, чем вы, народа? Ведь она ушла бы от вас, и ушла бы навсегда… Она стала бы моей женой, и мы должны были бы жить в Ниппоне. Разве вы согласились бы на это?
– Отчего же? Родители должны жертвовать всем ради счастья своих детей…
– Опять сказана общая фраза, ни к чему не обязывающая… Слушайте, я начинаю кое-что угадывать… Скажите, вы не обиделись бы, если бы я сказал вам, что я полюбил вашу дочь?.. Отвечайте! Обиделись бы?
– Нисколько! За что же? Что в этом может быть обидного? Да, наконец, и разговор наш, я думаю, общего характера.
– Или вы не поняли меня, или не слыхали, или просто хотите как-нибудь затушевать неосторожно вырвавшиеся у вас слова… Слышали вы, что я сказал?..
– Что вы любите мою дочь…
– И что вы ответите?
– Разве я могу что-нибудь ответить? – пожал плечами Кучумов. – Если бы вы пожелали узнать мое мнение о себе, то я вам чистосердечно, без обиняков сказал бы: Александр Николаевич Тадзимано – милый, добрый юноша, которого я не прочь иметь своим зятем… Вот что сказал бы я… Но это касается только меня.
– А она? Что вы скажете про нее?
Тадзимано даже несколько наклонился и пытливо заглядывал в глаза Кучумову.
– Тут уже, батюшка, я ничего не могу ответить! – развел тот руками. – У нас говорят: «Чужая душа – потемки»… Дочь-то моя, родная, а разве я могу заглянуть в девичье сердце? Кто может знать, что спрятано в тайниках его?.. Впрочем, по некоторым признакам я заключаю, что если бы вы спросили у нее ответа сами, то этот ответ, очень может быть, был бы благоприятным для вас… Да знаете что? Самое лучшее будет, если вы поскорее покончите с вашими таинственными делами и придете к нам… Побеседуем… Я разрешаю вам спросить у моей Ольги, что она думает по заинтересовавшему вас вопросу… Но что это такое с вами?.. Вы, кажется, плачете?
По лицу Тадзимано действительно струились слезы.
7. Под гнетом подозрения
Павел Степанович невольно смутился сам при виде этих слез.
– Да полноте, юный друг, – проговорил он, пожимая молодому японцу руку, – скажите только, что это значит?
Тадзимано могучим усилием воли уже справился с собой, но возбуждение все еще не оставило его.
– Проклятая, проклятая война! – с ожесточением воскликнул он.
– Война? Перестаньте придавать веру всяким сплетням! – убежденно возразил Кучумов. – Могу вас уверить, что никакой войны не будет.
Лейтенант с удивлением посмотрел на него.
– Да, да! – заметил его взгляд Павел Степанович. – Вы можете мне в этом поверить на слово. Вам известно, конечно, где я служу – ну, так я вам скажу, что у нас должны были бы знать все, что касается жизни этой окраины, а между тем мы только весело смеемся над всевозможными вздорными слухами… Да иначе и нельзя к ним относиться! Смешно было бы придавать им какое-либо иное значение. Война! Громкое слово – и ничего более… Итак, не проклинайте преждевременно этого бедняги Марса… Он вовсе не страшен, его меч давно иззубрился… В наше время если и может быть война, то исключительно на экономической почве… таможенная, что ли… Право, я даже удивляюсь человеческому легкомыслию… Что такое наш Артур?
Тадзимано молчал, не находя ничего, что бы он мог сказать в ответ своему спутнику. Он даже слушал его невнимательно; мысль его в эти мгновения была около Ольги; он ломал голову, что бы придумать, каким бы способом узнать от нее самой решение вопроса, который стал наисущественнейшим в его жизни.
Кучумов между тем продолжал приводить все новые и новые доказательства невозможности войны.
– Прощайте! – решительно перебил его лейтенант. – Благодарю вас за все, за все благодарю!..
– Я вас буду ждать, – приостановился Кучумов, – придете?
– Не знаю… Нет!
Павел Степанович нахмурился.
– Ну, как хотите! – с оттенком недовольства произнес он. – Впрочем, если нельзя сегодня, приходите завтра… Мы будем рады видеть вас!
Они расстались.
«Что делать? – с трепетом думал Тадзимано, глядя вслед удалявшемуся от него Кучумову. – И как неожиданно все это вышло!.. Я под арестом и не смею нарушить приказание… Но я не могу оставить это так, не могу, не могу… Я должен узнать все, все решить, а там мне все равно».
Одолеваемый волнением, он вошел в подъезд гостиницы, где снимал две комнаты.
– Вам, господин, записка! – передал ему небольшой конверт швейцар.
– От кого это?
– Не могу знать… Принес какой-то бойка-китайчонок и сейчас же ушел… Ответа не спрашивал.
Лейтенант вскрыл конверт.
Там стояло всего несколько японских иероглифов, начертанных, очевидно, наспех.
Тадзимано несколько побледнел, прочитав их.
Неизвестный автор жестоко укорял его за ссору с Контовым. Особенно загадочной показалась молодому японцу фраза:
«Ты рисковал стать Каином, и если ты осмелишься оскорбить несчастного, то отцовское проклятье ляжет на тебя позорным пятном».
«Какая-то мистификация! – чуть ли не вслух воскликнул Александр. – Кто только мог написать эти слова?»
Он с сердцем изорвал записку в мелкие клочки.
– Еще там вас, господин, гость дожидается, – сообщил ему все тот же швейцар, – в вашем номере сидит.
– Кто еще такой? – с сердцем спросил Тадзимано.
– А этот простец, что у вас бывает… с Невского завода…
– Иванов? – радостно воскликнул молодой человек.
– Не могу знать фамилии, должно, что этот самый!..
Тадзимано уже не слушал швейцара и быстро шел по лестнице во второй этаж, где было его помещение.
«Я не смею никуда выходить сам, но принимать у себя я могу кого угодно! – соображал он. – А что, если я напишу письмо и пошлю его к Ольге с Ивановым? Отчего мне в самом деле не сделать так? Писать письма не запрещено»…
Его действительно ожидал Василий Иванович.
Куда только девалась недавняя веселость добродушного толстяка. Иванов был даже на себя не похож. Он похудел, осунулся, вид его был грустен и в то же время мрачен.
– Соскучился по вас, – приподнялся он навстречу Тадзимано, – сердце, Александр Николаевич, так и рвется, душа мутится и нигде себе покою не нахожу…
– Что с вами? – с участием спросил молодой человек, – я и то замечаю, что вы переменились…
– От тоски все, говорю я, сердце не на месте… Уж я и пьян-то напивался, и даже буйство учинил – ничего не помогает… Работаю, как вол, и все для того, чтобы забыться, но все-таки не помогает… Истрепался душою весь…
– Да вы скажите толком все, я пойму, посоветую, как сумею… Только постойте…
Лейтенант позвонил и приказал явившемуся на звонок слуге подать чая, водки и всякой закуски.
– Вот подкрепляйтесь, – угощал он Иванова, – а потом и говорить начнем.
Василий Иванович не заставил себя просить. Тадзимано даже не прикоснулся к водке, зато его гость быстро опорожнил довольно объемистый графинчик.
– Ничегошеньки, как есть, не действует! – с сожалением проговорил он. – Столько проглотил, а хоть бы в одном глазе…
– Хотите еще?
– Не откажусь… Вы только, Александр Николаевич, не бойтесь, я не упьюсь… Лью, как на каменку, и хоть бы что… Даже угара не чувствую…
– А там, у нас, вы, кажется, воздерживались…
– Да нешто у вас можно было? У вас не выпьешь: одно слово – Япония прокислая, а мать рассейская земля к вину всегда располагает, потому что рассейскому человеку иначе и существовать не стоит.
– Ну, вы говорите что-то совсем непонятное.
– Правда, правда! Еще господин поэт Некрасов написать изволил, что вольготно, весело живется на Руси лишь пьяному. А ежели ты трезв, так всякие тебе мысли в башку лезут… Сидишь и сам себя спрашиваешь, отчего и почему у нас не так, как у других… Против мыслей вино очень пользительно. Ежели тебе пьяному и в морду заедут, так и то, как с гуся вода, а поди-ка дай по зубам трезвому! Сейчас возопиет: «За что мне сие?» А вопиять нам не полагается…
Как ни хорошо знал Тадзимано русский язык, даже разговорный, но он с трудом следил за речью Иванова. Опорожненный графинчик был уже сменен на полный, да и того уже оставалось меньше половины.
– Вот хоть себя, к примеру, возьму, – продолжал Иванов, – и сколько же у меня теперь мыслей в голове: одно слово – гибель! Есть и такая, что всем моим мыслям – мысль…
– Какая же это? – спросил Тадзимано.
– А вот изволите ли видеть, Александр Николаевич. Привезли вы меня сюда… Все-таки как-никак, а свое: русским духом так и веет, земляки все кругом. Чего бы, кажется, еще? Среди своих очутился, денежки есть… Те, что в орла-решку у американа из жидков выиграл, все целехоньки… Чем худо? Ан нет… Не сидится спокойно! Как пообгляделся – и затемяшилась в глупую башку мысль: что есть такое мой благоприятель Андрей Николаевич Контов и в чем его работа, за которую он, как видно, немалые капиталы получает? Стал я поглядывать да обсуждать и вижу, что дело нечисто… Вижу, много всякого народа к Андрею Николаевичу ходит, и сам он везде-то бывает… И все-то он выспрашивает, все подмечает и потом в книжку записывает… Есть у него такая книжка: я видел. На кой шут нужно ему знать, сколько миноносцев у нас готово, сколько из России ожидается, когда прибудут? Ведь он не военный, не моряк, а штатскому человеку знать такие вещи совсем неинтересно. Но это все еще ничего, от безделья – все рукоделье… А главное вот что. Приступил я к нему с расспросами, откуда, что и как у него все такие великие и богатые милости, с какого они неба свалились. Он мне в ответ, что состоит вроде как бы контролером на службе у вашего Куманджеры; я, как услыхал, так ажно и присел! Какой же такой торговец этот Куманжерка ваш? Видел я его в вашей столице, хотя он от меня и бегал. Из чиновников он, и ни одной самой паршивенькой лавчонки у него нет, так зачем же ему на контролера тратиться, когда и контролировать нечего? Только Андрею Николаевичу я ничего не сказал про то, а стал поприглядывать еще позорче и вижу, что большое дело в этом япошке… Простите, Александр Николаевич, сорвалось с языка!..
– Ничего, ничего, говорите дальше…
– В этом самом Иве Кушином, – немилосердно переврал Иванов имя Ивао Окуши, – дело… Он аккуратным манером все письма да записочки, которые Андрей-то Николаевич писал, у себя оставляет. Андрей Николаевич напишет и дает Кушину на почту снести, а тот и не думает даже. Как письмецо получит, сей секунд конверт долой, прочтет, в свою книжку запишет, а письмо на огне сожжет. Как он это смеет? Нешто лакейское дело бариновы письма жечь? А зачем он их списывает? Ведь выходит так, что Андрей Николаевич для его, своего лакея, одобрения старается, то есть выходит, так, что не Кушин у него, а он у Кушина служит… Вот вы и скажите мне, Александр Николаевич, что мне обо всем этом думать?
На губах Тадзимано зазмеилась недобрая улыбка… Вспомнилось оскорбление, только что полученное от Контова, и в сердце вспыхнула жажда мести.
– Что вы сами думаете, Василий Иванович? – медленно спросил он.
– Да что я думаю? Ничего не думаю… Будь на месте Андрея Николаевича другой кто, себя не пожалел бы: в участок попал бы… Так, мол, и так, готов пострадать за мать-Рассею: живет в таком-то околотке подозрительный человек и, очевидно, злоумышляет. Ну, дальше все, как следует, пошло бы; внимание обратить обратили бы, потому что всякому лестно около денежного человека по казусному делу потереться… Андрея Николаевича как-никак жалко. Может быть, все это мне только кажется, а на самом деле нет ничего. Только даром кавардак подымешь. Вот что я, откровенно говоря, про все это дело смекаю.
– И знаете что, – медленно проговорил Тадзимано, – мне кажется, что вы… вы правы…
– Что-о-сь? – даже подпрыгнул на своем стуле Иванов. – Как вы сказать изволили? Шпион он?
– Я думаю, что да…
Эти слова Тадзимано проговорил с холодной жестокостью, но сейчас же раскаялся в них.
В ответ ему понеслось тихое, но судорожное рыдание.
– Андрюша – шпион! – с плачем вырывалось у Иванова. – Мать-Рассеей торговать начал… По кусочкам ее, кормилицу родимую, нечестивому врагу продает!.. О господи, господи!.. Только сего недоставало еще.
– Да вы успокойтесь, – подошел к нему Тадзимано, – я недосказал еще всего, я думаю, что ваш Контов сам жертва интриги…
– Какая уж там интрига, ежели он шпион!..
– Нет, вы погодите. Ведь я вам сказал только одно свое мнение, но, может быть, все это не так, может быть, ничего еще и нет… Мало ли что мне показаться могло…
– Не такой вы человек, Александр Николаевич, чтобы вам казалось, – весь так и всхлипывал Иванов, – пригляделся я к вам. Ежели сказали что-либо, стало быть, верно… Все вы такие – и вы, и братец ваш, и папенька ваш, и сестрица!.. Зря брехать не будете… не таковские!
– Нет, вы погодите и меня послушайте, – сел рядом с Ивановым лейтенант, – я вам правду сказал, что точно ничего мне неизвестно, что это все – догадки мои… только догадки. Вы так сделайте: о нашем разговоре молчите, как будто его и не было, а сами продолжайте присматриваться… заметите что-либо худое, ну, тогда и действуйте, как вам сердце подскажет, а до того времени молчите… Что толку в том, если напрасно человека обидеть? Ивао Окуши, слуги вашего Контова, как я полагаю, скоро не будет здесь, в Артуре, вот вы тогда и приступите к вашему другу… глаза ему откройте… Так?
– Пусть так! – согласился, повеселев, Василий Иванович.
– Вот и хорошо… А теперь у меня к вам покорная просьба есть… Исполните?
– Приказывайте…
– Вы здесь одного господина, Павла Кучумова, не знаете ли?
– А как же? И самого Павла Степановича, и барышню Ольгу еще с Петербурга знаю, видел…
– Так вот я буду просить вас снести к госпоже Ольге Кучумовой мое письмо. Пусть она прочтет его и даст вам для меня ответ… Можете?
– Что же, пишите! – равнодушно проговорил Иванов. – Снесу…
Тадзимано пытливо посмотрел на него и подошел к письменному столу.
Иванов все время, пока лейтенант писал, сидел, даже не шевелясь. Мысли его витали далеко, он даже позабыл, что графинчик с водкой не был еще осушен до дна.
«Ничего не скажу, – думал он, – посмотрю, что дальше будет. Может, без скандала на путь истинный направлю».
8. Первые ласточки
Тадзимано писал долго, порывисто. В это письмо он вкладывал свою молодую душу, свою первую юношескую любовь. Он ничего не требовал, ничего не просил, он только высказывался в этом письме, строил воздушные замки… Он говорил, что луч надежды был бы для него невыразимым счастьем, но что он и на это не может надеяться, так как наступает грозное время, когда должны сойтись на боевом поле два великих народа. Тадзимано молил только о том, чтобы Ольга ответила ему, может ли он когда-нибудь надеяться заслужить ее расположение…
– Вот, дорогой Василий Иванович, – передал он письмо Иванову, – мне нельзя выйти даже за порог этой комнаты, и вы окажете мне величайшую услугу, если принесете какой-либо ответ…
Иванов ушел.
Оставшись один, молодой лейтенант погрузился было в мечты. Грезы так и роились вокруг него, рисуя ему будущее в радужном свете. Но, видно, в этот вечер судьба не желала оставить Тадзимано наедине с самим собою…
После ухода Иванова прошло немного времени. Негромкий, но настоятельный стук в дверь вернул молодого человека из мира радужных грез к действительности.
– Кто там? – крикнул он. – Войдите!
Дверь отворилась и пропустила двух его земляков-друзей – Чезо Юкоки и Тейоки Оки.
Они вошли сосредоточенные, серьезные, важные.
Лейтенант знал, что оба они в Артуре, встречался с ними, но их посещения он не ожидал.
– Мы пришли к вам, лейтенант, попрощаться, – сумрачно сказал Чезо.
– И сообщить некоторые несомненно интересные для вас новости! – добавил Тейоки.
– Как! Вы уезжаете? – воскликнул Тадзимано.
– Да, на север! Через полтора часа идет поезд, – ответил первый. – Мы думаем отправиться до Телина, а там сойдем…
– Не будет нескромностью спросить о целях вашей поездки?
– Специальное поручение, – пробормотал Тейоки.
– И очень почетное! – поддержал его Чезо. – Вы, может быть, не знаете, что война решена?
– В принципе?
– Считайте как хотите… После собрания вождей ассоциаций парламент отверг тронную речь тенпо. Народ требует войны во что бы то ни стало…
– И нам будет принадлежать честь первых важнейших действий на суше! Должен вам сказать, что я принят на действительную службу с чином полковника, а мой друг – с чином майора.
– Поздравляю вас, господа! – воскликнул Тадзимано. – И ваше специальное поручение опасно?
– Очень… Вы понимаете, что для русских единственная естественная база – это их железная дорога… Вот разрыв этой базы, если не полнейшее уничтожение ее, нам и поручен…
– Бикфордов шнур, динамитные патроны… вы понимаете? – пояснил Тейоки слова своего товарища. – Если нам удастся уничтожить мост на Сунгари, мы окажем величайшую услугу отечеству. Русские очутятся тогда в безвыходном положении…
– Вы, господа, рискуете жизнью!
– Что наша ничтожная жизнь! – презрительно усмехнулся Чезо. – Если бы у нас было по тысяче жизней у каждого, мы отдали бы их с величайшим наслаждением в жертву нашей родине… Нет более высокого счастья, как смерть на пользу своей стране. Надеемся, и вы разделяете наше убеждение?
– Могли ли вы сомневаться в этом? – воскликнул лейтенант. – Быть может, и на мою долю выпадет счастье отдать свою жизнь нашему Ниппону.
– Да, вы тоже принадлежите к числу счастливцев! – утвердительно кивнул головой Чезо. – Вся слава первого нападения на нашего врага падает на долю флота.
– Да? – радостно воскликнул Тадзимано, забывая обо всем, что так волновало его всего за несколько минут перед тем. – Вы уже знаете это?
– Уже вышел приказ, хранящийся в тайне, – ответил Тейоки. – Великий Того поведет флот к Артуру, его молодой товарищ Уриу будет конвоировать десанты в Чемульпо. Вторжение произойдет через Корею, которая сразу же окажется в нашей власти. В первые недели наши войска не пойдут далее Ялуцзы. Они займут Пионианг, Ычжу, укрепятся на тот случай, если русские попробуют нанести удар по направлению к Гензану. Только вряд ли это последует! Великий Того избрал энергичного Камимуру для наблюдений за Владивостоком…
– Там крейсерская эскадра? – заметил Тадзимано.
– Да, четыре крейсера, но командир их Штакельберг болен, и русские моряки во Владивостоке останутся без вождя. Камимура не выпустит оттуда крейсеры, Уриу уничтожит русский стационер в Чемульпо, Того запрет, если не удастся уничтожить, русский флот в Артуре. Господство на море перейдет к Ниппону, и мы получим свободу действий на суше.
– Можно ли надеяться, что предприятие нашего славного адмирала Того увенчается успехом? – тихо спросил лейтенант.
– Успех обеспечен… Русскими овладело непонятное ослепление. Они не помышляют о войне… Адмирал, командующий их артурской эскадрой, стар и болен, оба других адмирала – то, что мы называем «сухопутными моряками»: один – чиновник, другой – учитель, профессор, оба они выслуживают свой ценз. Они при нападении непременно растеряются.
– А относительно меня и брата нет ничего в приказе? – спросил Тадзимано.
– Есть, – ответил Чезо. – Ваш брат назначен командиром батальона и идет с первым десантом в Чемульпо, вы же назначены на эскадренный миноносец «Акацука», вошедший в состав эскадры Хейкагиро Того.
– На «Акацука» командует мой друг Нирутака, – прошептал Тадзимано. – «Акацука», «Шикономе», «Ширакумо»; «Инатзума» – вот состав отряда миноносцев…
– Да… Насколько я помню, все они назначены для первых действий. Видите, сколько мы сообщили вам новостей!
– Вы, господа, явились для меня добрыми вестниками! – воскликнул Тадзимано. – Мне кажется, что немеркнущая слава уже озаряет собой наш Ниппон.
– Это так, но борьба будет очень трудна. Никто в нашем народе не обольщает себя напрасными надеждами. Россия беспредельна и могуча, силы ее велики. Наш Ниппон рискует своим существованием, вступая в эту борьбу, но иначе не может быть… Победа или гибель! В случае победы около нас сгруппируются все народы Азии и обветшавшая Европа должна будет уступить нам свое место.
– Я с глубоким сожалением вспоминаю лишь об одном, – задумчиво произнес Чезо, – а именно о том, что посольство несравненного мудреца Ито, отправленного в Россию для устройства нашего союза с этим государством, потерпело неудачу… Я боюсь Англии и союза с нею, союз же с Россией сулил неисчислимые выгоды обеим сторонам. Но что же делать? Не удалось упрочить мир, будем бороться, но бороться до конца… Шансы на успех в борьбе у нас есть: мы готовы к ней, русские о ней даже и не помышляют. Вот уже залог победы.
– За нее ручаются также имена вождей, – подтвердил Тейоки. – Хейкагиро Того назначен командующим флотом, Ивао Ояма – главнокомандующим всеми армиями, во главе которых наш тенпо поставил таких вождей, как Куроки, Оку и Нодзу; осадным корпусом для Артура будет командовать старик Ноги, план сухопутной кампании составлен Кодамою и великим Ямагатою. Теперь уже все разработано, все приготовлено, остается только приводить план в исполнение…
– Да! – с юношеским пылом вскричал Тадзимано. – Я слушаю, господа, ваши речи, и восторг овладевает мною. В великое время мы живем. Начинается величайшая мировая борьба – борьба рас. Горе, горе тебе, обветшавшая Европа! Ты пережила самое себя, ты выполнила свое назначение в общем ходе мировых событий, и тебя ждет нирвана – безмятежный покой, из которого выходят теперь обновившиеся в нем народы Азии. Пора! Достаточно покоя! Жизнь – это сплошная борьба. Азиатский Восток вызывает на борьбу европейский Запад, и в победе нет сомнения! Долой цепи европейского рабства, долой гнет белокожих варваров! Отныне нашим девизом должно быть не «Азия для азиатов», а «Весь мир для азиатов». Народы Азии встанут во главе народов мира и будут вести их вперед по пути к безмятежному блаженству… Так должно быть – это непреложный закон мировых перемен! Я ни на мгновение не сомневаюсь в победе Ниппона, потому что эта победа предначертана судьбой… Я христианин и скажу, что воля Промысла поведет нас к успеху. Христиане уже раз убедились, что ex Oriente lux[7], и теперь, что было раз, должно повториться: свет миру опять засияет с Востока!
– Вы правы, Тадзимано, – с чувством проговорил Тейоки, – и ваш молодой восторг понятен и нам, старикам. Долой европейское рабство: мир для азиатов! Ради этого мы идем на верную гибель, идем, одинокие, в самую гущу врагов, ради этого пойдете и вы. Воля судьбы неизбежна, законы жизни должны обновляться путем смены первенствующих рас, и теперь настало время этого обновления… Мы идем, судьба влечет нас… Да здравствует Ниппон, да здравствует великая объединенная вокруг него Азия!
Тейоки с юношеской живостью вскочил с кресла.
– Пора, – произнес он, – прощайте, Тадзимано!
– Прощайте, – как эхо повторил слова друга Чезо, – мы более никогда не увидимся[8].
Тадзимано молча пожал им руки.
– Что значат наше личное горе, наши личные чувства, – прошептал он, – когда впереди такая великая цель! Прочь все, что мучило сердце, прочь все, что тяготило мою душу!.. Личное счастье теперь только в одном: в победе…
Но жизнь как будто сторожила молодого энтузиаста.
Прошло не более часа после того, как оба патриота оставили молодого лейтенанта. Весь этот час Тадзимано провел в грезах. Ему рисовались кровопролитные битвы, но не только с русскими, а со всеми народами старой Европы, и, как результат этих битв, Тадзимано видел, что весь мир склоняется пред победителем Ниппоном и несет свои дары к ногам народа-героя.
Только возвращение Иванова разогнало эти грезы.
– Вот вам, Александр Николаевич, и ответец! – протянул он к Тадзимано небольшой конверт.
Молодой человек не спеша взял его, вскрыл, прочел и только усмехнулся.
– Час тому назад, – прошептал он, – эти строки заставили бы меня страдать, а теперь… теперь в моем сердце живет только одна любовь – любовь к моему Ниппону и к его славе…
В записке рукою Ольги было наскоро набросано:
«Я очень тронута Вашим письмом, но я люблю другого. Будем добрыми друзьями и забудем о какой-нибудь любви! Не сердитесь. Никто не волен в своем сердце, будьте счастливы! Ольга Кучумова».
9. Отец и дочь
Признание Тадзимано было далеко не неожиданностью для Ольги Кучумовой. Женщины ведь так чутки – они всегда и безошибочно угадывают нежное чувство, особенно ими же самими внушенное. Как ни молода была Ольга, но чувство любви ей было не незнакомо и она сразу же поняла, что молодой японский лейтенант увлекся ею не на шутку и что первое его невольное увлечение быстро обратилось в более серьезное, более глубокое чувство.
Ольга со дня на день, потом с часу на час ждала объяснения… и трепетала.
Молодая девушка не знала, что она ответит на признание молодого японца. Прежде всего она была убеждена, что любит Андрея. Ведь их любовь началась еще так давно… Океан разделил их, но любовь преодолела даже пространство, а теперь любимый человек опять близко к ней, так близко, что она видит его чуть не ежедневно и только воля отца, против которой Ольга не решалась идти, мешала их полному счастью.
Но в то же время она чувствовала, что Александр Тадзимано не шутя начинает ей нравиться… В нем было все привлекательно для молодой девушки, привлекательно потому, что было ново.
Андрей для Ольги был прошлое, Александр – настоящее. Прошлое было тревожно, полно разочарований, печали, даже слез, настоящее улыбалось и сулило в будущем счастье…
В случае признания Тадзимано Ольге предстояло сделать выбор, и именно это заставило молодую девушку трепетать…
Немало смущало Ольгу и то, что ее суровый отец был безусловно на стороне Тадзимано; Ольга была уверена, что Павел Степанович ни на мгновение не затруднится дать свое согласие на ее брак с японцем…
И, когда она думала об этом, ей становилось жаль Андрея. Ведь именно все прошлое их любви говорило за него, за его преданность, за силу его чувств. Его любовь уже пережила испытания, окрепла в них, а чувство Тадзимано еще оставалось неведомым и только налетным… Глубины в нем Ольга не видала, не видала и его твердости. Она смотрела на это чувство как на мимолетное увлечение и потому боялась его.
Скажи ей Тадзимано о своей любви сам, может быть, и ответ был бы совсем другой, чем тот, который прислала ему Ольга в письме.
Она долго боролась сама с собою, чтобы написать эти немногие, но решительные строки, и, наконец, все-таки написала их, потому что сердце подсказало ей, что Андрей не перенесет ее измены…
Отослав свой ответ, Ольга почувствовала себя вдруг успокоившейся. Рубикон был перейден, жребий брошен, но это спокойствие было непродолжительно.
Когда отец и дочь сошлись за вечерним чаем, Ольга заметила, что Павел Степанович находится в каком-то странном настроении.
Он был не то весел, не то озабочен чем-то и поминутно взглядывал на дочь, как будто желая заговорить с нею о чем-то.
– Кажется, Тадзимано много рассказывал тебе о своей стране? – наконец начал он.
– Да…
Ольга с удивлением посмотрела на отца. Он уже не в первый раз предлагал подобный вопрос, и молодая девушка была уверена, что отец и без ее слов знает ее ответ.
– Стало быть, ты хорошо представляешь себе эту страну? – последовал новый вопрос.
– Александр Николаевич знакомил меня более с ее прошлым…
– А с настоящим ты не прочь была бы познакомиться сама? – улыбнулся Павел Степанович.
– Как? Каким путем?
– Ну, хотя бы проехав на эти острова, где все так миниатюрно, где вместо людей какие-то смешные куколки.
– Я всегда любила путешествовать, – уклончиво произнесла Ольга.
– Ну, что бы ты сказала, если бы в силу каких-либо причин тебе пришлось…
– Не поселиться ли в Японии? – с легкой усмешкой спросила молодая девушка.
– Ты предугадываешь мой вопрос…
– Но не понимаю, что он значит…
Кучумов ответил не сразу. Он отодвинул в сторону свой стакан и забарабанил пальцами по столу, видимо, подыскивая слова для решительного объяснения.
– Ты желаешь знать, что он значит, этот мой вопрос? – наконец, заговорил он, глядя не на дочь, а куда-то совсем в сторону. – Да, пожалуй, я должен высказаться яснее.
– Говорите, папа! Вы начинаете вашу речь после такого таинственного предисловия, что я начинаю подозревать нечто для себя ужасное и горю от нетерпения узнать, что именно.
– Ты сегодня, как я вижу, в хорошем настроении и шутишь… Ужасного, конечно, я тебе ничего не скажу, но серьезное будет… Скажи мне откровенно, какого ты мнения о Тадзимано?
– Зачем понадобилось мое мнение о нем? Уж не просил ли он, папа, у тебя моей руки?
– Нет еще, а если бы он спросил меня, отдал ли бы я тебя за него, что я должен ответить?
Ольга сразу стала серьезной. Она поняла, что признание Тадзимано было последствием разговора молодого лейтенанта с ее отцом и решительная минута наступила не тогда, когда она писала свой ответ на письмо, а вот теперь, когда она менее всего ожидала ее.
– Я не понимаю, папа, – обиженным тоном заговорила она, – не понимаю твоей настойчивости! Ведь ты уже не первый раз делаешь мне какие-то намеки на намерения этого нашего гостя. Разве я была такой плохой дочерью, что ты так упорно стараешься избавиться от меня?
– Я забочусь о твоем будущем!.. – опустив голову, проговорил Павел Степанович. – Чувствую, что старею, смерть не за горами, вот я и стремлюсь устроить твою судьбу.
– И устраиваешь ее за тридевять земель, в Японии? – с иронией заметила Ольга. – Как будто Россия оказывается слишком тесной для моей судьбы!
Кучумов недовольно нахмурился.
– Я предпочитаю Японию, потому что имею на это свои основания, – сказал он.
– Интересно знать, какие?
– Хотя бы желание, чтобы ты не встречалась здесь с некоторыми не… несимпатичными мне личностями.
– Ах, вот вы про что! – сухо и желчно засмеялась Ольга.
– Да, да! – раздражился Павел Степанович. – И ты очень хорошо знаешь, кто это… Я тоже очень хорошо знаю, о чем ты мечтаешь… Очень хорошо! Этот франт вертится перед твоими глазами… И здесь мне нет от него покоя. Но не бывать этому… Все эти твои любви – дурь, чушь! Ты должна выкинуть их из головы… Да, не бывать! Я решил, что ты будешь женою Тадзимано, и ты выйдешь за него.
– Нет, не выйду, папа!
Эти слова Ольга проговорила с такой твердостью, что Павел Степанович просто не узнал дочери, обыкновенно кроткой и послушной.
– Не выйду! – повторила молодая девушка.
– Позвольте спросить, почему?
Голос Павла Степановича теперь звучал с раздражением.
– Почему? – довольно спокойно ответила Ольга. – Да по очень простой причине, папа: он только что за час или полтора до этого нашего разговора письменно делал мне предложение…
– И ты ему?..
– Я ему ответила, что люблю другого…
Все лицо Кучумова вдруг побагровело.
– Скверная, негодная девчонка! – закричал он, ударяя рукой по столу. – Как ты осмелилась это сделать?
– Я поступила так, потому что мой ответ был правдив, искренен, и такой хороший человек, как Александр Николаевич, оценит его по справедливости. А потом, я осмелилась поступить так потому, что весь этот вопрос касается только меня одной и никого более, даже тебя, папа! Я удивляюсь, на что ты так гневаешься!
Кучумов ничего не ответил дочери, он тяжело дышал, видимо, стараясь побороть самого себя.
– Да, папа, я уверена, что именно так я должна была поступить, – продолжала Ольга, – ты, может быть, обижаешься, что я так откровенно говорю с тобою? Но прости, пожалуйста, нужно же, наконец, когда-нибудь выяснить наши взгляды на мое будущее. Они как будто слишком резко расходятся. Ты гонишь меня в Японию, я стремлюсь остаться русской. Не знаю совсем, какие причины руководят твоими желаниями, мои же причины тебе известны.
– И даже очень хорошо знаю! – гневно перебил дочь Кучумов.
– Тем лучше! Нам незачем распространяться… Знаешь, папа, покончим со всем этим… Зачем нам постоянно ссориться, если нам обоим известно, что никогда мы не придем к согласию? Я уже придумала, как нам покончить. Не будем никогда вспоминать о своих желаниях и планах в этом отношении, ты – о своих, я – о своих… по крайней мере при наших разговорах. Ты дай мне слово, что не будешь настаивать, чтобы я выходила замуж за кого бы то ни было не любя; я, со своей стороны, обещаю тебе, что не пойду против твоей воли… Хорошо, папа? Так? Ну, не гневайся же, скажи «да»!
– Я скажу, – со сдерживаемым, но так и возраставшим гневом заговорил Павел Степанович, – что, пока я жив и ты не замужем, не может быть у тебя ничьей другой воли, кроме моей… Поняла? Если ты не хочешь повиноваться – уходи от меня, но помни, что тогда ты перестанешь быть мне дочерью…
– Ты очень раздражен, папа, – кротко заметила Ольга, – подумай, ты грозишь мне…
– Не грожу, а предваряю о том, что может быть…
– Я не хочу верить, что ты можешь быть жесток, папа! Нет, ты хотел сказать не то!
– Что я говорю, то я и говорю. Я не помешаю тебе отказаться от меня, уйти от меня, перестать быть моей дочерью, но, пока ты не сделаешь этого шага, я буду действовать, как это нахожу лучшим. Ты сказала, что Александр Николаевич Тадзимано сделал тебе предложение и ты ответила ему, не посоветовавшись со мной, послала какое-то наиглупейшее признание. Пусть это так, но я сумею повернуть все дело в таком направлении, какое мне угодно. Несмотря на сделанную тобою глупость, я заставлю тебя выйти замуж за угодного мне человека, иначе ты – мне не дочь, не дочь!.. – перешел уже в крик голос Кучумова. – Я постараюсь не далее как завтра увидеть Тадзимано и объясню ему все… по-своему объясню… Он поймет, что обратился к неразумной девчонке и получил неразумный ответ, поймет и возобновит свое предложение. Ты на него ответишь своим согласием.
– Нет!
Кучумов холодно посмотрел на дочь.
– А я говорю, что ты скажешь «да»!
– Никогда!
Лицо Ольги пылало решимостью.
– Посмотрим, – пожал плечами Павел Степанович.
– Я не выйду замуж за того, кого я полюбила, – воскликнула Ольга, – но и не буду женой того, кого вы навязываете мне насильно. Да, не буду… Не забывайте, что вы человек упорный, настойчивый и ваш характер – в то же время и мой характер… не забывайте и того, что ведь я тоже человек… Что я ваша дочь, так это еще ничего не значит… Кровные узы теперь не дают родителям прав распоряжаться детьми, теперь не тот век… мы живем в двадцатом столетии и, слава богу, не среди дикарей.
– Очень жаль, что ты не слушала рассказов Тадзимано о родителях и детях в Японии… Тебе было бы стыдно за эти слова, – произнес, опуская голову, Кучумов и прибавил: – Иди к себе! Наш разговор пока кончен.
10. Лицом к лицу
На другой день Павел Степанович пожалел, что слишком решительно говорил с дочерью.
Многого он не высказал бы, если бы только знал, что лейтенант Тадзимано так внезапно исчезнет из Артура. Этого исчезновения, непонятно-грубого, потому что молодой японец не прислал даже уведомления о своем отъезде, Кучумов никак не предусматривал и объяснил лишь обидой на признание Ольги. Павел Степанович вообразил себя на месте Тадзимано и решил, что и он тоже был бы оскорблен таким ответом.
«Нет, нужно принять свои меры! – думал он. – Это, наконец, становится прямо-таки невыносимо! Негодник Контов следует за Ольгой по пятам и смущает ее покой. Если бы он не вертелся тут перед ее глазами, все вышло бы по-другому… Его нужно убрать отсюда… Причин на это достаточно: он в полном смысле подозрительная личность. Откуда он появился? Из какого источника взялись все эти средства, которыми он швыряет направо и налево? До сих пор это был бедняк без обеспеченного завтрашнего дня. Все это в высшей степени подозрительно… Шепнуть кое-кому два-три слова – и молодчик улетит за тридевять земель! Так! Средство верное, испытанное… Что же? Прибегну к нему. Когда приходится защищаться, все средства хороши!»
Кучумов не вышел в столовую к обеду, а остался у себя в кабинете. Он был так раздражен против дочери, что боялся быть с ней чересчур резким. Однако после обеда Ольга сама явилась в кабинет отца. Девушка была совершенно спокойна, держала себя так, как будто накануне не было никакого разговора, никакой тени неудовольствия не легло между ней и отцом.
– Папа, – первая заговорила она, – я надеюсь, ты позволишь мне побывать сегодня у твоего друга, – она назвала фамилию одного влиятельного в Артуре лица.
Павел Степанович в знак согласия наклонил голову, но не сказал дочери ни слова.
– Ты можешь быть уверен, – продолжала Ольга, – что я не буду иметь никаких неприятных тебе встреч… Я обещала тебе это и сумею, несмотря ни на что, сдержать слово.
– Можешь идти, – холодно проговорил Кучумов, – я не смею задерживать тебя.
– Меня просили передать приглашение и тебе.
– Нет, я сегодня останусь на весь вечер дома.
Ольга пристально посмотрела на отца.
– Ты здоров, папа? – с некоторой тревогой спросила она.
– Да… – нехотя ответил тот. – Прошу тебя, оставь меня одного, мне надобно многое обдумать.
– Тогда прощай, – поцеловала отца молодая девушка, – не гневайся, папа, верь мне, что все обойдется, все пойдет у нас по-иному…
– Хорошо, хорошо. Прошу тебя, оставь меня!
В голосе Кучумова слышалось раздражение, которое он не нашел нужным даже скрывать.
Он почувствовал величайшее облегчение, когда остался один. В первые мгновения он ничего даже думать не мог, скорее не мог собрать мысли, которые продолжали вращаться лишь около одной, центральной; эта мысль переносила его в далекое прошлое, а это его прошлое было полно его преступлением.
Кучумов теперь и сам не иначе, как преступлением, называл то, что некогда произошло между ним и тем несчастным, жизнь которого вся была переломана благодаря ему…
Он вспоминал погубленного им человека, вспоминал легкомысленную женщину, тоже трагически погибшую, из-за которой было совершено это его преступление.
Воспоминания росли, собирались, как роящиеся пчелы, и каждое из этих воспоминаний, словно пчела, жалило его в сердце своим острейшим жалом…
И муки внезапно пробудившейся совести становились все острее, все резче…
Теперь старик глубоко сожалел, что отпустил дочь. Ему становилось жутко, страшно за самого себя в этом одиночестве, тоска охватила его, завладела им.
Появление слуги – единственного русского из всей прислуги в этом доме – вывело старика из состояния тяжелейшей, тоскливейшей задумчивости.
– Что тебе, Осип? – спросил Павел Степанович, радуясь, что около него явилось живое существо, сразу оборвавшее его томительные думы.
Этот Осип был из России. Он служил Кучумову еще в то отдаленное время, когда тот только-только еще выходил на жизненную дорогу. Долгие годы, прожитые вместе, тесно связали этих двух людей, и они сжились так, что как бы составляли один дополнение другого.
Осип вошел в кабинет Павла Степановича и поспешил плотно притворить за собою дверь.
– Ты это чего? – удивился Кучумов.
– Надобно, значит… вот вас видеть желают…
– Кто?
– Затем и дверь притворил, чтобы доложить вам: личность подозрительная…
– Я тебя не понимаю! – с недоумением воскликнул Павел Степанович. – Порядка ты, что ли, не знаешь? Я спрашиваю тебя: кто? Ты должен назвать мне имя. Или опять не спросил?
– Спрашивал…
– Так кто же?
– Не говорит! «Желаю видеть» – и больше никаких! А вы не пускайте.
– Нет уж! – вдруг раздался голос за спиной Осипа. – Если я пришел, так я увижу господина Кучумова!
Павел Степанович, краснея от гнева, вскочил со своего кресла, Осип невольно посторонился.
В дверях за ним показалась фигура старика, остановившегося на пороге кабинета.
Это был Николай Тадзимано.
Он стоял, с улыбкой глядя на растерявшегося от неожиданности Кучумова.
– Кто вы такой? – пробормотал последний. – Я вас не знаю…
– Я Тадзимано, отец лейтенанта Александра Тадзимано, – спокойно отвечал старик, – и приехал сюда затем только, чтобы увидеть вас, Павел Степанович!
– Вы отец Александра Николаевича! – с радостной дрожью воскликнул Кучумов. – О, милости прошу! Отчего вы сразу не сказали своего имени? Как я рад, что мне приходится познакомиться с вами… Прошу, прошу вас! Да будет мой дом вашим домом!
Кучумов испытывал такое радостное возбуждение, что даже не заметил, как его гость под предлогом освобождения своих рук от перчаток не принял для приветственного пожатия протянутой ему руки.
– Садитесь вот здесь, – продолжал суетиться Кучумов, – скажите, чем я могу просить вас… Осип! Скорее чаю, вина…
– Мне ничего не нужно! – остановил его Тадзимано. – Я пришел к вам для делового разговора.
– Вот как!
Суровый тон гостя теперь несколько озадачил Кучумова.
– Да. Наш разговор должен происходить с глазу на глаз…
– Как и все деловые разговоры. Осип, можешь идти.
Старый слуга попятился к дверям, приостановился на пороге и как бы с укоризной закачал своей седой головой.
– Ты что? – заметил это Павел Степанович.
– Ничего-с! Удивительно только…
– Удивляйся у себя там… Уходи!..
– Ежели зачем понадоблюсь, так я тут, по соседству в коридорчике буду… Коль что – крикните…
– Хорошо, хорошо!
Кучумов сам плотно затворил за слугою дверь и вернулся к своему гостю.
– Итак, вы отец лейтенанта Тадзимано, – заговорил он, – хотя, признаюсь, ваше присутствие здесь, в Артуре, меня удивляет. Вы видели вашего сына?
– Нет.
– Но, конечно, знаете, что он уехал. Право, его отъезд походит на бегство… Молодой человек был радушно принят в моей семье и уехал, даже не попрощавшись… Меня это очень удивило… Может быть, вы скажете мне, что случилось?
– Сын даже не подозревает, что я здесь! – ответил Тадзимано. – Он не видел меня.
– Да-а! – протянул Кучумов. – А я думал, что вам что-нибудь известно… Ну, пусть будет так! Что бы ни было, я чрезвычайно рад, что познакомился с вами…
Старик грустно усмехнулся.
– Смотрите, не ошибитесь, – проговорил он.
– Боже мой, в чем же я могу ошибаться? Право, вы мне кажетесь какой-то загадкой. Скажите, ведь вы не японец? Я сужу так по вашей внешности. Ошибся я?
– Нет. Я европеец, но это не помешало Японии стать моей второй родиной.
– Вы, стало быть, натурализовались в этой стране! Кто же вы родом? Француз, германец, англичанин, русский? Но простите, это, быть может, ваша тайна…
– Нисколько… Я русский!
Кучумов с недоумением посмотрел на Тадзимано.
– Русский, русский! – проговорил он. – И стали японцем… Вероятно, виной этого – политика, не так ли? Впрочем, не говорите мне ничего: лучше, если я не буду знать вашего прошлого, раз вы русский!
Павел Степанович сам не понимал, что с ним делается. Никогда и ни с кем он не говорил так, как с этим стариком, совершенно незнакомым ему. Он чувствовал какое-то невольное смущение и старался прикрыть его положительно ненужной говорливостью.
Старик Тадзимано, напротив того, был величественно спокоен.
Несколько секунд прошли в тяжелом молчании. Он смотрел на своего врага гордо и властно, как бы чувствуя его смущение и как бы провидя его истинные причины.
– Да, не говорите, – продолжал с прежней торопливостью Павел Степанович, – лучше скажите о вашем сыне. Он такой милый, общительный молодой человек… У вас есть еще сыновья?
– Есть! – усмехнулся старик. – Трое.
– Да? Трое? Вы богач!.. Да! Теперь я понимаю, почему молодой человек православный. Вы ведь, конечно, тоже православный? Синтоизм, само собой разумеется, прекрасная, но все-таки языческая религия, и природного православия никто на него не променяет. Потом я слышал, что на этих Японских островах очень много православных. Наконец, у вас многие, как меня уверяли, говорят по-русски… Так ведь это?
– Да, русский язык у нас распространен…
– Русский язык и православие! И еще смеют говорить о войне!.. Меня просто поражают эти нелепые слухи… Как можно говорить о кровопролитии, осложнениях, когда налицо два таких могучих фактора единения…
– Скажите, – перебил Кучумова Тадзимано, – разве вас не интересует цель моего посещения?
– Из чего вы это заключаете?
– Вы слишком отклоняетесь в сторону и среди массы всевозможных вопросов не предложили мне самого главного: зачем я явился к вам…
– Я считаю такой вопрос неделикатным…
– Между тем он интересен и для меня, и для вас…
– Разве? – Кучумов принужденно засмеялся и сказал: – Тогда позвольте мне предложить вам его…
– Ответ мой будет иметь форму вопроса. Вы, господин Кучумов, не узнаете меня?
– Нет, – произнес он, – я вас никогда не видал… Да и где я мог вас видеть?
– Вглядитесь в меня, напрягите свою память…
– Вы… вы… ты! – вдруг вырвался вопль из груди Кучумова.
– Да, это я… – спокойно подтвердил Тадзимано. – Узнал?
11. Смирившаяся буря
Кучумов смотрел на своего неожиданного гостя ничего, кроме ужаса, не выражавшим взглядом. Тадзимано же смотрел на него сверху вниз, и взгляд его выражал спокойствие и уверенность и в своем преимуществе, и в своей силе.
– Долго же ты меня узнавал, Павел, – тихо заговорил он, – палачи обыкновенно навсегда запоминают черты лица своих жертв, а ты вот забыл… Неужели все эти годы твоя совесть молчала? Неужели ты ни разу не вспомнил меня?
– Оставь! – простонал Кучумов, опускаясь на прежнее свое место. – Оставь, если ты христианин, если у тебя в душе сохранилась память о завете Христа… Не мучай…
– А разве тебе, Павел, тяжело?
– О-о-о! – простонал бедняк. – Если бы ты мог взглянуть в мою душу – ты ужаснулся бы сам… Ужаснулся бы, потому что никакие слова не могут выразить то, что творится там… Годы, столько долгих лет давил меня ужасный, невыносимый кошмар. За мгновения лихорадочного, призрачного счастья я поплатился целыми годами муки… Твой образ ни на шаг в эти годы не отступал от меня. Где бы я ни был, что бы я ни думал, ты был всегда со мной, ты шептал мне на ухо не проклятья, нет, не слова упрека… Я слышал, как в моих ушах звучали твои слова ласки, участия… Да! Если бы ты проклинал меня, мне было бы легче.
– Это говорила твоя совесть, Павел! – коротко проговорил Тадзимано.
– Да, совесть… – прошептал Кучумов.
– Я же, поверь мне, никогда не вспоминал о тебе со злобою, с проклятьями. Слышишь, никогда!
– Да? – оживился Павел Степанович. – Правда ли это, Ни… Николай?
В тоне его голоса звучали и радость, и надежда.
– Правда, – величаво наклонил голову Тадзимано, – ты мне можешь верить, я почти никогда не лгу… Да ты сейчас и сам убедишься в моей искренности… Я тогда, в тот страшный год, когда на меня обрушилось тяжелейшее испытание, возмущался, роптал, я горел страшной жаждою мести, и не к тебе только одному, нет, я жаждал страшной мести всем осудившим меня, невиновного, отторгшим меня только за то, что я возмущался совершенной надо мною величайшей несправедливостью… Ты помнишь, Павел, меня сослали на Сахалин… Этот остров, который в других руках был бы земным раем, уголок земли, где неисчислимые богатства щедро разбросаны повсюду, недальновидные люди сделали убежищем отверженцев. Щедрые дары Божии попираются в этой сокровищнице ногами тягчайших преступников… Скоро все изменится, но тогда, да и теперь еще все это было так, как я говорю… Я очутился среди кровожадных убийц, среди извергов, среди зверей, только по ошибке носивших образ и подобие Божие… Я, не виновный ни в чем! Постигаешь ли ты, Павел, весь тот ужас, в котором я очутился?..
– Да, да! – глухо прошептал Кучумов. – Сколько раз я думал о том, что ты говоришь!..
– Ты думал, а я все это пережил! Все, Павел, пережил и теперь, когда прошло столько лет, я удивляюсь одному: как только не сошел тогда с ума… И сколько раз я был совершенно близок к сумасшествию… Сколько раз, Павел! Но меня тогда поддерживала жажда мести… Я решил вырваться на свободу, чтобы отомстить, страшно отомстить, Павел, и тебе, и… всем другим…
– Что же остановило тебя? – тихо спросил Кучумов. – Ведь ты же освободился?..
– Сейчас я тебе скажу это… Да, я вырвался, и вырвался затем, чтобы сейчас же очутиться пред лицом высшего всемогущества, чтобы познать все ничтожество человека и постигнуть всеобъемлющую мудрость Божества… Это правда, Павел, так было со мною. Слушай. Из нашей тюрьмы нас бежало трое… Обыкновенно каторжные бегут с Сахалина на материк, мы же избрали другой путь: мы бежали в море. Этот путь сбивал со следа нашу стражу, но зато гибель наша была неминуема… На плоту, среди беспредельного моря, с ничтожным запасом пищи, без питьевой пресной воды. Это было прямо самоубийство, но мы решили умереть, потому что смерть на свободе, хотя бы и такой, как я говорю, казалась нам счастьем в сравнении с жизнью в тюрьме… На плоту мы стали игрушкой волн. Нас носило туда, куда катилась волна, и смерть все время грозно смотрела нам в глаза. И вдруг, Павел, тайфун… Ты живешь здесь, стало быть, слыхал, что это такое… Три дня трепала нас буря… Как не распался наш плот, как не перевернуло его вместе с нами, я не знаю… Я думаю, что здесь явилась судьба. Мои товарищи лишились чувств и были без памяти, я сохранил сознание. Что я только передумал, что я только пережил в эти ужаснейшие часы… нет, дни! Я видел все величие, все всемогущество Божества… Что мы, люди, что все наши ухищрения, наши хитросплетения?.. Мы пылинки, мы сор… Да, Павел, я видел тогда силу, пред которой наши силы, силы нашего ума, которые мы считаем титаническими, – ничто. Да, ничто, Павел! И понял я тогда, что все мои затеи ничтожны… Я жил для мести, я стремился к ней, я дерзко разорвал оковы, в которые заковали меня люди, я одолел людей, чтобы явиться мстителем, и вот против меня выступило само небо, и вся моя сила в сравнении с ним, с его силой оказалась жалкою, оказалась ничтожеством… И знаешь, Павел, тогда-то, видя вокруг себя смерть, я смирился… И мало того, что смирился, я умилился душою, Павел, я понял, что человек рожден не для мести, не для злобы, а для прощения и любви. И я тогда искренне простил всех гонителей моих, всех врагов моих, от души простил, примирился с ними со всеми, примирился и с тобой, Павел!
– Ты простил меня? – вскочил, протягивая для объятия руки, Кучумов. – Простил?
– Не простил, потому что я тогда сознал, что нет на тебе никакой вины предо мной!
– Как нет? А то?..
– То, Павел? Но ведь в «том» ты явился только исполнителем другой воли, высшей, всемогущей воли… Ты явился лишь орудием… А кто же будет винить слугу, исполняющего веление своего господина? Все это тогда я понял и не простил тебя, потому что не за что было тебя винить, а примирился с тобой… И с тех пор не было у меня зла к тебе… Вспоминал я тебя, часто вспоминал, но всегда вспоминал без злобы, без ненависти и, пожалуй, с глубоким сожалением, потому что чувствовал, что ты страдаешь, что совесть твоя не дает тебе покоя… И ты здесь уже сам подтвердил, что не ошибся…
– Николай, Николай! – с рыданием, склонившись перед Тадзимано, припал к его коленям Кучумов. – Ты и теперь мучаешь меня, ты рвешь на части мою душу, и без того исстрадавшуюся… Ты подавляешь меня своим добром… Я хочу верить всему, что ты говоришь, и не верю… Да, не верю, потому что сам я не был на это способен.
– Нет, и ты способен на то же, – ласково проговорил Тадзимано, кладя обе руки на плечи Кучумова, – зачем ты говоришь так? Ведь и ты пережил такой же тайфун, как и я тогда… Только я его переживал трое суток, ты – все эти долгие годы… Твой тайфун бушевал в твоей душе, и, я думаю, он был более грозен, чем тот, под которым я был тогда на море. Сколько страдания выпало на твою долю! Бедный ты мой, несчастный ты! Но и тебя страдание обелило и очистило… Ты теперь не плакал бы так горько, если бы в твоей душе все эти годы не бушевал великий тайфун. Встань же, брат мой, брат по страданию, отри свои слезы, сердце твое теперь облегчено, тайфун затихает в твоей умиротворяющейся душе. Встань же, прошу тебя…
Он почти силой приподнял Павла Степановича с коленей и заключил в свои объятия.
– А ведь я вот как есть узнал господина Контова-то! – раздался в дверях голос.
Там стоял Осип и с нескрываемым удивлением смотрел на замерших в объятиях стариков.
– Да, да, Осип, – заговорил Тадзимано, – вы не ошиблись, я когда-то был Контовым…
– То-то я вас сразу и признал… А переменились-то вы как… Ишь, побелели весь… а ничего: в лицо глядеть – упитаны вдосталь… Хорошо жить изволите?
Осип с фамильярностью старого слуги, которому известны все тайны семьи, где он живет, и уверенного, что эта его фамильярность будет принята как должное, незаметно перешел от порога к своему господину и гостю.
– Вы, Павел Степанович, радуйтесь теперь! – заговорил он. – Конец пришел вашему аду… Умолили Господа о всепрощении, и даровано оно теперь вам по неизреченной милости Творца Вседержителя… Уж кто-кто, а я-то это могу сказать… Ведь всю вашу душеньку насквозь вижу и вместе с вами за вас мучился… Сколько раз, бывало, во сне он тебя-то, Николай Александрович, звал, – обратился к Тадзимано Осип. – Слышу – кричит, прибегу – спит, мечется и тебя кликает: «Приди да прости»…
– Да, да, все это правда, – тихо проговорил Кучумов, – как дорого я дал бы, чтобы не было этого прошлого… Дорого, дорого! И звал я тебя потому, что надеялся, что ты придешь и простишь меня. Сколько раз я порывался отправиться искать тебя, но жизнь крепко держала меня на одном месте… Знаешь, я даже думаю, что мое переселение сюда, в Артур, произошло неспроста: его вызвала судьба-владычица, подготовляя нашу встречу…
– Я думаю так же, – ответил Тадзимано, – есть некоторые обстоятельства, которые убеждают меня в этом…
– А сынки у тебя, Николай Александрович, совсем разные! – бесцеремонно перебил его Осип. – Ничуть один на другого не похожи… Один-то, Андрей, весь в мать, черный да тонкий, а другого-то, видно, с японкой прижил… субтильный такой.
Легкая тень затаенной грусти скользнула по лицу Тадзимано.
– У меня в Японии, – тихо проговорил он, – дочь и два сына…
– Ты сказал – три?..
– Третий… вернее, первый – Андрей… Как много я виноват перед ним…
– Перед Андреем?
Чуть ли не в первый раз в жизни назвал Павел Степанович молодого Контова по имени, и теперь в его голосе не слышно было прежнего озлобления, а, напротив того, вдруг зазвучала ласка.
– Да, перед Андреем! – с усилием проговорил Тадзимано. – И с каким ужасом узнаю я теперь, что и для меня настанет час расплаты за несправедливость к этому несчастному, покинутому мною юноше…
– Расплата! За что же? Он человек, как я думаю, с будущим… Там, в России, он был бедняком, здесь я вижу в нем человека с более чем хорошими средствами… Слушай, – с порывом проговорил Кучумов, – может быть, это тоже веление судьбы… Ты говоришь, что был несправедлив к этому твоему сыну, но еще более несправедлив к нему был я…
– Я это знаю! – грустно улыбнулся Тадзимано. – Этому-то мы и обязаны нашей встречею…
12. Прошлое и настоящее
– Но об этом потом, – после недолгого молчания продолжал Тадзимано, – я прежде скажу о себе… Это необходимо, чтобы понять все теперь происходящее. Тот тайфун перебросил нас к острову Кунашир, это самый северный из больших Японских островов… Рыбаки сняли нас с плота, один из моих товарищей умер, другой был едва жив. Я оказался бодрее всех… Добрые люди приютили нас, и мы прожили среди рыбаков более года… счастливо прожили… На Кунашире хорошо знали русских и помнили еще приключения Головина, хотя он попал в плен еще в начале прошлого столетия… Рассказ о его пленении здесь превратился уже в легенду… Ну, дело не в этом… Мы приучились к языку, поосмотрелись, пообжились среди этого превосходного народа… Через год мы перебрались уже на соседний Матсмай и завели кое-какую торговлю. Европейская предприимчивость и русская сметка помогли, мы скоро, быстро даже, если не разбогатели, то приобрели средства. Мой товарищ не захотел оставаться в Японии и перебрался на американский континент… Я же решил остаться… Меня ничто не влекло на родину… положительно ничто… Там, в России, у меня должен был быть ребенок, но я в то время даже не знал, родился ли он, этот ребенок… Я оставался совершенно равнодушен, никогда даже не думал, что у меня может быть дитя на покинутой родине. Увы!.. Это тоже была воля судьбы! А счастье мне так и улыбалось… В то время на Японских островах нынешний тенпо, микадо, как вы, европейцы, называете нашего императора, поднял народное движение против сегуната, высшего правительственного учреждения, которому принадлежали права регента при царствующем властелине… Что это было за время! Народ был освобожден от ненавистной опеки чиновников сегуна, исчезли давившие его оковы, и страна зацвела сразу же, как пышный цветник после благотворного дождя… Сам Муцухито и его сподвижники – Ито, Ямагата, Инуэ, покойный Комацу, великан японской возрождавшейся мысли, князь Ивакура – тоже покойный, и среди них русский, я говорю о Мечникове, – это все великолепные цветы, поднявшиеся из праха низверженного сегуната… Но я отвлекся… Скажу коротко: в деле пересоздания Японии я не остался без участия… Ничтожно было это мое участие, но благодарный народ заметил меня и безмерно вознаградил мои небольшие услуги… Я приобрел и славу, и почести, и выдающееся положение, и дружбу великих людей, и внимание самого тенпо – да! Богатство явилось само собою… Я в то время был уже женат, у меня были дети – сыновья, я был счастлив… Я думал, что счастье так и продолжится вечно. Увы, увы! Горе уже подстерегало меня, оно кралось ко мне, но я не замечал его… Первым предвозвестником будущих бед была весть о том, что в России у меня остался сын… Тот мой товарищ, который не захотел остаться со мной, перебрался в Россию. Он мне писал, что его несказанно мучила тоска по родине. Ему тоже повезло – он приобрел средства и сумел устроиться так, что никто не проник в его прошлое…
– Я знал его! – хмуря брови, проговорил Кучумов. – Он жил скромно, и никто не подозревал даже, что это беглый… сахалинец…
– Добрый был господин, царство ему небесное! – проговорил, крестясь, Осип.
– Не знаю. Мне он казался порядочным человеком, – промолвил Тадзимано, – я думаю, что на Сахалин его привело не столько преступление, сколько несчастное стечение обстоятельств… Впрочем, не будем касаться его. Я переписывался с ним и однажды поручил ему разведать судьбу той… несчастной.
Тадзимано вдруг замолк и опустил голову. Из груди Кучумова, тоже понурившегося, вырвался глубокий вздох. Осип тоже вздохнул и при этом энергично поскреб затылок.
– Да! – поднял голову Тадзимано. – Я узнал, что у меня сын в России, ее сын и… мой… Я решил, что я должен принять все меры, чтобы устроить судьбу этого – уже молодого – человека, но что вместе с тем я не имею права даже заявить ему о своем существовании… Вот тут-то и корень всех моих бед. Я поступил, как черствый эгоист, я хотел откупиться от своего дитяти… Горе, горе мне! Но, клянусь, в то время мне казалось, что я поступаю очень хорошо… Я думал, что устраиваю счастье этого своего сына, которого я не знал, и в то же время не нарушаю покоя других моих детей. Ведь старший мой сын, Петр, уже кончил высшую военную школу в Токио и служил в рядах императорской гвардии, второй, Александр, которого вы знаете, был моряком, и несравненный Того, лучший из наших адмиралов, отметил его своим вниманием… Дочь Елена тоже подрастала и становилась невестою. Зачем им было знать, что у них был где-то брат? Разве они и он не были совершенно чужими друг другу? И я молчал, я был уверен, что все исполнится, как я задумал, ведь нас разделяли моря и беспредельные равнины Маньчжурии, Сибири. Но вышло все не так, ложь всегда влечет за собой самые непредвиденные последствия.
Тадзимано опять смолк. Он сильно волновался, грудь его так и вздымалась.
– Месяца два тому назад, – вдруг глухо заговорил он, – я узнал, что этот мальчик… этот молодой человек, – поправился он, – узнал все, всю мою историю от умирающего моего друга. Я узнал, что он бросил отечество и отправился отыскивать меня, своего отца, которого он не знал… Мне сообщили, что мой сын горит жаждой или увидеть своего отца, или склониться над его могилой, что он желает не только видеть отца, которого – еще раз повторяю – он никогда не знал, но также мстить человеку, ставшему причиной его несчастий, что он… любит дочь этого человека и, наконец, что он познакомился с одним из своих братьев… Ведь только судьба могла создать такое сплетение невозможнейших обстоятельств. Мог ли я предвидеть что-либо подобное?
Кучумов, не перебивая, слушал весь этот длинный рассказ и только теперь спросил, не глядя на своего гостя:
– Как же ты решил поступить, узнав все это?..
– Как легкомысленный юноша, я послал своего младшего сына, более доброго, более мягкого по характеру, чем старший, сюда… Я имел намерение через некоторое время приказать Александру увезти его нового знакомого на наши острова, и здесь я открыл бы детям тайну их кровного родства.
– И теперь явился сам?
– Да, я, к своему ужасу, узнал, что оба брата, не зная, кем они приходятся друг другу, полюбили одну и ту же молодую девушку…
– Мою дочь?
– Да…
– И ты бросил все, чтобы самому принять здесь решительные меры?
– Тут были некоторые посторонние обстоятельства, – нехотя проговорил Тадзимано, – о соперничестве братьев я узнал уже здесь… И я прибыл вовремя. Вражда уже вспыхнула между ними. Вчера между ними произошла ссора, мой сын Александр едва не стал Каином…
– Не это ли заставило его столь внезапно уехать?
– Нет. Что заставило? Если хочешь, долг службы…
– И ты видел Александра?
– Я уже говорил, что не видел, то есть, вернее, не виделся ни с тем, ни с другим… Вчера за несколько часов до этой проклятой ссоры я попробовал зайти к Андрею. У меня не было намерения открыть ему, кто я, но я хотел говорить с ним, проследить по разговору, что это за человек. Но после того, что произошло между ним и Александром, я решился прийти сюда, к тебе…
Оба старика замолчали. И тот, и другой, видимо, были взволнованны. Каждый хотел что-то сказать, но не решился произнести слово.
– Осип, – взглянул на старого слугу Кучумов, – посмотри, не вернулась ли барышня…
– Не пущать ее сюда-то? – спросил тот.
– Да, пока я не позову, не пускай никого…
Осип вышел.
– Вот мы теперь одни, – заговорил Павел Степанович, – хочешь, я тебе скажу, зачем ты пришел сюда?
– Я думаю, что ты угадал мои намерения!
– Почти. Ты намерен просить меня за Андрея?
– Ты не ошибся… Я знаю, что ты против Андрея, был против него и там, в России, и здесь твое предубеждение не исчезло.
– Прости, оно усилилось… Я сам не знаю почему, однако мне подозрителен источник его доходов. Но, может быть, его средства идут от тебя?..
Тадзимано ни слова не ответил, только вздох выразил, что ответ на этот вопрос тяжел для него.
– Я пришел к тебе с готовым проектом, – начал он. – Я знаю, что твоя дочь любит Андрея. Ты имеешь что-либо против него?
– Ничего… Прости опять, я знал, что он твой сын… Мне было бы тяжело видеть его своим зятем.
– И только это?
– Да… Разве мало? Каждый взгляд на него будил бы воспоминания о прошлом.
– И ты ради своего покоя жертвуешь счастьем дочери?
Теперь ничего не ответил Кучумов.
– Послушай же, что я предложу тебе. Отдай Андрею твою дочь… Не бойся! Повторяю, я богат и обеспечу их так, что они не будут нуждаться во всю свою жизнь… Не мешай их счастью… Пусть они только уезжают отсюда, пусть поселятся где-либо в европейской России, ведь это так легко устроить!
– А я? – поднял на Тадзимано глаза Кучумов. – Я останусь одиноким, никому не нужным стариком?
– Наша жизнь уже прожита… Много ли осталось до ее конца? Стоит ли даже говорить об оставшихся днях? А у них впереди этих дней много – целая жизнь…
– Я предпочел бы твоего младшего сына…
– Но твоя дочь совершенно равнодушна к нему.
– Нет, нет! Мне тяжело решиться на это… Потом, после, когда я умру… только не теперь…
– Павел! Мы встретились после стольких лет… Между нами была пропасть, эта пропасть исчезла…
– Не хочешь ли ты сказать, что она снова раскроется между нами?..
– Нет, я этого не хочу, но молю тебя ради сегодняшнего дня, ради сознания того, что все прошлое похоронено навеки, молю – согласись… не прошу – молю…
– Перестань… Твой голос надрывает мне сердце… Дай мне время подумать, привыкнуть к этой мысли… Оставим пока этот разговор… Ведь время терпит еще. Я надеюсь, что ты не уйдешь так внезапно, как твой сын, и мы будем видеться. Оставайся у меня эти дни! Я познакомлю тебя с Ольгой… Да? Ты согласен?
– Хотел бы согласиться…
– Так в чем же тогда дело?
– В чем дело? Да неужели же вы здесь, в Артуре, не видите, что война с Японией с каждым днем становится все ближе и ближе?
В первый раз во все время их разговора Павел Степанович рассмеялся.
– Пустое! Какая может быть война! – воскликнул он. – Ничего не будет… Да об этом после. Покончим вопрос так. Не будем пока ничего говорить о твоем проекте… Пусть ничто не омрачит радости нашего примирения… Кажется, вернулась Ольга, пойдем, я представлю тебе ее…
– Я буду рад познакомиться с ней! – ответил Тадзимано, но в голосе его снова зазвучала грусть.
13. Радостный миг
Прошло немного дней после этого разговора, и Андрей Николаевич, к своему величайшему удивлению, заметил, что дотоле неприступный Кучумов вдруг смягчился по отношению к нему. Павел Степанович снизошел до того, что при одной из случайных встреч даже ответил на поклон молодого Контова.
«Что это такое случилось? – думал Андрей Николаевич. – Какая добрая муха укусила этого гордеца?»
К этому времени чувство жгучего гнева на японского лейтенанта уже окончательно улеглось, тем более что Контов узнал о его внезапном, очень похожем на бегство отъезде.
Теперь Андрей Николаевич даже и не вспоминал о своем неожиданном сопернике.
Да и вспоминать было незачем. Словно добрая фея вдруг махнула над головой русского юноши своей волшебной палочкой! По крайней мере он получил от Ольги коротенькую записочку, в которой хотя и туманно, и порядочно бессвязно было сказано, чтобы он не унывал, что их счастье близко…
Как это случилось, откуда подул новый ветер – Андрей Николаевич положительно не мог догадаться… Ему хотелось запросить Ольгу, но чувство страшной робости удерживало его от этого, и он решил ждать, пока все не объяснится само собою.
Он замечал, что с Кучумовым появился какой-то странный старик, этого старика он доселе никогда не видел в Артуре. У кого только он ни спрашивал, кто это такой, никто не знал ничего о нем, кроме того, что это приезжий с островов. Между тем для молодого человека не было сомнения, что этот приезжий весьма интересуется им, внимательно разглядывает его, когда при встречах они находились близко друг от друга, и не раз Контову казалось, что вот-вот старик заговорит с ним… Мало-помалу этот странный человек начал не шутя интересовать Андрея Николаевича; ему вдруг захотелось как-нибудь добиться с ним знакомства, и в то же время его удерживало от этого какое-то непонятное чувство.
Вместе с тем Контов замечал, что в Артуре происходит нечто очень странное.
У молодого русского создалось обширное знакомство среди японцев, живших в Артуре. Желтолицые сыны Страны восходящего солнца относились к Андрею Николаевичу с такой предупредительностью, как будто он был их земляком. Контов никогда никому в Артуре не говорил о своих отношениях к Аррао Куманджеро и был уверен, что здесь никто не знает о его «контролерской деятельности» по службе у этого «негоцианта», «арматора». Припоминая те знаки внимания, которые расточались по отношению к нему, Контов приписывал их исключительно своему Ивао Окуши, который, как он уже заметил, пользовался огромным влиянием на всех живших в Артуре соотечественников и, конечно, нахваливал им, как опять-таки казалось Андрею Николаевичу, своего господина.
И вот Контов заметил, что весь артурский желтолицый муравейник странно зашевелился. Желтые лица островитян улыбались по-прежнему, но теперь уже было заметно, что их улыбки прикрывали смутную тревогу. Все эти маленькие вечно суетившиеся, вечно оживленные люди вдруг стали нервничать, вздрагивали, если с ними приходилось заговаривать невзначай, и в то же время всюду между ними стали заметны какие-то спешные сборы, как будто они должны были уехать из этой крепости, как только кто-то самовластно распоряжавшийся ими потребует этого.
«Что с ними такое? – недоумевал Андрей Николаевич. – Я положительно не понимаю этих людей».
Он все собирался спросить у Ивао, но все откладывал со дня на день свои вопросы.
Молодого человека словно вихрь какой-то захватил в эти дни. Приближалась Масленая неделя, и артурцы готовились провести ее в этом году как можно веселее. В пятницу за неделю до Масленой Андрей Николаевич вместе с компанией молодежи попал в одно радушное семейство на «русские блины в Порт-Артуре». Было очень весело, так весело, что, распрощавшись с гостеприимными хозяевами, компания решила не расходиться и продолжить свою дружескую беседу в котором-нибудь из артурских ресторанчиков.
Беседа продолжалась и была непринужденно весела… Говорили о блинах, о войне, о японцах и более всего о японках. Нашлись молодые люди, успевшие побывать на Японских островах. Названия островов, где они были, остались им неизвестными, но все удобства и прелести их чайных домиков были изучены досконально. По быту этих специальных учреждений составилось суждение и о всей стране, о всем народе, и «путешественники» говорили о Японии, толковали о ее флоте, армии, науках, законах, культуре, духе народа с такой величественной авторитетностью, как будто вся островная страна целиком помещалась в стенах-перегородках чайного домика, ставшего альфой и омегой всяких географических, этнографических, социально-экономических исследований. Контов слушал эти рассуждения сперва с интересом, потом они стали ему наскучивать, показались пошлыми, и, наконец, он не выдержал и ушел от своей компании на чистый воздух…
Только выйдя на волю из гостеприимного уголка, где происходила эта приятельская беседа, Андрей Николаевич заметил, что она несколько затянулась. Когда они начали беседу была темная ночь, когда Контов очутился на артурской порядочно глухой улице, стоял уже белый день.
«Тьфу, черт возьми! – рассердился он сам на себя. – Целую ночь напролет провести за разговорами, и ни одного дельного слова сказано не было».
Ему было неловко и стыдно за себя самого, и он поспешил поскорее добраться домой.
Чтобы несколько освежиться, он пошел пешком. Бессонная ночь давала себя знать. Глаза смыкались, голова кружилась, ничего так не хотелось Андрею Николаевичу в эти мгновения, как поскорее добраться до постели.
Глухо прозвучавший пушечный выстрел, за ним другой, третий заставили его вздрогнуть.
«Это еще что? – остановился он, не понимая значения этой пальбы. – Ах да! – вспомнилось ему. – Сегодня ведь двадцать четвертое января, эскадра возвращается из Голубиной бухты на внешний рейд… Салют крепости! Так!.. Ну, это меня нисколько не касается»…
Теперь, пройдя порядочное расстояние, Контов почувствовал себя не на шутку усталым и подозвал проезжавшего мимо извозчика.
Извозчик оказался знакомым, не раз уже возившим по Артуру Андрея Николаевича.
– Чего это, господин, наши макаки засуетились? – спрашивал он, слегка поворачиваясь к своему седоку.
– Как это засуетились? – спросил Контов.
– Да так, все свои кунды-мунды сбирают, уезжать от нас собираются…
– Так что же? Держать их никто не станет, скатертью дорога.
– Так-то оно так, а все-таки как бы и на самом деле войны не было. Долго ли до греха?!
– Уж и война… И откуда вы все это знаете?
– Говорят… Слух идет такой…
– А ты не всякому слуху верь, милый человек. Слышал, на рейде стреляли?
– Слышал. Эскадра пришла.
– Сегодня пришла, а во вторник уйдет опять. Вот ты и посуди: если бы войны ждали, разве эскадру отсюда отпустили бы? Ее нарочно стали бы держать, чтобы на неприятеля больше страха нагнать, а тут ее отсылают.
– Так, стало быть, не будет?
– Войны? Нет…
– Так чего же японцы это всуматошились? Тут я одного желтокожего знакомца спрашиваю, так он напрямик мне и режет, что, дескать, староста их по ним бегал и всем им говорил, чтобы собирались к выезду…
– Когда же это?
– Да когда?.. Сегодня какой день-то? Суббота? Завтра, значит: про воскресенье говорили, так мне и сказано было: в воскресенье двадцать пятого числа января сего месяца… Вишь, они от своего начальства с родины какой-то бумаги ждут.
– Ну и мы подождем. До завтра уж недалеко, а ты, добрый человек, сегодня поезжай скорей!
Дома Андрея Николаевича ожидал сюрприз, какого он и во сне никогда не видел.
Едва только он прошел в свою спаленку, улыбающийся Ивао подал ему небольшой конвертик. Контов по почерку узнал, что письмо от Ольги.
Торопливо вскрыл он его и, весь дрожа от радости, прочел несколько написанных любимой девушкой строк.
«Завтра, в воскресенье, будьте непременно в театре, – писала Ольга, – я там познакомлю Вас с одним очень хорошим человеком, которому мы будем обязаны нашим счастьем. Все совершается так, как мы никогда ожидать не могли. Вероятно, Вы будете приглашены к нам на понедельник. Что произойдет далее, не знаю».
– Ивао, молодчина вы эдакая! – вне себя от радости закричал Контов. – Да понимаете ли, что такое происходит? Ура! Ура! Победа полная и решительная… Ивао!
Контов попытался обнять японца, однако тот вежливо, но строго уклонился от объятий.
– Ивао, – не заметил этого Контов, – вы хотя и обтянуты с ног до головы желтой кожей, но это не мешает вам быть славным малым… Я вас полюбил, Ивао, и решил сделать вас счастливым. Я вас возьму с собой в Россию, и вы будете у меня жить столько времени, сколько вам самому не надоест…
Контов опять потянулся к японцу с объятиями.
– Прошу извинения, – холодно отклонился тот, – но, к моему большому сожалению, я не могу принять ваше лестное предложение…
– Это еще отчего? – удивился Андрей Николаевич.
– Я даже должен с прискорбием заявить, что более не могу находиться на вашей службе, так как завтра уезжаю отсюда.
– Уезжаете? Ах да, «староста приказал», – вспомнил Контов рассказ извозчика. – Ну что же! Черт с вами, уезжайте… Но до вечера вы, надеюсь, останетесь…
– К вашим услугам! – поклонился Ивао.
– Тогда и поговорим подробно… А теперь я хочу спать и буду спать, как убитый… Помогите мне раздеться, а потом вы свободны, пока я не проснусь…
14. Под грозовыми тучами
Андрей Николаевич проспал до сумерек. Сон оживил его, разогнал его утомление, он пробудился совсем бодрым, веселым, жизнерадостным. Первой его мыслью после пробуждения была мысль об Ольге, о ее загадочном, но так много говорившем об их будущем письме.
«Что там за метаморфоза с Кучумовым? – пробовал размышлять Контов. – Его неприязнь ко мне пошла вдруг насмарку… Вся сразу! Ольга не написала бы мне, если бы у нее не было оснований. Ничего не понимаю! Ну, да недолго: что завтра в театре-то идет? Ах да, боевая пьеса: „Взятие Измаила”… В понедельник спектакля не будет, как и всегда…
„Измаил”, „Измаил”! Посмотрим, как-то мне удастся взять мой Измаил в лице этого упрямца Кучумова»…
Контов задумался, и думы его были хорошие, радужные, сулившие ему грезы счастья в ближайшем будущем.
Так прошло около часа. Тишина, царившая кругом в квартире, вдруг показалась Андрею Николаевичу удивительною.
«Ушел, что ли, этот негодник Ивао куда-нибудь? – подумал он и позвонил, но никто не отозвался. – Верно, ушел! – решил Контов. – Видит, что я сплю, и воспользовался этими часами… Ну, пусть его… С чего только он вздумал уходить от меня? Какая там муха его укусила? Все так устраивается, а тут… „Крысы бегут, когда в корабле течь”, – припомнилась Андрею Николаевичу фраза из какой-то старой книжки, и, вспомнив это, молодой человек засмеялся. – Хороша крыса этот Ивао Окуши, проводящий все свое время за книгами и техническими чертежами! – подумал он. – Мой японец – совсем интеллигент чистейшей воды… Жаль терять такого слугу… Ну, да черт с ними, этими желтолицыми!.. Не до них мне теперь!»
Думы, грезы, мечты опять зароились вокруг молодого человека. Они были светлы, блестящи; призрак счастья сиял в них, как солнце, своими яркими лучами… Чувство отрадного, живящего покоя опять разлилось, как радостная нирвана, и Андрей Николаевич не заметил сам, как погрузился в нее… Он снова уснул, забаюканный грезами, и проснулся, когда стоял уже ясный день.
Пробудившись, Контов напрасно звонил к Ивао: слуга, дотоле всегда предупредительный и аккуратный, не шел на зов, даже не откликался… Андрей Николаевич рассердился, встал с постели и вышел из спальни. В квартире стояла невозмутимая тишина. Молодой человек обошел все комнаты – там никого не было, Ивао исчез, Контов был один во всей квартире.
«Неужели этот желтокожий негодник сбежал, даже не дождавшись моего пробуждения? – подумал Андрей Николаевич. – Ведь это же с его стороны прямо свинство!»
Увы! Его предположение оказалось правдой… Когда Контов, рассерженный, даже обиженный, но все еще не веривший, чтобы его верный Ивао мог решиться на такой поступок, возвращался в спальню, чтобы одеться там и выбраться из дому, он нашел положенное в столовой на видном месте письмо. Оно было от скрывшегося слуги. Окуши в сдержанных выражениях уведомлял Андрея Николаевича, что «некоторые внезапно явившиеся обстоятельства вынуждают его оставить службу столь спешно, что ему нет даже времени дождаться, когда г. Контов проснется. Поэтому он уходит, даже не простившись». Далее в письме следовали указания, где что лежит из вещей повседневного обихода, и были приложены счет произведенных в неделю расходов и остатки выданной на них и не полностью издержанной суммы.
Андрею Николаевичу только руками оставалось развести, когда он прочел это письмо.
– Какие только у этого негодника могли быть обстоятельства? – вслух воскликнул он. – Артур не беспределен. Неужели кто-нибудь переманил его к себе? Не может быть… Здесь это совсем невозможно: все друг друга знают… Или в самом деле «крысы всегда покидают тонущий корабль»?..
Утро было испорчено. Ворча и негодуя, Контов кое-как оделся и вышел из дома. Жил он порядочно в стороне от центральных частей Артура, и здесь ничего особенного не было заметно, но чем ближе подходил он к центру, тем все с большим и большим удивлением замечал какое-то особенное, никогда не бывавшее здесь раньше оживление. Замечалась странная растерянность на лицах всех, кто попадался навстречу Андрею Николаевичу. Он купил у первого попавшегося разносчика «Новый край», тут же на улице просмотрел его, но в газете ничего особенного не было, номер был совсем обычный, такой же, как и ранее в воскресные дни. Недоумение в Андрее Николаевиче возросло еще более, когда разносчик, у которого он покупал газету, сообщил, что из Порт-Артура «бегут япошки».
– Как это так бегут? – воскликнул Контов.
– Да так, барин, – пустился в объяснения разносчик, – взяли и побегли… все бросают и мчатся вон, как угорелые!
– Гонят их, что ли?
– Нет, кому же здесь гнать? Сами! Ежели у кого теперь деньжонки есть, хорошо нажить можно… Япошки, которые у нас торговали, так, нипочем распродаются. Стоит вещь, скажем, рубль – за пятачок бери, и с того уступку еще сделают… Только бы не даром пропадала… Вот как!
«Что же я, – подумал Контов, – „контролер” и ничего не знаю? Странно! Если бы было что-нибудь такое, Куманджеро уже уведомил бы меня… Значит, какие-нибудь пустяки… Все-таки надобно пойти посмотреть, быть может, Куманджеро отчета потребует»…
Андрей Николаевич, удивляясь все более и более, пошел по магазинам, где торговали японцы. Там царил невозможный хаос. Люди, бледные, трясущиеся от волнения, донельзя перепуганные, торопливо собирали свои пожитки. О товарах, переполнявших магазины, они не думали. Очевидно, все бросалось на месте. Если появлялся покупатель, ему спешили отдать вещи, какую бы цену он ни назначил. Около японских лавок образовался целый базар. Дамы всего Артура собрались сюда и пешком, и в экипажах и с непостижимой страстностью накупали груды всякой даже ненужной мелочи, не говоря уже о более ценных вещах. Возможность «за пятачок накупить на рубли» вскружила им головы. Покупалось все без разбора, без размышления, на что может понадобиться купленное. Алчность была так велика, пресловутое «двадцатое число» так еще недалеко, что попадались такие покупательницы, которые уезжали с распродаж японских магазинов на извозчичьих пролетках, нагруженных всякими свертками сверху донизу, да за ними следовали еще пролетки, везшие столько всякой дряни, что их крылья оседали прямо на рессоры. С завистью говорили, как о счастливице, об одной «даме», которая за двести рублей купила магазин обуви, по самой строгой, придирчивой оценке, стоившей не менее как двенадцать тысяч рублей.
У распродаваемых магазинов шла невообразимая суматоха и толчея, а в это время отдельные группы японцев, захватив с собою только самое необходимое, спешили к пристани, стараясь пробираться туда обходными и окольными улицами.
– Такагаши! – остановил Контов знакомого японца. – Скажите мне, что все это значит?
– Что, господин? – приостановился тот, подымая на Андрея Николаевича свои черные глаза.
Бедняга теперь даже не улыбался…
– Да вот это ваше бегство?.. В пятницу, в субботу все было спокойно – и вдруг вы сорвались с места… Что случилось?
– Разве господин ничего еще не знает?
Голос японца так и задрожал удивлением.
– Нет! Иначе я не спрашивал бы вас… Ну, говорите же, что?
– Война, господин…
– Какая война? – воскликнул и весь замер в позе удивления Контов.
– Ниппон идет воевать с Россиею… Нам приказано уходить из Артура.
– А вы не врете?
Такагаши пожал плечами.
– Простите, господин, – проговорил он, – вы должны все это знать сами… Не бедному японцу указывать русскому господину на политические события. Прошу простить еще раз… Я должен спешить, я и то слишком много потратил времени!
Контов положительно не узнавал всегда почтительного и предупредительного японца, которого, кстати, он еще считал в подчинении у себя, так как этот Такагаши был одним из агентов Куманджеро. Но он даже не обращал теперь внимания на его деликатность. Все мысли Андрея Николаевича сосредоточивались около одной.
«Война, война! – мысленно восклицал он. – Да разве это может быть? Разве такие дела могут решаться столь внезапно?.. Нет, нет! Все это пустое, что-то тут не так. Я должен пойти и немедленно узнать все»…
Он замешался в оживленную толпу и, глядя на веселые и довольные лица покупательниц, только пожимал плечами.
«Да разве была бы такая толчея, если бы стряслось хотя что-нибудь похожее на войну?.. Ведь здесь жены таких людей, которым известно каждое дыхание не только в Артуре, но даже в Петербурге, даже на этих проклятых Японских островах… Разве они стали бы гнаться с такой алчностью за всей этой дрянью, если бы им, их семьям грозила какая-нибудь опасность… Нет, тысячу раз нет! Мы, русские, апатичны, это так, но, когда над головами висит гроза, никто не станет плясать и веселиться!.. Или „пока гром не грянет, мужик не перекрестится”?»
И вдруг Андрею Николаевичу до боли в сердце стало обидно и досадно на этих нарядных дам, веселых, смеющихся, перекидывающихся между собой самой оживленной и вместе с тем бессодержательной болтовней.
«Быть может, через какой-нибудь месяц ваши мужья на смерть пойдут! – думал он, с озлоблением глядя на толпу суетившихся женщин. – А ваши думы все около этой магазинной дряни!»
Вдруг мысли его были сразу отвлечены совсем в другую сторону появлением в толпе Кучумова.
Старик выступал важно, гордо смотря вперед и словно не замечая всей этой легкомысленной толпы. Рядом с ним Контов увидал другого старика, меньше его ростом, так же, если еще не более, величавого, но с затаенной грустью, так и разлившейся на его выразительном лице. Этого старика Андрей Николаевич не видал в Артуре ранее того момента, когда он заметил его с Кучумовым.
Старик был Николай Тадзимано.
Впрочем, по этому новому для него человеку Контов только скользнул взглядом, все его внимание приковывал теперь Кучумов.
Он с нетерпением думал, как отнесется к нему Павел Степанович, надеясь из этого вывести заключение о том, продолжается ли уже замеченный им ранее благоприятный поворот в отношениях к нему или нет.
Кучумов и Тадзимано как раз в этот момент были совсем близко от Контова. Молодой человек почтительно посторонился и, приподняв с головы шляпу, низко склонил перед Кучумовым голову.
Он глазам своим не верил, когда увидел, что Павел Степанович в свою очередь приветливо улыбнулся и слегка кивнул ему в ответ головой.
Но в следующий момент Андрей Николаевич уже не мог решить, спит ли он и видит один из радужных снов или галлюцинирует наяву…
Павел Степанович, продолжая улыбаться, протянул ему руку…
– Молодой человек! – услыхал Контов приветливый голос. – Между мной и вами поселились какие-то непонятные недоразумения… Похороним их навсегда, хотя бы ради тех дней, которые должны наступить теперь…
– Павел Степанович! – воскликнул Контов, чувствуя, что спазм так и перехватывает ему горло. – О каких недоразумениях вспоминаете вы? Всегда мое сердце и моя душа были полны искренним почтением к вам…
– Тем лучше, тем лучше! – проговорил Кучумов. – Вот я вас сейчас познакомлю: это мой друг Николай Александрович, – фамилии Тадзимано он не назвал, – а ты, – обратился он к старику с легкой усмешкой, – даже более, чем я, осведомлен об этом молодом человеке…
Контов с удивлением посмотрел на старика, но Павел Степанович положительно решил не давать ему задумываться.
– Пройдемте с нами, молодой человек, – несколько покровительственно заговорил он, – если, конечно, вы не спешите куда-нибудь. Только предупреждаю об одном: «кто старое помянет, тому глаз вон»; помните этот анекдот о Балакиреве? Настоящего так много, что нечего и трогать старое… Идемте!
Андрей Николаевич был так смущен, поражен, подавлен, что совсем не находил слов даже для поддержания разговора. Он пошел рядом с Кучумовым. Мысли его путались. Все случилось вполне неожиданно, и никакого объяснения всему случившемуся с ним молодой человек не находил, Тадзимано тоже молчал, все время исподтишка, но пристально рассматривая Контова.
Кучумов понимал всю неловкость положения Андрея Николаевича и, чтобы сгладить это, завел умышленно громкий и длительный разговор о том событии, которое являлось острейшей злобой этого дня в Артуре.
– Что вы скажете о всем совершившемся, совершающемся и имеющем совершиться, молодой человек? – говорил он, растягивая слова. – Господа японцы взялись насмешить все части света: они, как теперь уже стало известно из телеграммы, присланной сюда из Петербурга, разорвали с нами дипломатические сношения… Этот разрыв – сплошной курьез, никогда не бывалый в истории курьез! Я, впрочем, должен сказать, что к нему примешивается – по крайней мере у меня – некоторое чувство – не обиды, нет! – досады… Япония объявляет России о разрыве с ней дипломатических сношений! Мне жалко этот бедный народец! Положим, что до войны еще очень далеко. Прежде чем прольется капля крови, дипломатические канцелярии разольют море чернил, перепачкают разными нотами горы бумаги. Вернее всего, что на этом японская авантюра и завершится. Но, право, я хотел бы, чтобы война началась. Этих зазнавшихся полудикарей-островитян необходимо проучить. Иначе не спастись от их наглой назойливости. Давно пора перестать деликатничать с этими азиатами. Они уважают только силу, и всякая деликатность для них является выражением слабости…
Контов взглянул на спутника Кучумова и увидел по лицу Тадзимано, что тот вовсе не разделяет мыслей своего друга и если не возражает ему, то только именно из чувства деликатности…
Но Павел Степанович этого не замечал; он продолжал излагать свои мысли, и голос его с каждой фразой звучал со все большей и большей уверенностью…
15. Надвигающаяся гроза
Юный Тадзимано, столь неожиданно покинувший Артур, как будто забыл о том, что ему пришлось пережить и испытать во время своего пребывания среди русских.
С тех самых пор как Артур исчез из вида с парохода, на котором был молодой лейтенант, он чувствовал себя уже не прежним добрым, веселым юношей, каким был во все годы своей жизни. Новое чувство всколыхнулось и вдруг выросло в его душе. Все его прошлое отошло куда-то далеко, совсем далеко, в настоящем юноша видел перед собой только тот долг, который он обязан был исполнить перед своей родиной. Его охватил какой-то священный трепет, восторг его разгорался все более и более. Тадзимано вовсе не мечтал о своей славе, он страстно желал только того, чтобы судьба доставила ему возможность исполнить этот свой долг перед родиной, послужить ей на пользу, хотя бы пришлось жизнь свою отдать ради самой ничтожной пользы для общего дела…
Переход от Артура до Сасэбо показался юному лейтенанту бесконечным, но зато беспредельна была его радость, когда он очутился, наконец, на твердой земле.
Прямо с парохода он отправился отыскивать своего приятеля Нирутаку, командовавшего миноносцем «Акацуки».
Нирутака встретил приятеля, так и сияя от восторга.
– Ты чуть было не опоздал! – упрекнул он его. – Конечно, неизвестно, когда мы выходим, но мы все ждем сигнала к отплытию с часу на час…
– Разве все уже решено? – замирая от волнения, спросил Тадзимано.
– О да… Разве ты не видишь? Взгляни тогда…
Этот разговор происходил в порту. Кругом казавшихся крошечными миноносцев вздымались, как горы, громады броненосцев. Все они стояли в полном безмолвии, даже людей незаметно было на них, но из их труб вился чуть заметный дымок, свидетельствовавший, что в недрах этих плавучих крепостей ни на мгновение не прекращается жизнь, что там кипит работа и в каждый момент, по первому сигналу, все эти громады могут плавно сдвинуться со своих мест и пойдут вперед, неся в себе разрушение, а множествам жизней – смерть…
– Ты посмотри только, – настаивал Нирутака, – ведь «Шикишима», «Хацузе», «Асахи» и «Миказа» – прямо горы какие-то!.. Так они громадны… Теперь еще идут «Ниссин» и «Кассуга», которые мы так ловко перебили у русских… Вольно же было им действовать при посредстве алчных комиссионеров! Такие суда и у них пригодились бы… Но теперь вопрос покончен, «Ниссин» и «Кассуга» наши… «Фуджи» и «Яшима» тоже хороши… А крейсеры-то! Ими будут командовать Камимура и Уриу. Кстати, будем конвоировать транспорты с десантом в Чемульпо. Ты знаешь, что твой брат отправляется со своим батальоном туда?
– Знаю… А я… я ведь назначен на «Акацуки»? К тебе?..
Голос Тадзимано так и дрожал от волнения. Юный лейтенант более всего опасался, как бы не было отменено его назначение, о котором, как о совершившемся факте, говорили ему в Артуре Тейоки Оки и его приятель.
– Да, – подтвердил Нирутака, – но дело в том, что наш несравненный и великий Того еще не утвердил твоего назначения… Ты являлся к нему?
– Нет еще!
– Явись перед ним скорее… Того поднял свой флаг на «Асахи». Он уже на судне. Знаешь ли, адмирал приказал у себя дома считать его мертвецом… Он объявил, что без победы на свои острова не вернется… Его супруга, как только он покинул семью, надела траур…
– Так должен поступать каждый истинный патриот! – вырвалось у Тадзимано восторженное восклицание.
– Так поступаем все мы! – торжественно закончил Нирутака.
Лейтенант не замедлил воспользоваться советом приятеля и поспешил переправиться на «Асахи».
Великий, как его называли в Японии, Того встретил своего любимца с суровой холодностью.
– Ты останешься при мне на «Асахи», – объявил он, хотя и видел, что лицо юного лейтенанта так и отразило на себе глубокую печаль.
– Адмирал! – тихо проговорил Тадзимано, опустив глаза. – Разве вы хотите, чтобы я умер, не принеся никакой пользы Ниппону?
Того испытующе посмотрел на юношу.
– Первый долг младших – повиноваться, когда приказывают старшие, – проговорил он.
– Я не выхожу из повиновения, адмирал, – еще тише проговорил Александр, – но вы всегда были так добры ко мне.
– Иди к своим товарищам, – махнул ему рукой Того, нахмурив брови, – и не отлучайся с борта «Асахи»!
Юноше ничего не оставалось более делать, как исполнить столь категорически отданное приказание.
Все младшие офицеры на борту этого броненосца были приятелями Тадзимано. Его встретили с радостью, и между молодежью сейчас же пошли бесконечные разговоры о предстоящем плавании. Все знали, что война с Россией была уже решена, но в то же время никому не было известно, когда начнутся военные действия и куда именно будет направлен первый удар. Большинство стояло за то, что Того поведет свои эскадры к Порт-Артуру, хотя раздавались голоса за то, что некоторое время флот будет крейсировать в открытом море, вызовет на себя русскую эскадру и даст ей сражение.
– А русские совсем и не думают о войне! – заметил Тадзимано. – На их судах не срублены даже деревянные части.
– Пусть их и не срубают! – воскликнул один такой же юный, как и Тадзимано, лейтенант. – Чем меньше эти северные варвары думают о войне, тем больше шансов на успех у нас…
– А чтобы еще больше был успех, – подхватил третий, – нам должно ударить на них как можно скорее.
– На то воля адмирала! – печально возразил Тадзимано, – у него повеление тенпо, у него все инструкции. Поведет нас – и мы пойдем все…
– Все пойдем, все! – закричали вокруг молодые голоса. – Да падет позор на того, кто останется!
Возбуждение в этих горячих головах росло по мере того, как тянулись дни ожидания, а ждать приходилось томительно долго.
Только в субботу 24 января на «Асахи» взвился сигнал готовиться к отплытию.
Сразу улеглось волнение, волноваться было некогда, началось трудное и ответственное дело…
На рассвете начали сниматься с якорей стальные гиганты. Первым, неся флаг адмирала, пошел «Асахи», за ним «Миказа», и потом уже потянулись остальные плавучие крепости. Последними выходили крейсеры. Все маневры совершались в поразительной тишине. Будто не люди, а какие-то духи бесплотные двигали вперед в беспокойные волны Желтого моря эти великаны, дымившие всеми своими трубами.
Мало кто из обитателей Сасэбо знал об уходе флота. Молчаливый, сумрачный Того сумел сохранить в тайне направление своих эскадр. Куда пошел флот – так и не узнали не только на берегу, но даже и на самих судах. Лишь одному адмиралу было известно, что предположено было выполнить в ближайшем будущем: в Артур ли или к Владивостоку будет направлен первый удар…
Сперва казалось, будто оправдывались предсказания о крейсерстве. Эскадры оставались целый день в открытом море, несмотря на то что это представляло немалую опасность для мелких миноносцев. Лишь на следующий день на «Асахи» появились сигналы, призывавшие командиров всех судов к адмиралу.
В море было сильное волнение, и лишь часа через два в просторной каюте адмирала столпились командиры броненосцев, крейсеров и миноносцев. Того был в полной парадной форме. Он с гордым, бесстрастным лицом сидел у огромного стола, на котором были разложены карты Порт-Артура и Желтого моря. Вместе с Того были его начальник штаба, адъютанты и командир «Асахи». Тут же был и Тадзимано, но теперь лицо молодого человека сияло радостью и счастьем.
– Поздравь меня! – шепнул он Нирутаке, когда тот, представившись адмиралу, скромно отошел в сторону. – Мне сегодня он, – указал Тадзимано глазами на Того, – сказал, что назначает меня к тебе…
Нирутака вместо ответа только пожал руку приятелю.
Между тем Того, слегка приподнявшись на своем месте, громко, отчетливо ровно произнес:
– Господа! Мы должны сегодня вечером или сейчас же после полуночи напасть на русскую эскадру в Порт-Артуре и Дальнем. По всей вероятности, все корабли, даже линейные[9], будут стоять на порт-артурском рейде, но некоторые могут находиться и в Дальнем. Туда я посылаю вторую крейсерскую эскадру…
Громкие, полные торжества крики «банзай» и «Ниппон» покрыли эти слова адмирала. Он сделал знак своему адъютанту, и тот сейчас же раздал всем командирам миноносцев карты с подробным планом Артура и расположения на внешнем рейде русской эскадры.
Дав смолкнуть кличу, Того заговорил опять, показывая на карте отмеченные места:
– На плане порт-артурского рейда точно отмечено место стоянки каждого русского судна. Этот план снят нашим штабным офицером, ездившим туда переодетым. По его мнению, наш неприятель совершенно не подготовлен встретить наше нападение, так как ждет объявления войны с нашей стороны. Поэтому я просил бы вас запомнить следующее: нападайте на каждый броненосец, на каждый большой крейсер, а маленьких избегайте, вступая с ними в бой только в том случае, если ваше присутствие будет открыто прожекторами. Еще раз повторяю, что нападение должно быть произведено во всяком случае. Но помните, господа, что на войне выигрывает тот, кто смело атакует, и я надеюсь, что вы вполне оправдаете доверие, которое оказал вам я, отвечающий за вас перед нашим великим тенпо!
Теперь Того встал и с особенным чувством произнес в заключение своей речи:
– Надеюсь, что мы свидимся здесь после исполнения вами моего поручения. Если же кому суждено пасть, то он удостоится лучшей награды на земле – смерти за величие Ниппона и бессмертия на страницах истории Японии!
Оглушительное «банзай» загремело вокруг старого адмирала. Он с улыбкой пожимал по очереди всем руки, и для каждого у него находилось, ласковое, приветливое слово.
– Успеха, успеха желаю! – восклицал он. – Наша великая родина так нуждается в нем! От удачи этой ночи зависит весь остальной ход войны. Если нам удастся нашей атакой запереть русских в Артуре, мы приобретем свободу на море, у нас будут развязаны руки и завтра же наши десанты займут Чемульпо, Сеул и пойдут в глубь Страны тихого утра! Выход на материк будет обеспечен нашему народу!
Неслышно вошедшие вестовые внесли шампанское, разлитое в маленьких чашечках.
Того, глаза которого так и сверкали теперь, никогда не пил никакого вина, но теперь он нервным движением схватил чашечку и, осушая ее, пронзительно закричал:
– Ниппон! Банзай!
16. Воодушевление без почвы
В тот самый день, когда на японском флагманском судне маститый флотоводец желтокожих островитян отдавал приказ о внезапном нападении на русскую эскадру в Порт-Артуре, Контов переживал первые часы безоблачно-радостного счастья…
Память до мельчайших подробностей восстанавливала перед Андреем Николаевичем все отдельные моменты его последней, столь благоприятной для него встречи с Кучумовым, но Контов все еще продолжал не верить самому себе и думал, что видит какой-то золотой сон.
Расставаясь после встречи, Кучумов не пригласил его к себе, хотя во все время их первой прогулки был так ласков, так любезен, что Андрею Николаевичу казалось, будто он видит перед собой совсем другого человека.
Но что несказанно удивило Андрея Николаевича, так это то, что старик, с которым только что познакомил его Павел Степанович и которого он до этой минуты никогда в глаза даже не видал, прощаясь с ним, чуть слышно шепнул:
– Смотрите, будьте непременно в театре!
Контова словно что толкнуло назад, когда он услыхал эти слова от совершенно незнакомого человека.
– Кто вы? – удивленно и даже испуганно шепотом спросил он.
– Тс! После об этом поговорим!
И старик, приветливо улыбнувшись молодому человеку, кивнул ему головой и поспешил вслед за Павлом Степановичем, уже успевшим отойти довольно далеко вперед.
«Кто же это такой? – с недоумением думал Александр Николаевич. – Откуда он явился? Я вижу его мельком второй раз, но не знаю даже его имени… Черты его лица как будто несколько знакомы мне, когда же я его видел? Нет! Я никогда не встречался с ним до сегодня!»
Но раздумывать долго не приходилось. Было уже за полдень, и на улицах вдруг стало необыкновенно людно, несмотря на то что воскресенье было как воскресенье, решительно ничем не отличавшееся от других воскресений. Появились военные, выглядевшие в этот день как-то особенно молодцевато, моряки, в изобилии всякого рода чиновники из различных учреждений, из русско-китайского банка, разодетые в пух и прах дамы. Среди многочисленных гуляющих у Андрея Николаевича было множество знакомых. Ему то и дело приходилось обмениваться поклонами, рукопожатиями. При встречах каждый спешил поскорее сообщить какую-нибудь новость, но Контов, уже приучившийся различать, что в массе сообщаемых известий достоверно, что нет, сразу замечал, что огромное большинство новостей ни на чем не основано, не имеет под собой никакой почвы и принадлежит к области творчества досужей фантазии.
Одно только было достоверно, что в непродолжительном будущем, может быть, на утро следующего дня будет объявлена мобилизация Квантунского полуострова и арендной полосы Восточно-Китайской железной дороги.
– Да разве этого достаточно? – недоверчиво спросил Контов у знакомого чиновника русско-китайского банка, сообщившего ему это известие.
– А вы думаете, нет?
– Думаю…
– Напрасно! На первое время совершенно достаточно, а там наместник мобилизует Приморскую область.
– Позвольте, – перебил его Контов, – мне рассказывали, что нечто подобное уже однажды было…
– Когда это?
– Да в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда перед занятием Квантуна тоже ждали войны с этими японцами.
– Да, было…
– И я слышал, вышло нечто жалкое, одного смеха достойное…
– Да ведь это когда было-то? Теперь, батенька, не то… Теперь дело совсем другое… Вот поглядите, будет объявлена мобилизация – и сейчас же, помните, как у Некрасова, «встанут не сеяны, выйдут не прошены» силы-то наши… Эх, хватили японцы! Какое дерево рубить вздумали… Да это ничего… Будет лишний случай всем нам повеселиться.
Как Андрей Николаевич ни привык к величайшему и ничем непоколебимому благодушию своих соотечественников в чиновничьих мундирах, как ни далеки были в эти минуты его мысли от какого бы то ни было критического отношения ко всему тому, что ему приходилось слышать в этот день, но тут он в изумлении даже назад отступил, сам своим ушам не веря.
– Что это вы так-то? – предобродушно усмехнулся собеседник Контова.
– Да позвольте, как же это так? – забормотал тот. – Я, наверное, ослышался…
– Что ослышался?
– Да ведь война, а вы говорите, что это лишний повод к веселью…
– Непонятно? Вот что значит, батенька, что вы от нашего общества отшатнулись… Вы только посмотрите сами. Сегодня объявлено о разрыве дипломатических сношений между нами и японцами, и сегодня же уезжает их консул. Прощальный обед, тосты, речи, пожелания скорого возвращения… шампанского – разливное море… Чем не весело? А? Теперь завтра… Позвольте вас спросить, какой завтра день?
– Понедельник…
– А число-то какое?
– Двадцать шестое января…
– А каких святых? Не помните? Не знаете? Так я вам доложу: Ксенофонта и Марии… вот каких…
– Так что же из этого?
– Как что? Ах, молодой человек, молодой человек! Да как же это вам не грех?.. Супругу-то его превосходительства нашего адмирала Старка как зовут? Марией, молодой человек! Запомните вы это раз навсегда. Сам адмирал не так здоров, но это не помешает именинам быть веселым… Итак, вот два дня войны и два дня веселых праздников. Чего вы хотите больше? А там пойдут победы, победы на море, на суше, одна, другая, третья, четвертая, и так без конца… Неужели же побед не праздновать? Это, извините, совсем не по уставу будет… Я на это никак не согласен… Соображаете теперь, какой вихрь веселья нас подхватит и закружит?.. Вот вам и война!
– А если побед не будет? – осторожно заметил Андрей Николаевич.
– Что вы, что вы! – замахал на него руками его собеседник. – Да разве это может быть? Да наши чудо-богатыри будут побеждать изо дня в день японцев, чтобы доставить нам возможность повеселиться, помянуть их геройские подвиги.
Контову стало не по себе от этого разговора.
По тону голоса он чувствовал, что его собеседник совершенно искренен, и эта искренность повлияла на него более удручающе, чем самая злая ирония.
«Да как же они все могут быть так спокойны? – думал он, разойдясь со своим знакомым. – Ведь во всяком случае дело начинается нешуточное… Да что я! Кто меня просит беспокоиться за будущее? О будущем думает наше начальство, оно к этому приставлено, а нам, простым смертным, должно только присутствовать при совершении событий и восторженно рукоплескать всему, кому прикажут… Тоже нашелся! – вознегодовал Контов на себя. – Какое мне дело? Пусть приходят японцы, малайцы, сингалезы! Начальство уж знает, как их принять, а моя хата с краю, ничего не знаю! Победа? Очень рад! Шампанским готов налиться свыше всякой меры и „ура” кричать, пока голос надорвется… Расчепушат нас эти сингалезы, сиамцы, даяки, так тут уже я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик… Меня не спрашивали, как надвигающуюся беду встретить, стало быть, и я не в ответе, когда гром загремит… Кто кашу заварил, тот и расхлебывай!.. И так-то не я один думаю, а побольше сотни миллионов русских людей, пожалуй!»
Но Андрей Николаевич был молод. Впечатления недолго оставляли на нем свой след, сменяясь одно другим с непостижимой быстротой…
После банковского чиновника Контов встретил знакомую военную молодежь. Здесь тоже чувствовалось приподнятое настроение, но в этой приподнятости сквозили неподдельное чувство, неподдельная искренность. Молодежь не была еще насквозь пропитана мозглым чиновничеством. Здесь так же и еще более громко говорили о победах, но в разговорах чувствовались пылкость, желание победить и не было даже и тени раздутого чванства, презренного эгоизма. Здесь были люди, не какие-то пустые футляры от циркуляров, только говорящие человеческим голосом…
Эта встреча произошла в ресторане. Среди молодежи не было богачей и даже мало-мальски зажиточных, на столе появилось не шампанское, а мутное японское пиво, доставляемое сюда из Нагасаки и Йокогамы, но зато каким бодрящим молодым увлечением пылали молодые лица, как громки были искренние тосты за матушку Русь православную, за победы ее…
Контов весь сиял, его душа разделяла этот пыл, этот восторг и также жаждала побед и славы родине.
Время пронеслось незаметно, и из ресторана вся компания отправилась в театр.
Бахрушинская псевдопатриотическая пьеса «Измаил» достаточно известна. В содержании ее нет ничего такого, что могло бы возбуждать народную гордость. Но в этот вечер собравшейся в артурский театр публике было не до смысла пьесы. В ней все-таки попадаются выспренние фразы о могуществе России, о ее победах над врагами, и каждая такая фраза вызывала овации. Гром рукоплесканий не умолкал. Народным гимном было покрыто раздавшееся на сцене известие о взятии неприступной турецкой твердыни… Этот вечер был вечером величайшего подъема духа…
Однако Контов, как ни был отвлечен совсем посторонним, своим личным чувством, все-таки не чувствовал особенного восторга.
Он смотрел на сцену, а в душе его зарождалась смутная тревога.
«Измаил считался неприступной крепостью, но все-таки был взят суворовскими храбрецами, – невольно думалось ему, – про наш Артур тоже идет слава, что он неприступен… Что, если у этих японцев есть свой Суворов? Как с ним будут бороться здешние мошки, букашки, таракашки, мокрые курицы вроде?..»
Течение его мыслей было вдруг прервано: он увидел, что в одну из лож вошла Ольга, за нею следовал тот загадочный старик, с которым Андрей Николаевич познакомился в этот день.
Контов сидел ни жив ни мертв, не спуская глаз с ложи, где была любимая девушка. Он видел, как Ольга, заняв место, стала внимательно разглядывать наполнявших партер зрителей.
«Она ищет меня!» – подумал Андрей Николаевич и не ошибся…
Он смотрел, ловя каждое движение Ольги, и ясно видел, что молодая девушка пристально и выразительно взглянула прямо на него и улыбнулась.
«Это она мне? – даже с места привстал Контов. – Мне, мне! Что же я буду делать? Пойти? Рискнуть? Кучумова нет, этот старик звал меня сам… Да, пойду!»
Едва дождавшись антракта, он чуть ли не бегом отправился в ложу, где была Ольга.
17. Накануне
Должно быть, Ольга и ее спутник заметили Контова и поняли его намерения. По крайней мере Андрей Николаевич перед дверьми ложи, где была Кучумова, увидел Тадзимано.
Тот как будто поджидал Контова, и на его лице заиграла радостная улыбка, когда Андрей Николаевич, несколько бледнея, подошел к наружным дверям ложи.
– Признайтесь, молодой человек, – заговорил первым старик, – что вы не ожидали ничего подобного… Я думаю, что вы несказанно удивлены всем тем, что происходит с вами со вчерашнего дня?
– Признаюсь, вы правы! – воскликнул Андрей Николаевич. – Увидав вас, я сразу же подумал: не вы ли тот добрый гений, который производит все эти удивительные метаморфозы?
– Может быть! – ласково улыбнулся Николай Александрович.
– Но во всяком случае вы для меня загадка…
– Не ломайте головы над ее разрешением и поспешите к Ольге!
Они вошли в ложу.
Ольга встретила Контова загадочно-веселой улыбкой. Тадзимано, сказав несколько слов, оставил молодых людей одних.
– Я убежден, что вчера вы даже и не предполагали, что мы встретимся здесь! – произнесла Ольга, когда старик вышел.
– Ольга, верите ли, я не понимаю, что все это значит! – воскликнул Контов. – Мне все кажется, что я сплю и вижу чудесный сон… Право, перемены, чудесные перемены свершаются, как по щучьему велению… Пропасть, лежавшая между нами с первого дня нашей любви, вдруг исчезла.
– Да, это так!.. – произнесла Ольга. – И знаете ли, я сама не постигаю, как это случилось.
– Может ли это быть? – воскликнул Андрей Николаевич. – Ведь говорил же вам что-нибудь ваш отец?
– Ничего такого, что могло бы объяснить перемену в нем… Вы видели и познакомились с этим милым старичком?
– Которого ваш отец назвал Николаем Александровичем?
– Да…
– Не он ли виновник всего того, что мы переживаем?
– Я думаю, что он… Он появился у нас внезапно. Откуда он пришел, кто он – я не знаю… Кажется, это известно только отцу да еще Осипу…
– Вы раньше никогда его не видели?
– Нет. Представьте, я даже не знаю его фамилии. Одно только скажу вам: как только он явился у нас в доме – а он все эти дни наш гость с утра до вечера, – отца просто узнать нельзя: исчезла его раздражительность, он посветлел весь. Порой мне кажется, что с появлением этого Николая Александровича с души отца спала какая-то душевная тягость; повторяю, он весь посветлел… И знаете, Андрей, что меня более всего удивляет?
– Что, Ольга?
– То, что Николай Александрович хорошо знает вас.
– Как так? – Контов глядел на молодую девушку вне себя от удивления. – Положительно, Ольга, свершаются какие-то непостижимые вещи! – проговорил он. – Откуда может знать меня этот человек, которого я никогда не видел?..
– Не знаю, но я уверена, что мы даже вот тем, что сидим вместе в этой ложе и говорим не украдкой, обязаны ему…
– Антракт кончается, детки! – раздался за ними голос незаметно вошедшего Тадзимано. – Я думаю, что впереди у вас будет еще много времени для разговора…
– Да, да. Андрей Николаевич, – улыбаясь, перебила старика Ольга, – я ведь и позабыла сказать самое главное: батюшка поручил мне передать вам его приглашение на завтра к нам… Приходите к обеду… Отец так и сказал, что он будет ждать вас непременно… Тс… занавес!
Очарованный, мало что соображавший, с головой, странно вдруг отяжелевшей, вышел Андрей Николаевич из ложи. Он чувствовал только одно в эти мгновения: жизнь его вся меняется, все совершается так, как он представлял себе только в мечтах, недавно еще казавшихся совершенно неосуществимыми; теперь же эти грезы все исполнились наяву…
Спектакль скоро кончился, но, как ни хотелось Андрею Николаевичу подойти еще раз к Ольге, заговорить с нею, его словно что удерживало от этого, и он твердо решил дождаться следующего дня.
«Переговорою обо всем со стариком Кучумовым, – думал он. – Вся эта загадка должна быть выяснена… Да, может быть, все это, черт возьми, сон или я с ума схожу?..»
Если предшествующую ночь Контов провел в радостных грезах, то эту ночь он провел в тревоге и волнении.
Из театра он прямо вернулся домой. Неуютно, неприветливо было у него в квартире. Андрей Николаевич привык, что его, когда бы он ни являлся, встречала улыбающаяся физиономия Ивао Окуши, теперь же его никто не встретил. Камин не был растоплен, ужин не приготовлен.
«Совсем скверно одному, – подумал Контов, – разве примириться как-нибудь с Васюткой? Я думаю, что черная кошка между нами пробежала просто из-за того, что он приревновал меня к Ивао… Теперь Ивао нет, стало быть, повод к ревности устранился сам собой… Только я нигде не вижу его… прячется, что ли, он от меня? Эх, Василий, Василий! – даже головой покачал Андрей Николаевич. – Если бы ты знал, что со мной происходит, как бы ты рад-то был»…
Воспоминание о ссоре с испытанным другом вызвало грустное настроение, но грусть только скользнула по душе Контова. Словно живое, явилось перед ним в его мечтах лицо его Ольги, и опять грезы так и зароились; но, несмотря на то что в этих грезах Андрею Николаевичу улыбалось само счастье, смутная тревога все росла и росла в его душе…
«А что, если все это разобьет война? – с тоской думал он. – Ведь теперь можно ожидать всего… Бедствие будет чрезмерное, и я не могу, несмотря ни на что, относиться к нему так благодушно, как относятся все здесь… Ведь это бедствие и меня коснется… Но пусть будет что будет… Будущего все равно не изменишь, нужно пользоваться настоящим».
Он постарался заснуть.
На другой день Артур был так же покоен, как и ранее в обыкновенные дни. Чиновники утром пошли на службу, обсуждая на все лады участь Японии. По-прежнему на близких к центру улицах сновали оживленные и озабоченные толпы. Одни японские магазины и лавочки производили тяжелое впечатление своими наглухо заколоченными дверями. Только у дома наместника был заметен слишком большой для будничного дня съезд.
Андрей Николаевич вышел из дома лишь после полудня.
Не зная, как дождаться вечера, чтобы идти к Кучумовым, он, чтобы убить как-нибудь время, решил отправиться на поиски Василия Ивановича. Чувство одиночества, желание поделиться с близким человеком своим счастьем заставляли его позабыть даже то, что не он первый, а именно Иванов разорвал связывавшие их столько лет узы дружбы. Контов слышал, что Василий Иванович работает на Невском заводе, но идти туда ему показалось неудобным. Тем не менее он направился в ту сторону, где по имевшемуся у него адресу предполагал найти своего друга детства.
Сам того не замечая, он вышел на такое место, откуда, как на ладони, был виден весь наружный рейд Порт-Артура. Здесь перед его глазами открылась чудная картина. На рейде под Золотой горой стояла вернувшаяся из Голубиной бухты эскадра. Было чем залюбоваться. Гиганты-броненосцы и красавцы-крейсеры вытянулись в три линии. Стальными утесами казались издали громады «Ретвизана», «Пересвета», «Победы», «Полтавы», «Севастополя», «Петропавловска». Среди них особенно выделялся своей красотой «Цесаревич», совершавший свое первое океанское плавание. У самого входа в пролив, соединявший наружный рейд с внутренним, как грозный часовой, стояла «Паллада». Броненосцы стояли близ подводных рифов, находившихся против так называемых «порт-артурских дач». Мористее их виднелся красавец «Аскольд», выделявшийся среди остальных своими четырьмя высокими трубами. Около него в прямой, несмотря на волнение, линии стояли на якорях «Диана», «Баян», «Боярин» и маленький «Новик». Все они были меньше «Аскольда», но каждый из них, даже отдельно взятый, представлял собой грозную силу. В сравнении с ними совсем малютками гляделись канонерки – знаменитые по своему бою у Таку в китайский поход 1900 г. «Бобр» и «Гиляк»; за ними канонерка «Гремящий» и минные крейсеры «Енисей» и «Гайдамак».
Любуясь открывавшейся перед его глазами картиной, Андрей Николаевич заметил далеко-далеко в море несколько колыхавшихся на волнах темноватых пятнышек. Это были миноносцы, несшие во флоте сторожевую службу.
«Разве можно страшиться чего-либо под защитой такой силы! – восклицал про себя Контов, не спуская глаз с эскадры. – Страшно даже подумать, какова будет эта эскадра в бою, когда заговорят все ее пушки… Нет! Теперь и я, пожалуй, понимаю, почему здесь все так спокойны… Один вид этих стальных богатырей может внушить спокойствие и уверенность в будущем»…
День выдался несколько холодный, и довольно чувствительный мороз заставил Андрея Николаевича оторваться от великолепного зрелища. Он не спеша пошел назад и, едва войдя в ближайшую улицу, столкнулся лицом к лицу с тем, кого разыскивал, – с Василием Ивановичем.
– Вася! Друг! – кинулся было к своему товарищу детства Контов.
Иванов на мгновение остановился, потом вдруг отшатнулся, словно его отбросила назад какая-то невидимая сила.
– Да что же ты! – протягивая к нему свои объятия, с искренним чувством восклицал Андрей Николаевич. – Да бросим все… Ведь я тебя ищу… Ну, иди же ко мне, поцелуемся!
– Нет, не могу… Нет! – вырвался стон из груди побледневшего, как мертвец, Иванова. – Не могу, не могу!
– Отчего? Что с тобой? Куда же ты? – с недоумением восклицал Андрей Николаевич, видя, что Иванов быстро повертывается от него.
Тот, не слушая призывов, бросился опрометью бежать в противоположную сторону.
– Вот как! – бледнея и задыхаясь сам от гнева, проговорил Контов. – Ну что же! Не хочет – и не надобно… Была бы честь предложена…
Выходка Василия Ивановича казалась Контову необъяснимо-дикой, но он в то же время не мог не заметить невыразимого страдания, ясно выражавшегося в глазах Иванова, когда он взглянул на своего друга детства.
«Нет, – восклицал про себя Андрей Николаевич, когда Иванов скрылся. – Я вижу, что тут уже не в этом японце Ивао дело… Тут кроется что-то другое… Что – я не знаю, но должен непременно узнать… все разведать… все выяснить, так оставить это невозможно!»
Взволнованный, оскорбленный, пошел Андрей Николаевич по пустоватым улицам, пока ему не попался извозчик. Контов взял его и приказал везти в ресторан, где обыкновенно около этой поры собиралась вся так называемая «порт-артурская интеллигенция». В ресторане он действительно застал в полном сборе всех своих знакомцев. В небольших залах в этот день собралось столько народа, что Контов едва-едва нашел себе место, да и то за одним столом со знакомыми. Говорили все громко, и голоса сливались в один общий гул. Новостей было множество.
– Вы слышали, – обратился к Андрею Николаевичу знакомый, за столик которого он присел, – наш Артур объявлен на военном положении!
– Разве?
– Да, с двадцать восьмого января. Тяжеловато придется, в особенности на первых порах.
– Но ведь война еще не объявлена?
– Вероятно, никогда и не будет объявлена, но знаете, по поговорке: «Береженого Бог бережет!» Все-таки на всякий случай такая мера не мешает.
– А я сейчас любовался эскадрой! – сказал Контов. – Такая чувствуется в ней мощь, что, действительно, за этих бедных японцев вчуже страшно становится…
Собеседник Андрея Николаевича снисходительно улыбнулся.
– Да, – небрежно проговорил он, – эти господа сильно рискуют… Ими овладело непонятное ослепление… Кстати, вряд ли скоро вы теперь увидите нашу красавицу эскадру…
– Она уходит?
– Завтра утром… Назначение неизвестно… Я так полагаю, что пойдет к Владивостоку на соединение с тамошней крейсерской эскадрой… У Штакельберга во Владивостоке «Россия», «Рюрик», «Громобой», «Богатырь», это силы очень внушительные… Потом, вероятно, завтра же, когда эскадра будет в открытом море, к ней присоединятся «Варяг» и «Кореец» из Чемульпо… Ведь это целый могучий флот… современная «великая армада». Я боюсь, как бы все эти чайные домики на Японских островах вместе с их пухленькими гейшами не обратились в груды щепок…
– Вы думаете, будет бомбардировка?..
– Не думаю, потому что уверен, что войны не будет и все ограничится демонстрациями… А чайные домики может разрушить сам народ… Ведь японцы достаточно сообразительны, чтобы понять, в какое критическое положение поставила их своим необдуманным шагом компания из Ито, Ямагаты, Окуши, Кодамы и прочих прославленных на весь мир японских деятелей… Подлинно, теперь выходит, что на всякого мудреца довольно простоты…
В точно таком же духе Андрей Николаевич слышал рассуждения ото всех, с кем он только ни разговаривал. Между прочим, он услыхал, что в одиннадцатом часу вечера на эскадре назначен труднейший из маневров: «отражение минной атаки», ибо, как говорили в ресторане, было решено на всякий случай попрактиковаться в труднейших маневрах.
«Шевелиться начинают, – подумал Андрей Николаевич. – В каких же отношениях я теперь нахожусь к Куманджеро? Конечно, наше условие потеряло свою силу. Тем лучше! Я по крайней мере снова свободная птица!»
И он сейчас же позабыл об услужливом японце, позабыл даже о переживаемых тревогах: часовые стрелки показывали, что время идти к Кучумовым.
Чудный вечер провел Андрей Николаевич у Кучумовых. Чуть ли не в первый раз во всю свою жизнь он очутился в семье. Ему почти не удалось говорить с Ольгой, но молодой человек был уже счастлив и тем, что видит так близко от себя любимую девушку. Павел Степанович не оставлял его целый вечер. Он и его гость, этот по-прежнему остававшийся для Контова загадочным старик, засыпали его вопросами о его детстве, о юношеских годах, о причинах, заставивших его пуститься в далекое странствование. О последнем Андрей Николаевич умолчал, но зато о своем неприглядном детстве, о юношестве, полном всяких бед, он рассказывал охотно. При этом он подметил, что его рассказы производят на старого Николая Александровича удручающее впечатление. У старика увлажнялись глаза, когда рассказывал Контов. О войне почти не говорили, но вечер прошел незаметно. В десять часов Андрей Николаевич стал прощаться.
– Вы, молодой человек, приходите запросто, – с некоторым подчеркиванием говорил Кучумов. – Я полагаю, что у нас найдется поговорить еще о многом!
Контов ушел от Кучумовых в упоении. Он готов был обнять весь мир – так велико было его счастье…
С моря доносились до его слуха частые орудийные выстрелы, в глубину скрывавшего небо ночного мрака взлетали одна за другой ракеты.
«Маневр „отражения минной атаки”, – вспомнил Андрей Николаевич. – Жаль, что нельзя полюбоваться»…
Он пошел домой. Порт-Артур спал крепким и покойным сном.
18. Врасплох
Александр Тадзимано очутился на борту «Акацуки» ранее столь неожиданно ставшего его непосредственным начальником Нирутаки. Молодой лейтенант весь пылал нетерпением, и, будь его воля, он немедленно помчался бы среди бела дня взрывать у Порт-Артура русские броненосцы.
Однако даже это нетерпение не помешало юному моряку прежде ознакомиться с судном, на которое его привела судьба с флагманского броненосца.
«Акацуки» был старый, немало претерпевший всяких аварий миноносец, но команда на нем – и матросы, и машинисты, и минеры – была подобрана на славу. Все они в совершенстве знали свое дело, каждый из них вполне ясно представлял себе свои обязанности. Это вовсе не были какие-то живые машины, исполнявшие все, что им ни прикажут, не умевшие или, вернее не смевшие прилагать свой собственный смысл даже к такой работе, где они рисковали своей жизнью. Осматривая минные аппараты, Тадзимано только восхищаться мог, в какой исправности они содержались. Все, до мельчайших приборов, было готово на «Акацуки» к делу, команда, так же как и Тадзимано, горела нетерпением, но ждать пришлось нестерпимо долго.
Нирутака явился значительно позже. Он сейчас же собрал около себя весь свой экипаж и подробно рассказал ему, на какое опасное дело придется идти в эту ночь. Радостные, громкие «банзай» покрыли слова командира.
В это время на флагманском судне был поднят сигнал «Добрый путь», и крупные суда эскадры стали удаляться. Остались только миноносцы, собиравшиеся поближе к больших размеров контрминоносцу «Шинономе», на котором находился начальник над этой флотилией.
Отдав распоряжения, Нирутака отправился к нему на судно и пробыл там до темноты.
Наступил уже вечер, когда вернулся командир «Акацуки» и с контрминоносца был подан сигнал к отплытию.
Сильно раскачиваясь на волнах, понеслись вдруг утлые, но страшные для гигантов-броненосцев суденышки. По расчету Нирутаки, им до Порт-Артура было часа полтора хода. Все на «Акацуки» примолкли, на лицах появилось серьезное, озабоченное выражение. Каждый занял свое место, заранее назначенное, сам Нирутака стоял на мостике своего миноносца, зорко вглядываясь в окутывавший даль мрак.
Все огни на миноносце были закрыты с таким расчетом, чтобы ни один луч света из фонарей не проникал вперед.
Тихий гул, похожий на вздох шепота, вдруг пронесся по палубе миноносца. Впереди, далеко-далеко, сверкнула яркая звездочка. Это был маяк при входе в соединительный пролив. Миноносцы несколько замедлили свой ход, и шедший во главе их командир флотилии едва слышным свистком подал сигнал рассыпаться. Теперь каждый из миноносцев должен был уже сам исполнять все, что ему было назначено на совете перед отплытием.
– Мы идем на «Палладу», – прошептал Нирутака Тадзимано, – «Шинономе» атакует «Цесаревича».
– А другие? – так же тихо спросил лейтенант.
– Другие – не знаю… Смотри, – вдруг сжал его руку Нирутака, – сами русские облегчают нам задачу. Все их суда стоят с огнями…
Порт-Артур ясно обозначился среди темноты множеством огоньков. Входной маяк показался теперь звездочкой, он горел ярким пламенем, освещая проход на внутренний рейд. На всех судах горели фонари, и Нирутака без малейшего затруднения определил по плану, переданному ему адмиралом, где стояло какое судно…
Роковая минута все близилась. Командир «Акацуки» схватил ручку телеграфа и приказал дать миноносцу полный ход.
«Акацуки» со всевозрастающей быстротою понесся к тому месту, где по плану должна была стоять дежурившая в эту ночь на рейде «Паллада».
– Левым торпедным приготовиться! – отдал он приказание и, обращаясь к своему штурману, сказал: – Приготовь для фонаря красные и белые стекла…
– Не советую, капитан, – прошептал тот, – у русских нет такого сигнала.
– Мне сообщил его командир…
– Я плавал на русских коммерческих судах, сигналить огнями не умею, но знать знаю, что красно-белого огня в русских сигналах нет…
Нирутака подумал.
– Хорошо, пусть будет по-твоему! – произнес он и телеграфировал в машинное отделение: – Дать самый полный ход, какой только может выдержать машина.
Миноносец несся теперь, пожалуй, быстрее стрелы. Его палуба вся дрожала, капитанский мостик и труба тряслись, но не было слышно ни малейшего шума, ни одного дымка не клубилось над трубою. Люди напряженно молчали. Ожидая команды, командир уже держался за спускную ручку минного аппарата.
Теперь «Палладу» было уже ясно видно.
– Проклятье! – прошептал Нирутака. – Русские еще не спят! Все равно… Быстрее, как можно быстрее! – зателеграфировал он в машину.
Броненосец был так близко, что на нем можно было ясно разглядеть человеческие фигуры. Вдруг с палубы раздался отчаянный крик, и сейчас же завыл сигнальный рожок.
– Нас заметили! – уже в полный голос крикнул Нирутака и скомандовал пускать мину.
Тадзимано ясно видел, что мина окунулась под воду, где на броненосце должна была находиться капитанская каюта; послышался глухой, какой-то шелестящий удар. Сейчас же поднялся высокий водяной вал, и огромный броненосец как-то странно покачнулся. С него уже градом сыпались прямо на палубу «Акацуки» пули, с боевого марса полились из моментально зажженного прожектора лучи света. «Акацуки» ловко повернулся, и с его борта в «Палладу» понеслась уже вторая мина.
– Промах! – закричал Нирутака, но его голос был заглушен новым гулом взорвавшейся мины.
«Это „Инадзумо” атаковал „Ретвизан”, – подумал Тадзимано. – Что удалось ему? Неужели же промах?»
– «Шинономе», «Шинономе»! – закричал Нирутака, показывая рукой вправо от себя.
Тадзимано взглянул по направлению руки капитана. Там был виден ярко освещенный красавец «Цесаревич». Он так и сыпал снарядами из всех своих орудий, и прямо на него, швыряя торпеды, мчался «Шинономе» – миноносец, на котором был командир атакующей флотилии.
– Пропал «Шинономе», – опять закричал Нирутака, но в это мгновение около «Цесаревича» появился другой миноносец, «Широкумо».
Ужасную и в то же время величественную картину представлял в эти минуты наружный рейд Артура. Теперь на всех судах эскадры уже горели прожекторы. Выстрелы орудий, трескотня ружей сливались в один адский рев. Нападавшие миноносцы уже не думали спасаться. Они шныряли между русскими судами, то и дело швыряя в них мины. Взрывы слышны были то там, то здесь; но более всего их раздавалось около «Цесаревича», яростно отбивавшегося огнем от двух наседавших на него миноносцев.
С борта «Акацуки» было видно, что «Широкумо» тонул, обращенный в решето снарядами атакованного им гиганта, «Шинономе» тоже осел так, что его борта были почти у самой воды, и его гибель была несомненна, но Нирутака решил воспользоваться тем, что «Цесаревич» был занят борьбой с погибающим миноносцем. Ловко выскользнув из-под луча прожекторов, «Акацуки», управляемый своим энергичным командиром, понесся прямо на атакованного гиганта и, прежде чем с «Цесаревича» заметили нового противника, швырнул в него одну за другой две мины.
На броненосце сразу оборвался огонь. Огромный вал приподнял этот плавучий стальной остров, закачал его на своем хребте, и, когда он рассыпался, «Цесаревич» уже кренился на волнах, странно колеблясь из стороны в сторону. На «Акацуки» раздался радостный вой. Нирутака, Тадзимано, минеры, матросы, даже машинисты – все обратились на мгновение в дико беснующихся от радости зверей. Они видели, что их минные выстрелы не пропали даром, что гигант-броненосец был подорван. Теперь их дело было сделано и им можно было позаботиться и о спасении своих жизней. На «Цесаревиче» между тем уже заметили нового врага и, несмотря на полученные от него тяжкие повреждения, немедленно засыпали его градом снарядов.
Пойманный в лучи прожекторов «Акацуки» так и метался под градом гранат. В какую сторону он ни кидался, чугунный град осыпал его. Один из снарядов разорвался у него на палубе и разворотил минный прибор. Осколками разорвавшегося снаряда тут же были убиты минер и два матроса.
Это была первая кровь, которую видел в своей жизни Тадзимано. Страшное возбуждение охватило его, он что-то хрипло кричал, сам не понимая своих слов. Молодой лейтенант был уверен, что их миноносцу не выйти из этого ада, и эта уверенность усиливалась еще более при виде скрывавшегося под водой «Широкумо», затонувшего вместе со всем своим экипажем, и медленно отходившего в темноту «Шинономе», с трудом волочившего свою корму. «Инадзумо», взорвавшего «Ретвизан», не было видно. Огонь с атакованных русских судов сконцентрировался исключительно на метавшемся среди них «Акацуки», который с яростью погибавшего расшвыривал вокруг мины. Новый удачно пущенный с ближайшего броненосца снаряд угодил в палубу «Акацуки», но не разорвался и, только скользнув, вылетел моментально за борт. Делать на рейде нападавшим миноносцам было положительно нечего. Миноносец Нирутаки оставался единственным – все его уцелевшие товарищи уже успели скрыться.
– Пар! – скомандовал капитан, и в следующее мгновение «Акацуки» весь закутался густыми клубами выпущенного из машин пара. С ближайших броненосцев послышался радостный крик, раздалось даже «ура»: там вообразили, что на вражеском миноносце взорвались котлы, но «Акацуки», скрытый паром, успел перебраться под прикрытие темноты и скоро уже был вне выстрелов с атакованных им судов.
– Кажется, удача? – спросил у Тадзимано, стирая пот с лица, Нирутака.
– Успех, полный успех! – воскликнул тот. – А русские все-таки молодцы.
– Да, да, это отвергать нельзя. Как они быстро справились с замешательством… Будь на их месте другие, мы при таких условиях перетопили бы все броненосцы, а тут удалось вывести из строя всего только три судна.
– Зато надолго! – заметил лейтенант.
– Я предпочел бы, чтобы навсегда… Но теперь дело не в этом… Вот плетется «Шинономе». Порядочно его отделали! А бедняга «Широкумо» теперь на дне.
Атаковавшие миноносцы сошлись. Их команды обменялись восторженными «банзай», и все вместе пошли на соединение с эскадрой своего адмирала.
19. Под внезапным шквалом
Утром, когда мирно проспавший всю ночь город проснулся, сообщение о том, что на наружном рейде хозяйничали японцы, упало над мирными обывателями как снег на голову, разразилось как гром со слегка только подернутого тучками неба…
В первые минуты мало кто поверил тревожным сообщениям.
– «Цесаревич» ранен! – проносилась весть.
– Вздор! – был не допускавший возражений ответ.
– «Ретвизан» у входа в пролив на мели… Пробоины!
– Быть этого не может!
– «Паллада» искалечена… разбита…
– Только помята!..
– Не маневр, а действительная минная атака была!
– В воображении слишком увлекшихся моряков…
Никто, словом, не хотел верить, но слухи все росли и росли и с каждой минутой становились все тревожнее…
На Адмиралтейской набережной собрались густые толпы народа. Среди русских и проживавших в изобилии в Артуре европейцев и американцев затесались в огромном количестве, что было весьма редко, и китайцы. Их обыкновенно безмятежно-спокойные лица теперь отражали беспокойство. Общее напряжение было так велико, что на китайцев никто не обращал внимания, между тем как в другое время их непременно прогнали бы отсюда.
Андрей Николаевич, промечтавший о своем будущем всю ночь, был встревожен несмолкаемым громом орудий и треском то и дело взлетавших на воздух сигнальных ракет. Смутное беспокойство заставило его выйти из дому, как только забрезжил день, и здесь он один из первых узнал ужасную весть:
– Эскадра разбита! Японцы напали врасплох… Три лучших броненосца повреждены!
Как ни бессмысленною показалась Контову на первых порах эта весть, но он инстинктивно поверил ей…
Зато другие – его знакомые, тоже привлеченные на улицу и затем на Адмиралтейскую набережную ужасными слухами, – относились к вестям с недоверием и не допускали даже возможности, чтобы японцы осмелились напасть на Артур без предварительного объявления войны.
– Не говоря уже о нас, – возражали Контову, – но японцев за это самое и Европа не похвалит…
– Дожидайтесь вы правды от этой Европы! – воскликнул с раздражением Андрей Николаевич. – Ей всякие русские беды на руку…
– Ну, как это! Вспомните, еще германский император Вильгельм своей знаменитой картиной «Народы Европы, страшитесь желтой опасности» предупредил мир, откуда ждать беды… Нет! Если только японцы осмелились на это, им несдобровать! Европа покажет им, как нарушать законы и обычаи войны!
– Говорю, Европа будет рукоплескать каждому, кто ослабит и унизит Россию! – пробовал возражать Андрей Николаевич, но его голос был одиноким.
Он замешался в толпу, собравшуюся у пристани. Здесь были люди попроще, не столь погрязшие в бумажно-канцелярской чиновничьей тине, и потому роковое событие нашло себе более громкий отклик.
Зато здесь было и толков меньше. Все с величайшим напряжением ожидали вестей с эскадры, а оттуда как раз не было ни слуху ни духу, так что никаких подробностей ночного происшествия никому не было известно.
Кое-кто пытался уже разузнавать о событиях через знакомых, имевших своих людей на батареях Золотой горы, но оттуда не появлялся ни один человек, и тайна продолжала томить всех этих людей, с замиранием сердца ждавших, не появится ли какая-нибудь шлюпка с эскадры на внутреннем рейде…
– Андрей Николаевич! – подошел к Контову Кучумов. – Да неужели правда?
– Вы о ночном нападении, Павел Степанович? – спросил тот, здороваясь со стариком. – Положительно ничего достоверного не известно! А слухи так и растут…
– Господи, господи! – пролепетал Кучумов. – Что, если они окажутся правдой?.. Какой ужас, какой позор! До чего мы дожили…
Контову хотелось напомнить этому старику о его речах накануне, но он удержался, боясь обидеть в его лице отца Ольги.
– Подождем очень немного, Павел Степанович, – по возможности мягко сказал он, – вон идет военный катер. Это, вероятно, с эскадры, сейчас мы узнаем если не все, то очень многое!
Огромная толпа, предчувствуя, что тайна должна разъясниться, стихла так, что на набережной воцарилось гробовое безмолвие. Катер был паровой и шел быстро, вспенивая воду. Тысячи пар глаз с тревогой устремились на него, и вдруг словно шелест какой-то пошел по всей толпе, замелькали сотни рук, все головы обнажились…
Катер подходил к пристани.
На его корме были видны прикрытые андреевским флагом тела…
– Убитые есть, мученики за веру православную! – пронесся по толпе громкий шепот.
На пристани раздалась команда, катер зачалил, несколько дюжих матросов подняли носилки с телами павших товарищей. Это были трое моряков с «Паллады», задушенные развившимися при взрыве японской мины газами…
Да, теперь уже ни для кого не могло быть сомнения: война началась, и началась как раз тогда, когда огромное большинство не только портартурцев, но и всех вообще русских людей сохраняло уверенность, что до начала военных действий еще очень и очень далеко…
Тихо сошла печальная процессия с пристани на берег. Безмолвно расступалась толпа перед телами первых жертв внезапно разразившейся войны. Как много, однако, говорило это безмолвие и как красноречиво было оно! В нем выражался немой, но могучий протест против всего случившегося, против того, что враг мог застать врасплох гордость России – русских моряков, всегда бывших общими любимцами, против того, что лживыми оказались все уверения, будто никогда желтокожие островитяне не осмелятся напасть на могущественного соседа; в этом безмолвии ясно сказывались полнейшее разочарование во всем том, что еще так недавно казалось безмерно великим, и жалость к напрасно погибшим красавцам-кораблям, ставшим первой великой жертвой общей беспечности и нежелания заглядывать даже в ближайшее будущее…
Как только моряки сошли на берег, по всей громадной толпе распространилось множество сведений об ужасном событии этой ночи.
– Врасплох напали! – слышались голоса. – На брандвахте даже не хотели пропускать офицера, посланного с донесениями к наместнику…
– Настоящую атаку за свой маневр приняли…
– Более всех «Палладе» досталось, вся корма разворочена. Не стой «Паллада» на мелком месте, затонула бы…
Все эти вести передавались из уст в уста, их слушали с напряженным вниманием, им верили, да и нельзя было не верить, они шли от участников ночного боя.
Более всего произвели впечатление рассказы о поранении «Цесаревича» и «Ретвизана» – красы артурской эскадры. Пока никто еще не мог определить серьезность нанесенных этим броненосцам повреждений, но моряки, несмотря на свое желание успокоить взволнованных артурцев, даже уменьшая срок, необходимый для исправления искалеченных гигантов, высчитывали его месяцами…
– Неужели же все это миноносцы натворили? – раздавались в толпе вопросы.
– Все они…
– Да как же они подкрались-то? Как же могли пропустить их?
– Вот поди ж ты!
– Разве наших миноносцев на дежурстве не было?
– Были… На заранее назначенной линии охранения стояли!
Следовало перечисление русских миноносцев, несших в эту ночь сторожевую службу.
– Так как же они?
– Змеями проскользнули…
– С одного миноносца даже опросили… Так те ответили, что с Невского завода…
– И поверили?
– Как не поверить! Четырехтрубный шел японец-то… Потом же известно было, что из Голубиной бухты наши должны были возвращаться… А более всего маневр связывал…
– За своих приняли?
– Выходит, так… Только и им досталось… Никак не менее двух наши потопили… Одного с «Цесаревича» на дно к рыбам пустили, другого матушка «Паллада» кормовым выстрелом укомплектовала… Только по воде пузыречки пошли, как их потопили…
– Что толку-то! Разве два миноносца стоят столько, сколько три наших-то броненосца?.. Посравнить с одним «Цесаревичем», так хоть еще пару японцев потопи – грош им цена…
– Да ведь ни «Цесаревич», ни «Ретвизан», ни «Паллада» не потоплены? Все на воде держатся?
– Мало ли что держатся… Пробоины-то все-таки есть!
– Что же из того?.. Авось починят…
Но даже русское великое «авось» не подействовало успокоительно. Потери, понесенные эскадрой, для каждого из артурцев были величайшей, проникавшей до сердца обидой. Несколько ободряюще действовало на души смущенных всем происшедшим людей то, что, несмотря на всю внезапность нападения, простые русские люди – матросы с подвергшихся атакам броненосцев – выказали себя героями. Из уст в уста передавался рассказ, как на «Палладе» один из трюмных матросов, когда взрыв вырвал пласт внутренней обшивки, поддерживал его на прежнем месте своим телом. Матрос был обожжен, задыхался от развившихся в трюме удушливых газов, но держал оторванный пласт на своей спине до тех пор, пока не прибежали товарищи и не освободили его. Были уже и другие герои долга, толпа слушала рассказы об их незаметных подвигах, чувство удивления и восторга к ним уже начинало расти, и, когда на набережной появилась рота солдат, проходившая на позиции Золотой горы, ее появление было встречено громким «ура».
Никто не знал, что будет далее, но все чувствовали, что ночное нападение японцев было только началом величайших событий…
С дребезжанием прокатилась к подъему на Золотую гору окруженная конвоем коляска наместника. Обыкновенно адмирала встречало приветственное «ура», но теперь толпа безмолвно расступилась; все с большей неотступностью поднимался неотвязный вопрос: «Что же дальше-то будет, ежели начало такое было?..»
20. Историческое утро
Кучумов, видимо, был до глубины души потрясен всеми этими событиями, становившимися с каждым проходившим часом все более и более историческими.
День разгорался, окружавшая всех дотоле канцелярская ночь рассеивалась, завеса ниспадала, сама жизнь обнажила горькую, убийственно действовавшую на всех правду.
– Постойте, – проговорил Павел Степанович Контову, – здесь мы напрасно толчемся… Попробуем-ка пройти туда, – кивнул он в сторону Золотой горы, – теперь там штаб наместника, у меня есть кое-кто знакомый, может быть, и удастся побывать там…
Куда девалось все недавнее еще высокомерие этого важного чиновника, на весь мир смотревшего с высоты своего канцелярского величия, о жизни судившего только с той стороны, в каком ее представляли кипы входящих и исходящих, заслонявших собою все действительные явления. И не кто-либо иной, как сама жизнь – да и с одного ли только Кучумова? – сбила в эту страшную историческую ночь на 27 января маску не имевшего под собой никакой почвы олимпийства.
Павел Степанович пользовался большой и хорошей известностью в артурских бюрократических кругах, и потому ему удалось и самому пройти, и Контова провести с собой. Их только просили держаться в стороне, дабы не вызвать какого-либо замечания со стороны особенно строгих к выполнению формальностей командиров. Впрочем, это было высказано в такой форме, что Кучумов, сам формалист до мозга костей, даже и не почувствовал в таком предупреждении ничего для себя обидного.
Это наипамятное во всей новой русской истории утро выдалось, как на грех, такое, каких еще не бывало в Артуре в течение всей зимы. Яркое веселое солнце поднялось на безоблачной выси слегка голубоватого неба и бросало оттуда на скалы Порт-Артура и на морские дали свои жизнерадостные лучи. В воздухе стояла ничем невозмутимая тишина – ни один ветерок, ни один шквал не налетал с моря на эти кручи Золотой горы и Электрического утеса, грозно смотревшие вперед жерлами своих орудий. На позициях господствовало молчание – молчание смущения, овладевшего невольно всеми при каждом взгляде вниз на морскую гладь, где всеми своими трубами дымились уцелевшие в эту ночь броненосцы.
Да и что, кроме смущения, могло являться при виде искалеченной «Паллады», осевшей своей разбитой кормой так, что носовая часть броненосца высоко вздымалась над водою?.. В бинокль был виден пластырь, окутывавший пробоины «Паллады», была заметна суетившаяся на палубе броненосца команда. Напротив стоял несколько накренившийся «Цесаревич», которого уже начали вводить на внутренний рейд. Это был не прежний красавец-гигант, всегда возбуждавший одним только своим внешним видом восторги артурцев. Он стоял какой-то жалкий, беспомощный, словно умоляющий о помощи. Невдалеке от входа в пролив приткнулся на мели искалеченный «Ретвизан».
Почему-то этот стальной гигант был особенно популярен среди артурцев.
В Артуре мало кто знал историю знаменитого предшественника этого броненосца, но в самом сочетании звуков, составлявших его название было что-то такое, что чрезвычайно нравилось артурцам.
Теперь их любимец лежал, приткнувшись на подбрежной мели, производя своим внешним видом впечатление чего-то погибающего; но в то же время все его пушки с боевых марсов, из башен грозно продолжали смотреть вдаль, готовые каждое мгновение послать врагам свое смерть несущее приветствие.
Однако, как и всегда бывает, события сейчас же создали и новых любимцев.
Общее внимание приковывал к себе маленький вертлявый крейсерок «Новик», клубивший черным дымом из всех своих труб. На «Новика» доселе обращали как-то мало внимания, он даже не был перекрашен в боевой цвет и казался белым пятном на темном фоне моря. Было что-то задорно-воробьиное во внешнем виде этого крейсерка по сравнению с гигантами-броненосцами, но именно эта-то задорность и казалась особенно привлекательною. В то самое время, когда все остальные суда стояли неподвижно, «Новик» бурлил, пенил морские воды, вообще выказывал все признаки заметного боевого нетерпения.
На позициях стояла глубокая тишина, в которой чувствовалось чрезмерное напряжение. Сотни пар глаз были устремлены на горизонт. На Золотой горе было известно, что крейсер «Боярин» был выслан еще на рассвете в море осмотреть, не видно ли где неприятельских эскадр. Возвращения «Боярина» ждали с величайшим нетерпением, ибо от тех вестей, какие должен был привезти он, зависело многое… Создавались уже фантастические легенды.
Наместник произвел смотр позиций. Ответное «ура» на его приветствия звучало вяло и нерешительно. И в нем сказывались владевшие всеми в это утро смущение и растерянность. Вместе с наместником прибыли на Золотую гору и все находившиеся в артурском гарнизоне генералы. Среди них особенно выделялся своим чисто русским, одухотворенным печатью огромного таланта лицом невысокий, несколько согбенный генерал-артиллерист.
Это был Роман Борисович Кондратенко, будущая душа и герой Порт-Артура.
Легкий крик, похожий на шелест набежавшего шквала, пронесся по Золотой горе. На горизонте показалась тончайшая колеблющаяся черточка.
– «Боярин» возвращается, – пролетел тихий шепот, – с чем-то он? Что-то Бог даст?
Черточка быстро росла и обратилась в вившуюся на фоне неба струйку. Это был дым, валивший из труб крейсера. По тому, как он стлался, можно было видеть, что судно идет полным ходом. Когда, наконец, крейсер стало видно, не могло уже быть и сомнений в том, что он спешит к берегу на всех парах.
– Японцы! – пронесся по рядам замерших в напряжении людей нервный окрик. – «Боярина» преследует целая эскадра!
Действительно, на горизонте теперь вилась уже не одна, а несколько дымовых струек и начали появляться черные точки, быстро превращавшиеся в черные пятнышки, которые с такой же быстротой принимали очертания кораблей…
– Да, это эскадра! – услыхал около себя напряженно глядевший в бинокль Контов. – Сомнения быть не может, японцы начинают войну, не объявив ее!
В это же время до Золотой горы донесся глухой едва уловимый слухом звук.
– Стреляют! Бомбардируют! – раздались громкие восклицания.
В прозрачном воздухе виднелось «нечто», со стремительной быстротою летевшее над морем прямо по направлению к Артуру. Чем ближе было это «нечто», тем все громче становился какой-то новый, никогда еще неслыханный в Артуре звук. Он был похож на гуденье гигантского шмеля и производил на нервных людей впечатление, невольно заставлявшее их бледнеть и растерянно оглядываться по сторонам. Это «нечто» был первый японский снаряд, выпущенный по Артуру с броненосца «Асахи», на котором был адмирал Того, явившийся в это утро не столько для серьезных действий, сколько для того, чтобы громом этой первой бомбардировки возвестить и России, и всему «цивилизованному» европейскому миру, что в это утро ожесточенная борьба белой и желтой рас, борьба, в которой врагами были не только Россия и Япония, сколько одряхлевшая, разлагавшаяся под тяжестью пережитых веков Европа и воскресшая после тысячелетнего покоя Азия.
Наступил величайший в истории кровавого времени момент. На долю многострадальной России опять выпадал титанический труд сдержать кровью своих сыновей новый и более могучий, чем в XIII веке, напор азиатских народов…
Первый снаряд с визгливым жужжанием пронесся над Золотой горой.
– Перелет! – послышались у орудий голоса.
– После перелета недолет будет! – проговорил стоявший в ожидании команды канонир.
– Это, Алехин, как и полагается… «На вилку» возьмут и будут посередине жарить!
– Ну и мы не сдадим тоже! – нервно усмехнулся Алехин и, услышав команду, тихо проговорил: – Господи, благослови!
Золотая гора заговорила пастьми всех своих орудий; откликнулся Электрический утес. Пушки «Ретвизана» тоже присоединили к ним свой голос. Адский грохот десятков исполинских крепостных орудий слился в невозможный гул. Будто недра земные внезапно разверзлись и появившееся из гигантской расщелины дотоле спавшее под землею чудовище заревело, яростно негодуя на нарушение своего безмятежного в течение долгих восьми лет покоя…
С неприятельской эскадры тоже отвечали с неменьшей энергией. Громадные снаряды так и крестили воздух; на Золотой горе были уже раненные осколками разорвавшихся в воздухе снарядов. Канонир Алехин работал у своего орудия с кровавой повязкой на голове. В увлечении он не чувствовал боли и весь пылал одним лишь желанием удачными выстрелами из своего орудия угодить хотя бы в один из этих вражеских броненосцев, славших в Золотую гору снаряд за снарядом.
В толпе артурцев, скучившихся на набережной, улицах, площадях, эти выстрелы невидимого врага произвели особенно удручающее впечатление. Один вид пролетавших над головой снарядов вызывал ужас, но при первом же разорвавшемся за городом снаряде случилось происшествие, нагнавшее еще более оторопи на не ожидавших ничего подобного, по крайней мере так скоро, артурцев.
Грохотом бомбардировки была привлечена из недр китайского города к Артуру с лишком пятитысячная толпа китайцев-кули, манз, рабочих по постройке укреплений. Все эти люди стояли и довольно равнодушно глядели вверх, когда над их головами пронесся первый японский снаряд. Однако оглушительный гул его взрыва произвел на этих несчастных страшное впечатление. Никто из них не был ранен, даже никакой опасности для них не было, но среди этой огромной толпы вдруг вспыхнула паника. Все тысячи этих людей, словно по мановению какого-то волшебника, обратились в бессмысленное панургово стадо и бросились бежать назад к своему городу, не соображая даже того, что там именно рвались снаряды и их жизни грозила серьезнейшая опасность. Молча, даже без крика мчались вперед охваченные ужасом люди, не оглядываясь назад, не видя перед собою ничего. Их не останавливали никакие преграды, обессиливавшие падали, и все, кто был позади, мчались по их телам, стремясь только уйти как можно подальше и не соображая, что от смерти уйти невозможно…
На Золотой горе и Электрическом утесе грохот орудий стал несколько смолкать. Раздался даже радостный клич. С позиций заметили, что один из вражеских броненосцев весь окутался облаком пара. Это было понято как знак того, что один из выстрелов был настолько удачен, что произвел на судне взрыв паровых котлов. Много спустя после этого узнали, что тут таилась одна из хитростей Того, нарочно приказавшего выпустить пар в уверенности, что в Артуре подумают, будто его эскадра понесла потери и таким образом с первого же дня оказалась ослабленной. Того надеялся, что таким путем ему удастся вызвать уцелевшие броненосцы немедленно на бой, но его ожидания оправдались только отчасти. Все гиганты остались неподвижно на своих местах, но зато задорная крошка «Новик» вдруг ринулся прямо по направлению к вражеской эскадре. Слабый пигмей, руководимый храбрецом командиром, неустрашимо несся против вражеских исполинов. Орудия его гремели, не умолкая. Он сыпал снаряд за снарядом прямо в гущу японской эскадры. Там сейчас же заметили этого задорного удальца, и в него понеслись тучи гранат.
На Золотой горе все стихло. Орудия замолкли, стрелять из них было уже невозможно из опасения попасть в своего.
Шепот восторга раздавался всюду. Имя Николая Оттоновича Эссена, командира «Новика», передавалось из уст в уста. Не находили слов для похвал этому удальцу. «Новик» между тем шел и вертелся под вражескими снарядами, не давая японцам возможности пристреляться. Его кормовые и носовые орудия безостановочно слали снаряды. Из неприятельской эскадры выделились два крейсера и пошли к «Новику», но, прежде чем они сблизились, «Новик» вдруг повернул обратно и стал тихо отходить под защиту береговых батарей. В его корму угодил один из неприятельских снарядов, и, хотя пробоину удалось сейчас же закрыть пластырем, но дальнейший бой становился невозможным.
21. Памятный день
Японские крейсеры не преследовали «Новика». Несколько снарядов с русских батарей быстро остановили их, и, лишь только они присоединились к своей эскадре, последняя, сразу прервав бомбардировку, начала отходить назад и скоро скрылась за линией горизонта.
Удалец «Новик» возвратился на место своей стоянки, гордо неся свой покрытый уже боевой славой андреевский флаг.
Был всего двенадцатый час дня.
Бомбардировка продолжалась с небольшим пятьдесят минут, но сколько было пережито, сколько было перечувствовано в этот ничтожнейший срок времени!..
После адского грохота снова воцарилась безмолвная тишина. Словно ничего и не произошло в Порт-Артуре в эти страшные пятьдесят минут. Солнышко по-прежнему приветливо светило с небесной выси, по-прежнему любовно рокотали волны, набегая к подножиям береговых утесов, морская даль была безмятежно чиста и ясна. Нигде даже признаков свирепого врага не было видно.
Но как зловеще было это спокойствие!
Под Золотой горой на волнах наружного рейда была не красавица тихоокеанская эскадра, на которую главным образом опиралась мощь России на этом азиатском далеке, – увы, были только остатки ее… Не все ли равно, что были повреждены лишь три судна да еще маленький «Новик»? Поранено было самое главное – дух тех, кто являлся защитниками здесь православной Руси; исчезла уверенность в своей силе, в своем могуществе, явилось горчайшее сознание того, что вчерашнее «ничтожество», каким все без исключения считали здесь Японию, осмелилось первым поднять вооруженную руку на величайшего из мировых колоссов, и не только осмелилось, но и в первый же момент нанесло ему, этому колоссу, такой удар, который надолго лишил его полной его мощи…
«Дух бодр – плоть немощна», но немощь плоти при бодрости духа никогда не препятствовала совершению величайших подвигов; здесь же с первого момента этой войны дух оказался немощным и «могучая плоть» мгновенно была сокрушена врагом, ничтожным по своей сущности, но руководимым бодростью и умом…
В Артуре было тихо…
По направлению к госпитальным зданиям от подножия Золотой горы тянулись длинные вереницы извозчиков, везших пассажиров, каких, пожалуй, им никогда еще не приходилось возить. В каждом экипаже помещалось двое седоков-солдат. Один из них непременно стонал и корчился от боли, прижимаясь к плечу товарища, посланного отвезти его в госпиталь. Наскоро сделанные перевязки были залиты просочившейся через них кровью, и это была первая русская кровь, пролитая за Русь-матушку на этой далекой окраине, где вдруг зашаталось незыблемое дотоле ее могущество.
Каждый, кто видел этих страдальцев, обнажал перед ними головы и спешил поскорее домой…
В Артуре все было спокойно.
В отделении русско-китайского банка, в его залах, на лестнице, на подъезде, даже на улице стояли густой толпой люди, в огромном большинстве принадлежавшие к артурской так называемой «интеллигенции». Было много дам, и в числе их немало тех, кто за день до этого с такой алчностью накупил на распродажах японских магазинов груды всякой ни на что не нужной дряни. Все эти клиенты и клиентки с лихорадочной торопливостью выбирали свои вклады, получали по переводам, меняли процентные бумаги. Всем сразу понадобились наличные деньги, и банковские чиновники не успевали удовлетворять предъявляемые им требования.
Та «счастливица», которой в течение полутора дней завидовал весь Артур, о которой все только и твердили, считая, что богатство ей с неба упало в виде огромного магазина с сапожным товаром, оцененным в тысячи рублей и купленным за двести, носилась по городу, умоляя купить ее «богатство» хотя бы за сто рублей, и покупателей не находилось… Тысячи рублей в товаре теперь не стоили и ста рублей наличными…
Наконец, какой-то городовой, которому – все равно какие бы события ни последовали – приходилось оставаться в Артуре, сжалился над «счастливицей» и купил у нее огромный магазин-склад с правами, обстановкой и товаром за пятьдесят рублей, да и из них наличными выдал всего тридцать, а на остальные дал расписку… Недавняя «счастливица» была несказанно рада, что ей удалось вернуть хоть ничтожную часть своей затраты…
В Порт-Артуре с каждым часом становилось все тише и тише…
Артурский вокзал к сумеркам этого дня был осажден громаднейшей толпой спешивших уехать на север. В течение всего того времени, пока работала Восточно-Китайская дорога, никогда не было столько пассажиров, отправлявшихся на Харбин.
Уезжали главным образом женщины, а также дети, отъезжавших мужчин было немного. Это было такое же паническое бегство, как и утренняя паника среди китайской толпы, но, конечно, в несколько ином виде. На небольшом артурском вокзале стон стоял: были слышны крики, плач, истерический хохот. Жены прощались с мужьями, быть может, навсегда, отцы благословляли детей, быть может, в последний раз. Смятение было всеобщее, и среди этих глубоко несчастных в столь тяжелые мгновения людей расхаживали, как ни в чем не бывало, железнодорожные агенты, все свои усилия, всю свою энергию направлявшие на то, чтобы неукоснительно были выполнены все бесчисленные правила о пассажирах, да еще на то, как бы кто-нибудь не попал в вагон без билета… Много пришлось хлопотать, чтобы к поезду прибавили большее количество вагонов против министерского расписания…
Вечерело, в Порт-Артуре воцарилась тишина. Осадное положение, которое должно было быть введено лишь на следующий день, начало действовать с этого злополучнейшего в русской истории вторника. В восемь часов вечера оба города погрузились в кромешную темноту. Ни одного огонька не светилось на улицах, все окна были наглухо закрыты ставнями; город, накануне еще кипевший в эти часы бойким оживлением, словно вымер. Появились патрули, рассыпавшиеся по всем улицам и задержавшие немногих прохожих, плохо соображавших, в чем они виноваты. Сами собой создавались новые условия жизни, резко отличавшиеся от всего того, к чему так привыкли артурцы в долгие годы своего безмятежного существования среди скал и круч Квантуна у тихой, всегда спокойной бухты…
Но впереди был еще новый удар, удар жестокий, довершивший все ужасы пережитого, добивший и тот остаток душевной бодрости, который еще хранился в сердцах после ночного нападения японских миноносцев и утреннего бомбардирования.
В этот же самый день японский вице-адмирал Уриу, явившийся накануне с эскадрой на рейд Чемульпо, разбил в бою русского стационера «Варяга»…
«Варяг», «Кореец», бывший при нем, и почтовый пароход «Сунгари» погибли, впрочем, со славой…
22. Роковое объяснение
Весь тревожный день, вплоть до сумерек, Андрей Николаевич провел у Кучумовых. Скучно было теперь здесь: после недавней еще радости в семью вошли уныние и смущение. Павел Степанович вдруг весь осунулся, похудел, надавнее олимпийское величие сразу пропало, теперь этот старик был прямо-таки жалок…
Ольга не раз плакала в эти часы, и Контов никак не мог утешить ее…
Тадзимано у Кучумовых не было, и, когда Андрей Николаевич спросил о нем, Кучумов ответил, что его друг ни разу не показывался у них в этот день.
Контов, смущенный и угнетенный, ушел от Кучумова и отправился бродить по городу. То, что он видел, не могло привести его в сносное расположение духа. Душу надрывающие сцены на вокзале привели его в еще большее угнетение. Он чувствовал себя столь же несчастным, как и все эти навзрыд плакавшие женщины, сурово хмурившие брови и закусывающие губы мужчины.
Тяжелейших впечатлений было столько, что Контов чувствовал себя окончательно подавленным ими и, не находя никого, с кем бы он мог провести этот вечер, отправился домой.
У крыльца домика, где он жил, Контов, подходя, заметил шагавшую, словно часовой на посту, фигуру.
Подойдя ближе, он сразу же узнал в этом человеке своего бывшего друга Василия Ивановича.
– Вася, ведь это ты? – радостно вскричал он. – Наконец-то ты вспомнил обо мне! – Чувство искренней душевной радости охватило все существо Контова. – Ну, здравствуй же, здравствуй! Как ты обрадовал меня! – восклицал он, протягивая обе руки Иванову.
– Здравствуйте, Андрюша! – проговорил тот, несколько отстраняясь и не принимая протянутых рук. – Нехорошо мне…
– Что с тобой? – встревожился Андрей Николаевич.
– Ум мутится, душу щемит… Пройдемте к вам, спросить я вас хочу…
– Пройдем! – ответил Андрей Николаевич, несколько удивленный тоном Василия Ивановича.
Они ни слова не сказали друг другу во все время, пока в гостиной не был зажжен огонь. Контов попробовал растопить камин, но не сумел сделать это. Иванов живо развел огонь и лишь после этого подошел к Андрею Николаевичу.
Он был положительно неузнаваем. Куда девалась его добродушная веселость! В этом исхудавшем, осунувшемся, бледном человеке трудно было бы узнать разухабисто-веселого парня, всюду вызывавшего смех одним только своим появлением.
Он несколько минут стоял и в упор разглядывал Андрея Николаевича, как будто отыскивая в нем что-либо новое.
– Что ты так смотришь, Вася? – забеспокоился Контов. – Ты болен, что ли?
– Нет…
– Скажи же мне, что такое ты хотел спросить у меня…
– Спросить, как же теперь-то?
– О чем ты?
– Да о том же самом все… «Цесаревич»-то наш разбит ведь…
– Что же поделать?
– Да, что поделать… «Ретвизан»-то на мели лежит, и пробоина в нем громадная… «Палладушка», голубушка сердечная, тоже вся сама не своя стала… Жаль их!
Из груди Иванова вырвался тяжелый вздох.
– Грех такой, Вася, приключился…
– Грех! Верно вы это, Андрюша, говорите, что грех… Ох, сяду я, – падающим голосом проговорил он, – истинную правду сказать ты изволил: грех… Вот тут на заводе, где я работал, телеграмма получена… Как-то окольно она прошла, не то из Ляояна, не то из Чифу…
– Что-нибудь еще случилось, Вася?..
– Ох, еще, Андрюша, еще…
– Что же такое? Скажи, ежели знаешь…
– Другой грех… Бога не боящиеся японы нашего «Варяга» разбили…
– Что-о? – вскочил со своего места пораженный Андрей Николаевич.
– «Варяга», говорю, разбили, знаете, под Кореей он стоял… в Чемульпо… Так пришли они и разбили. Бой был, смертный бой, наши дюже бились, ихний капитан, Руднев по фамилии, сдаваться не захотел. Много наших побито… Океан крови христианской пролито, а мы-то с вами ничего, сидим себе, и таково-то нам хорошо…
Контов был несказанно смущен. Он знал Иванова и был уверен, что тот говорит правду, что известие его вполне достоверно.
– Попущение свыше, если так вот, как ты говоришь, Вася! – со вздохом проговорил он.
– Попущение! Верно сказал ты это слово, Андрюшенька, попущение! А ты мне скажи вот теперь еще одно слово: зачем ты сам-то этому попущению в руку играл? Зачем ты эти самые корабли наши топить способствовал? А? Чем тебе матушка Русь православная, страдалица великая, помешала, что противу нее пошел с ейными неприятелями? А? Скажи-ка мне!
Андрей Николаевич и с удивлением, и с сожалением смотрел на Иванова.
«Никак бедняга рехнулся?» – подумал он.
Голос Василия Ивановича рвался от волнения, все его лицо пошло багровыми пятнами, в глазах светился лихорадочный блеск. Волнение, овладевшее им, было так сильно, что голова парня тряслась, как у параличного. Он смотрел на своего друга детства, и в его взгляде ясно отсвечивались и величайший ужас, и величайшее презрение.
– Про какие ты, Василий, корабли говоришь? – строго спросил Контов.
– Про какие? – Василий Иванович засмеялся даже. – Разве ты позабыл, Андрюшенька? Про «Цесаревича» горемычного, про «Ретвизана», богатыря искалеченного, про «Палладушку»-матушку, про «Варяга», японцами забитого… Вот про какие… Твоих рук дело.
– Что? – вскочил с кресла Контов. – Повтори, что ты осмелился сказать?
– Твоих рук дело! – как эхо, повторил Иванов, со злобою глядя на своего друга детства. – Ты японцам помогал ничтожить их, ты и их, и Русь нашу головой врагу выдал…
– Послушай, Василий, – всеми силами сдерживая свое волнение, проговорил Андрей Николаевич, – ты или болен – с ума сошел, или пьян. В первом случае обратись к доктору, во втором – пойди проспись… Потом приходи, и будем говорить…
– Не нравится? – злобно засмеялся Иванов. – Думаешь, что пьян я? Проспаться велишь? Правда-то не в бровь, а в глаз, видно, колет… Ау! Сам в этом виноват: зачем свою родину за тридцать сребреников, на манер вот Иуды-предателя, продавал… Шпион ты подлый, японский шпион ты, и ничего больше!
– Ты что? – очутился около него Андрей Николаевич. – Ты хочешь, чтобы я тебя убил? А?
– Убивай! – дико закричал Иванов. – Опричь меня в русской крови руки твои подлые выпачканы, так что же тебе со мной-то церемониться?.. Ну, что же ты стал? Убивай!..
Контов действительно встал перед Ивановым, бледный, трясущийся.
В тот момент, когда, обуреваемый гневом, он кинулся на Иванова, в его мозгу вдруг промелькнула мысль: «Да ведь неспроста же Василий, этот человек, столько лет связанный со мной дружбой, кидает мне в лицо эти ужасные обвинения? Ведь есть же у него для этого почва»…
Эта мысль с такой яркостью осветила все события недавних дней, что Контову вдруг стали ясны причины непонятного дотоле отчуждения от него его друга детства.
– Василий, – проговорил он спавшим голосом, – умоляю тебя, скажи, что все это значит?..
– Не знаешь будто? – опять засмеялся Иванов. – Стакнулся с Окушиным своим да Куманджеркой проклятущим и прихитрился… Ну, Куманджерка, ну, Окушин, – они свое дело делали, по присяге своему царю и отечеству поступали, когда шпионили, а ты, русский, в их компанью ввязался, чтобы свою святую родину продавать.
– При чем тут Окуша? При чем тут Куманджеро? – чувствуя, что в словах Иванова таится что-то ужасное, прошептал Контов.
– А то будто и не знал, кто такой Куманджерка? Не знал, что он начальник японских шпионов, что Окушин твой – его правая рука? Не знал?
– Не знал! – еще тише прошептал Андрей Николаевич.
– А коли ты этого не знал, так и повинен в том, что разузнать не хотел… И это твоя вина, и не замолить тебе ее!.. Ты предал весь Порт-Артур врагу беспощадному, ты его аггелам, от него к тебе приставленным, все рассказывал, что здесь случается. Ходил, разведывал, выпытывал и все им передавал, а они-то твои россказни на ус себе мотали и в свою Токио депеши слали. А там-то головы такие сидят, что не здешним чета – умные. Такие-то люди, как ты, там на руку…
– Василий! Василий! – закричал Контов. – Что ты говоришь!
Начиналось просветление, Андрей Николаевич, наконец, начал понимать весь ужас положения, в которое попал он.
– Что говорю? – с возрастающей злобой говорил безжалостный Иванов. – Говорю, что Иуда ты проклятый, что нет отмоления твоему греху окаянному… Поступил, вишь, ты в приказчики ко вражескому соглядатаю, другого, пса злючего, около себя под бок посадил, и начали вы дела разделывать: Россию продавать… Тьфу! Вот об этом я и пришел сказать тебе, и нет у меня больше для тебя слова на будущее время, как проклятый, проклятый! Иуда! Каин… Соглядатай японский, пес смердячий, тьфу, тьфу!..
В страшном, яростном ослеплении он плюнул в лицо Андрею Николаевичу и, повернувшись, пошел к двери.
– Проклятый, Иуда Искариотский, пес! – крикнул он с порога и яростно погрозил Контову кулаком.
Андрей Николаевич стоял ошеломленный, и не столько нанесенным ему грубейшим оскорблением, сколько ужасом того положения, которое сразу осветилось перед ним из упреков и обвинений своего бывшего друга детства.
– Да, да, – вслух проговорил он, – ведь, пожалуй, все это правда… Нет, не пожалуй, а это правда… Иванов знал это и молчал… Но теперь и я понимаю все… Вот она, разгадка этой странной моей службы у японского купца, службы, где я только узнавал, что предстоит в будущем, какие перемены происходят в настоящем… Вот что значат эти планы и чертежи Ивао… О-о-о! – вырвался из его груди вопль. – Обошли, сделали игрушкой, заставили быть шпионом, и я совершил иудино дело и сам даже не подозревал этого.
И с поразительной яркостью припомнилось ему, как он несколько дней тому назад сообщил Куманджеро, что на рейд Артура пришел пароход-«доброволец» «Кострома» с грузом торпед. Последнее было строжайшей тайной, но ведь Контов был своим человеком в некоторых кружках и там от него ничего не скрывали. Он сообщил потому, что незадолго до этого Куманджеро письменно просил уведомить его, не нужны ли в Артуре взрывчатые вещества, которых у него будто бы был огромный запас… Контов послал это сообщение, даже не думая, какое употребление сделает из него принципал, но в эти страшные мгновения память с особенной резкостью восстановила в его мозгу один из слышанных им рассказов о том, что в утреннюю бомбардировку японцы особенно обильно швыряли снаряды по внутреннему рейду и по направлению некоторых из них можно было судить, что, «стреляя по квадратам», то есть засыпая снарядами заранее назначенное место, японские артиллеристы с особенным упорством обстреливали ту площадь, где стояла еще не разгруженная «Кострома».
Когда рассказывали об этом, то с удивлением говорили о том, откуда японцы могли узнать о страшном, грозившем при взрыве гибелью грузе «добровольца», Контов сам искренне удивлялся этому вместе со всеми, но теперь для него было ясно, каким путем получились у японцев сведения о том, где в данный момент находилась ахиллесова пята Артура…
Ужас рос в его душе.
23. Голос крови
Иванов в это время был недалеко. Он стоял у дверей на крыльце и судорожно рыдал. Теперь ему до боли в сердце было жаль Андрея Николаевича, гнев уже прошел, быстро сменяясь раскаянием в том, что он забылся и позволил себе так грубо, так безжалостно оскорбить того, кто был лучшим его другом с первых дней, как только он помнит себя. Рыдания давили Василию горло, затрудняли дыхание, но в то же время и облегчали душу, исстрадавшуюся в течение всех дней, которые он жил вместе со страшной тайной.
Весь поглощенный своим горем, он не заметил, что к крыльцу подошел и медленно поднялся по его ступеням какой-то человек.
– Кто здесь? – раздался голос, показавшийся Иванову знакомым. – Я слышу чей-то плач…
Василий Иванович напряг все силы своей памяти, припоминая, где он раньше слыхал этот голос, и, наконец, узнал его:
– Николай Александрович, господин Тадзимано, – воскликнул он, – вы ли это?
– Это мое имя… Я слышу голос Иванова, вы ли это, мой друг?
– Я!
– Что же вы здесь делаете? Что значат эти ваши рыдания?
Они сошлись.
С лихорадочной торопливостью, жестоко обвиняя себя, Иванов рассказал без утайки все, что произошло между ним и Контовым.
– О господи! – воскликнул старик. – Вот оно, возмездие-то! Вот она, расплата… Идемте к нему, спешимте к этому несчастному!.. Ведь если он и повинен в чем, уж только в своем неведении, в своей доверчивости… За что же столь тяжелая кара?.. Ай-ай! Какие страшные мгновения он переживает теперь!.. Ведите же, ведите меня к нему!
Дверь оставалась незапертой. Тадзимано и Иванов оба прошли в прихожую, тоже темную, с единственной полоской света, просвечивавшей из-под двери в гостиную.
Они были еще на пороге, когда до их слуха долетел сухой, отрывистый звук выстрела, за ним другой и тотчас после этого тяжелый, глухой шум как бы от падения на пол чего-то тяжелого.
– Выстрел!.. Это он, это Андрей! – дико вскрикнул Тадзимано и кинулся к двери, из-под которой была видна полоска света.
Иванов последовал за ним.
Лампа на столе горела ярким огнем, распространяя вокруг из-под своего красного абажура зловещий свет.
Посередине большой комнаты на ковре в неестественной позе лежал Андрей Николаевич. Правая рука его была откинута так, что лежала под прямым углом к туловищу, левая была подвернута под спину, ноги были неестественно выгнуты. Возле сведенных конвульсией пальцев правой руки лежал слегка дымившийся браунинг; лицо несчастного Контова покрывала мертвенная бледность, но глаза его были закрыты…
– Сын, сын мой! – с отчаянным воплем бросился к Андрею Тадзимано и замер перед ним на коленях в порыве тяжелейшего горя.
Надрывистые рыдания рвались из его груди вместе с воплями. Лицо и руки старика покрылись кровью, обильно струившейся из раны на груди несчастного и омочившей его платье и весь ковер.
– Дитя, несчастное, покинутое, забытое дитя! – воскликнул Тадзимано, поднимаясь от тела. – Жертва!
– Так вы?.. – очутился около него Иванов. – Вы?..
– Я его отец, тот самый, которого он искал… Ты рассказывал мне это и не знал ничего, а я молчал… И вот расплата… ужасная расплата!.. Но после об этом! Помоги мне теперь!.. Он жив… воды, полотенец!
Тадзимано с ловкостью профессионального врача остановил кровотечение, наложил первую повязку и с помощью Иванова перенес Андрея на диван.
– Теперь беги за доктором! – приказал он последнему. – Тут близко есть один… Скорее! Пусть придет немедленно.
Василий Иванович, не помня себя от горя, опрометью бросился бежать.
Старец склонился на колени и со страшной тоской смотрел на бледное, без малейшей кровинки лицо раненого.
Все его помыслы теперь сосредоточивались на этом несчастном. Страшная жалость охватывала все его существо, терзала его сердце и заставляла забывать все то, что волновало его в этот день, когда он должен был или уже навсегда порвать связь с приютившей его страной, или остаться с родиной, униженной, оскорбленной и вдруг в силу этого ставшей ему бесконечно дорогою.
Легкое прикосновение к плечу заставило Тадзимано приподнять голову и обернуться назад.
Позади него стоял Аррао Куманджеро.
– Ты… здесь? – воскликнул старик.
Лицо «железного патриота» было сумрачно и даже печально.
– Поверь, – тихо произнес он, указывая глазами на Андрея, – я не хотел этого…
Старик тихо поднялся с коленей и, отходя в сторону, прошептал:
– Я верю, это судьба!
Куманджеро наклонился над жертвой своей интриги и внимательно осмотрел ее.
– Твой сын будет жить! – сказал он, отходя в сторону и отводя за собою Тадзимано. – Ты можешь положиться на мою опытность: я знаю огнестрельные раны. Он имел силы смежить веки… Если бы смерть была близка, глаза остались бы открытыми… Он без чувств, но и это к лучшему: меньше движений, меньше будет потеряно крови…
Тадзимано слушал Аррао Куманджеро, не поднимая глаз.
– Зачем ты здесь? – тихо проговорил он, когда Куманджеро смолк.
– В Артуре?
– Нет, вот тут, около него.
– Я пришел сюда, – проговорил Куманджеро, – чтобы освободить молодого человека от всех его обязательств предо мною. Это я сумел бы сделать так, что он никогда не узнал бы, какую роль пришлось ему сыграть во всех этих событиях… Но вышло иначе…
– Иванов открыл ему все! – пробормотал Тадзимано.
– Это случайность… Слушай. Я здесь уже несколько дней, видел тебя, видел его. Завтра меня здесь не будет… Меня вышлют с другими, кто остался здесь после воскресенья… Здесь вместо меня будут другие… Я рад, что встретил тебя здесь, потому что хотел сказать тебе многое. Ведь это я заставил тебя явиться сюда… По моей просьбе Кацура настоял, чтобы ты пошел разведывать о здешнем настроении умов.
– Зачем же это тебе?
– Мне вовсе не нужно было это…
– Тогда я не понимаю твоих намерений…
– Я хотел, чтобы на время начавшейся войны тебя не было на наших островах… Не думай, что я тебе не верю, но твое положение там было бы слишком тяжело! Ты страдал бы за Россию, за ее поражения, которые неизбежны, а в то же время страдал бы из-за недоверия, которое также неизбежно стало бы тебя преследовать. Мы были всегда дружны, и я ради этой дружбы позаботился о твоей судьбе. Да тебе и делать нечего на островах. Те твои дети – дети Ниппона. Сыновья сражаются в рядах его бойцов, а о дочери позаботится Суза. Этому же твоему сыну ты нужен. Я знаю, он самоотверженно отправился искать отца, позабывшего о нем, стало быть, он любил его, а ничто так не почтенно, как любовь детей к родителям… За это я уважал твоего русского сына. В Европе любовь детей – добродетель, и ее нужно поощрять… Итак, ты останешься здесь, потому что ты необходим для него. Когда кончится война, ты, если захочешь, можешь вернуться на острова, я об этом позабочусь.
– Но от меня не может быть никакой пользы тебе! – возразил старик.
– О какой пользе говоришь ты?
– Я не буду здесь шпионом…
– Ты не связан никакими обязательствами… Мне не нужно никаких твоих услуг. Разве ты не слышал, что я сказал? Здесь будут другие. Если примешь мой совет, уезжай отсюда в Харбин, в Россию. Три месяца Артур будет свободен, потом Ноги приступит к осаде, а в это время он, – указал Куманджеро на Андрея, – оправится, и ты можешь увезти его. Впрочем, поступай как хочешь! Да! В здешнее отделение русско-китайского банка внесен на твое имя вклад. Если не хватит этих средств, можешь получить их в Чифу или в Шанхае. Вот что я тебе хотел сказать. Прощай! Помни, что и Куманджеро способен быть другом.
– Постой, – остановил его Тадзимано.
– Что тебе еще?
– Ни слова сыновьям об этом…
– А если они спросят?
– Отвечай, что ничего не знаешь обо мне…
– Ты оставил распоряжения?
– Да!..
Тадзимано достал большой пакет и передал его Куманджеро.
– Вот все… Даешь слово?
Куманджеро мгновение подумал и решительно ответил:
– Хорошо. Прощай!.. Я слышу голоса. Не следует, чтобы меня видели здесь!
Он, как тень, скользнул в прихожую.
Тадзимано поспешил опять подойти к Андрею.
Слух не обманывал японца.
В передней хлопнула дверь, Иванов вернулся вместе с доктором.
Андрей пришел в себя и удивленно смотрел то на старика, то на Иванова, по щекам которого катились слезы. Он хотел говорить, но доктор сурово остановил его и строжайше приказал сохранять молчание.
– Рана тяжела! – объявил он, отводя после осмотра Тадзимано. – Но если не будет осложнений, бедняга поправится… Как это он?
Тадзимано сообщил врачу, что он и Иванов пришли, когда роковой выстрел был уже сделан и несчастный лежал без чувств.
– Надеюсь, доктор, – сказал он, – что вы не будете оглашать этот несчастный случай.
Тот пожал плечами.
– Мне все равно! – проговорил он. – Я уверен, что преступления нет, стало быть, сообщать о происшедшем нечего. Смотрите, он заснул… Я могу пока уйти. Берегите его от каких бы то ни было волнений, не позволяйте говорить… Перевязки положены хорошо, я навещу больного утром. Если что случится, уведомьте меня.
Врач ушел.
Тадзимано и Иванов неслышно подошли к Андрею, и оба долго-долго смотрели на него.
Василий Иванович винил себя. Тадзимано думал о сыне, и чем дальше шли минуты, тем все более усиливалась в нем уверенность, что теперь вся судьба Андрея и вместе и его судьба неразрывно связаны с грозным будущим Порт-Артура.
В том, что это будущее сулит только одни ужасы, старик не сомневался ни на мгновение, но в то же время он не думал о них…
Его более страшило то, что братья могут встретиться в кровавом бою как враги.
«Петр пошел в Корею, Александр остался под Артуром… Мне остается только последовать совету Куманджеро и увезти Андрея, – думал он. – Но если он не оправится? Что тогда?..»
Тоска начала угнетать его.
«Пусть будет, что будет, – решил он, – пусть даже придется остаться здесь, вынести все лишения осады, а я должен вознаградить его за прошлое и вознагражу – я посвящу ему и его счастью всю свою жизнь»…
Голос крови оказался сильнее самосохранения.
Теперь эгоистическое чувство молчало, Тадзимано даже не вспоминал о детях-японцах, его душа принадлежала всецело несчастному русскому сыну…
Примечания
1
Публий Вергилий Марон, знаменитый поэт Древнего Рима, жил с 70 по 19 год до н. э. Итальянский поэт Данте Алигьери в своем великом произведении «Божественная комедия» берет его, как мудрейшего человека, в путеводители в своем путешествии по аду.
(обратно)2
Неведомая земля.
(обратно)3
В 1903 г. при молчаливом одобрении царского правительства в Кишеневе прошли черносотенные погромы с многочисленными жертвами среди еврейского населения, вызвавшие волну возмущения во всем мире. – Примеч. ред.
(обратно)4
Отверстия в бортах.
(обратно)5
Известнейший японский публицист.
(обратно)6
Русский, русский.
(обратно)7
С Востока свет.
(обратно)8
Напоминаем, что Чезо Юкоки и Тейоки Оки за покушение на взрыв рельсового пути были расстреляны в Ляояне.
(обратно)9
Действующие в общем строе.
(обратно)
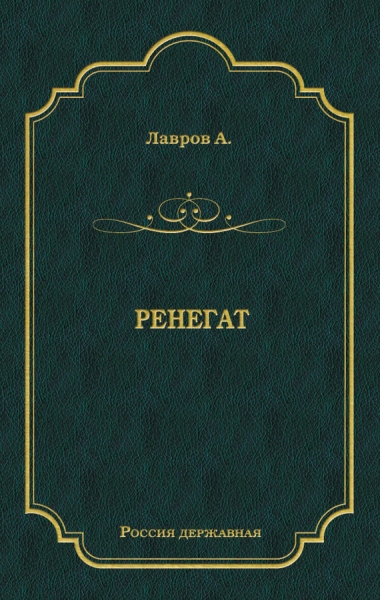




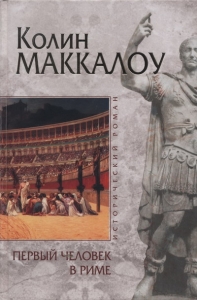

Комментарии к книге «Ренегат», Александр Иванович Красницкий
Всего 0 комментариев